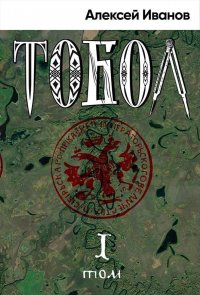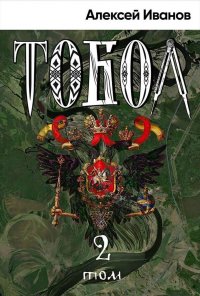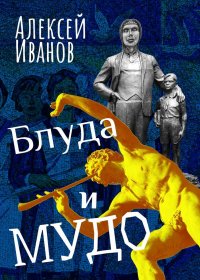Читать онлайн Бронепароходы бесплатно
- Все книги автора: Алексей Иванов
Часть первая
Спасти
01
Божья колесница с дороги не сворачивает, и весна не замечала истории. Светлые дожди сыпались на взрытые окопы германского фронта, как веками сыпались на мирные пашни; сквозь грохот эшелонов прорастало пение птиц, и густой дым паровозов бесследно растворялся в зыбкой зелени перелесков; на городских площадях многолюдные митинги тысячами ног расплёскивали солнце из луж, но не могли погасить его сияния. Однако летом восемнадцатого года смертоносная революция медленно всплыла из обломков прежней жизни, словно уродливое чудовище из обломков кораблекрушения.
…Раньше эти щегольские фаэтоны возили чистую публику из гостиниц и губернских присутствий в рестораны или в театр, на пристани или на вокзалы; заносчивые извозчики брезговали стоять даже у синематографа. Но Губчека реквизировала у поверженного класса избыток собственности, и теперь лаковые борта фаэтонов были исцарапаны, в полотне складных крыш зияли дырки, а бархат диванов затёрли крепкие зады пролетариата.
У экипажа Великого князя Михаила побрякивало отскочившее крыло над колесом. Михаил тревожился: почему его, поднадзорного ссыльного, забрали из гостиницы ночью и тайно? И ещё неприятно было соседство угрюмого черноусого милиционера Жужгова. Милиционер не понимал дистанции, которую всегда соблюдают воспитанные люди; он уселся в экипаж рядом с Великим князем, надвинул козырёк мятой фуражки, скрывая тёмные глаза, и на ухабах лесного тракта бесцеремонно толкал Михаила своим твёрдым плечом. Лошадью правил другой чекист. Его спину пересекал узкий ремешок портупеи, на бедре оттопыривалась кобура с торчащей рукояткой браунинга.
Михаил оглянулся – не отстал ли фаэтон с Джонсоном?
– Не гоношися, – недовольно буркнул Жужгов.
– Долго ещё ехать? – спросил Михаил.
– Скоко надо.
В дверь его гостиничного люкса чекисты забарабанили уже в первом часу. Михаил ещё не разделся и не лёг, потому открыл сразу. Чекистов было четверо. Топчась в гостиной, они сунули князю вместо ордера какой-то мандат и приказали собираться: ссыльного гражданина Романова решено перевезти в другой город. Фаэтоны стоят у крыльца, поезд ждёт на разъезде.
Михаилу жаль было покидать Пермь. Здесь жизнь его наладилась славно, а в номере ещё витал запах Наташиных духов. Но с большевиками Великий князь не спорил. Василий, камердинер, принялся складывать ему саквояж. На шум сразу явился верный Джонсон, и милиционер Жужгов не стал возражать, чтобы спецссыльного сопровождал секретарь. В коридоре Михаил пожал руки своим добровольным товарищам по изгнанию – шофёру, делоуправителю и полковнику Знамеровскому; Веру Знамеровскую он поцеловал.
– Хорош мурыжить, – сказал кто-то из чекистов. – Скоро снова съедетесь.
Два фаэтона, подняв крыши, покатились от Королёвских номеров куда-то во тьму. Слепо блеснули оконные стёкла в нобелевской конторе, проплыла громада театра, замелькали плотно составленные здания с подворотнями, карнизами и кирпичными кружевами. Кое-где в арочных окнах ещё горел свет. Здесь, в Перми, под властью большевиков ещё жил тот мир, который Россия так мало ценила и так легко потеряла – с чаепитиями на летних верандах, с рукоделием под абажурами, с биржами, операми и сахарными фруктами в сочельник. Вернётся ли прежнее благополучие?… Белея, поднялась и исчезла старая церковь; за ней толпились крепкие бревенчатые дома Разгуляя; затем деревянным настилом прогремел клёпаный стальной мост через большой лог, густо заросший ивняком, начался подъём, и на горе брусчатка закончилась.
Михаил сидел молча и размышлял: куда его отправляют? На восток – в Екатеринбург? Там Ники, Аликс, племянницы и Алексей, бывший наследник престола… Нет, вряд ли Великого князя повезут за Урал. Газеты писали, что от Пензы и Самары до Иркутска и Читы восстали эшелоны с военнопленными. А железная дорога, вдоль которой шёл гужевой тракт, вела не только на восток, но и на север. Неужели спецссыльного упекут в глушь, в Соликамск?
– Где наш поезд? – Михаил посмотрел на Жужгова.
– Не твоё дело.
За деревьями внизу под склоном горы замерцала длинная россыпь острых электрических огней сталепушечного завода – они бессонно горели с начала Великой войны; в цехах что-то устало погромыхивало, курились белые дымы. Фаэтоны, не останавливаясь, устремились вниз и протарахтели колёсами по мощёным улицам Мотовилихи. Затем грунтовую дорогу обступил лес.
Стало жутковато, но Михаил сидел прямо и сохранял бесстрастный вид. Сдержанность давно вошла у него в привычку. Пускай он Великий князь, но его роль и в государстве, и в жизни – подчиняться, а не повелевать. За него всегда всё делали другие, сделают и сейчас. Следует спокойно подождать.
Жужгов вытащил из штанов коробку с папиросами и прикурил от серной спички. Михаил покосился. Дорогой табак Месаксуди. Экспроприированный товар, который прежде простым рабочим был не по карману.
– А ты правда царь? – вдруг спросил Жужгов, глядя на огонёк папиросы.
– Неправда, – неохотно ответил Михаил.
Он вспомнил, как от Ники, низложенного императора, в Гатчину пришла телеграмма для брата, адресованная «Его Величеству Михаилу Второму». Вспомнил мучительную ночь у Павлуши Путятина в квартире на Миллионной – ту единственную ночь, когда он, пусть и не вполне по праву, мог считаться государем. Сколько тогда было споров, терзаний, кофе, коньяка и сигар… Вспомнил, как утром в гостиной Павлуши собралась взволнованная депутация думцев, и он, Великий князь, сообщил: «Господа, я отрекаюсь от трона в пользу Учредительного собрания». И он никогда не жалел об этом решении.
Милиционер Жужгов хмыкнул, плюнул в ладонь и загасил окурок.
В ночном июньском лесу причудливо заливались, щебетали и щёлкали соловьи. Сквозь кружевную вязь птичьих голосов где-то вдали на железной дороге длинно и прямо простучал одинокий поезд. Было холодно, и лошадь бежала резво, мягко топала копытами по колеям; поскрипывали крепления фаэтона. Под зелёной русалочьей луной в еловых и осиновых завалах тьмы вдруг призрачно вскипали цветущие черёмухи. Что готовит грядущее?…
«Всё будет хорошо», – подумал Михаил Александрович.
02
Жужгову было совершенно плевать, кого он везёт – царя или не царя. Он спросил просто так – показалось, будто Михаил задремал, но арестованный не должен дремать. Арестованный должен бодрствовать, чтобы сполна ощущать огромную разницу между собой и конвоиром – милиционером Жужговым.
В этом и заключалась суть. Арестованный мучается от неизвестности, переживает, мечется мыслями, а конвоир спокоен. Он насмешливо молчит. Он знает, что случится дальше. Он преисполнен своим знанием, следовательно, умнее, важнее, значительнее арестованного, как заряженный наган тяжелее пустого. Такое превосходство пьянит больше, чем водка.
Жужгову не особенно-то нравилось расстреливать: это дело быстрое – как чурбак расколоть. Жужгову нравилось возить на расстрел. Мотовилихинская Чека приговаривала саботажников и вредителей к высшей мере, а Жужгов исполнял. Приговорённых загоняли на военный катер «Шрапнель», стоящий у стенки заводского причала, и катер, тарахтя бензиновым мотором, плыл к длинному и плоскому острову напротив завода. Ветер с Камы трепал волосы и одежду приговорённых. Эти люди не верили, что их сейчас убьют, – но ведь знали, куда их переправляют. Одни потрясённо молчали. Другие, которые попроще, спрашивали о чём-то, пытались понравиться, заискивали. Жужгов не отвечал; он стоял и курил, рассыпая искры папиросы. Каждые новые приговорённые вели себя точно так же, как и предыдущие, а потому в глазах Жужгова все они выглядели ничтожными – не поднимались над натурой человека. Катер вылезал носом на песок. Жужгов сталкивал пассажиров. Кто-то из них поднимался и впивался взглядом, кто-то кричал, проклиная, кто-то пытался убежать. Не спускаясь с палубы, Жужгов стрелял из нагана. Эти люди, похожие друг на друга, для него превратились в одинаковых тараканов, и Жужгов истреблял их как тараканов, уравнивая окончательно в виде раскиданных по острову трупов. Они стали никем, а он – всем.
Кончить Великого князя Михаила – без суда и без разрешения губкома – придумал неугомонный баламут Ганька Мясников. Для этого Ганька – член ВЦИКа! – устроил себе перевод из мотовилихинской Чека в губернскую. Но струхнул стрелять сам. Поручил привычному к делу Жужгову.
Вдали – за лесом и за Камой – небо уже начало синеть. Фаэтоны проехали мимо безлюдного разъезда. В рассветной блёклости на путях забыто чернели цистерны, облитые мазутом, и двухосные платформы с какими-то грузами под рваным брезентом. Будка стрелочника была пуста. Отсюда железнодорожная ветка уходила к берегу Камы, к нобелевскому городку с нефтехранилищами.
– А где поезд? – со сдержанной тревогой спросил Великий князь.
Жужгов успокоился. Он уже начинал злиться, что лощёный буржуй не выдаёт своего нерва, и теперь всё сделалось как положено.
Разъезд остался позади. Фаэтоны двигались дальше. Ещё через версту тот чекист, что сидел на козлах, потянул вожжи и свернул с тракта на просёлок.
Просёлок сквозь густые кусты вывел на обширную поляну.
Здесь до Великой войны мотовилихинские большевики устраивали свои маёвки. Чтобы не цеплялась полиция, молодые рабочие тащили с собой девок, выпивку и гармошки – дескать, у них гулянка, а не политическая сходка. Ради девок и дармовой водки Жужгов сюда и ходил. Говорильня агитаторов его не интересовала – но потом всё же как-то увлекла. Агитаторы убедительно и ловко расписывали, что те, кто живёт богаче пролетария Николая Жужгова, – гады. Их надо бить. Обязательно придёт такое время, когда примутся бить. Жужгов записался в партию. И вот трах-бах – и время избиения пришло.
Фаэтоны остановились, как и было условлено.
– Вылазь, – хмуро велел Великому князю Жужгов.
– А… что тут? – немного растерялся Михаил.
– Вылазь, говорено.
Михаил пожал плечами, схватился за край кузова и по-спортивному энергично выпрыгнул из фаэтона. Жужгов завозился, вытаскивая наган.
В синеватой дымке, полной холода оседающей росы, Михаил увидел, как из второго фаэтона, качнув всю коляску, выбрался Джонсон, коренастый и грузный. Он недоумённо оглядывал поляну и поправлял ремень. Вокруг в кущах ивняка щебетали утренние птицы. И внезапно из фаэтона оглушительно бабахнул выстрел. Джонсон споткнулся, сронив фуражку, а из ближайшего куста с шумом рванулись вверх перепуганные птицы. Ноги у Джонсона подломились, и он упал. Великий князь Михаил бросился к своему секретарю.
Жужгов вскочил с дивана, схватившись за плечо возницы, и выстрелил Михаилу в спину. Великий князь кувыркнулся в мокрую короткую траву. Жужгов второй раз нажал на спуск, но его наган только щёлкнул в осечке. Возница под рукой Жужгова тоже выдернул браунинг. Михаил в траве нелепо поднимался на четвереньки, и возница, оттолкнув Жужгова, пальнул в князя. Михаила словно прихлопнуло. Он растянулся в двух шагах от Джонсона и застыл. Грохот выстрелов сменился мёртвой тишиной – все птицы молчали.
– Сука! – выдохнул Жужгов то ли про князя, то ли про свой наган.
Он знал, что после расстрела охватывает странное изумление: неужели это всё? Быстрый гром, нутро ещё дрожит, а перед тобой уже ничего нет – ни шевеления, ни взлетающих душ, ни божьего лика в небесах. Кажется, что дело было не по-настоящему, и нужно заполнить пустоту. Лучше всего – выпить.
Четыре чекиста подошли к убитым с разных сторон и замерли.
– Закапывать будем? – помолчав, спросил один из чекистов.
– Да к бесу, – с досадой ответил Жужгов. – Светает уже. Ещё кто заметит, что мы тут пластаемся… Снимем часы и кольца, стащим за ивняк, а к ночи вернёмся и зароем.
– Ганька велел сразу…
– Сам бы и ехал! – огрызнулся Жужгов. – А нам приять надобно, мужики.
– Ну, как скажешь, Коля, – покладисто согласились чекисты.
03
Косте срочно требовались билеты на пароход. После национализации флота в городе закрылись все конторы и кассы, но Косте подсказали, что билеты можно купить на пристани, и он торопливо пошагал в сторону Камы.
С высоты Соборной площади открывался вид на вереницу дебаркадеров. К одному из них подходил двухпалубный товарно-пассажирский пароход. Дул ветер, широкая Кама густо искрилась на стрежне. От солнца кучевые облака слепили белизной, и по крашеным железным крышам складов ползли тени.
На берегу всё было загажено, разломано, завалено мусором. Раньше здесь между дебаркадерами и складами сновали грузчики – крючники и катали, у самоваров чаёвничали артели, караулившие клиентов, вертелись контрагенты мелких торговых компаний, а теперь в многодневном озлобленном ожидании тут жили одичавшие орды мешочников – крестьян из прикамских уездов. Они привозили на пермские базары хлеб, масло и свежую убоину и увозили домой мануфактуру, бидоны с керосином, граммофоны, слесарные инструменты и швейные машинки – то, что выменяли или купили в городе.
Пароход, который причалил у дебаркадера, назывался «Перун». Он еле успел ошвартоваться. Матросы ещё укладывали просмолённые канаты на чугунные кнехты, а толпа мешочников уже обрушила деревянные решётки в проходе дебаркадера и ринулась на посадку. «Перун» мог принять тысячу пассажиров, с перегрузом – полторы, а у сходней сбилось тысячи три крестьян.
Вперёд рвались бородатые мужики в поддёвках и картузах: они смяли слабый заслон из милиционеров. Тёмная человеческая лавина покатилась по нижним галереям парохода, вскипела и полезла по трапам на верхнюю палубу. Следом за мужиками пёрли широкозадые бабы в кофтах и пёстрых платках, навьюченные тюками и коробами. Под мостком, ведущим на дебаркадер, трещали стойки-прострелины. Ругань, вопли… Из давки в воду бултыхались сброшенные люди и узлы с добычей; разворачиваясь, полетел рулон ситца.
Костя наблюдал за штурмом парохода с ужасом и состраданием. После национализации пассажирское движение по Каме почти прекратилось, но деревня и город не могли жить без товарообмена. Мешочники брали редкие пароходы с боем, как вражеские крепости. «Мешочники», «спекулянты» – это всё обидные слова большевиков. Конечно, невежественные крестьяне были звероподобны, и торговали они без совести, наживаясь на бедствиях горожан, однако же – «кто виноват?», как давным-давно вопрошал господин Герцен.
Костя понял, что никаких билетов больше не существует. Билеты – это его кулаки. Сам он сумел бы пробиться на борт, но нежную Лёлю ему никак не протащить. А оставаться в Перми Лёля не может. Ей надо бежать, иначе – арест и тюрьма. Что же делать? Как добраться до Самары?…
Костя Строльман с детства знал, что он хороший, а хорошим – говорила мама – помогает бог. Бог помог и сейчас. На обратном пути возле погрузочной эстакады дровяных складов Костя заметил Якутова. Совсем недавно Дмитрий Платонович был владельцем огромного Соединённого пароходства «Былина».
– Здравствуйте, Костя! – улыбнулся Якутов. – Рад встрече. Помню вас в Петербурге худеньким студентом, а сейчас – просто не узнать!
Дмитрий Платонович выглядел, как всегда, безукоризненно: белые брюки, светлый пиджак, лёгкая шляпа дачника. В чёрной бороде блестела седина.
– Как здоровье Сергея Алексеевича?
Сергей Алексеевич, Костин отец, долгие годы возглавлял сталепушечный завод. Десять лет назад он вышел в отставку. Пока Костя учился в Институте инженеров путей сообщения, семья Строльман жила в столице. Прошлым летом Якутов убедил Строльмана-старшего вернуться в Пермь и преподавать в университете, только что учреждённом усилиями Дмитрия Платоновича. Строльманы переехали обратно – и зимой Сергей Алексеевич подхватил тиф.
– Папа, слава богу, поправляется. А мама при папе неотлучно.
– Передавайте им поклон от меня.
– Дмитрий Платонович, вы должны мне помочь, – прямо заявил Костя.
– А что случилось? – Глаза у Якутова стали строгими и цепкими.
– Вы слышали о муже моей сестры Ольги? Подполковник Владимир Каппель. Уверяю вас, Володя – человек, который не поступается идеалами.
Костя всегда восхищался избранником сестры, впрочем, Лёля – лучшая девушка на свете – и должна была выйти замуж за самого достойного.
– Не слышал о нём, но не сомневаюсь в вашей оценке, – сказал Якутов.
В Пермь к Лёле и детям Володя приехал в октябре. Его демобилизовали по болезни. Весной Володю как военного специалиста призвали в Красную армию и отправили в Самару. Вскоре Самару захватили части мятежного Чехословацкого корпуса. Красные постыдно бежали прочь, и в городе было сформировано белое правительство – Комитет членов Учредительного собрания. Володя перешёл к белым.
Перешёл – и возглавил вооружённые силы Комитета. Три дня назад его маленькая армия отбила у красных Сызрань. Это был жестокий удар для большевиков. А вчера Лёлю вызвали в Губчека. Там, на допросе, Лёля и услышала от чекистов о делах своего мужа.
– Я знаю Володю, – говорил Якутову Костя. – Он не сложит оружия. Он талантлив и будет побеждать. А большевики возьмут Лёлю в заложницы. Пока не поздно, я обязан увезти её отсюда в Самару – к Володе.
– Большевики запретили рейсы в Самару, – сухо сообщил Якутов.
– Мне это известно, – кивнул Костя, – однако суда ещё ходят до Казани. Нам нужно добраться всего лишь до Чистополя, оттуда до Самары меньше трёхсот вёрст. Там я найму лодочника или экипаж. Деньги у меня есть.
– Авантюра, милый друг. – Якутов покачал головой.
От несогласия Костя выпрямился и посмотрел на Якутова с укором:
– Нет, не авантюра, Дмитрий Платонович. И я не стал бы обременять вас просьбой, если бы мог сам провести Лёлю на пароход. Но ей не преодолеть столь безумного столпотворения! – Костя кивнул через плечо на пристань и «Перун». – Помогите нам попасть на борт, Дмитрий Платонович!
Костя искренне полагал, что все честные люди должны содействовать правому делу. А спасти от Губчека ни в чём не повинную Лёлю – дело правое.
– Мои судокомпании национализированы, – напомнил Якутов.
– Но вас уважают! – нажимал Костя. – Простите мою бестактность, но вы работаете в большевистском министерстве пароходов – уж не знаю, как оно именуется! У вас остались некие возможности! А у Лёли остался только я!
«Перун» дал басовитый гудок. С шумом завертелись колёса за решётками «сияний», труба задымила гуще, из-под обносов по волнам поползла пена, и судно медленно отодвинулось от дебаркадера. На берегу гомонила обозлённая толпа – те, кому не хватило места. Вслед пароходу полетели камни и поленья.
– Хорошо, – спокойно произнёс Якутов. – Я придумаю, как поступить.
Дмитрий Платонович поправил белую шляпу. Он выглядел таким же сильным и уверенным, как во времена, когда его называли хозяином Камы.
04
Над дымящей трубой буксира медленно проплыл длинный решётчатый пролёт железнодорожного моста, и волны зашлёпали в камень высокого устоя. Справа на берегу начиналась Пермь. Катя уже дважды бывала здесь у отца и выучила местную топографию. Там, где баржи и краны, – товарные причалы Заимки, за ними – механический завод и склады, на холме – Слудская церковь, доходные дома по Набережной улице, колокольня Кафедрального собора со шпилем, пристани… В солнечном небе лепились пухлые груды облаков.
Не считаясь с Великой войной, Катя каждый год на вакациях приезжала в Россию. Одна, без матери или гувернантки, – так поступали европейские девушки-эмансипе. Первый раз Катя решилась на это в шестнадцать лет, и отец ничего не возразил. Он был человеком прогрессивных взглядов. Мама на своей вилле в Бель-Оризон, конечно, от ужаса теряла сознание, и над ней хлопотал доктор Ноэль, её любовник; впрочем, мама была хорошей актрисой и быстро освоилась с новой ролью. Катя любила маму снисходительно, без осуждения, и давно уже поняла, что мама – яркая пустышка, не способная на усилия души. Поэтому отец её и оставил. Правда, он оплачивал и расходы бывшей жены, живущей в Каннах, и обучение дочери в Англии на пансионе.
В Нижнем Новгороде у отца были новая жена и сын Алёша – Катин единокровный брат. Для Кати и Алёшки отец каждый год покупал круиз от Нижнего до Астрахани и обратно. Катя с братом располагались в люксах на лайнерах «Кавказа и Меркурия» или Общества «По Волге». С пароходных галерей Катя смотрела на Россию – на поля и перелески, на уездные городишки с церквями и дебаркадерами, на монастыри и фабрики, на старинные кремли и караваны нефтебарж. Алёшка, негодяй, курил, считая себя уже взрослым. Командиры пароходов знали, что везут детей Дмитрия Платоновича Якутова. В ресторанах Катя и Алёшка всегда сидели за столом с капитанами или первыми помощниками. И Роман Горецкий был первым помощником на роскошном «Витязе»… Не потому ли он стал ухаживать за Катей?… Нет, Роман Андреевич не такой… Где он сейчас? Как им найти друг друга во взорванной стране?…
В мае мама не смогла приехать к дочери на аттестацию в «Шерборн скул гёлс» – у мамы кипели бурные объяснения с Ноэлем, который опять проиграл её деньги в казино и хотел сбежать. И Катя тоже не поехала к маме в Канны.
Трудно было добраться до Петрограда, когда вдоль берегов Ютландии Северное море бороздили германские броненосцы, но Катя добралась. Она отправила отцу телеграмму. Отец тотчас телефонировал управляющему своей петроградской конторой, чтобы тот проводил Катю на курьерском до Нижнего. Там её встретил Алёшка. Он посадил сестру на буксир «Лёвшино» к дяде Ване Нерехтину, капитану и папиному другу. Буксир возвращался из Нижнего в Пермь. В прибрежных сёлах и городах творилось чёрт знает что: стреляли, грабили, захватывали пароходы. Дядя Ваня не рисковал причаливать, и Катя не смогла навестить в Сарапуле тётю Ксению Стахееву, мамину подругу по театру, которая тоже выскочила замуж за состоятельного коммерсанта. Но бог с ней, с тётей Ксенией. Катя стремилась к отцу. Это было важнее всего.
Катя стояла у фальшборта в лёгком твидовом пальто и обеими руками, чтобы не сдул ветер, держала за поля шляпку, какую носили в «Шерборн скул гёлс». Дебаркадер приближался. Над его галереей дугой выгибалась вывеска: «„Былина“. Соединённое коммерческое пароходство Д. П. Якутова».
В утробе буксира шумно и мощно, как слон, дышала паровая машина. В рубке дядя Ваня звякал машинным телеграфом и командовал штурвальному:
– Ещё на четверть доверни, Гришка, не бойся.
За время плавания Катя узнала, что дядя Ваня тихо гордится машинным телеграфом – новым устройством, заменившим старую переговорную трубу, и паровым приводом к штурвалу от малого агрегата – камерона, а деревенский простак Гришка Коногоров не может приноровиться к лёгкости управления.
На носу матрос готовился бросать швартовочный конец.
Катя увидела отца. В праздничном белом костюме, заметный издали, он спускался к пристани с эстакады от какого-то большого склада. Катя смотрела на Дмитрия Платоновича со странным волнением в душе. Отец, которого не было в её детстве… Сильный и решительный мужчина… А хищная природа мужчин и притягивала её, и отталкивала. Любит она отца или ненавидит? И то и другое. Это называется ревность. Катя ревновала его – но к кому?… Уж точно не ко второй жене. И конечно, не к Алёшке. Она ревновала его к жизни. Хотела сделать так, чтобы отцу не хватало её, как ей самой не хватало его.
Подвижная громада буксира мягко сомкнулась с неподвижной тушей дебаркадера, заслонившей солнце. Матросы вытягивали швартовы. Лязгнула дверка фальшборта, брякнул длинный трап. Отец вдруг оказался рядом – такой живой и настоящий, и Катя, зажмурившись, ощутила его поцелуй на щеке.
– С прибытием, Катюша! – услышала она.
Катя не ответила на поцелуй. Она не терялась с людьми, но поневоле как-то отступала перед отцом. Он всегда словно был больше её и свободнее.
Дядя Ваня, капитан Нерехтин, спустился на палубу из рубки. – Дмитрий Платоныч… – Иван Диодорыч!..
Нерехтин и Якутов дружески обнялись.
– Вот – доставил в сохранности, – улыбаясь, дядя Ваня кивнул на Катю.
Дмитрий Платонович глянул Кате в глаза.
– Боюсь, тебе придётся задержаться в Перми, – сказал он. – Вокруг – смута, и отсюда не вырваться. Когда ещё наладят пристойное сообщение?
– Я и не собираюсь уезжать, – твёрдо ответила Катя. – Я хочу поступить в твой университет, папа. На медицинский факультет.
Она внимательно следила за реакцией отца. И Дмитрий Платонович, для всех в любое время энергично готовый к действию, будто потеплел изнутри.
– Прекрасный подарок для меня, милая, – признался он.
Возле фальшборта стояли Катины вещи: два чемодана и саквояж. После прекращения пассажирского судоходства носильщики исчезли с пристаней. Дмитрий Платонович сам подхватил чемоданы. Нерехтин притормозил его, взяв за локоть, и закричал своим матросам, уже перешедшим на дебаркадер:
– Скрягин, Краснопёров, пособите донести!
05
Расстрел Великого князя Ганька Мясников распланировал сам, и место тоже выбрал сам, однако на дело не поехал. Он – заместитель председателя Губчека, и его присутствие насторожило бы Михаила. Ганька поручил дело Жужгову и всю ночь ждал чекистов в Мотовилихе, в отделе милиции. Команда Жужгова вернулась уже утром. Вместо доклада Жужгов чиркнул пальцем по горлу – всё, князя порешили. Чекисты разобрали багаж расстрелянных и поделили вещи; френчи и сапоги покойников сожгли в бурьяне у забора.
Вечером, отоспавшись, Ганька отправил Жужгова с его подручными закопать тела, оставленные в лесу, и покатил из Мотовилихи в Пермь. Губчека располагалась в небольшом особняке на углу Петропавловской и Оханской. Во дворе стояли реквизированные телеги спекулянтов с барахлом, туда-сюда ходили чекисты в портупеях и милиционеры с винтовками, к стенам жались какие-то чинно одетые господа – просители за арестованных; в комнатах было многолюдно и накурено, трещали «ундервуды», звенели телефоны.
Ганька лихо уселся на стол прямо перед Малковым, председателем ЧК.
– Слышал я, что Мишка-царь у вас удрал? – весело спросил он, оглядывая тех, кто был в комнате, – машинисток и оперработников. – Контрреволюцию прозевал, товарищ Павел? А я давно заявлял – надо Романова к стенке!
Малков прекрасно знал, что Ганька сам устроил ночью расстрел Великого князя. Малков не одобрял этой затеи, но предпочёл не спорить с Мясниковым: всё-таки Ганька – член ВЦИКа. Да и вообще он сучий хвост, от которого одни только напасти. Цельный месяц Ганька кричал на митингах, будто бы рабочие возмущаются, что Великий князь жирует в гостинице, гоняет на авто и плавает за Каму на моцион, да ещё и бабу свою к себе вызвал. Рабочим на князя было начхать, а вот Ганька надоел своими нападками на исполком и Губчека.
– Выйдем потолковать, Гаврила Ильич, – мрачно сказал Ганьке Малков.
Во дворе он отвёл своего заместителя подальше от раскрытых окон.
– Не бреши про наши споры при чужих ушах, – мрачно предупредил он. – Завтра в газете пропечатают, что Мишку и секлетаря увезли белые офицеры.
Дать фальшивое объявление в местных «Известиях» придумал тоже Ганька. Расстрел Великого князя он решил держать в тайне – опасался мятежа монархистов. Ганька убедил Малкова представить исчезновение Михаила как похищение: дескать, князя увезли заговорщики из офицеров. По слухам, они укрывались на подворье Белогорского монастыря под крылом архиепископа Андроника. Похищение князя можно использовать как повод для разгрома подворья и ареста архиепископа. А бабы-салопницы – купчихи и мещанки, почитающие Андроника, – не вооружённое офицерьё, они мятеж не поднимут.
– Дело, что не забыл про газету! – одобрил Ганька. – Завтра надо готовить облаву на подворье. Прищемим рясу святому отцу.
Малков – кряжистый и медлительный – туповато молчал, размышляя. Быстрый и сообразительный Ганька смотрел на него снисходительно.
– А прислуга Мишкина где?
– В каторжную всех посадил, куда же их ещё.
– ВЦИКу про наше дело ты не телеграфируй, Паша, – приказал Ганька. – Телеграфисты всё растреплют. Мы лучше нарочного к Свердлову пошлём.
Ганька был необыкновенно доволен собой. Он совершил то, что хотел, – убил Великого князя, хотя ни ЧК, ни партия его на такое не уполномочили. А тугодум Малков не мог справиться с неукротимым Ганькой и всегда тащился вслед за его выкрутасами, лишь ворчал и бессильно грозился, как старая баба.
Дымя папироской, Ганька Мясников отправился прогуляться. Он ощущал себя повелителем города. Ладный и ловкий, он шёл разболтанной походочкой уголовника. Встречные бабы поневоле косились на него – было что-то лихое и необычное в этом молодом и большеротом мужике с чёрной неряшливой щетиной и хитрыми глазами. Красный свет заката летел вдоль длинных улиц, вдоль сомкнутых фасадов. Над головой у Ганьки проплывали ржавеющие вывески торговых домов, контор, галантерейных магазинов, ресторанов, аптек и фотографических салонов. Большие окна пассажей были заколочены досками. На замусоренных тротуарах лежали тени телеграфных столбов с решётками перекладин. Мимо кирпичных арок катились крестьянские телеги. В театральном сквере паслись козы. С улиц исчезли чиновники в сюртуках и дамы с белыми зонтиками; возле афишных тумб, заклеенных декретами, бойкие работницы в косынках лузгали семечки и пересмеивались с солдатами.
Ганька вспоминал свою единственную встречу с Великим князем. Ганьке любопытно было посмотреть на Романова, и Мишку привезли на допрос. Ничем не примечательный тип: всё среднее – и рост, и телосложение. Волосы уже редкие, а лицо как у стареющего подпоручика из губернского гарнизона.
– Какую на будующее программу располагаешь, гражданин Романов? – лукаво спросил Ганька, наслаждаясь неведением князя.
– Уеду в Англию с женой и сыном, – сухо ответил Михаил.
Ганька проницательно прищурился.
– Как сшибли корону, значит, простой человек ты оказался?
Михаил молча пожал плечами.
– А в простых людях непростым быть уже не смог?
– Что вы имеете в виду? – не понял Михаил.
Конечно, Ганька ничего не стал ему объяснять.
И вот теперь заурядный человек Мишка был свергнут незаурядным – Ганькой. Он, Ганька Мясников, словно бы сделался равновелик революции.
Ночевать Ганька остался в Чека. Устроился на стульях, сунув под голову кожаную подушку с кресла. А под утро его грубо растолкал Жужгов.
– Слышь, Ганька, – негромко прошептал он, – а князя-то нету.
– Ты чего городишь?! – подскочил Ганька.
В лесу возле расстрельной поляны Жужгов и его команда нашли только один труп, труп Джонсона, – там, куда его и оттащили. А второго трупа не было. Валялись срубленные ветки осины, которыми чекисты забросали тела, но Великий князь Михаил исчез. Лишь чернели пятна крови на траве.
– Колюня, как это нету? – Ганька попытался заглянуть в тёмные глаза Жужгова, спрятанные под надбровными дугами. – А ты его точно шлёпнул?
– Вдвоё стрельнул! – буркнул Жужгов. – Что я, кончать не умею?
В полумраке кабинета белое лицо Жужгова было будто у мертвеца. В окно светил месяц – ясный, как приговор трибунала. За изразцовой печью тихо трещал сверчок. Ганька принялся бешено скрести кудлатую башку.
– Значит, так, Колюня, – разъярённо сказал он, – хватай своих мазуриков и гони обратно! Обшаривай там всё на десять вёрст! Ищи на железке и на разъезде, ищи у Нобелей! Убить Мишку нам можно, а выпустить – нельзя!
06
– Иван Диодорыч, – приоткрыв дверь в каюту, осторожно позвал Серёга Зеров, старший помощник. – Пора, тебя общество ждёт.
Нерехтин лежал на койке и глядел в потолок. Корабельные часы на стенке нащёлкали девять с четвертью вечера. По-настоящему же исполнилось десять. На всех пароходах и пристанях Волги, Камы и Оки время было установлено нижегородское. От местного, пермского, оно отличалось на 46 минут.
Нерехтину не хотелось идти на разговор. Ему нечего было сказать. Буксир «Лёвшино» выгрузил в Мотовилихе ящики с деталями прессов и вернулся в Нижнюю Курью – в якутовский затон. Команда желала получить расчёт. А денег у Нерехтина не было. Биржу в Нижнем упразднили, купцы прекратили все дела, заводы еле дышали, и потому Иван Диодорович сумел добыть в Сормове только дюжину ящиков, хотя даже за них Мотовилиха не выплатила фрахт. Бухгалтер сталепушечного завода пообещал, что заплатит – но в июле; пароходную же кассу Нерехтин давно потратил на мазут и провизию.
На корме парохода под буксирными арками собрались обе команды – и верхняя, и нижняя. Старпом, боцман, матросы, буфетчик с посудником – и машинисты с кочегарами и маслёнщиком. Семнадцать человек. Семнадцать дырявых карманов и пустых животов.
Семнадцать голодных семей.
– Что я сделаю, ребята? – спросил Иван Диодорович и устало уселся на крышку мазутного бункера. – Никто ни гроша не даёт. Ничего нету.
Павлуха Челубеев, кочегар, задёргался всей своей здоровенной тушей, словно рвался из пут, и обиженно закричал:
– Одолжись у Якутова! Ты же с ним обнимался на пристани!
– Он теперь беднее меня, – невесело усмехнулся Нерехтин.
Якутов, хозяин огромного пароходства, и вправду потерял всё, что имел, но у большевиков не дотянулись руки до мелких собственников, владеющих каким-нибудь буксиром с баржей или парой пригородных судов. Большевики объявили в феврале, что национализируют весь флот до последнего дырявого баркаса, – и погрязли в зимнем ремонте сотен пароходов. Они запороли навигацию, поэтому крохотные буржуйчики вроде капитана Нерехтина ещё беззаконно суетились самостоятельно, худо-бедно добывая себе пропитание.
– Что делать-то, Иван Диодорыч? – плачуще спросил Митька Ошмарин.
Митька, маслёнщик, никогда не знал, что делать.
– Речком хоть харчами пособляет! – дёргаясь телом, крикнул Челубеев.
– Так ступай к большевикам, – зло посоветовал Нерехтин.
Для руководства захваченным флотом большевики учредили Речной комитет. Работникам там выдавали паёк. Но Речком с весны никого не брал на довольствие – на мёртвых судах не было работы. К тому же вся Кама знала: Нерехтин – из тех капитанов, которых называют «батей». Он за свою команду жизнь положит. От таких не уходят по доброй воле. Тем более в какой-то Речком – в казённую контору.
– Слышь, братцы, – виновато улыбаясь, влез Гришка Коногоров, молодой матрос-штурвальный, – не мы одни здесь кукуем, весь плавсостав без гроша! Я тут по затону потёрся, и народ говорит, что на пристанях тыщи мешочников сидят. И жратва у них есть, и деньги. А Речком всех нас держит взаперти, вроде как в Елабуге иль бо Сарапуле по реке шастает банда Стахеева на судах. Ребята прикидывают самовольно угнать пароходы из затона и возить мешочников. Думаю, братцы, надо нам вместе с народом леворюцию делать!
Речники, сидевшие на трюмном коробе, оживлённо загудели.
– Ты, Гришка, дурень молодой, – неохотно проворчал Нерехтин. – Видно, не сумел я из тебя глупый азарт выколотить.
– Ну, дядь Ваня… – обиделся Гришка, будто его не пустили на гулянку.
– А мазут где взять? – спросил матрос Краснопёров.
Гришка заулыбался ещё шире, довольный своим замыслом:
– У откоса две наливные баржи стоят. Нобелевские. Полные под пробку.
– Негодная затея, – негромко возразил Осип Саныч, старший машинист. – На баржах караул из мадьяров, с ними не договоришься. А на плашкоутном мосту большевики поставили пулемёт. Или не увидел, когда заходили?
Осип Саныч Прокофьев – маленький, плешивый и в круглых железных очках – считался лучшим машинистом на Каме. Он всегда был аккуратным и основательным. Он рассуждал так же, как и работал, прикладывая слово точно к слову, будто собирал из деталей механизм.
– Да пугала они! – отмахнулся Гришка. – Не будут стрелять по своим!
– На сталепушечном стреляют, – возразил Осип Саныч.
– Забудьте об этой блажи, – подвёл итог Нерехтин.
Боцман Панфёров деликатно откашлялся.
– Вдовецкому твоему горю, Иван Диодорыч, мы премного сочувствуем, – вкрадчиво заговорил он, – хотя с другой же стороны, ты ныне птица вольная и одинокая, а нам семьи кормить надобно.
– «Лёвшино» – мой пароход, – веско напомнил Нерехтин.
– Не обессудь, капитан, – старпом Серёга Зеров от неловкости даже снял фуражку, – но Гриня правду говорит. Спасение для нас – только мешочники, значит, надо поднимать бунт и прорываться из затона. Команда как считает?
– Да верно, чего уж там, верно, – нестройно ответили речники.
– Ежели ты несогласный, то придётся нам твой буксир социализировать.
Иван Диодорович знал: социализировать – значит взять в собственность работников, а не государства – как при большевистской национализации. Работники и станут решать, что делать буксиру. Нерехтин угрюмо молчал. Старпом Зеров был мужиком прямым и справедливым. Он старался для команды. Однако Нерехтин всё равно ощутил горечь, будто его предали.
– А ежели ты останешься капитаном, так для нас это честь, – виновато добавил Зеров. – Мы все тебя уважаем.
Затон, заставленный буксирами, брандвахтами и пассажирскими судами, освещало багровое закатное солнце. Пустые дымовые трубы чернели как на пепелище. Тянулась к небу стрела землечерпалки. Колодезными журавлями торчали вдоль берега оцепы – самодельные подъёмные краны. Возле судоямы с поднятым путейским пароходом застыли на огромных воробах два снятых гребных колеса без плиц. В краснокирпичных мастерских на дамбе звенели молотки кузнецов. Над водой, над судами и над вербами носились и верещали стрижи. Жизнь тихо текла сквозь проклятый богом восемнадцатый год.
07
Подворье Белогорского монастыря окружал бревенчатый, как в Сибири, заплот. За ним находились четыре больших деревянных дома на каменных подклетах, сад, разные службы и церковка Иоанна Златоуста с куполом и шатровой колокольней. Церковка была обшита тёсом и побелена. Весь город знал, что монахи на подворье укрывают офицеров, которые пробираются на юг – в Челябу к восставшим белочехам и в Тургайские степи к атаману Дутову.
Облаву устроили утром. По Петропавловской улице, переваливаясь как утка, ехал грузный броневик «Остин» с круглой башней и тонкими колёсами; за ним на пролётках – чекисты Малкова. Взрыв динамитной шашки распахнул оба прясла могучих ворот. «Остин» вкатился во двор. Пулемёт из его башни лупил по стенам и резным крылечкам, сыпалось колотое стекло, летели щепки, носились перепуганные куры из курятника. Офицеры выпрыгивали из окон и разбегались кто куда, лезли на заплоты, прятались за поленницами. Чекисты били по ним из револьверов. В подклеты и погреба сразу бросали бомбы.
Тех, кто сдался, согнали к стене церкви. Офицеры выглядели жалко: рубахи порваны, галифе без ремней обвисли мешками, ноги босые.
– Да здравствует Учредительное собрание! – нелепо закричал толстый и лысый офицер с расцарапанной щекой.
– Пли! – Ганька стукнул рукоятью нагана в клёпаный борт броневика.
В башне опять загремел пулемёт. Офицеры повалились друг на друга.
– Надо бы и монахов тоже… – задумчиво сказал Малков.
– Успеем ещё, – бодро заверил его Ганька.
Ганька был доволен. Всё идёт, как он и планировал. Убитые офицеры уже не расскажут, что не имели отношения к исчезновению Великого князя Михаила. Но куда же этот сукин сын подевался после расстрела?…
До Мотовилихи ему, раненому, не дойти. В Нобелевском посёлке стоит охрана. Может, Мишка приковылял к железной дороге и зацепился за какой-нибудь поезд?… Но патруль снял бы его в Лёвшино или на Чусовском мосту, где досматривают все эшелоны… Нет, скорее всего, Романов уполз в лес и сдох под валежником, а Жужгов со своими подручными его просто не нашёл. И хрен с ним, с Мишкой. Главное – чтобы Малков об этом не пронюхал.
Ганька и сам не очень понимал, почему ему так хотелось убить Великого князя. Неприязни к Михаилу он не испытывал. Классовой ненависти – тоже. Видимо, дело в том, что Ганька всегда стремился быть особенным.
Оказалось, что это сложно. Девкам он не нравился – на цыгана похож. Играть на гармошке не получалось. В ремесленной школе он учился хорошо, бойко, но его, неряху, не любили. Ганька поступил на сталепушечный завод слесарем в снарядный цех. А на заводе особенными людьми считались мастера – из тех, что управляли гигантским паровым Царь-молотом или сваривали металл электрической дугой, как изобрёл инженер Славянов. Однако у Ганьки для вдумчивой и кропотливой работы никогда не хватало терпения.
На заводе он познакомился с большевиками – и наконец-то понял, как стать особенным без особенных усилий. Большевики готовили мировую революцию, устраивали стачки, запасались оружием, печатали прокламации, сидели в тюрьмах. Тюрьма Ганьку не пугала – он везде сумеет поставить себя. А человек, пострадавший за убеждения, неизбежно обретал уважение и славу.
С делами подполья Ганька помотался по державе от Перми до Баку, изрядно помыкался по тюрьмам и ссылкам от Тюмени до Ленских приисков. Ко времени революции он уже числился в испытанных бойцах партии. Рабочая Мотовилиха двинула его во ВЦИК – к самой верхушке советской власти. Однако на многолюдном съезде в Таврическом дворце Ганька понял, что здесь он – опять один из равных. А равенство ему всегда было против шерсти. Как же выделиться из серой толпы депутатов в солдатских шинелях и рабочих тужурках? Изворотливое воображение Ганьки быстро отыскало вполне подходящий способ. В Перми, в ссылке, маялся от скуки Великий князь Михаил. Надо его расстрелять. Вот такого уж точно никто не делал! И весной Ганька ловко перебрался из мотовилихинского Совета в Губчека.
Он не сомневался, что Свердлов одобрит его дерзость. С ним, с Ганькой, «товарищ Андрей» был одного поля ягода, только сумел выскочить наверх. Облава чекистов на Белогорское подворье растолкует пермским обывателям, как Мишка Романов смылся из-под надзора. Оставалось решить вопросик с архиепископом Андроником. Умный поп наверняка проведал, что офицерьё тут не при деле: большевики сами без всякого повода шлёпнули Великого князя. Архиепископ мог объявить об этом в храме. Попа надо было заткнуть.
Андроник давно уже раздражал Совет заступничествами за арестованных и требованиями не трогать храмы. По слухам, он призывал паству молиться о возвращении старых порядков. Конечно, он понимал, что за ним придут, и каждый вечер причащался перед сном как перед гибелью. И за ним пришли. Он, гадина, встретил чекистов в облачении странника, в клобуке и с посохом.
Допрашивать попа было, в общем, не о чем – Андроник и без ареста не таил своих деяний. Но Ганьке хотелось поспорить, и он сказал Малкову, что сам проведёт допрос. Андроник сидел у стола в тёмных и длинных одеждах.
– Ты и вправду веришь, что не помрёшь после смерти? – спросил Ганька.
– Душа бессмертна, – скупо уронил архиепископ.
Ганьку всегда недобро подзуживало чужое превосходство: ему тотчас хотелось стать хоть в чём-то умнее умного и главнее главного. – Душа-то бессмертна, – насмешливо согласился Ганька, – только не у таких, как ты, отступник! Ты же против бога! Ты нашему вопросу заклятый враг, а мы строим царство справедливости на земле! Божье царство!
Ганька всегда легко ухватывал идеи соперников и говорил с ними на одном языке. Он был уверен, что переспорит попа. А поп не пожелал спорить.
– Чушь ведь несёшь, – неохотно ответил он.
Малков решил не тянуть канитель с архиепископом. Ганька поигрался – и всё, хватит. Попа надо убирать, пока Совет ещё ничего не знает.
Во дворе Губчека Андроника посадили в фаэтон рядом с милиционером и подняли крышу, чтобы случайные прохожие никого не заметили. Правил экипажем Жужгов. С Оханской улицы фаэтон свернул на Екатерининскую, потом на Сибирскую. Когда проехали Солдатскую слободку и пересыльную тюрьму на тракте, Жужгов оглянулся. Поп, ясное дело, увидел, что его везут вовсе не в тюрьму, – значит, должен испугаться, заёрзать. Но сидел спокойно.
Жужгов потихоньку разозлился. В пяти верстах от города он остановил фаэтон. Попу сунули в руки заступ и приказали копать себе яму на обочине тракта. Андроник был ещё не старым мужиком, крепким. Он выбрасывал землю без спешки, но и не медлил. Чекисты топтались рядом и курили. Наконец Жужгов не выдержал и отобрал у Андроника лопату.
– Тебе хватит, – сказал он про неглубокую могилу. – Лягай в неё сам.
Андроник лёг на дно и перекрестился. Он смотрел на вечереющее небо за кронами сосен, а не на палачей. Жужгов почувствовал себя уязвлённым и принялся сноровисто закидывать архиепископа комьями суглинка. Андроник закрыл глаза. Суглинок быстро завалил лежащего в могиле человека. Там, под слоем земли, Андроник ещё был жив, но не шевелился, не бился в судорогах или в ужасе, будто взял да и умер сам, лишь бы досадить чекистам своим бесстрашием. Тогда Жужгов вытащил наган и начал стрелять в могилу.
08
– Неделю назад провиант обещали, и где он? – гневно крикнули из рядов.
– Не шуми, выдадим, – ответил Демидов. – На работника – фунт муки в день, на члена семейства – полфунта. Советская власть от слов не отступает.
До революции Демидов был помощником капитана на пароходе «Ярило». Судно принадлежало пароходству «Былина». Начальство знало, что Демидов – большевик; однажды в Сызрани жандармы взяли его за провоз прокламаций, и Дмитрий Платонович распорядился внести залог для освобождения своего служащего. Якутов считал, что убеждения сотрудников его не касаются.
Три опытных речника – Демидов, Рогожкин и Батурин – составляли коллегию Пермского Речкома. До революции сложные взаимодействия речного флота с промышленностью и торговлей регулировали биржи и сами судокомпании, но большевики смело взвалили всё на плечи государства. Дмитрий Платонович искренне интересовался новой организацией работы, хотя и сомневался в ней.
Коллегия заседала в зале собраний дирекции. В Перми на берегу Камы – прямо над пристанями – Дмитрий Платонович построил настоящий дворец с колоннами и садом. Впрочем, коммерция требовала, чтобы Якутов жил в Петербурге, Москве или Нижнем Новгороде – рядом с банками и биржевыми комитетами, поэтому свой дворец Дмитрий Платонович отдал под контору Соединённого пароходства, а себе оставил только квартиру в мансарде.
В зал стащили все стулья, что нашлись. Зал был забит людьми – бывшими судовладельцами и коммерсантами, капитанами, представителями затонных комитетов и Деловых Советов, которые контролировали работу пароходств. Стоял гомон, к лепным карнизам поднимался табачный дым, на паркете под ногами хрустели мусор и шелуха от семечек. Коллегия помещалась за столом, покрытым красным сукном. Батурин курил, Рогожкин перекладывал бумаги.
В толпе поднялся старик с белой бородой и в картузе.
– Товарищ, верни мне «Внучека»! – взмолился он. – Это ж грабительство!
– Какого внучека? – не понял Батурин.
– Буксир мой, я его в честь Федюнюшки назвал! – пояснил старик. – Куды купцу без буксира? Это как мужику без лошади! Не губи, товарищ!
– У тебя машина сколько сил? – сердито прищурился Батурин.
– Сорок пять, дак это индикаторных!
– Если машина больше тридцати сил – всё, национализируем. Хоть на старости лет, отец, работай честно, сам, не эксплуатируй чужой труд!
– Демагогия, – негромко сказал Якутов сидящему рядом Нерехтину. – Как мощность машины связана с эксплуатацией труда? Любая машина нуждается в обслуживающем персонале, то есть хозяин использует наёмных работников.
– В старину подати за дым брали, – ответил Нерехтин. – А теперь печку отнимают. Я про себя и не заикаюсь. У «Лёвшина» машина в пятьсот сил.
Дмитрий Платонович присутствовал на заседании коллегии как советник Речкома, а Иван Диодорович приехал из затона, чтобы узнать положение дел.
Дмитрий Платонович не верил в идеи большевиков. Маркс утверждал, что всё зависит от собственности на средства производства, а Якутов по опыту знал, что всё зависит от качества этих самых средств. То есть от прогресса. Чем прогрессивнее технологии, тем богаче компании, а богатые компании заинтересованы в социальной справедливости. Так было у «Самолёта», у «Кавказа и Меркурия» и общества «По Волге», у Нобелей и у него, Якутова.
Прогрессу Дмитрий Платонович и был обязан своим капиталом. На флот он пришёл тридцать лет назад. Сын разорившегося тверского купца, он служил в товариществе «Самолёт» коммерческим агентом. Товарищество перевело агентов на процент с доходов, и Митя Якутов заработал первые неплохие деньги. Ему было двадцать лет.
Он арендовал буксир, а через год уже выкупил его. Так началось восхождение к славе «пароходного короля» всей Камы.
Он не жалел средств, перенимая новое. Судовладельцы стали переводить паровые машины с дров на мазут – и Митя тоже перевёл. Появились наливные суда – он заказал себе такие же. Коломенский завод начал выпуск дизелей – Якутов был среди первых покупателей. Дмитрий Васильевич Сироткин придумал гигантские баржи – и Якутов последовал его примеру. Технический прогресс превращал большой расход в огромную прибыль. А прибыль Якутов вкладывал в том числе и в работников своего Соединённого пароходства. Эту политику он заимствовал у Генри Форда, когда съездил в Америку и увидел, как устроен завод Хайленд-парк, на котором потерпели крах профсоюзы. И революцию большевиков Дмитрий Платонович расценивал как ошибочное решение проблем. Но с историей он не спорил, как не спорил с прогрессом.
– Товарищи! – перекрывая гомон, заговорил Демидов. – Речком ещё не получил полную номенклатуру национализированных судов. Что я Главкому доложу? Почему затонные комитеты тянут? Саботажничают?
– А социализированные пароходы считать? – спросили из рядов.
Рогожкин, третий член коллегии, поднялся с места.
– Никакой социализации большевики не признают! – объявил он. – Это анархо-синдикализм! Если кто не соображает, вышибем из партии!
– Мои баламуты мой буксир сдуру социализировали, – негромко сообщил Якутову Нерехтин. – А я не спорил. Сгорел амбар – гори и хата.
– Лучше скажите, когда суда из затонов выпустят? – закричали в рядах.
– Когда надо, тогда и выпустят! – ответил Демидов. – Сами видите: обстановка сложная. Белочехи, Дутов, бандиты на Каме. В городе окопалось офицерское подполье – похитили Михаила Романова. Не время для навигации. Занимайтесь ремонтом, доделывайте то, что зимой не успели. А потакать мелкобуржуазным пережиткам советская власть не будет. И наш флот не будет обслуживать спекулянтов. Проявляйте сознание, товарищи!
– Они доведут народ до греха, – прошептал Нерехтин Якутову. – В затоне буйны головы готовят бунт, чтобы вырваться. И мои баламуты с ними хотят.
– Надеетесь их остановить, Иван Диодорыч?
– Кто меня там теперь слушает? – горько вздохнул Нерехтин.
За большими окнами зала заседаний синела мучительно пустая Кама – ни пассажирских пароходов, ни буксиров с баржами или плотами. Дебаркадеры пристаней были заколочены, а сотни судов бессильно ржавели в затонах.
09
Этот сквер на Монастырской улице горожане называли Козьим загоном. Сквер красиво стоял над крутым откосом камского берега. В густых липах скрывалась старинная деревянная ротонда с колоннами и куполом.
– К чему такие предосторожности, Ханс Иванович? – спросил Якутов.
Кама синела в темноте тускло и просторно, а поперёк движения реки через небосвод простиралась дымно светящаяся полоса Млечного Пути.
– Вы слышали о побеге Великого князя Михаила? – ответил Викфорс.
– Разумеется, слышал.
– Никакого побега не было. Михаила просто расстреляли, но не добили.
– Поясните, – с тревогой потребовал Якутов.
Ханс Иванович был управляющим Нобелевским городком. Товарищество братьев Нобель построило на Волге, Каме и Оке около десятка перевалочных пунктов – городков. У Нобелей всё делалось тщательно и вдумчиво. Сутью любого городка были огромные клёпаные баки для нефти и мазута; участок с баками был огорожен противопожарными рвами. На реке сооружали затон и пирсы, ставили плавучую нефтеперекачку. В стороне от баков располагались кирпичные дома аккуратного посёлка для работников с обязательным садом, клубом, маленькой школой, лазаретом и электростанцией. От ближайшего разъезда подтягивали железнодорожную ветку. Освещённые электричеством игрушечные нобелевские городки казались поселениями из будущего. Всю навигацию к ним безостановочно шли караваны нефтебарж и наливных судов с продукцией бакинских промыслов и заводов компании «Бранобель».
– Тринадцатого числа наш сторож наткнулся на человека, лежащего без сознания в противопожарном рву, – сказал Викфорс. – Это был Великий князь. Ему навылет прострелили правое лёгкое и пулей разбили затылок. Однако он дополз до нас после расправы. Анна Бернардовна, конечно, промыла ему раны и перевязала. Вы же знаете, какая женщина моя жена, Дмитрий Платонович.
Якутов кивнул. В нобелевской фирме почти все руководящие должности занимали шведы. Их жёны не сидели дома, а предпочитали иметь собственное занятие, и чаще всего устраивались учителями или сёстрами милосердия. Анна Бернардовна Викфорс работала младшим акушером в родовспомогательном отделе мотовилихинского заводского госпиталя.
– Газеты сообщали, что Великий князь бежал из-под надзора, – сказал Якутов. – В причастности к его побегу обвинили архиепископа Андроника.
– Ложь, – отмёл Викфорс. – Михаил Александрович и его секретарь были похищены и тайно казнены в лесу за Соликамским трактом. А потом палачи обнаружили, что Великий князь выжил. И сейчас чекисты ищут его, не придавая это огласке. Утром пятнадцатого у нас в городке провели обыск. Мы с Анной Бернардовной еле успели вынести Великого князя к бакенщику.
– Он не способен передвигаться самостоятельно? – сразу спросил Якутов.
– Еле ходит. Его нужно спрятать, Дмитрий Платонович. И спрятать так, чтобы его мог наблюдать врач. Я прошу вашей помощи. Поэтому и явился к вам ночью. Хотя понимаю, что обрекаю вас на чудовищный риск. Большевики беспощадны. Однако я не представляю, кому, кроме вас, мне довериться.
Якутов молчал, размышляя.
– Если большевики схватят Великого князя, то затем расстреляют меня и мою жену, потому что нам известна правда, – добавил Викфорс.
С Хансом Ивановичем Якутов был знаком почти двадцать лет – столько, сколько сотрудничал с компанией Нобелей. Эмануил Людвигович Нобель, глава компании, стал для Якутова и хорошим другом, и даже наставником. Он первым понял, что двадцатый век будет веком нефти и моторов. Дмитрий Платонович много беседовал с Нобелем – и в его дворце на Сампсониевской набережной в столице, и на «Вилле Петролеа» в Баку. Эмануил Людвигович убедил его работать вместе. Фирме Нобелей не хватало судов, и нефтефлот якутовского Соединённого пароходства «Былина» превратился в некое подразделение товарищества «Бранобель». Две трети своих прибылей Якутов получал от перевозок нефти из Баку, а не от буксиров и пассажирских судов.
В некошеной траве Козьего загона стрекотали цикады. Под склоном прошумел полуночный поезд. Город не спал, а просто затих, прислушиваясь к опасной темноте своих улиц, к лаю собак и стуку подков по мостовым.
– Где сейчас Великий князь? – по-деловому спросил Якутов.
– В лодке у вашей пристани. Я сам его привёз. У него горячка.
– Возвращайтесь к нему, Ханс Иванович, – распорядился Якутов. – Ждите меня. Я приду с человеком, который заберёт Великого князя и лодку.
Подняв воротник короткого тренчкота, Дмитрий Платонович шагал в сторону Ямской площади. Он считал себя обязанным помочь Викфорсу и Великому князю уже по той причине, что он – опытный коммерсант и умеет выходить из безвыходных положений. Он всегда побеждал там, где другие проигрывали. Значит, ему нужно вступиться. Он же порядочный человек.
В деятельном уме Дмитрия Платоновича сам собой быстро составился план. Нельзя помещать Великого князя в городскую больницу или на квартиру к какому-нибудь доктору – сёстры или прислуга не сохранят тайны. Но в Нижней Курье, в затоне Соединённого пароходства, имеется фельдшерский пункт. Речники, рабочие люди, вряд ли знают Великого князя в лицо; им следует сообщить, что князь – обычный офицер. Фельдшер окажет помощь, а речники не выдадут того, за кого просил сам Якутов. Но это ещё не всё.
Пароходы желают вырваться из затона. Пускай Нерехтин возьмёт князя к себе на буксир или пристроит на судно, которое, скорее всего, уйдёт из Перми. Чекисты не догадаются искать Михаила в Осе, Сарапуле или Елабуге. Тем более – в Нижнем. А сопроводит раненого князя Костя Строльман. Он ведь тоже хотел уехать из Перми с сестрой – женой подполковника Каппеля. Строльман-младший должен прямо сейчас на лодке доставить Великого князя в затон и там условиться с Иваном Диодоровичем о последующем бегстве.
На углу Сибирской и Пермской улиц, осторожно оглядевшись, Дмитрий Платонович негромко постучал пальцем в окно деревянного двухэтажного дома, в котором жили Строльманы.
10
Костя и Нерехтин осторожно уложили Великого князя на кушетку.
– Благодарю, – сказал фельдшер, убирая деньги в медицинский шкафчик. – Идите, господа, и будьте покойны за пациента.
Он укрыл князя заштопанной простынёй. Его испитое лицо с трёхдневной щетиной выражало профессиональную недоступность; застиранный халат он туго завязал на спине, как хирург во время операции. Князя сейчас трудно было узнать: голова до глаз обмотана бинтами, скулы обострились, а короткая и неровная борода сделала Михаила Александровича похожим на разночинца.
– Спирт ещё не весь выпил, Егорыч? – спросил Нерехтин.
– На его благородие хватит, – с достоинством ответил фельдшер.
Лазарет занимал три каморки в большом казённом доме из бруса. Ещё в этом доме находились квартиры начальника затона и караванного капитана. Караваном назывались все суда, помещённые в затон; караванный капитан командовал их передвижением по акватории и распределял стоянки. Двор казённого дома был огорожен штакетником и тоже разделён на три части. На своей части фельдшер вскопал грядки и засеял их аптекарскими травами.
От казённого дома с верхотуры берега был виден весь затон, освещённый ярким утренним солнцем. Дамба с липами и тополями, мастерские и целый город из пароходов: палубы, крыши, дымовые трубы, мачты с такелажем, изогнутые шлюпбалки, стеклянные коробочки рубок… Длинные и ажурные ящики лайнеров с протяжными галереями прогулочных веранд и обыденные туши товарно-пассажирских судов; широкоплечие буксиры с надстройками, крепко собранными воедино; мелкие винтовые катера; «фильянчики» лёгких пароходств с полотняными навесами на стойках; красный пожарный ледокол; растопыренная землечерпалка; неимоверные лохани железных и деревянных барж… Странно подумать, что это ско пище разнообразных судов ещё совсем недавно принадлежало Якутову. Он выкупил половину камских компаний, в том числе и старейшую из них – пароходство братьев Каменских, а Каменские сорок лет назад и соорудили из курьи, речного залива, этот огромный затон.
– Какая красота! – искренне восхитился Костя.
– Да, большое дело, – кивнул Нерехтин.
Костя был воодушевлён как-то по-юношески. Он поступал правильно – и у него всё получалось! И люди вокруг были замечательные, даже пьющий фельдшер. Честное слово, это весьма романтично – спасать Великого князя! Дмитрий Платонович не сказал, кем является офицер, которого Костя в лодке переправил ночью из Перми за шесть вёрст в Нижнюю Курью. Но Костя сразу узнал Михаила Александровича. И был глубоко взволнован благородством и доверием Якутова. Конечно, он сохранит тайну Дмитрия Платоновича!
По съезду, вымощенному булыжником, Костя и Нерехтин спустились к наплавному мосту на плашкоутах – не такому большому, как в Нижнем на ярмарке, а только для пеших. Мост перехватывал горловину затона. Возле вкопанной ручной лебёдки, с помощью которой отводили цепь плашкоутов, из мешков с песком была выложена стрелковая ячейка; в ней дежурили красногвардейцы с пулемётом. Костя и Нерехтин перебрались на дамбу.
В Перми под запрет навигации угодил знаменитый лайнер «Фельдмаршал Суворов». Пассажирские суда стояли у причалов, а не форштевнем в берег у пронумерованных столбов, как буксиры; Костя и Нерехтин прошли вдоль громады парохода со старомодно острым носом и небольшими окнами. На белом кожухе гребного колеса по-прежнему скрещивались торговые флаги империи – это был символ компании «Кавказ и Меркурий», хотя компания исчезла уже четыре года назад, растворившись в гигантском тресте КАМВО. Впрочем, какие теперь тресты? Большевики всё национализировали.
Матрос в синей форменке открыл перед визитёрами дверку в фальшборте, и Нерехтин указал Косте на главный трап. Возле главного трапа на втором ярусе всегда располагались богатые двухкомнатные каюты капитанов.
Капитан – сухопарый старик в белом кителе, плотно застёгнутом на все пуговицы, – молча смотрел на Костю, будто не понимал смысла его слов.
– Хорошо, – наконец произнёс он. – Мне несложно оказать такую услугу господину Якутову. Пароход пустой. Можете выбрать любой люкс, молодой человек. Оплату извольте внести кассиру банкнотами имперского образца.
– Понимаете, моя сестра не очень организованна, – вежливо пояснил Костя, – поэтому я хотел бы уточнить у вас время отплытия. И тут капитан не выдержал.
– Я не знаю времени отвала! – загремел он. – Я жду свою команду, которая рыщет по окрестным деревням в поисках хлеба!..
Чёрт-те что! Я командую судном уже четверть века! «Суворова» встречали на пристанях с губернскими оркестрами! Он ставил рекорды! Его пассажирами были граф Лев Толстой, Столыпин и Менделеев! А сейчас большевики заперли пароход в затоне, как собачонку в будке! Мои матросы побираются, будто нищенки!.. Позорище!
– Не кричи, Аристарх Палыч, – поморщился Нерехтин. – Значит, это ты подбил здешних остолопов на мятеж?
– Я никого не подбивал! – отрезал капитан «Суворова». – Я просто хочу вернуться к себе – в Спасский затон! Там хотя бы кормят!
– Спеси у вас много, у пассажирских начальников, – заметил Нерехтин. – Белая кость. Всё вам по чину подавай. А кто-то потом лоб под пулю подставит.
– Не надо вот этого социализма, Иван Диодорыч! – обиделся капитан.
Нерехтин вывел Костю с парохода обратно на дамбу. В бледной дымке над далёкой Пермью висело свежее, ещё нежаркое солнце. За тополями ярко искрился простор Камы. В затоне громоздились пароходы; блестели их окна, отражаясь в тихой воде; голубые тени лежали под скулами и обносами.
– За лазаретом начинается дорога, – сказал Нерехтин, – через версту будет разъезд. Там поезда идут медленно, можно зацепиться, и через мост на Заимку прикатите, прямо на станцию. И поторапливайтесь, Константин Сергеич.
11
Костя ей не помогал – сидел в кабинете отца и торопливо писал какие-то прощальные письма. Ольга металась по комнатам, распахивала гардеробы, выхватывала то платье, то кофту, бежала к открытым чемоданам, лежащим на полу в гостиной, а потом уносила вещи обратно и в слезах засовывала их на полки как придётся. Нет, это невозможно – оставить Кирюшу и Танечку!.. Конечно, Кики уже большой, ему почти пять лет, но Танечке нет и годика!..
Через гостиную Ольга бросилась в детскую, где светилась только лампада перед иконой, и в темноте упала на колени возле кроватки, в которой спала Таня. Ольгу душили слёзы. Пускай её убьют, но она не покинет детей!.. Елена Александровна вошла вслед за Ольгой, мягко подняла дочь на ноги и вывела в гостиную. Сергей Алексеевич бессильно сидел в кресле.
– Папа, сделай же что-нибудь! – шёпотом закричала Ольга.
– Собирайся, Лёлюшка, – тяжело ответил Строльман-старший.
Сергей Алексеевич и Елена Александровна долго не доверяли мнению Костика и сомневались в необходимости бегства, хотя Строльман-старший слышал о расстрелах в Мотовилихе. Всё изменилось после казни Андроника. Строльманы хорошо знали архиепископа. Тот был прекрасным человеком и не заслуживал смерти, даже если помог Великому князю. Большевики устроили террор. И жалости они не ведали. Что им Лёлюшка? Жена врага. К тому же она всегда была у большевиков под рукой – работала в штабе Третьей армии машинисткой. Её могли арестовать прямо за пишущей машинкой.
Ольга вдруг обняла Елену Александровну и принялась жарко целовать.
– Мамочка, милая, не гоните меня, я не поеду от детей!..
Елена Александровна еле оторвала Ольгу от себя.
– Всё будет хорошо, Олюшка, – увещевала она. – Кормилицей Танечке я возьму Анисью, за Кики сами с отцом доглядим… Так надо, родная!
– Только Володя тебя защитит, – тяжело сказал Сергей Алексеевич.
Строльманы-старшие приняли Володю Каппеля не сразу. С Олей Володя познакомился на благотворительном вечере в Дворянском собрании. И сразу сказал ей: ты будешь моей женой. Он был честным и целеустремлённым, а Оля никогда не умела управлять собой. Но Строльманы-старшие указали Володе на дверь – неимущий поручик не пара дочери инженера, который командовал гигантским сталепушечным заводом с двадцатью пятью тысячами рабочих. Володя украл Олю, увёз в какую-то деревню, и сельский поп обвенчал молодых.
Дерзкому офицерику Строльманы этого не простили.
А Володя продолжал служить. Поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. И в конце концов на войне стал помощником начальника разведотделения Юго-Западного фронта. Не бог весть какая карьера, однако Сергей Алексеевич и Елена Александровна увидели, что у поручика Каппеля характер откован из булата. Костя, младший брат Ольги, просто влюбился в мужа сестры.
И Володя постепенно стал в семье Строльман главным.
Ольга ворвалась в кабинет Кости.
– Куда ты меня тащишь?! – шёпотом закричала она. – Что ты затеял?! Что ты вообще можешь сделать?! Ты – не Володя! Ты сам ещё ребёнок, Котька!
В кабинете горела керосиновая лампа, её огонь отражался в тёмном окне.
Костя встал из-за стола и тщательно прикрыл дверь.
– Прекрати безобразие, Лёлька! – ответил он. – Я скажу тебе по секрету, чтобы ты успокоилась и не терзала маму с папой! Это не я всё организовал! Это сделал сам Дмитрий Платоныч Якутов! Емуто ты доверяешь?
– Якутов? – изумилась Ольга. – При чём здесь он?
Костя поколебался – говорить или нет?
– Дмитрий Платоныч вывозит из Перми Великого князя Михаила, – почти беззвучно сообщил он. – Князь жив! И тебя спасают вместе с ним, поняла? Я буду сопровождать вас обоих до Володи!
Так что уймись, ради бога!
Ольга обомлела от ужаса, а потом вцепилась брату в грудь:
– Котька, дурак, вас с Якутовым расстреляют, как отца Андроника!
Костя отнял её руки.
– Через два часа нас в Перми уже не будет! Только ты сама не мешай!
Дверь в кабинет приоткрылась.
– Костя, там в дом стучат, – испуганно сказала Елена Александровна.
– Это извозчик, – пояснил Костя. – Я велел ему прибыть в полночь.
– На станцию поедете или на пристань?
– Вам с папой не надо знать этого, мама, – мягко ответил Костя.
Ольга словно преобразилась от слов Костика. Она кинулась в гостиную.
– Я сама отворю, папа! – шепнула она и выскочила в прихожую.
Костя снова сел за стол и придвинул недописанное письмо.
Накинув на плечи платок, Ольга в прихожей долго возилась с засовом. Потом потянула тугую дверь на себя. Из тёплой темноты на улице в проём вдруг вдвинулись рослые плечистые фигуры.
К лицу Ольги поднесли бумагу.
– Чека! – произнёс незнакомый грубый голос.
Ольга забилась, будто уже вырывалась, и отчаянно закричала в дом:
– Котька, беги!..
Чекистов было четверо, и возглавлял их Ганька Мясников. Он уже давно намеревался взять под арест жену подполковника Каппеля – просто так, без повода, на всякий случай. До дела дошло только сегодня. На обратном пути от Успенской женской обители чекисты завернули гружённые мануфактурой пролётки к деревянному особнячку Строльманов. И оказалось, что не зря!
Отшвырнув бабу, чекисты ломанулись в гостиную. Лампа под абажуром. На полу – раскрытые чемоданы с барахлом. Пожилая женщина, схватившись за сердце, ошарашенно прижалась к изразцам голландской печи. Барин гневно вздымается из кресла – усы и бакенбарды раздуты, как у Александра Второго. В кабинете – тоже свет. И звякает стеклом второпях распахнутое окно.
Ганька пронёсся через комнаты, выдёргивая наган из кобуры, высунулся в окно и несколько раз выстрелил в неясные тени Сибирской улицы. В доме завизжали женщины и заплакал младенец. Темнота не отозвалась на пальбу.
Раздосадованный, Ганька вернулся в гостиную к Строльманам-старшим, пнув по дороге резной стул.
– Какое вы право имеете!.. – начал было Сергей Алексеевич.
– Помолчи, папаша! – оборвал его Ганька.
Чекисты уже втолкнули в гостиную Ольгу – бледную и растрёпанную.
– Одевайся, мамзель, – зло сказал Ганька, вглядываясь ей в лицо. – Растолкуешь нам, куда собралась и что за хахали у тебя тут из окон сигают.
12
Оба они увлекались разговором и нынче опять засиделись до рассвета. За окном исчезли бабочки-ночницы, а небо над Камой пронзительно посинело. Дмитрий Платонович прикрутил фитиль пятилинейной керосиновой лампы.
– Не понимаю, папа, как ты мог отказаться от собственности?
Катя смотрела требовательно и даже осуждающе. Якутов, усмехаясь сам себе, подумал, что влюбляется в свою дочь, как когда-то влюбился в её мать.
– Ты ведь тоже отказалась от Сорбонны и Кембриджа и поехала в Пермь.
– Ты шутишь, а я говорю серьёзно! И речь не про меня!
Она и вправду была серьёзной. Внешне очень похожей на Ангелину – и не похожей ничуть по натуре, потому что Ангелина, актриса, всегда пребывала в некоем драматическом изломе духа, словно жила на экране синематографа.
– Если серьёзно, Катюша, то я согласен с необходимостью социальных изменений в России. И согласен пострадать от них.
Серые глаза Кати сделались непримиримыми.
– Ты веришь в химеры большевиков?
– Нет, не верю. – Якутов покачал головой. – Но власть – у большевиков.
– Это не значит, что ты должен их поддерживать!
– Я поддерживаю не большевиков. – Якутов старался формулировать как можно точнее. – Я поддерживаю хозяйство в работоспособном состоянии.
Кате хотелось задавать острые и неудобные вопросы. Хотелось искать ошибки в рассуждениях или поступках отца и опровергать его. Отец был статным и сильным мужчиной с чёрно-седой бородой и высоким лбом. Всегда доброжелательный, тем не менее он не пускал к себе в душу. Такие не нравятся женщинам – но если уж понравились, то на всю жизнь. Не случайно мама брала в любовники каких-то светских хлыщей или истеричек с апломбом. Из обиды и ревности она искала противоположность отцу. Катя давно поняла, что мама ему – не пара. А вот сама она вполне достойна Дмитрия Платоновича. У неё такой же твёрдый характер. И она могла быть рядом с отцом – но только на равных. Неудобные вопросы и служили объявлением о равенстве.
– Мама говорила, что до революции ты давал большевикам деньги и ходатайствовал за них перед полицией и судом.
– Да, верно, – кивнул Якутов. – Содействие большевикам оказывали многие промышленники. Но этим мы работали против революции, а не за неё.
– Каким же образом? – удивилась Катя.
– Для полноценного развития страны мы хотели получить подлинный парламент, в котором рабочие имели бы справедливое представительство. Социал-демократы выступали от пролетариата, эсеры – от крестьянства.
За окном вдали патриархально запел утренний петух. В провинции птицу и скотину держали даже в центре губернского города.
– Не знаю, как повели себя эсеры, – со сдержанным гневом сказала Катя, – но социал-демократы мобилизовали на революцию не столько рабочих, сколько люмпенов! Уголовников, дезертиров, батраков и бродяг!
Дмитрий Платонович тихо гордился, что дочь у него такая умная и волевая. Он разговаривал с Катей честно и без всяких скидок.
– Ты права, Катюша. И я впечатлён твоим знакомством с марксизмом. Да, социал-демократы оказались подлее, чем мы думали. Они ловко использовали пролетариат для расшатывания режима. И мобилизация деклассированного сословия для классовой борьбы означает их стремление к абсолютной власти, а вовсе не к демократии.
– Значит, надо бороться с большевиками!
Дмитрий Платонович смотрел на Катю с нежностью и уважением. Эта английская девочка ещё многого не понимала – в жизни, а не в политэкономии.
– Не думаю. Конечно, я осознаю неизбежность гражданской войны, но полагаю, что война только ухудшит ситуацию. При отсутствии сопротивления большевики сами были бы вынуждены вернуться к частной собственности, потому что государственное управление экономикой нерационально. Дело государства – фискальные функции. Маркс – утопист. Я надеюсь, Катюша, что через пару лет большевики всё равно придут к некоему квазикапитализму. Новыми собственниками станут люди, облечённые доверием их партии, или коллективы. То есть изменятся лица, но прежние основы восстановятся.
Но Кате утопистом казался не Маркс, а отец. Он надеялся на чудо.
– Ты веришь, что вернёшь своё прежнее положение, папа?
Дмитрий Платонович усмехнулся.
– Возможно. Однако меня волнует не это, Катюша. Меня волнует то, что в годы твоей учёбы я буду не в состоянии содержать тебя должным образом.
– Не беспокойся, – с достоинством ответила Катя. – Я сама смогу себя прокормить. Я не боюсь работы. Я могу давать домашние уроки, я хорошо освоила лаун-теннис, наконец, я занималась на курсах сестёр милосердия.
Домашние уроки? Лаун-теннис? Для кого это здесь? Для детей из рабочих и солдатских слободок? Но Дмитрий Платонович не стал разубеждать дочь.
– Ты прекрасна, Катюша. И я очень сожалею, что не я тому причина.
Они сидели в гостиной небольшой квартиры Якутова в мансарде здания Речкома. Свою спальню Дмитрий Платонович уступил дочери и ночевал в кабинете. Восход окрасил скошенный потолок в буржуазный розовый цвет. Самовар давно остыл. За окном над Камой плыл тонкий туман.
Где-то в глубине здания раздались невнятные голоса, потом за стеной на лестнице заскрипели тяжёлые шаги, и дверь в квартиру Якутова без стука распахнулась. В гостиную по-хозяйски бесцеремонно вошли незнакомые Дмитрию Платоновичу люди в солдатских гимнастёрках и кожаных куртках.
– Гражданин Якутов, – сказал кто-то из них, – вы арестованы.
– И за что же? – спокойно спросил Дмитрий Платонович.
Один из вошедших, небритый и большеротый, победно улыбнулся:
– Да ведь и сам, небось, знаешь.
13
– Поди-ка сюда, любезный. – Ганька толкнул створку грязного окна.
Якутов подошёл и остановился, стараясь не соприкасаться с Ганькой плечами. Окно кабинета снаружи закрывал «намордник» – короб из решётки. Сквозь прутья Дмитрий Платонович разглядывал двор тюрьмы.
Во дворе ждали отъезда пятеро арестованных. Дмитрий Платонович их уже видел. Это были сопровождающие Великого князя Михаила: камердинер, шофёр, делоуправитель Гатчинского дворца и полковник Пётр Людвигович Знамеровский с женой Верой Михайловной. Они держали в руках чемоданы.
– Жужгов, валяй! – весело крикнул из окна Мясников.
Охранники сидели в тени ворот на каких-то брёвнах. Нехотя поднимаясь, они доставали револьверы. Выстрелы забабахали дружно, звонко и быстро – арестованные ничего не успели понять и повалились на камни вымостки. Вера Михайловна даже не выронила из руки маленький дамский саквояж. Дмитрий Платонович смотрел, как чекисты ходят над упавшими и добивают их.
– Конец вашим порядочкам, гражданин Якутов, – сказал Ганька. – Мы не брехнёй руководимся, а вот этим революционным правосознанием! – Ганька с назиданием постучал себе в лоб вытянутым пальцем. – Чего ты мне твердишь «докажи» да «докажи»! Я и так знаю, что это ты спрятал Мишку Романова!
– Ольга Сергеевна Строльман-Каппель неправильно истолковала слова своего брата, – холодно повторил Дмитрий Платонович.
– Тьфу на тебя! – искренне обиделся Ганька. – Ну чего ты как мальчонка-то, Митрий Платоныч? Всё ведь, уцепил я тебя. Хорош ломаться!
Ганька упивался своим превосходством над знаменитым пароходчиком.
– Я тебя терзать не буду, я не зверь, – великодушно пообещал он. – Но у тебя же дочка есть. И я её под арест посажу. А чего в тюрьме бывает, ты сам только что посмотрел. Думай, Платоныч, думай. Вспоминай, где князь.
Ганька похлопал Якутова по плечу и крикнул в дверь:
– Рябухин, проводи барина в опочивальню!
Дмитрий Платонович молча шагал по длинному обшарпанному коридору тюрьмы, а молодой чекист-конвоир нелепо топал сзади и вздыхал как баба, у которой пригорела стряпня. За поворотом парень страдальчески спросил:
– Дак как же это так, Митрий Платоныч?…
Якутов угрюмо оглянулся.
– Мы знакомы?…
– Моё семейство к вам в ноги кланяется… В девятьсот двенадцатом после стачки на сталепушечном нас с братом начальство хотело в Сибирь упечь, а вы двокату заплатили, и нас помиловали… А теперь что же я делаю, гнида?…
Конвоир завёл Дмитрия Платоновича в камеру, запер за ним железную дверь и тотчас всунулся лицом в окошечко-волчок.
– Ежели чего попить-поесть надобно, дак вы только шумните, Митрий Платоныч. Я тут в колидоре караулю. Сенька Рябухин я.
Якутов сидел на откидной койке, прикреплённой к стене тонкими цепями, и щурился на закат за решёткой в узкой и глубокой амбразуре. Ему всё было предельно ясно. Костя Строльман разболтал о князе Михаиле сестре; сестру арестовали; на допросе она всё рассказала. Что же теперь делать?
Можно выдать Великого князя. Дмитрий Платонович думал об этом без подлости – будто о коммерческом вопросе. В Чека Михаил, конечно, не сумеет умолчать о тех, кто ему помогал, – о Хансе Ивановиче и Анне Бернардовне Викфорс в Нобелевском городке, о капитане Нерехтине в затоне. Чекисты арестуют их и расстреляют, потому что хотят сохранить в тайне бессудную казнь Романова. Расстреляют и его, Якутова… Он тоже свидетель. А можно и не выдавать Великого князя. Но тогда чекисты арестуют Катю. В обмен на дочь он, Якутов, разумеется, уступит князя Михаила. И результат будет тем же самым, только погибнет ещё и Катя… Что ж, всё дело упирается в него – в Дмитрия Платоновича. Он – ключ к этому замку.
Дмитрий Платонович смотрел на закат. Он желал дождаться завершения дня. Дня, который начинался так счастливо – честным разговором с дочерью… Дмитрий Платонович вспоминал Катюшу, вспоминал её мать… Глупый был брак. Тогда почему-то модно было промышленникам жениться на актрисах… Зато теперь есть Катя… Какая она славная!.. А вот Алёшка совсем не такой. Но всё равно он молодец. Да и Настасья, Алёшкина мать, последняя и самая острая любовь, – женщина деловая, не ровня Ангелине с её томлениями духа и позами. Алёшка… Катюша… Его дети… Он, пароходчик Дмитрий Якутов, умел принимать непростые решения, потому и стал «королём Камы». Всё у него в жизни было правильно. Пускай и сейчас будет правильно. Закат угас.
Дмитрий Платонович встал и постучал в дверь камеры.
– Ась? – сунулся в «волчок» Сенька Рябухин.
– Зайди, – велел Дмитрий Платонович.
Сенька вошёл, опасливо затворил дверь и вытянулся перед Якутовым, как перед командиром.
– У тебя есть револьвер? – спросил Дмитрий Платонович.
– Есть.
– Дай мне.
– Не положено арестантам… – обмирая, прошептал Сенька.
– Я не сбегу. От вас не сбежишь.
Сенька всё понял, и по его румяным щекам вдруг потекли слёзы.
– Помилуйте, Митрий Платоныч… – прошелестел он.
Дмитрий Платонович не обратил внимания на его мольбу.
Во мраке камеры трудно было что-либо разглядеть. Дмитрий Платонович провернул барабан нагана, проверяя патроны.
– Мою дочь зовут Катя, сообщи ей обо мне, – сухо попросил он Сеньку. – А Мясникову скажи, что я напал на тебя и отобрал оружие.
– Христом богом!.. – обречённо прорыдал Сенька. – На колени встану!..
Якутов присел на койку, неудобно развернул наган в ладони, положив большой палец на спусковой крючок, прижал ствол к сердцу и выстрелил.
14
После казни архиепископа большевики запретили в Перми колокольный звон, и Всехсвятская церковь была так же безмолвна, как чугунные кружевные кресты и надгробные каменные плиты. Вместо колокольного звона с пустого неба сыпалось чириканье птиц – кладбище привольно заросло берёзами и липами. Для Дмитрия Платоновича выкопали отдельную могилу на главной аллее, а других покойников увезли в телеге на окраину погоста – в общую яму возле оврага. Все шесть гробов заколотили ещё в тюрьме, пометив якутовский бумажным образком, пришпиленным на обойные гвоздики, но Катя не потребовала снять крышку. Она не хотела видеть отца мёртвым.
– Крепитесь, голубушка, – сказал ей Сергей Алексеевич Строл ьман.
Это ему Катя была обязана похоронами. Без вмешательства Строльмана тюремная команда зарыла бы Дмитрия Платоновича тайком и где попало.
Сергей Алексеевич утром пришёл в тюрьму на свидание с дочерью и от охраны услышал о смерти Якутова. Наряд красногвардейцев уже готовился вывезти телегу с мертвецами куда-нибудь за город. Строльман прорвался к начальнику тюрьмы и обрушил на него всю тяжесть генеральского гнева:
– Убили – так перед богом ответите, но похоронить надо по-человечески!
Сам же Сергей Алексеевич и отправился на квартиру к Якутову.
Вчера Катя ещё смогла убедить себя, что отца действительно арестовали – и это не бред, однако поверить в его гибель была уже не в силах. Умом она понимала, что чья-то бестрепетная воля перевернула её судьбу как песочные часы, и отныне в этих часах текла уже другая жизнь, но ошеломление отбило чувства. Катя тупо смотрела, как поп ходит вокруг гроба и бубнит, раскачивая в руке кадило, как красногвардейцы опускают гроб в яму, и всё казалось Кате скучным и обыденным, словно её пригласили в гости – а хозяев нет дома.
На похоронах присутствовали только Строльман, два незнакомых Кате речника из Речкома и какие-то старушки-побирушки, всегда обретающиеся при храмах. Сергей Алексеевич мягко приобнял Катю за плечи.
– У вас есть в Перми близкие люди, Катерина Дмитриевна? – спросил он. – Если нужно участие, мы с Еленой Александровной вас приютим.
– Благодарю, – бесцветно ответила Катя. – Мне… Мне, наверное, надо поехать в Сарапул, меня там примут… Или в Нижний… Там у папы семья.
– Я помогу вам. – Строльман взял её за локоть, словно она могла убежать.
Красногвардейцы закидали яму, охлопали лопатами земляную насыпь и полезли в телегу. Строльман перекрестился и мягко потянул Катю за собой. На боковом выходе с кладбища у калитки он замер и негромко позвал:
– Костик! Костик!
Из кустов выбрался молодой человек в тужурке путейского инженера.
– Это мой сын, – пояснил Строльман. – А это Катерина Дмитриевна.
Костя молча наклонил голову в знак сочувствия. Прошедшие полтора дня он прятался у Анисьи – кухарки Строльманов, и всё знал о сестре и Якутове.
– Костик, возьми Катеньку вместо Лёли, – сказал Сергей Алексеевич.
– Куда? – глухо спросила Катя.
– Костик пробирается в Самару к восставшим. Сарапул ему по пути.
– Честные люди должны подняться на борьбу с большевиками, – заявил Костя. – Преступления Советов ужасны. Россия не простит нам бездействия.
Среди воробьиного чириканья эти слова звучали странно и нелепо.
– Я вот принёс тебе, что собрали… – Сергей Алексеевич достал портмоне и вытащил деньги. – И мама от себя прислала… Это приданое Ленушкино… Ты уж постарайся сохранить его, Костик, но ежели нужда будет, не осудим.
На ладонь Косте легло старинное золотое кольцо с бриллиантом.
– Папа… – растроганно прошептал Костя.
Сергей Алексеевич поцеловал его и смущённо расправил бакенбарды.
– Катерина Дмитриевна, буду ждать вас в полночь с вещами на пристани Любимовского завода, – сказал Костя. – Это на Заимке.
Не опоздайте.
– Сохрани вас господи. – Сергей Алексеевич перекрестил сына и Катю.
С кладбища Катя вернулась домой – в здание Речкома. У запертой двери квартиры на полу сидел румяный парень-красноармеец.
– Что вам угодно? – спросила его Катя.
Парень вскочил, сдёрнул картуз и прижал к груди.
– Мне Митрий Платоныч велели прийти…
– Дмитрий Платонович умер, – бесчувственно произнесла Катя.
– Христом богом клянусь, я их не убивал! – почти заплакал парень.
– Оставьте меня! – потребовала Катя.
Но парень топтался перед ней, не отступая.
– Я ж караульным в тюрьме-то был, – торопливо заговорил он. – Митрий Платоныч сами велели мне леворьверт им выдать и прямо в сердце себе стрельнули! Не знаю – почто, почему… Жуть-то какая! Но не я это!
– Он сам? – не понимая, переспросила Катя.
– Сами они!
Катя сдвинула парня с дороги, вошла в квартиру и закрыла дверь.
Её мысли и мутные впечатления разваливались, как мокрый хлеб. Она бессмысленно ходила по комнатам, перекладывала какие-то вещи, пыталась разжечь примус. Отчаявшись собрать в голове всё воедино – арест отца, его самоубийство, Строльманов, красноармейца, тётю Ксению из Сарапула, – Катя просто легла на постель и заснула. За окном сияли облака над Камой, где-то вдали разгоралась гражданская война, а на зелёном кладбище за Всехсвятской церковью по свежей земле могилы прыгали галки и клевали червей.
Проснулась Катя уже в сумерках.
Она вышла из дома только с одним чемоданом – самым лёгким из всех. Перекладывая его из руки в руку, она миновала Козий загон, пересекла Соборную площадь и спустилась к железной дороге. Впереди виднелись цеха и склады завода купца Любимова. За ними на реке стоял дебаркадер.
Костя Строльман помог ей забраться в лодку и оттолкнулся веслом от чугунного битенга на углу понтона. Лодка заскользила по тихой воде вдоль длинных и безлюдных товарных причалов Заимки. Катя молча глядела вперёд – на грозно угасающее небо. В багровой и обжигающей полосе заката угольно чернели решетчатые арки высокого и длинного железнодорожного моста.
Катя вспомнила, как совсем недавно она проплывала под этим мостом на буксире. Отец тогда был ещё жив, ждал её на пристани в белом пиджаке, и мир был стройным и цельным, и ничто не предвещало беды. Катя сидела у лодки в носу. Она согнулась и вцепилась в борта. Горе забилось в ней, как холодная и сильная рыба в пустом ведре. Это очнулась ошеломлённая душа. Катя не рыдала, даже не всхлипывала – она глухо молчала, и её колотило. Костя почувствовал, как лодка дрожит. Закидывая распашные вёсла, он был обращён лицом к удаляющейся Перми, над синими крышами которой краснел шпиль собора; он посмотрел на Катю через плечо – и ничего не сказал.
15
Иван Диодорович был ровесником Дмитрия Платоновича, и начинали они вместе: Нерехтин работал капитаном на первом судне Якутова. Но Якутов желал владеть пароходством, а Нерехтин – пароходом. Якутов добился своего, а Нерехтин – нет, и через много лет Дмитрий Платонович сам исполнил мечту друга: уступил Ивану Диодоровичу свой буксир «Лёвшино» за полцены.
– Я с Митей от юности в товарищах, – сказал Нерехтин Кате. – Кремень-человек. Он не за-ради себя застрелился. Видно, так надо было. И я понимаю, Катерина, каково тебе сейчас. Никто тебя не утешит и на вопросы не ответит.
Иван Диодорович знал, что говорил. Саша, его единственный сын, тоже покончил с собой. Причина была известна, однако она не объясняла, как жить дальше. Самоубийца оставлял близких в ощущении вины. Со временем можно было избыть горе, но вина терзала вечно, и объяснить её не выходило. Порой Ивану Диодоровичу казалось, что сын убил не себя, а его самого – отца. Мать – уж точно.
И Нерехтин не хотел, чтобы Катя тоже испытала всё это на себе.
Они сидели в каюте Нерехтина. Горела свечка, озаряя стенки и низкий потолок. Остывал самовар – на пароходе иметь самовар дозволялось только буфетчику и капитану. Катя смотрела в темноту открытого окна. Изредка под бортом вдруг плескала вода, и пароход едва уловимо вздрагивал.
– Оставайся у меня, Катерина, – предложил Нерехтин. – Я тебе ту же каюту дам, в которой ты сюда ехала. Мои охламоны порешили буксир до Рыбинска сгонять, так что привезу тебя прямо в Нижний к Настасье и Лёшке.
– Не могу, дядя Ваня, – отказалась Катя. – Слишком напоминать будет…
– Ну, всё ясно. Тогда провожу тебя до «Суворова».
По пружинящей сходне они перебрались на дамбу, и Нерехтин повёл Катю к той части затона, где стояли пассажирские суда.
В широком, синеватом от воды пространстве затона скопище пароходов громоздилось призрачными прямоугольными объёмами надстроек. Под луной взблёскивало стекло и лоснились задранные трубы. Кое-где в рубках тлели тусклые керосинки вахтенных. Пахло ночной свежестью огромной реки.
«Фельдмаршал Суворов» почему-то не спал. По галерее бегали матросы, из ресторана долетали голоса. Ивана Диодоровича едва не сбил с ног Гришка Коногоров – штурвальный с «Лёвшина». Нерехтин цапнул его за локоть:
– Ты чего на чужом пароходе ошиваешься, Григорий?
После социализации «Лёвшина» Гришку выбрали командиром буксира. То есть от имени команды – владельцев судна – он отдавал приказы капитану.
– Дядь Вань, «суворовцы» вернулись! – увлечённо сообщил Гришка. – Давай со мной на жеребьёвку, очередь к баржам займём!
Нерехтин понял, что пришли матросы, которых капитан «Суворова» посылал по окрестным деревням за провизией. Это означало, что утром можно будет заправить цистерны судов мазутом и ускользнуть из затона на свободу. Обычно суда в затонах заправлялись из плавучей нефтеперекачки, но сейчас вместо неё из Нобелевского городка просто пригнали наливную баржу.
– Ты – командир, и забота твоя, – отказался Нерехтин. – Идём, Катерина.
В бессмысленно большом люксе измученная Катя, не раздеваясь, легла на койку, и Нерехтин прикрыл её одеялом. Когда-то он так укладывал сына…
От «Суворова» Иван Диодорович двинулся по дамбе обратно в сторону своего буксира и присел на ржавый адмиралтейский якорь, косо торчавший из песка. По камскому стрежню рассыпалась лунная рябь. Кама казалась дикой и первобытной, потому что на всём протяжении створа в эту большевистскую навигацию не поставили ни единого бакена. Нерехтин думал о Якутове. Митя всегда стремился жить в общем движении времени, держаться на гребне – и не удержался. Потому что волны переменчивы, а неизменно только течение.
…Когда Иван Диодорович поднялся на буксир, вся команда ждала его на длинной корме. Речники развалились на палубе где попало, курили, дремали.
– Ты куда сгинул? – закричал Гришка. – Пора машину заводить!
Нерехтин догадался, что старший машинист Осип Саныч Прокофьев не желает приниматься за дело без указания капитана.
– Заводи, – разрешил Прокофьеву Нерехтин.
– Нижняя команда – за мной! – сразу распорядился Прокофьев.
Вслед за Прокофьевым помощники машиниста, кочегары и маслёнщик направились к дверке, за которой находился трап в машинное отделение. Вскоре в недрах парохода раздалось глухое звяканье задвижек-клинкетов на трубопроводах, скрежет топочного люка и сопение помпы при подаче топлива.
Иван Диодорович ещё раз оглядел людей на корме буксира.
– Одумайтесь, ребята, пока не поздно, – сказал он. – «Суворову» деваться некуда, а мы-то дома. Большевики не спустят непокорства. Они на каждую пристань телеграфируют, и нас везде с пулемётами встречать будут.
– Чай не станут они по людям стрелять! – возмутился Челубеев.
– Станут, – заверил Нерехтин.
– Не сей панику, дядь Вань! – обиженно крикнул Гришка Коногоров.
Внезапно за кормой брякнула сходня. На буксир влез Федька Подшивин, матрос из новеньких. Вместе с матросами «Суворова» и других мятежных судов он ходил на захват барж и стрелковой ячейки возле наплавного моста.
– Ну что, взяли красных? – вскинулся к нему Гришка.
– А некого брать! – по-детски рассмеялся Федька. – Драпанули красные! Ячейка пустая, а на баржах токо по сторожу! Расписку от нас ждали! Умора!
– Дурачок ты! – разъярился Иван Диодорович. – С бакинцами не знаком!
Наливные нобелевские баржи с мазутом пригнали с Каспия – с местными шкиперами. Подпольщики Баку, устраивая экспроприацию – «экс», обычно выдавали ограбленным расписку. Разных подпольщиков было много: эсеры, большевики, мусаватисты, дашнаки. Чтобы жандармы не карали тех, кто не виноват, и не ссорили подпольщиков между собой, грабители всегда называли себя. Если сейчас большевики убрали с барж мадьярскую охрану, а бакинские шкиперы по привычке ждут расписку за «экс», значит, красные уже знают о мятеже. И обязательно что-нибудь предпримут. Красные упрямы и жестоки.
– Ребята, худой признак – что никого нет! – убеждённо заявил Иван Диодорович. – Добром прошу – не надо мятежа!
Гришка Коногоров покровительственно обнял Нерехтина:
– Не трусь, дядя Ваня! Пойми: старый ты уже! Теперь наше время! Воля!
Нерехтин раздражённо освободился от объятия.
– Убьют кого, Гришка, – на твоих руках кровь!
Высокие рубки и трубы пароходов в затоне окрасило мягким светом зари.
16
Катя проснулась от упругого толчка – это пароход стукнулся привальным брусом своего борта в кранцы пристани. Каюта была погружена в розовую и голубую утреннюю тень. Снаружи слышались голоса матросов и плеск воды. Из глубины парохода доносился тихий шум машины, работающей на малом ходу. Катя поднялась с постели и посмотрела в окно: «Фельдмаршал Суворов» причалил – но не к пристани, а к длинной, плоской и ржавой железной барже с большими люками, густо заляпанными мазутом, и цистерной-мерником.
Катя умылась под краном с бронзовым барашком и расчесала волосы. Она не выспалась, однако чувствовала себя бодрее, чем ночью. Почистив одежду мокрой платяной щёткой, Катя направилась на прогулочную веранду.
«Суворов» ещё не покинул затон – стоял у баржи на бункеровке, то есть закачивал топливо. Над баржей и лайнером зеленела на солнце заросшая ивами береговая круча. К мернику на барже от «Суворова» тянулась, провисая, толстая брезентовая труба. Сопела помпа, стучала вспомогательная машина-камерон. Суетились матросы в грязных рукавицах. За бункеровкой наблюдал первый помощник в тёмно-синем кителе и фуражке. Катя увидела, что к нему подошёл Костя Строльман, и сама тоже подошла поближе.
– Илья Никитич, мне нужен матрос, – вежливо объяснял Костя. – Человек лежит в лазарете без сознания. Я ведь не донесу его один.
– Извините, господин… э-э…
– Константин Строльман, – подсказал Костя.
– …господин Строльман, но сейчас обстоятельства исключительные, – так же вежливо ответил помощник. – Судно может отвалить в любой момент. Капитан не желает рисковать членами команды или ожидать опоздавших.
– Уверяю вас, у меня вопрос жизни и смерти!
Первый помощник молча коснулся двумя пальцами козырька фуражки.
В такое яркое утро гибель отца показалась Кате ещё более невероятной, чем вчера. Катя не соглашалась с ней, Кате хотелось противоречить всему.
– Я помогу вам, Костя, – заявила она. – Не беспокойтесь, я сильная!
– Не советую, барышня, – предостерёг её первый помощник. – Впрочем, как вам угодно. За минуту до отвала мы дадим гудок. Поторапливайтесь.
С парохода Катя и Костя перебрались на баржу, с баржи – на пирс, потом на берег. На верхотуру вела деревянная лестница.
– Нести обратно придётся по съезду, – предупредил Костя. – Это дольше.
– И кто же ваш таинственный больной? – полюбопытствовала Катя.
– Не больной, а раненый, – нехотя сказал Костя. – Я не вправе открыться, Катерина Дмитриевна, однако не могу утаить, что его и спасал ваш отец.
– Отец?! – обомлела Катя. – Он ничего мне не говорил!
– Я не вправе судить о ваших взаимоотношениях. Могу сообщить лишь то, что я обязался сопровождать этого офицера в Самару. Ради него Дмитрий Платонович и устроил мне с сестрой место на пароходе.
Катя никак не ожидала, что у отца были столь важные секреты от неё, и она почувствовала себя обманутой. Мог ли отец обманывать – даже из лучших побуждений?… А почему бы и нет? Отец всегда жил своими делами и своей жизнью, в которой она, Катя, участия не принимала. И в целом… Отец ведь бросил жену с ребёнком… и со второй женой судьбу не соединил…
Наверху Катя увидела домики небольшого посёлка речников. Костя уверенно пошагал к самому длинному дому, огороженному штакетником.
В тесной палате лазарета стояли две кушетки. На одной лежал офицер, за которым явился Костя, а на другой храпел фельдшер.
Костя выругался:
– Мерзавец! Я вручил ему деньги на медикаменты, а он всё пропил!
А Катя замерла над офицером. Она сразу его узнала.
Она встретила его пять лет назад на пароходе, когда возвращалась от мамы в Англию. Пароход шёл из Биаррица в Борнмут. Пассажиры шептались, заметив на борту главного претендента на российский престол – Великого князя Михаила Александровича, изгнанного из страны за морганатический брак с княгиней Брасовой. Опальные супруги жили в замке Небворт под Лондоном. И в русских домах Канна, и даже в строгой «Шерборн скул гёлс» все девушки обсуждали дерзкий и красивый поступок Великого князя, который пожертвовал своим положением ради любви. И Кате было отчаянно интересно посмотреть на Великого князя. Она подкараулила Михаила на прогулочной палубе. Великий князь сидел в шезлонге, курил папиросу с мундштуком и, щурясь, задумчиво смотрел на волны Биская. Лицо у него было очень приятное – доброе и с достоинством. И сейчас Катя вновь увидела этого человека – в глубине России, на Каме, в каморке лазарета… Великий князь был без сознания: фельдшер сорвался в запой, и больной впал в беспамятство.
И Катя мгновенно поняла поведение отца – и его молчание о Михаиле, и самоубийство. Чекисты разыскивали недобитого Великого князя, а выстрелом в себя отец защищал и Михаила, и всех, кто был связан с ним, – в том числе и свою дочь. Понимание словно распороло душу, как нож распарывает живот.
А издалека, из затона, донёсся тревожный гудок «Суворова».
– Мы же не успеем дотащить! – заволновался Костя.
Кате не понравилось его беспокойство.
– Надо постараться, – холодно ответила Катя. – Или останемся с ним.
– Я не могу! – Костя недовольно дёрнул плечом. – Меня ищет Чека! И я намерен добраться до Володи и сражаться с большевиками!
Катя ощутила в себе странную решимость. Её же никто нигде не ждёт. В «Шерборн скул гёлс» она получила навыки сестры милосердия. Она сумеет выходить Великого князя. Может, это станет искуплением вины за недавние дурные мысли об отце. А может, ревностью и местью отцу: он ей не доверился, не счёл её взрослой и готовой к жизни, однако его дело завершит именно она.
– Бегите на пароход, Костя, – сказала Катя. – Я сама позабочусь о князе.
Костя даже не заметил, что Катя узнала Михаила.
– Надеюсь, вы не принимаете меня за труса? – В голосе Кости прозвучал вызов. – Борьба с большевизмом важнее, чем спасение одного человека!
– Бегите, – спокойно повторила Катя.
Костя помедлил, внимательно глядя на неё. Он не испытывал неловкости, ведь понятно, что его место – в строю бойцов, а князь – обуза. Но понимает ли это Катя? Катя ответила твёрдым взглядом. Кажется, да – она понимает. Костя повернулся и выскочил из лазарета. Катя подошла к окошку и отодвинула занавеску. Костя, как ему и велели, бежал к лестнице на берег. Двор опустел.
Катя всё стояла у окна, ожидая неведомо чего, а потом вдруг услышала голоса и завывание автомобильного мотора. Мимо штакетника, покачиваясь, проехал клёпаный броневик «Остин» с несуразно большой башней и хищно прищуренными бойницами. За броневиком быстро шли красногвардейцы.
17
Большевики не успели перегородить горло затона плашкоутным мостом, да это и не помогло бы. Махина «Фельдмаршала Суворова» – длинная, белая, сложно устроенная, – двигалась к выходу прямо и точно, с неуклонностью природной силы. Грозно дымили две чёрных трубы с красными полосками. На полукруглом «сиянии» перекрещивались торговые флаги погибшей империи, яростно вращались гребные колёса, и под широкими обносами клокотала пена.
Броневик, такой маленький в сравнении с лайнером, торчал на съезде и лаял как бульдог – бил из пулемёта: его башенка медленно поворачивалась вслед за судном. Вокруг рассыпались красногвардейцы и тоже гвоздили по «Суворову» из винтовок. Пули дырявили белые стены надстройки, летела щепа; будто взбесившись, на прогулочной галерее прыгали и кувыркались плетёные кресла; бешено полыхая на солнце, лопались оконные стёкла.
Нижняя команда укрывалась от пуль за машиной и котлом. Матросы лежали на полу в кубрике, в трюме на решётках стлани; с матросами был и Костя Строльман. Пароход казался пустым, только в рубке у штурвала стоял капитан Аристарх Павлович – красногвардейцы видели его с берега. Белое плечо кителя у капитана было окрашено кровью. Первый помощник сидел в углу рубки мёртвый. Аристарх Павлович поднял руку и потянул за стремя на тросике: покидая затон, «Суворов» дал низкий тройной гудок – знаменитый гудок компании «Кавказ и Меркурий». Впереди свободно блистала Кама.
Вслед за «Суворовым» как за вожаком примерялись ускользнуть и другие пароходы – два пассажирских гиганта и пять буксиров. Огонь из броневика охладил мятежников, и они испуганно сворачивали с кильватера флагмана, беспорядочно выруливая по затону. Но Гришка Коногоров выдерживал курс.
Гришка сжимал рукояти штурвала, а Иван Диодорович за спиной у него в бинокль смотрел совсем в другую сторону – на реку за тополями дамбы. Там, на реке, дымил трубой ещё один буксир. Нерехтин сразу опознал его: это «Медведь» из Королёвского затона. Иван Диодорович давно водил дружбу с капитаном «Медведя», у которого и фамилия была подходящая – Михайлов.
– Гришка, твоей затее конец, – сказал Нерехтин. – «Медведь» идёт.
– Ну и хрена ли? – сквозь зубы огрызнулся Гришка.
– Михайлов за большевиков. На буксире – красные.
– «Суворов» же не сдрейфил.
Иван Диодорович тоже не трусил. Его злила очевидная глупость мятежа. Он слишком долго командовал сам, чтобы сейчас вытерпеть дурь от неуча.
– «Суворов» шарашит двадцать две версты. Мы – семнадцать. «Медведь» – на версту больше. Нас он догонит, а «Суворова» – нет.
Правь к берегу!
«Суворов» мог выдать и большую скорость. Как-то раз нижегородский губернатор отчаянно спешил в Казань, и господин Тегерстедт, тогда – капитан «Суворова», разогнал пароход до двадцати пяти вёрст. Его дымовые трубы раскалились, и матросы поливали их водой, а волна от парохода выбрасывала на берег рыбачьи лодки.
Тот рекорд «Суворова» никому не удалось превзойти.
– Да всё, дядь Вань, получится! – с тупым упрямством ответил Гришка.
Нерехтин, обозлившись, перекинул рукоятку машинного телеграфа на положение «стоп». Телеграф жалобно звякнул.
– Ты чего? – изумился Гришка, сдвигая рукоятку на «малый вперёд».
Тогда Нерехтин выдернул деревянную пробку из жерла старомодной переговорной трубы и закричал в трюм:
– Прокофьев, глуши машину!
– Эй!.. – гневно завопил в ответ Гришка.
Нерехтин с силой оттолкнул его в сторону и повернул штурвал.
Гришка всё понял и рванулся обратно, но Иван Диодорович обхватил его, не подпуская к управлению. Они сцепились и оба повалились. Гришка бился и лягался, выдираясь, а Нерехтин держал его за форменку. Гришка орал:
– Сука ты, дядя Ваня!.. Гнида!..
Он ударил Нерехтина в скулу, но Нерехтин не разжал рук. Гришка ударил снова, потом снова. Они ворочались в рубке на полу, хрипели от ненависти, колотили локтями и пятками в настил, в стенки и в стойку парового штурвала, выбили дверку, а буксир плавно отклонялся от выхода из затона и нацеливался носом на берег. Машина ещё работала – её невозможно было остановить мгновенно, но клапаны уже истошно свистели сброшенным паром.
– Бе… беги… с борта! – под ударами в лицо выдохнул Гришке Нерехтин.
Буксир ткнулся форштевнем в отмель и грузно выехал носом на песок.
«Суворов» таял в блещущем просторе Камы, а «Лёвшино» бессильно грёб колёсами под берегом, поднимая донную муть. От броневика к буксиру с винтовками наперевес мчались красногвардейцы, впереди – Ганька Мясников.
На подавление бунта в затоне Губсовет направил чекистов. Отряд Пашки Малкова с пулемётами погрузился на буксир «Медведь», а Ганьке дали ненадёжный «Остин». Броневик закатили на железнодорожную платформу и перевезли на правый берег, от разъезда он добирался до затона своим ходом.
Ганька быстро сообразил, что случилось с этим судном – с «Лёвш ином». Команда хотела юркнуть за «Суворовым», но наложила в штаны. Чекисты вскарабкались на пароход, принялись распахивать двери и люки. Смущённые и оробевшие речники поднимали руки и выбирались на палубу. Чекисты столкали всех на корму. Впереди стоял пожилой капитан – рожа в крови.
– Контрреволюцию затеяли, да? – спросил Ганька. – Кто зачинщик?
Иван Диодорович видел, что разболтанному командиру чекистов весело. Да и прочие бойцы пересмеивались, довольные лёгкой победой.
– Я – капитан, я и главный, – мрачно ответил Нерехтин.
– Герой выискался! – широко улыбнулся Ганька. – Георгиевский кавалер! А чего у тебя люминатор вдребезги? Кто бил? За что?
Речники молчали. Над затоном летали чайки, взбудораженные пальбой.
– Вы, братцы, устроили бунт против советской власти!
– Да мы не против власти! – загомонили матросы. – Мы же токо на хлеб заработать! Мы без оружия! Какой бунт?! Мы буксир социализировали!..
– Советская власть приказала вам сидеть тихо, – назидательно пояснил Ганька. – А вы её приказ нарушили! Это бунт! И за него к стенке прислоняют!
Ганька напоказ вытащил наган и помахал в воздухе стволом.
– Сдурили ребята, – буркнул Нерехтин, пытаясь уменьшить вину.
– Всё одно кто-то первым гавкать начал, – напирал Ганька. – Кто?
– Да все болтали… Весь затон гудел… На «Суворове» зачинщики!..
Но Ганька не купился на отговорки. Ему хотелось насладиться властью.
– Нет главного – значит, все главные!
Ганька играючи наставил наган на Федьку Подшивина и выстрелил.
Федька рухнул. Речники шарахнулись в разные стороны. Чекисты тотчас вскинули винтовки. Ганька жеманно сдул дымок со ствола нагана.
– Или ты главный? – Ганька наставил наган на кочегара Челубеева.
– Да что же оно?… – побелел и задёргался Челубеев.
Иван Диодорович понял суть глумливого чекиста: петрушка из балагана. Такой будет убивать, пока не натешится превосходством. Пока не сломает.
– Гриша Коногоров заводилой был, – глухо произнёс Нерехтин.
Ему было уже наплевать на грех. Просто хотелось скорей прекратить это невыносимое измывательство. А Гришка заслужил своё. Его предупреждали.
– Я?! – охнул Гришка и скомкал пятернёй форменку на своей груди.
Ганька перевёл наган на Гришку и снова выстрелил.
Гришка упал на палубу с дробным стуком, будто развалился на части.
– Вот это и есть диктатура пролетариата! – удовлетворённо заявил Ганька.
Речники потрясённо смотрели на Федьку и Гришку, лежащих на палубе у них под ногами. Как же так? Только что были живы! Этого не может быть! Так не делается! Мятеж – его же как бы не всерьёз затевали, не до смерти!..
– Имеются ещё недовольные? – победно осведомился Ганька.
– Больше нет, товарищ командир, – ответил Нерехтин.
Часть вторая
Вернуть
01
На пароходах они уходили от мести, от смерти – от обречённого города Вольска вверх по Волге к Самаре. Со станции по городу из всех орудий бил бронепоезд большевиков. Пыльные разрывы взлетали на улицах и площадях, осколки секли по колоннам и фронтонам зданий, валились афишные тумбы и телеграфные столбы, опрокидывались брошенные пролётки извозчиков. На Плетнёвской дороге к штурму города готовились красногвардейские тачанки. Но Вольск никто не оборонял. Те, кто остались, сидели в подвалах и погребах.
Два десятка пароходов ожесточённо дымили. Обтекая пеной, работали гребные колёса. На мачтах вились чёрно-жёлтые флаги КОМУЧа. Пароходы были разные: буксиры и скоростные товарно-пассажирские суда, пригородный «фильянчик», громоздкие старые «американцы», длинный и плоский танкер. Беженцы заполнили все каюты и палубы. Дамы с багажом, купчихи с узлами, дети, старики, чиновники в сюртуках, коммерсанты, инженеры с цементного завода и рабочие с электростанции, врачи, попы в рясах, офицеры и солдаты, перепуганные девицы, лавочники, учителя, крестьяне и железнодорожники.
Флотилию возглавляли четыре самых мощных буксира. На хлебных пристанях их наспех блиндировали досками и мешками с песком и вооружили полевыми пушками. Буксиры готовились к сражению с красными. Наверняка на Сызранском мосту большевики выставят пулемёты, и своей артиллерией буксиры должны подавить огневые точки врага, чтобы флотилия прорвалась под пролётами. Убьют кого, потопят судно – что ж, это гражданская война.
Хамзат Мамедов плыл на буксире «Вандал». Он не задумываясь выбрал пароход своей фирмы – Товарищества братьев Нобель. Сработала привычка. Мамедов сидел на корме под буксирной аркой, а рядом лежал раненный в живот парень, боец нелепой Вольской Народной армии КОМУЧа – армии мятежа.
– Дай ещё… – пошептал он.
Мамедов достал фляжку с водой и поднёс к сухим губам раненого.
– Я умираю? – сипло спросил парень.
– Да, – кивнул Мамедов. – Помолыс, друг, и умырай, нэ бойса.
Вольский мятеж вспыхнул в базарное воскресенье. Крестьяне приехали в город с товарами, а красноармейцы не пустили их, спекулянтов, на торговую площадь. Крестьяне полезли в драку. Красноармейцы принялись стрелять. Озлобленные мужики взломали оружейный склад. И началось побоище.
Красных в то время в городе было совсем мало: их отряды отправились в Балаково на подавление тамошнего восстания. Мятежники Вольска перебили всех, кого нашли; яростно оборонялся только председатель ревкома – строчил с балкона из пулемёта. Разгул крестьянского гнева в бушующем Вольске сразу использовали местные офицеры. Они объявили город территорией КОМУЧа – Комитета членов Учредительного собрания. Но КОМУЧ, подчинивший своей власти Самарскую губернию, ничем не мог поддержать мятежников Вольска: Самара была слишком далеко, да и Волгу красные перекрывали в Сызрани. Окружённый Вольск продержался десять дней. Потом большевики двинулись в наступление. И половина жителей Вольска бросилась к пароходам.
А Хамзат Мамедов, оперативный агент компании «Бранобель», оказался в Вольске случайно. Он пробирался с Кавказа в Самару.
Эмануил Нобель не боялся гражданской войны: его компания поставляла третью часть всей российской нефти, и Нобель полагал, что нужен и красным, и белым. Лето восемнадцатого года Эмануил Людвигович решил провести, как обычно, на минеральных источниках в Ессентуках, где предпочитали отдыхать промышленники, коммерсанты и финансисты. С собой он взял Гению, жену младшего брата Йосты, и её детей с гувернанткой. Гения любила дамское общество в Кисловодске. Из Петрограда на Кавказ по взбаламученной стране семейство сопровождал Хамзат Мамедов – он один стоил взвода охраны.
В Ессентуках Эмануил Людвигович и получил неприятное известие из Главной конторы в Петрограде. Управляющий телефонировал, что из Николо-Берёзовки на Каме пришла депеша от господина Турберна, геолога Арланской экспедиции. Турберну не доставили буровое оборудование, хотя баржу с нужным грузом Самарская контора отправила ему уже три недели назад. От результатов бурения под Арланом зависела судьба всей компании. И Эмануил Людвигович спешно командировал Мамедова на поиски баржи. Вот так Хамзат Хадиевич и попал в Вольск, а потом на борт буксира «Вандал».
На закате вольская армада бросила якоря у берега – в эту навигацию никто не выставил на фарватерах бакены, и бакенщики не зажигали на ночь огни. С рассветом армада снова двинулась в путь. И вскоре впереди на бледном небе тонкими линиями обрисовался длинный Александровский мост у Сызрани.
Мамедов, разминая плечи, поднялся в штурвальную рубку. На судне его уже знали и везде пропускали – как-никак, доверенное лицо самого Нобеля. В Мамедове была какая-то снисходительная восточная повелительность, и люди безотчётно подчинялись ему, хотя никаких особых прав он не имел. В рубке рядом с матросом-штурвальным стояли капитан «Вандала» в чёрном кителе, старпом и пожилой артиллерийский офицер – начальник флотилии. Офицер оглянулся на Мамедова и молча поприветствовал, коснувшись пальцами козырька фуражки. За «Вандалом» по реке рассыпались дымящие пароходы.
А под пролётами моста появились два буксира. Перед носом «Вандала» вдруг с плеском взметнулся водяной столб, а потом донёсся хлопок выстрела.
Пассажиры на носу «Вандала» забеспокоились. Заплакал разбуженный ребёнок. Матрос у штурвала застыл. Капитан поднял бинокль.
– Без паники, Телегин, это наши! – сказал он. – Вижу флаги КОМУЧа!
– Наши! Наши! – загомонили внизу пассажиры. – Бог милостив!
Два буксира уверенно подходили всё ближе. У переднего парохода на мачте рядом с флагом КОМУЧа полоскался длинный вымпел командующего. На передней стенке капитанской рубки было написано название – «Вульф».
На колёсном кожухе «Вульфа» появился моряк с рупором.
– Кто такие? – крикнул он.
Артиллерийский офицер тоже взял рупор и вышел из рубки.
– Мы – речной отряд Вольской Народной армии КОМУЧа! Отступаем в Самару! Я – командир отряда штабс-капитан Соколов!
– Я – командующий Речным боевым флотом КОМУЧа мичман Мейрер! – ответил моряк, судя по голосу – совсем мальчишка. – Готовьте швартовы!
Вспенивая воду, «Вульф» начал разворот, чтобы сойтись с «Вандалом» так, как полагается при швартовке на реке, – против течения. Мичман Мейрер оставался на кожухе, рассматривая вольские суда. А Мамедов рассматривал мичмана. Вот кто ему будет нужен в Самаре. Вот у кого он потребует пароход.
02
Новая железная дорога, нацеленная на Екатеринбург, оборвалась возле Сарапула недостроенным мостом через Каму, и Сарапул оказался конечной станцией. Казанский поезд прибыл в середине дня. Из заплёванных вагонов на дощатый перрон повалили крестьяне, рвущиеся в богатый город за хлебом; из теплушек вяло выбирались разномастные красноармейцы, и командиры орали, собирая своих бойцов. С подножки длинного пульмана соскочили два моряка с вещевыми мешками и солдат; моряк с короткой интеллигентной бородкой и усиками помог сойти высокой красивой девушке в тёмном дорожном платье.
– Николь, а где встречающие? – требовательно спросила девушка.
Коля Маркин – моряк с бородкой – огляделся.
Из распахнутых окон низкого деревянного вокзала уже доносился гвалт – там покупатели сошлись с продавцами. За сквером началась злобная толкотня вокруг извозчиков: от станции до города было пять вёрст, кто первый попадёт на базар, тому и выгода. Паровоз с шипеньем спустил пар и окутался белым облаком. Июльское солнце лупило с неба, точно главный калибр.
– Не маячит никто, – легко сказал Маркин. – Да хрен с ними, Михаловна.
– Им же телеграфировали, что едет жена члена Реввоенсовета фронта, – недовольно заметила девушка. – Они должны соблюдать субординацию.
– Я тоже, знашь, не окурок, – поддакнул Маркин, сразу поменяв мнение.
Маркин был комиссаром Волжской военной флотилии, а девушка – Ляля Рейснер – женой Фёдора Раскольникова, заместителя наркомвоенмора. Федю вчера ввели в состав Реввоенсовета, и Ляля тотчас затеяла поездку в Сарапул за беглым пароходом «Межень». Ляля желала, чтобы штаб флотилии – её штаб – разместился на судне, которое называли императорской яхтой. Раскольников не умел спорить со своенравной женой, а Маркин для Ларисы был согласен на всё. Уже вечером Ляля, Маркин, Утёмин и Волька Вишневский загрузились в пульмановское купе. От Казани до Сарапула поездом была только ночь пути.
В Сарапуле располагался штаб Второй армии, отступающей под нажимом чехов из Самары и Уфы. Три командарма друг за другом переметнулись к белым, а четвёртый увяз в делах. Может, ему вообще не принесли телеграмму Раскольникова. В любом случае командарму сейчас было не до Ляли Рейснер.
Волька Вишневский, рослый и плечистый, распихивая толпу, двинулся к какому-то шарабану. Вольке ещё не исполнилось восемнадцати, а он выглядел мужиком, и на его солдатской гимнастёрке блестел Георгиевский крест.
– Не кипятись, дядя, – улыбаясь, заговорил Волька, вытаскивая из повозки толстяка в сюртуке. – Уступи даме экипаж. Тебе полезно пешочком гулять.
– Я уполномоченный банка! – гневно сопротивлялся толстяк.
– То-то и весишь как золотой телец, – согласился Волька.
На германский фронт он сбежал из гимназии и кое-что ещё помнил.
– Эй, братишки! – крикнул Волька своим. – Карета подана!
Извозчик, покосившись, помрачнел, но промолчал. Понятно, что матросы не заплатят, но с ними лучше не связываться. Маркин заботливо подсадил Лялю в шарабан. Ему нравилось прикасаться к Ляле и услуживать.
Мягкая дорога тянулась через елово-осиновые перелески и крестьянские выгоны, огороженные жердями. Сарапул начался порожними сеновалами, щелястыми овинами, приземистыми избами и штабелями брёвен. По широким деревенским улицам окраины шли бабы с коромыслами, на пустырях детишки пасли коз, в пыли кувыркались куры, сквозь заборы лаяли собаки.
Впереди появился всадник – паренёк в синей косоворотке. Он поравнялся с шарабаном, увидел моряков, сразу осадил лошадь и развернулся.
– Товарищи балтийцы! – крикнул он. – Я военком Ваня Седельников!
– Куда же ты запропастился, сучье вымя? – ответил ему Маркин.
– Да у нас тут всё вразнос… Извозчик, к Стахееву правь!
Сарапул – городок ладный и живший в достатке – сейчас был расхлёстан революцией и завален мусором. Витрины магазинов и окна первых этажей были выбиты или заколочены. Всюду сновали красноармейцы. На Соборной площади жутко чернели сожжённые торговые ряды и чей-то особняк.
Возле арки в кирпичной ограде юный военком Седельников спрыгнул с лошади и растолкал створки ворот. Шарабан свернул во двор.
– Речком у нас тут, – пояснил Седельников. – Купец наш Стахеев поднял бунт и угнал буксир, а мы его хоромину реквизировали.
По-хозяйски сойдя с шарабана, Маркин подал руку Ларисе – и уловил восхищённый взгляд Седельникова. Ясное дело, Лялька – что твоя царица.
– Не оступись, Михаловна, – сказал Маркин Ляле и через плечо бросил парнишке: – У речняков, Ваньша, заместо речкомов теперь стали рупводы.
Маркин намеренно говорил «речняки» – так звучало пренебрежительнее.
Анфиладу безлюдных комнат сквозь голые окна наискосок пронзало солнце. Обыватели и солдаты разграбили дом: ободрали шторы, растащили посуду, бельё и стулья, выпотрошили шкафы, кое-где вскрыли паркет.
– Делать-то речкому нечего, – виновато сказал Седельников. – Пароходы на приколе, где кто от команды остался – пьют. Ни лоцманов, ни капитанов.
Утёмин поднял брошенную книгу, вырвал страницу и начал скручивать «козью ножку». Волька Вишневский весело рассматривал чёрную чугунную скульптуру императрицы Екатерины, стоящую в углу на чугунной колонне.
– Славный балласт, братишки, – сказал он, шлёпнув Екатерину по заду.
– Из управы я сюда перевёз лоции и архивы судоходной дистанции, чтобы при деле состоять, – продолжил Седельников. – Нас, большевиков, в Сарапуле всего-то меньше сотни, да и тех Красная армия от власти отстранила.
– Показывай, где нефтекараван могли спрятать, – распорядился Маркин.
Караван ускользнул из Самары, когда туда нагрянули белочехи, и пошёл в Пермь, но по пути внезапно исчез. Потом до Нижнего доползли слухи, что нефтебаржи захвачены сарапульским пароходчиком Стахеевым. Возвращение беглой «Межени» Маркин хотел совместить с освобождением каравана.
– Пойдёмте в кабинетную, – сказал Седельников. – Лоции там.
В кабинете хозяина – разорённом, как и весь дом, – растопырился массивный письменный стол с вывернутыми ящиками. На столешнице, покрытой зелёным сукном, Седельников разложил лоцманские карты.
– Баржи, я думаю, в Дербешке, это стахеевский затон пониже устья Белой. – Седельников прижал карту. – В Челнах, Елабуге или Чистополе караван давно бы заметили. У Стахеевых есть ещё малая стоянка возле Святого Ключа.
Ляля подошла к стене, на которой в рамке висела большая фотография. Красивая дама в длинном платье и шляпке сидела в кресле, а за ней стояли, видимо, сын и муж: важный мужчина во фраке и мальчик в матросской форме.
– Вот этот белобандит, да? – Ляля постучала пальцем по мужчине.
Седельников близоруко прищурился на фотографию.
– Нет, не он. Этот уже помер. А буксир увёл, который младший.
03
Вольские пароходы швартовались к другим пароходам, стоящим возле дебаркадеров самарских пристаней, – какой где пристроился. Хамзат Мамедов перебрался на берег, на улицу, огляделся и махнул рукой извозчику.
– На Щепновку, друг, – сказал он, влезая в рессорную коляску.
Мамедов казался грузным, как матёрый медведь, но, подобно медведю, двигался неспешно и ловко. Мясистое лицо его обросло чёрно-седой щетиной. Толстый нос делал Мамедова похожим на безобидного деревенского увальня, однако тёмный взгляд персидских глаз давил с какой-то непреклонной силой.
Коляска катилась по Набережной улице вдоль Волги мимо причалов, купален, плотомоен, штабелей брёвен, рыбных садков, лодок и складов. Навстречу попадались ландо с дамами под зонтиками, офицеры, мальчишки-лоточники, чиновники с семействами на моционе и провинциальные щёголи – будто не было никакой революции и большевистского простонародья.
Нобелевский городок располагался на стрелке реки Самары, на месте бывшей деревни Щепновки. Мамедов издалека увидел огромные клёпаные цилиндры резервуаров, выкрашенные в белый цвет, и кирпичную башенку водокачки. Городок был обнесён аккуратной деревянной оградой. Мамедов смотрел с ясным чувством правильности того, что здесь сделано.
Карл Петрович Нюстрём, управляющий Самарским отделением, принял гостя в своём просторном кабинете с готическими часами.
– Мы здесь отрезаны от новостей компании, – сказал он, усаживаясь в кресло. – Что происходит в Баку? Нефтепромыслы национализированы?
– Да, любэзный, – усмехнулся Мамедов. – Там совсэм плохо. Деватсот скважин с дэбетом, а большевики нычего нэ могут взять. Рабочие на мытингах. Пэрегонные заводы стоят. Пароходы стоят. Нэфт сначала слывали в ямы, потом нэкуда стало, льют в морэ.
А вас, я вижу, нацьонализация пощадыла?
– Повезло, – подтвердил Нюстрём. – Ленин подписал декрет двадцать пятого мая, а пятого июня совдеповцы уже бежали из Самары от чехословаков. Словом, не успели ничего у нас растащить или разрушить.
– И как под учредыловцами жить, Карл Пэтрович?
– Отношения у нас нейтральные. КОМУЧ признаёт частную собственность. Но проблема, Хамзат Хадиевич, в другом. КОМУЧ сам занимается вопросами сбыта, а это для коммерции неприемлемо.
Мамедов поворочался, устраиваясь в кресле удобнее.
– Прочная лы власть у КОМУЧа?
– Он держится на штыках чешского легиона, – пояснил Нюстрём. – И в обществе поддержки у него нет. У всех свои претензии. Буржуазия недовольна тем же, чем и мы. Офицерство не принимает демократию. Рабочие до сих пор одурманены идеями коммунизма.
Крестьяне обозлены мобилизацией.
– Жал, – заметил Мамедов. – Пры всэх нэдостатках КОМУЧ нэплох.
– Судьба КОМУЧа решится на фронтах, а там у него пока успех. Красные отступают. Сызрань теперь наша, Уфа наша, вся железная дорога от Самары до Челябинска тоже наша. В Оренбурге и Уральске казачьи правительства.
Мамедов в сомнении покачал головой.
– Заволжья мало, – сказал он. – Я видел Россыю. Болшевики побэдят.
– Давайте будем оптимистами, – возразил Нюстрём.
– Эманьил Людьвигович считает, что надо пэрестраиваться под власт Совэтов. Потому я и здэс, дорогой.
Советская власть после долгих колебаний национализировала нефтяную промышленность, однако на время оставила её под управлением прежних хозяев. Мамедов знал, что Нобель надеется отыграть собственность обратно.
Мамедов трезво осознавал значение товарищества «Бранобель». В любом уездном городе России и в любом затерянном селе имелись керосиновые лавки «Бранобеля»: керосиновые лампы освещали всю страну. Нобелевские дизели крутили станки на сотнях российских фабрик. На мазуте и бензине Нобелей работали двигатели пароходов, автомобилей и аэропланов. Россия не могла обойтись без Нобелей. Но большевики выкинули их вон. А Нобели не хотели отрекаться от дела, в которое они вложили столько упорства и веры.
Нюстрём извлёк из портсигара папиросу, всунул в мундштук и закурил.
– Слушаю вас, Хамзат Хадиевич.
– Эманьил Людьвигович жэлает вынудить болшевиков вэрнуть ему «Бранобэль» на прэжных основаньях. Йили хотя бы заключить концессью.
– Большевики понимают только язык силы.
– Ещё они должны понять размэн.
– Что вы имеете в виду? – прищурился Нюстрём.
– КОМУЧ отрэзал болшевиков от Баку. Нэфтаные караваны по Волге нэ пройдут. У болшевиков нэт нэфти. Нобэль может прэдложить йим Арлан.
Башкирское село Арлан находилось в низовьях Белой недалеко от Камы.
– Нефтеносен ли Арлан? – усомнился Нюстрём.
– Доказатэлства должна добыть экспедицья Турберна. А Турберн до сых пор нэ получил баржу с буровым оборудованьем. Так что судба компаньи, Карл Пэтрович, завысит от этой баржи. Я должен доставыть её Турберну. Болшевики мнэ нэ помогут. Но учредиловцы должны помочь.
– Это же против их интересов! – удивился Нюстрём.
– У ных тоже нэт нэфты. Убэдите их, мой друг, что Арлан достанэтся йим. От Уфы до Арлана по Белой только дэнь пути на пароходе.
– Сарапул ближе, – возразил Нюстрём.
– Но красные просто забэрут всё. А бэлые соблюдают частное владенье.
Нюстрём размышлял.
– Что ж, Хамзат Хадиевич, – сказал он, – будем спасать нашу баржу!
Мамедов встал, подошёл к окну и отодвинул занавеску. Яркое солнце, ухоженные дома служащих, тополя, столбы с проводами, рельсы с вереницей цистерн, причалы – правда, без остроносых наливных барж, слепящий простор Волги, белое облако. Здесь, в государстве Нобелей, был мир, в котором всегда что-то строили – буровые вышки, заводы, моторы, дороги, суда. Здесь был разумный порядок. Достаток. Справедливость. Он, Хамзат Мамедов, не умел изобретать новые машины или руководить промышленными предприятиями. Зато он умел убивать ради тех, кто созидает.
04
Затон не вместил всех судов, и пассажирские пароходы выстроились друг за другом вдоль пристаней Сарапула – «поволжской», «самолётовской» и КАМВО; компаний Курбатова, Якутова, Любимова и Сироткина. При взгляде с другого края широкой Камы пароходы сливались в общую светлую полоску.
Лёгкая прогулочная лодка поворачивала в воложку за островом. Военком Ваня Седельников держал румпель руля, Волька и Утёмин гребли, а Маркин и не порывался сесть к веслу – он же командир. Ляля улыбалась: Николь думает, что она, Ляля, допустит к себе только мужчину из начальства, поэтому изображает начальника. Смешной он, Николь. Хороший, но смешной.
Беглая «Межень» стояла на двух якорях у Девятовской мельницы. Ляля внимательно рассматривала судно. Чёрный корпус, широкая дуга колёсного кожуха, белая надстройка с многооконной рубкой и чуть склонённой трубой. На носу – крамбол с якорем, на мачте – красный флаг, вместо буксирных арок – длинный пассажирский салон, за кормой – задранная шлюпка на шлюпбалке. Впрочем, угловатой лёгкости большого парохода Ляля не почувствовала.
– Помню, как на «Межени» к нам Столыпин приплывал, – уважительно сказал Седельников. – Великая княгиня Елизавета Фёдоровна тоже…
На борту парохода замелькали моряки – это команда заметила гостей.
– Эй, на шканцах, прими швартов! – повелительно крикнул Маркин.
Моряки на «Межени» посовещались, а потом подцепили лодку багром.
На невысокий борт парохода первыми вскарабкались Волька и Утёмин. Маркин подсадил Лялю, влез сам и подал руку Ване Седельникову.
По причине жары моряки на «Межени» были в одних тельняшках или голые до пояса, но все – в бескозырках с названиями балтийских кораблей. На загорелых телах угрюмо синели татуировки с якорями и штурвалами.
– Сдай наганы, – надменно потребовал долговязый матрос, видно вожак.
На переносице у него сидело непривычное для флотского пенсне, из-под бескозырки с лентой «Гангут» свешивались длинные, как у попа, волосы.
– Это шиш вам, братишки, – весело ответил Волька. – А ты кто такой?
– Я командир. Фамилия моя Рехович. Теперь вы назовитесь.
Маркин, не желая ссориться, назвал всех своих спутников.
– Баба! – внятно раздалось в толпе моряков.
В кратком слове прозвучали сразу и приговор, и удовольствие.
Моряки «Межени» заухмылялись.
– Я вам не баба, – дерзко и спокойно ответила Ляля. – Для нормальных мужчин я товарищ женщина. А для вас – флаг-секретарь флотилии.
Она сама ещё в Нижнем придумала себе такую должность.
– И голосистая! – добавили в толпе с издёвкой.
Ляля ожидала такого отношения. Она сразу почувствовала, что эти, на «Межени», трусят – а потому и напоказ глумятся над тем, кого считают слабее. Но она-то не слабее – она и сильнее, и храбрее.
И подомнёт их под свою волю.
– Айда в кубрик, – погасил раздор Маркин. – Потолкуем про ваш бунт.
«Межень» не поднимала бунта, она просто сбежала. Бунт подняли левые эсеры. Ляля с Раскольниковым были на том съезде Советов в Большом театре, когда чекисты арестовали всю левоэсеровскую фракцию. В ответ на арест восстал Михаил Муравьёв, командующий Восточным фронтом. Он находился в Казани. На пароходах он отправил два полка в Симбирск. Сам главком и его матросская охрана загрузились на «Межень», прихватив кафешантанный оркестр и певичек. Но веселье длилось недолго. В Симбирске, объявив свою республику, Муравьёв сунулся в губернский исполком, в бывший кадетский корпус, а там большевики устроили ему засаду. Муравьёва застрелили. Быстро протрезвевшая «Межень» немедленно дала дёру до Сарапула и затаилась.
Кубриком на «Межени» считалась императорская салон-столовая. Ляля увидела измызганные занавеси на окнах, изящные стулья в стиле Людовика XV, оттоманку и банкетный стол с грязными стаканами. Пахло табачным дымом, жареной рыбой и «балтийским чаем» – водкой с кокаином. Матросы и Рехович уселись по одну сторону стола, Маркин со своими – по другую.
– Большевики – узурпаторы, – холодно изрёк длинноволосый Рехович. – Партия эсеров – за народоправие. Нам не по пути.
– Да плюньте на эсеров, – благодушно ответил Маркин. – Их шалману всё одно амба, а на вас, братва, у советской власти зуба нет. Ну, сдурили. Бывает. Однако ж вы дунули не в Самару и не в Уфу к белочехам – значится, наши. Короче, давайте назад на базу. Я – комиссар, я за вас заступлюсь.
Но Лялю не устраивал мирный исход. Она ощущала злое возбуждение. Ей хотелось подвига, яркой победы, о которой потом будут рассказывать.
– А если среди вас идейный враг, так мы его здесь и шлёпнем, – прямо заявила Ляля. – Нам для такого дела полк не нужен, сами справляемся.
– Ну, Михаловна… – изумлённо замялся Маркин.
А Ляля смотрела на Реховича. Этот самозваный капитан ей не нравился. Догматик. Умничает, полагает себя равным с ними – командирами флотилии.
– Вы, я вижу, ценная. – Рехович блеснул на Лялю стекляшками пенсне. – Только женскому полу на флоте делать нечего. Жениха, извиняюсь, ищете?
Ляля была довольна, что Рехович не удержался, свернул на тему баб.
– Товарищи интересуются вопросом о браке? – Ляля с вызовом обвела яркими глазами осклабившихся матросов «Межени». – Могу просветить.
– Исключительно взволнованы, – процедил Рехович.
– Не о бабах речь, – вклинился Маркин, но на него не обратили внимания.
– А давай, товарищ агитатор, для почину поженимся, – с наглецой вдруг предложил полуголый и татуированный матрос. – Любовь – дело почтенное.
Военком Ваня Седельников покраснел – то ли от гнева, то ли от стыда.
– Позаботься о нуждающихся, товарищ женщина! – влез другой матрос.
Ляля не боялась этих людей. Под рукой у неё был браунинг, да и свои не должны подвести. Утёмин стреляет быстро и метко, и у него нюх на опасность. Волька Вишневский тоже не лопух: бывший разведчик, сейчас он не ощущает угрозы и с удовольствием ждёт, как острая на слово Лялька разделает всех противников. А Николь – вот размазня! – улыбается матросам заискивающе.
Рехович медленно встал и сдёрнул с окна грязную занавеску.
– Поспешите, товарищ представитель из центра, – сказал он. – Нас тут много, друг друга торопим. Вот вам и простынка для прелюбодейства.
Рехович с презрением бросил занавеску на стол перед Лялей.
Это было оскорбление, и Ляля его ждала. Она царственно простёрла руку с уже приготовленным браунингом и выстрелила в Реховича. Она знала, что выглядит прекрасной и смертоносной, как эриния с факелом. Но зазвенело разбитое окно – Ляля промахнулась даже с расстояния в пять шагов.
Матросы «Межени» шарахнулись от стола, сваливая посуду, а Рехович, пошатнувшись, цапнул кобуру на бедре. И тотчас грянул второй выстрел – это военком Ваня Седельников раньше остальных выхватил свой военкомовский маузер. Реховича отбросило на простенок, он уронил пенсне и сполз на пол. А юный Ваня побледнел, испугавшись своего поступка.
Утёмин, Вишневский и Маркин уже стояли, направив на матросов наганы.
– Ша! – предупреждая, рявкнул Волька.
А Лялю не смутило, что она промахнулась.
– Ну, есть ещё охотники советскую власть на излом взять? – громко и торжествующе спросила она.
05
До революции в больших речных городах состоятельные семейства летом завтракали на пароходах: каждый день – на новом. По утрам торжественные белые лайнеры ожидали гостей у резных дебаркадеров. Судовые рестораны состязались друг с другом в изысканности убранства и разнообразии блюд. Блестели столовые приборы. Солнце нежно сияло сквозь занавеси двусветных окон, обещая благополучный и добропорядочный день… А в июле 1918 года Самара оказалась последним городом России, где ещё сохранилась добрая традиция пароходных завтраков. Только рестораны позволяли пассажирским судам зарабатывать хоть какие-то деньги, когда все рейсы упразднили.
«Витязь», знаменитый лайнер общества «По Волге», был пришвартован к пристани напротив пивоваренного завода фон Вакано. С борта парохода открывался вид на краснокирпичные заводские корпуса с мансардными окнами и высокими трубами, над которыми вертелись флюгеры. В ресторане, украшенном пальмами в кадках, за круглым столом сидели трое: Мамедов, Георгий Мейрер – командир боевой флотилии и Василий Филипповский – начальник отдела торговли и промышленности в правительстве КОМУЧа.
– Не сочтите за неучтивость, господа, но я и вправду голоден как волк, – признался Филипповский и махнул рукой официанту: – Человек, подойдите!
Официант со злорадной улыбкой положил Филипповскому – министру – карту кушаний, где многие блюда были вычеркнуты карандашом.
– Филе соте, битков, лангетов и дичи желать не извольте, – сказал он.
– Просто гурьевскую кашу, – ответил Филипповский.
– Французских фруктов нет-с.
– Значит, без фруктов.
– Иди, любэзный, – отослал официанта Мамедов. – Господа, нэ тяните.
– Ваша идея, Мамедов, – самоубийство! – резко заявил мичман Мейрер.
Ему было чуть за двадцать. Длинноносый, ушастый и худой, по виду гимназист, а не моряк, Мейрер изо всех сил старался выглядеть суровым. Мамедов догадался, что этот юнец просто смущается перед Филипповским – лейтенантом флота, который на броненосце «Орёл» прошёл через грохочущие водопады Цусимы и японский плен, а потом сделался ярым революционером.
– Не преувеличивайте, – сказал Филипповский.
Мамедов предпочёл отнестись к Мейреру серьёзно. Да, мальчишка, да, горячий и самолюбивый, но судить надо по делам, а не по годам. Едва чехи вошли в Самару, Мейрер сам, без всякого поручения, принялся формировать боевую речную флотилию. Вместе с товарищем, таким же зелёным мичманом, на моторном баркасе-рыбнице Мейрер объехал самарские затоны, пароходные стоянки и зимовки и перегнал в город несколько брошенных буксиров. Каким-то образом он убедил чехов дать ему артиллерию и на двух своих пароходах установил по орудию – получились канонерки. Они-то и встретили под Сызранским мостом армаду беженцев из города Вольска.
Мамедов решил успокоить мичмана:
– Опасность есть, уважаемый, но мы будем осторожны. Нам ведь только, слушай, мимо Симбирска пройти. А на Каме красные ночью спят.
– Рейд вполне возможен, – добавил Филипповский. – Вы сами, Георгий Александрович, ходили на пароходе в тыл большевикам.
Мичман недовольно засопел, но возражать не стал.
Из полумрака буфета за веерами пальм снова появился официант.
Теперь он бережно держал завёрнутую в полотенце бутылку вина.
– Вам подарок от капитана, Василий Николаич. Прикажете откупорить?
– Не надо, оставьте. – Филипповский посмотрел на Мейрера. – Георгий Александрович, вы должны понимать значение нефти для нашей борьбы…
– А я прекрасно понимаю! – Мейрер ответил надменным взглядом. – К вашему сведению, господин Филипповский, мой отец руководил астраханской конторой Восточного общества!
Восточное общество было учреждено управляющими Рязано-Уральской железной дороги; их нефтекараваны ходили от Баку до Саратова, где на реке при станции располагались причалы для наливных барж и плавучие перекачки. Караваны обслуживали бакинские промыслы Манташевых, Лианозовых и Гукасовых. Пять лет назад коммерческие банки, кредитовавшие пароходства, в угаре создания синдикатов соединили общество с компанией «Кавказ и Меркурий» в трест КАМВО – самое большое речное предприятие империи.
– Извините, если задел, – сказал Филипповский. – Но я ответственно прошу вас проявить должное уважение к моему требованию. Официально ваши суда числятся во временной собственности Комитета. И Комитет решил оказать содействие господину Нюстрёму и товариществу «Бранобель». Вы должны передать одно судно господину Мамедову. После прибытия вольской флотилии беженцев у вас, Георгий Александрович, вполне достаточно пароходов для ваших дивизионов верхнего и нижнего плёсов.
Объявив денационализацию, КОМУЧ возвращал суда бывшим владельцам, но далеко не все владельцы находились в Самаре. Судами без хозяев КОМУЧ распоряжался по своему усмотрению, обязавшись оплатить возможный ущерб от своих действий, если хозяева найдутся. Нюстрём уведомил правительство КОМУЧа, что принимает выплаты за один буксир на счёт «Бранобеля».
– Предупреждаю, что лучшие суда не отдам, – ревниво сказал Мейрер.
– Лишь бы пароход нэ тонул и колёса крутились, – согласился Мамедов.
Скорее всего, буксир, взятый у Мейрера, не вернётся в Самару – потому Нюстрём и не пожелал выделить Мамедову пароход из флота «Бранобеля».
– И пулемёты хочу, – мягко напомнил Мамедов.
Мейрер пристально поглядел на этого вкрадчиво-самоуверенного азиата, больше похожего на грузчика-амбала с пристаней Баку, чем на агента фирмы Нобелей. Не много ли он о себе думает?
– Поделитесь трофеями, взятыми после тарана, – сказал Филипповский.
Недавно в ночном рейде буксир «Вульф», на котором шёл Мейрер, смял и потопил разведывательную «горчицу» красных. «Горчицами» на Волге называли небольшие и вёрткие винтовые катера для работы в порту.
– Хорошо, – недовольно смирился Мейрер. – Я уступлю вам «Русло», буксир купца Чкалова. Он сейчас на смене баргоута у стенки Журавлёвского завода. Пришлю два пулемёта и боезапас. Надеюсь, это вас удовлетворит?
– Вполне, дорогой, – слегка поклонился Мамедов.
06
Конечно, «Межень» не была императорской яхтой. Она была разъездным судном управляющего Казанским округом. Под царя «Межень» перелицевали в тринадцатом году, когда праздновали трёхсотлетие Романовых. Николай II с семейством плыл от Нижнего до Костромы, до Ипатьевского монастыря. Ляля видела в «Ниве» фотоснимки императорской флотилии: пароходы, увешанные гирляндами флажков. А теперь своя флотилия будет у неё, у Ларисы Рейснер, и она, Лариса, уже взяла себе «Межень». Кто был никем, тот оказался всем.
Пулемётная очередь с «Межени» выбила цепь белых фонтанчиков перед носом «Фельдмаршала Суворова», и лайнер тотчас сбросил пар. Два судна неповоротливо сблизились посреди широкой реки и громоздко счалились, почти соприкасаясь «сияниями»: «Межень» полностью погрузилась в синюю тень большого парохода. Маркин и Ляля выбрались на колёсный кожух. Они ждали капитана «Суворова». А на галерею лайнера встревоженно высыпали пассажиры – крестьяне-мешочники и прилично одетые господа.
Пожилой и седоусый капитан спустился из рубки, придерживая китель: правая рука у него висела на перевязи, и китель был просто наброшен на плечо.
– Почему на ходу? – строго спросил Маркин. – Навигация запрещена!
– Домой двигаемся, господин моряк, – устало пояснил капитан, – в Спасский затон. У команды там семьи, кормить надо. Войдите в положение.
– А пассажиров зачем набрал? Капитализм обратно разводишь?
– У людей тоже нужда, – просто ответил капитан. – А нам заработок.
Разумеется, капитан был прав, но Маркин хотел придраться.
– Кто тебя в рейс выпустил?
– В Осе уездный комиссар просто отогнал от пристани.
– Бумагу разрешительную дал?
– Не дал, – покорно признался капитан.
Аристарх Павлович уже понял, что с большевиками спорить нельзя. Да, он увёл пароход из Перми, но чего добился? При прорыве погиб старпом, а комиссары послали на камские пристани телеграммы, что «Суворова» надо задержать. И в городе Осе пароход задержали. Команду посадили в подвал уездного Совета. Его, знаменитого капитана Фаворского, гноили в каталажке, будто базарного карманника!.. Семнадцать дней с квашеной капустой, вшами и парашей!.. А затем случилось что-то непонятное. В Перми – или в Нижнем, или в Москве – большевики упразднили речком, который занимался делами пароходств, и все распоряжения речкома отменились. В том числе и приказ об аресте «Суворова». Команду выпустили и приказали проваливать. Рупвод – новое управление пароходствами – «Суворовым» не заинтересовался.
Из толпы пассажиров на галерее за переговорами Аристарха Павловича с командиром «Межени» внимательно наблюдал Костя Строльман. Он пытался вспомнить: красивая девушка рядом с командиром – где он её видел?…
Ляля была уверена, что пассажиры «Суворова» любуются ею. Она и сама с удовольствием разглядывала пароход – огромный и такой белый на ярком солнце, что мелкие волны вокруг сверкали отблесками. Ляля думала, что сейчас она подобна флибустьеру – в её власти беспомощный и богатый фрегат. О флибустьерах писал стихи Гумилёв. Честолюбивый до бешенства, храбрый до безумия и неверный как бог. Великий поэт. Благородный подлец. Её первая отчаянная любовь. Она звала его Гафиз, а он её – Лери. Знал бы бессердечный Гафиз, что его милая Лери сейчас – словно Мэри Рид, королева пиратов!
– Пароход надо обыскать, – беспощадно распорядилась Ляля сразу и для Маркина, и для капитана «Суворова». – Оружие и ценности реквизируем.
Маркин не возразил против обыска. Он чувствовал себя виноватым – не он застрелил Реховича, который оскорбил Лялю, – а потому хотел угодить.
– Как прикажете, господа товарищи, – глухо ответил Аристарх Павлович.
Ляле нравилось ощущать демоническую природу силы. Важен был не результат, а месмерическая энергия, наполняющая душу свежестью. Ляля молча и торжествующе смотрела, как матросы «Межени» сгоняют пассажиров и команду «Суворова» точно стадо на верхнюю палубу и переворачивают всё в каютах. Бабы-торговки орали, мужики ругались, а люди образованные были поумнее и подчинялись безропотно. Матросам даже стрелять не пришлось.
– Михаловна, оно ведь разбой, – не вытерпев, тихо сказал Ляле Маркин.
– Николь, а ты почувствуй, что такое революция, – мечтательно ответила Ляля. – Не как передел собственности, а как стихия нового сотворения!
Маркин только вздохнул. Лялька – девка совсем шальная.
С галереи «Суворова» Волька Вишневский вытолкнул на колёсный кожух «Межени» молодого человека в потрёпанном мундире путейского инженера.
– Лариса Михайловна, ваш знакомец, – весело представил его Волька.
Молодой человек сердито смотрел Ляле в глаза.
– «В упругой грации жеманного Кановы, в жестокой наготе классических камней…» – вдруг процитировал он, и Ляля вскинулась: звучали её стихи!
А Костя Строльман вспомнил, где видел эту красногвардейскую девушку. В столице, на творческом вечере в «Академии стиха» при журнале «Аполлон».
– Мы знакомы, сударь? – величественно спросила Ляля.
Костю нисколько не трогала её красота. Костя кипел от обиды, потому что матросы отобрали у него всё, что при нём было.
– В Петрограде я слушал вас на поэтических чтениях, – ответил Костя. – Вы должны сохранить высокие сердечные порывы тех времён. Я требую вернуть мне кольцо моей матери. Его изъяли незаконно.
Ляля вспыхнула, а потом заледенела.
– Понадеялись моими стихами выкупить своё имущество? – Ляля окатила Костю презрением. – Вы банальный мещанин. Убирайтесь на свой пароход.
Настроение у Ляли испортилось. Она не стала дожидаться развязки с «Суворовым» и спустилась с кожуха вниз в салон-столовую, который теперь служил ей каютой. Она чувствовала себя очень одинокой. Люди вроде этого путейца порабощены материализмом, точнее, потерей благополучия. А те, кто делает революцию, слишком просты. Кто её поймёт? Раскольников? Да, он сложный, но по натуре – ловкий царедворец. Гумилёв? Холоднопламенный Гафиз слишком жаден до впечатлений жизни – до сражений, женщин, дальних стран и стихов. Ему мало одной Лери. И он далеко. Они никогда не соединятся.
В салон осторожно вошёл Маркин и деликатно постучал в стенку. Ляля не оглянулась. Маркин невесомо положил на стол что-то мелкое.
– Ежели понравилось, так бери, – заботливо сказал он. – Тебе можно, Михаловна. Ты царицей рождена, всё твоё.
– Николь, ты добрый, но пошлый, – ответила Ляля.
Маркин ничего не понял, вздохнул и убрался прочь.
Снаружи донеслись голоса и пароходный гудок. Салон качнулся, в окнах по правому борту посветлело – это освобождённый «Суворов» отодвинулся от «Межени», открывая склоняющееся к закату солнце. Ляля поднялась на ноги. На столе блестело золотое колечко с бриллиантом. Ляля взяла его и накрутила на палец, изящно помахала рукой, разглядывая обнову. Что ж, красиво.
Ляля откинула занавеску. В свете заката уходящий по реке белый лайнер казался розовым и янтарным, ветер сбивал набок дымовой хвост. А на стекле окна чуть заметными линиями был начерчен вензель – переплетённые «аз» и «фита». «АФ» – значит, «Александра Фёдоровна», императрица. Порезать стекло мог только алмаз. И алмаз у Ляли тоже был. Поверх вензеля «АФ» Ляля принялась выцарапывать буквы «люди» и «рцы»: «ЛР» – «Лариса Рейснер».
07
Из-за мятежа белочехов Федя Панафидин застрял в Самаре на три недели. Деньги, собранные сельским сходом, у него закончились, и Федя попросил помощи у Перхурова. Знаменитый богомаз Перхуров, старообрядец, дал в долг, но не пустил никонианца на постой, и Федя ночевал в конторе на полу. Переносной кивот с иконой, завёрнутый в рогожу, он совал под голову.
Контору казённая лоцманская служба арендовала у Дмитрия Василича Сироткина в здании его пароходства «Волга». Пароходы не ходили, и лоцманы сидели без работы. Федя вместе со всеми терпеливо ждал оказии. И дождался этого перса – господина Мамедова: он искал вожатого от Самары до Перми. Самарская казённая дистанция имела в распоряжении только волжских лоцманов среднего и нижнего плёсов, единственным камским оказался Федя.
– Вы магометанин, Хамзат Хадиич? – наивно полюбопытствовал Федя.
– А для твоэй работы есть разныца? – удивился Мамедов.
– Положено молиться за людей на борту.
– Ну йи молысь, дорогой, однако мэль нэ прозевай.
Мамедов раздобыл старый-престарый буксиришко «Русло» с железными заплатами на бортах. Но корпус не тёк по швам, и машина пыхтела исправно.
Капитана звали Роман Горецкий. Чуткий Федя сразу уловил, что капитан сомневается в нём. Понятно почему. Такие, как Роман Андреич – молодые, красивые, самоуверенные, – служили на пассажирских пароходах и лайнерах. Они привыкли к другим лоцманам: солидным, бородатым, в красных рубахах. А тут совсем отрок, похожий на послушника, отправленного за милостыней.
– Я лоцман родовой, из Николо-Берёзовки, – с достоинством сказал Федя. – И тятя мой, и дедушка суда по Каме водили. Мы, Панафидины, у судоходцев всегда в чести, и у начальства при дистанции сорок лет состоим.
Федя попросил у капитана разрешение повесить в рубке свою икону.
– Здесь не алтарь, – возразил Горецкий. – А «Русло» – не «Святитель».
«Святитель Николай Чудотворец» был плавучей церковью, переделанной из буксира «Пират». Этот пароход окормлял рыбаков на каспийских рейдах. Вся Волга потешалась над нелепым судёнышком с луковками и звонницей.
– У меня образ Николы Якорника. Он наш, исконно навигацкий.
Образ был ещё времён Ивана Грозного. Главная святыня храма в Николо-Берёзовке, он совсем почернел. Иконы дониконова письма поновляли мастера из раскольников, и год назад Николу Якорника передали богомазу Перхурову. А юного Федю в этом году общество послало привезти образ обратно домой.
Горецкий скептически хмыкнул, но решил не спорить.
Отвал Мамедов назначил на раннее утро. По тихой воде стелился тонкий туман. Оставляя длинную растрёпанную полосу дыма, буксир двинулся на стрежень. Купола, крыши и заводские трубы Самары скрылись за поворотом. Федя стоял в рубке рядом со штурвальным матросом Бурмакиным и смотрел на мягкие горбы Жигулей. Он наскучался по своему делу, по реке, по родным изгибам сказочных круч Девичьей горы и Молодецкого кургана… Колёса парохода рыли волжскую гладь, словно горстями прижимали воду к сердцу.
К Ветляному острову Горецкий уже убедился, что Панафидин – лоцман толковый, хоть и с блажью в голове. Горецкий кивнул на икону.
– И почему же вашего Николу называют Якорником?
– Он судно своей волей может оковать, – простодушно поведал Федя.
По преданию, однажды в старину по Каме шёл соляной караван господ Строгановых, и вдруг с берега донёсся оклик. Судовщики не обратили на него внимания и правили дальше, и тогда все ладьи внезапно замерли на месте, будто бы дружно выскочили на мель – но никакой мели там отродясь не было.
– Судовщики-то не сразу поняли, что дело в божьем духе. – Федю всегда трогала эта история. – А потом сплавали на берег и нашли на берёзе в развилке веток явленный образ Николы. Это он людей к себе призывал и суда держал. Для образа срубили часовню. Так и началась наша Николо-Берёзовка.
– А пароходы икона тоже останавливает? – улыбнулся Горецкий.
– Как бог пожелает, – уклончиво ответил Федя.
Граница с красными пролегала перед Сенгилеем. Горецкий рассчитывал миновать Симбирск на закате. Мейрер предупредил, что в Симбирске красные вооружили несколько буксиров. Надо быть наготове. Волгу в Симбирске разделял надвое широкий и плоский остров Чувич. Пристани находились в протоке у правого берега, и Горецкий приказал двигаться левой воложкой.
– Полный ход! – скомандовал он в переговорную трубу машинисту.
– Докудова пар подыматься будет? – спросил Федя у капитана.
– Перед мостом достигнем максимального давления.
Федя повернулся к штурвальному Бурмакину и негромко пояснил:
– Как поравняемся с верстовым знаком, руль на третью долю посолонь.
Подрагивая корпусом и стуча машиной, «Русло» вспахивал воложку.
Красные заметили незваных гостей. В бинокль Горецкий увидел, что возле дебаркадеров один из пароходов задымил трубой и отвалил в сторону.
– Вот и погоня, – сказал Горецкий.
В рубку вошёл Мамедов, огляделся и понял, что вмешиваться не следует.
В протоке между Чувичом и островом Часовенный «Русло» выскользнул наперерез пароходу красных. С него тотчас бабахнула пушка. Водяной столб взметнулся по правому борту «Русла». Звук выстрела проскакал как тугой мяч.
– Совсэм, слюшай, цэлиться нэ хотят, – хмыкнул Мамедов.
– Береговатее надо податься, – деловито сообщил Федя. – На стрежне река надавит красному в скулу, и он от нас поотстанет. Стрелять покудова не будет, чтобы в мост не попасть. А за мостом побежим над песками, там тяга меньше.
Мамедов одобрительно похлопал Федю по острому плечу.
Впереди всю волжскую пойму пересекал длинный железнодорожный мост с решётчатыми арками; несколькими опорами он наступил на низменный Часовенный остров. «Русло» по дуге прокатился точно в пролёт, словно сквозь огромные ворота. Пароход красных дымил на полверсты ниже по течению.
– «Делсовет», – в бинокль прочитал его название Горецкий. – На носу – полевое орудие.
Закат догорал, Волгу заволакивали синие сумерки. «Русло» быстро грёб через короткий плёс под крутобокими Ундорскими увалами, а в створе уже темнело охвостье следующего острова. «Делсовет» упорно не отставал. Миновав мост, он снова открыл огонь. Над плёсом звонко хлопали выстрелы, светлые пенно-водяные столбы то и дело выскакивали слева и справа от «Русла». Штурвальный Бурмакин испуганно косился на них, как лошадь на удары кнута. Феде некогда было отвлекаться, а Мамедов и Горецкий смотрели на разрывы спокойно. В тёплой истоме просторного июльского вечера с борта парохода обстрел казался каким-то ненастоящим, а гибель – невозможной.
– Панафидин, попроси-ка ты своего Николу Якорника, чтобы остановил красных, – вдруг насмешливо сказал Горецкий.
– Давно попросил, – буркнул Федя.
«Делсовет» вдали наконец сбросил струю пара и завалился на разворот.
– Неужели чудо свершилось? – всё поддевал Федю капитан.
Федя обиженно насупился и молчал.
– Просто красные боятся впотьмах сесть на мель в Ундорской воложке, – объяснил Горецкий. – Нет ни чудес, ни богов, мой юный лоцман.
Федя поколебался.
– Мне дедушка ещё говорил, – всё-таки ответил он, – думай что хочешь, но тайну не отрицай.
08
По реке без бакенов идти ночью было опасно, и «Фельдмаршал Суворов» пришвартовался к маленькой пристани купцов Стахеевых – будто слон присел на крохотную скамеечку. Пристань называлась «Святой Ключ». Чуть поодаль виднелся небольшой затон с товар но-пассажирскими пароходами и буксирами. Над пристанью, затоном и крутым берегом летали и кричали вечерние птицы.
Хозяева прислали на лайнер лакея и пригласили капитана отужинать. Дом Стахеевых – двухэтажный терем с тремя кружевными фронтонами – прятался в кудрявом парке. От спелого заката крутые кровли и резьба подзоров были малиновыми. В столовой Фаворскому представили другого гостя – Джозефа Голдинга, агента компании «Мазут». После ужина Ксения Алексеевна велела подать чай на веранду – на широкий балкон. Горничная вынесла самовар. Всё имение Стахеевых – дача, парк и село – освещалось электричеством, и над шёлковым абажуром настольной лампы беззвучно порхали мотыльки. – Аристарх Палыч, мистер Голдинг, чего же нам ждать от будущего?
Ксения Алексеевна глядела на гостей так умоляюще и так беспомощно, словно от них зависела её жизнь. Рядом с Ксенией Стахеевой, милой и уютной, женственно пухленькой, любой мужчина сразу ощущал себя сильным.
Капитан Фаворский хотел сказать, что большевики с их ресурсами, увы, непобедимы, а старая Россия обречена, однако сказал другое: – Борьба предстоит долгая, дорогая Ксенья Алексевна.
– Но не на Кавказе, – возразил Голдинг. Он сидел в лёгком камышовом кресле, вытянув длинные ноги. – Бакинская коммуна, последний оплот Советов, падёт через месяц. В Баку придут англичане. Или турки. Это точно.
– И начнут денационализацию, – утвердительно заявил Иннокентий.
Ему было девятнадцать. Студент Московского коммерческого института, он носил форменную серую тужурку и фуражку с синим околышем. Чтобы казаться солиднее и старше, он тщательно выговаривал каждое слово.
– Безусловно, мой друг, – кивнул Голдинг. – Кстати, недавно консулы Англии, Швеции, Дании, Голландии и Персии предъявили советскому правительству протест против национализации нефтяной промышленности.
– Мама, я хочу, чтобы ты поняла суть. – Иннокентий взял мягкую руку Ксении Алексеевны и поцеловал. – Ты ведь наследница папиного капитала.
– Да что ты, Кешенька, – виновато засмеялась Ксения Алексеевна. – Это всё твоё. Я же и самовар-то раздуть не смогу, куда мне пароходами управлять.
– Волга знает немало дам-пароходчиц, – галантно заметил Фаворский.
В Перми он услышал от большевиков, что молодой Иннокентий Стахеев угнал из Сарапула буксир и захватывает все пароходы на Каме. Однако суда в затоне возле пристани принадлежали сплошь обществу «По Волге»: Аристарх Павлович узнал их по голубоватым надстройкам и вифлеемским звёздам на «сияниях». Это были суда Стахеевых. Ксения Алексеевна, вдова Ивана Сергеевича, год назад унаследовала большой пакет акций общества.
– Господин Голдинг, прошу. – Иннокентий пригласил гостя к разговору.
– Концерн «Шелль» делает вам предложение, госпожа Стахеева, – тонко улыбнулся Голдинг. – После всех денационализаций в Самаре и Баку наши комиссионеры и представители бирж оценят новую стоимость общества «По Волге» с оставшимися судами, а затем мы согласны обменять ваш пакет акций общества на равный по курсу пакет «Русского Грозненского стандарта». Вы много потеряете, но по вине большевиков, а не по нашей, зато потом ваша собственность и дивиденды будут защищены всей силой Британской империи.
– А что всё это означает? – растерялась Ксения Алексеевна.
– Мы продаём наше пароходство «Шеллю», – пояснил Иннокентий.
– А это хорошо? – наивно спросила Ксения Алексеевна.
– Большевики убили наше дело, мама. «Шелль» оказывает нам услугу. Теперь мы будем не русские пароходчики, а британские нефтедобытчики.
– Твоя воля, Кешенька. – В голосе Ксении Алексеевны звучала покорность слепой любви. – Папа в тебя очень верил!
– Аристарх Павлович, – обратился Стахеев к капитану. – Вас уважает вся Волга. Оцените сделку как третейский судья. Хочу, чтобы мама была покойна.
Фаворский распрямился в кресле. Голдинг продолжал улыбаться.
– Формально, милая Ксенья Алексевна, общество «По Волге» и без того принадлежит «Шеллю». В двенадцатом году «Шелль» купил себе компанию «Мазут», а через два года ваш покойный супруг объединил свою компанию с «Мазутом». Обменять акции «По Волге» на акции «Стандарта» для вас весьма выгодно. «Стандарт», видимо, вскорости восстановит прибыли от промыслов, а ваше пароходство возродится только после изгнания с Волги большевиков.
– Вы не должны принимать мои слова в расчёт, дорогая хозяйка, но я не могу умолчать, что барон Ротшильд, бывший владелец «Мазута», поступил именно так, как мы сейчас предлагаем вам, – добавил Голдинг. – Он обменял акции «Мазута» на акции «Шелль». Доверьтесь опыту Ротшильда.
Ксения Алексеевна смутилась, будто Ротшильд был её любовником.
– Кешенька, спаси меня от этих мужских премудростей!.. Господа, я вам всем доверяю – ну что ещё мне ответить? Давайте пить чай. Мистер Голдинг, у вас в Англии есть крыжовник? Вы пробовали варенье из крыжовника?
Когда самовар прогорел и почти опустел, Ксения Алексеевна позвонила в колокольчик, вызывая горничную.
– Не желаете прогуляться в парке, пока обновляют стол? – спросила Ксения Алексеевна у Фаворского. – Я покажу вам свой розарий.
– Почту за честь! – Капитан поднялся, придерживая руку на перевязи.
На этом чаепитии он отдохнул душой после пережитых унижений, как-то взбодрился, и ему нравилась Ксения Алексеевна, жаждущая покровительства. Капитаны лайнеров, люди светские, умели и любили ухаживать за дамами.
– Без мамы можно и покурить, – сказал Иннокентий, будто гимназист.
Стахеев и Голдинг закурили у перил. Внизу в кустах стрекотали ночные кузнечики, пахло жасмином и дымом дровяной печи. Прямая аллея вела от дома к реке и распахивалась на широкий чёрный плёс, в котором отражалась сливочно-жёлтая луна. Над линией дальнего берега мерцал Волопас. Тягучий и глубокий покой этой тёплой ночи был создан для любви, а не для вражды.
– У вас прекрасный дом и прекрасная матушка, Иннокентий, – заговорил Голдинг, – но с рассветом наш буксир должен вернуться на стоянку к баржам. Опасно бросать их без присмотра. Как вы слышали от капитана Фаворского, к нам идёт вооружённый пароход большевиков.
– Мы защитим суда, господин Голдинг, – ответил Стахеев. – Я знаю, что наша сделка – не благотворительность, и выполню то, что пообещал компании «Шелль» в обеспечение обмена акций. На кону – благополучие моей семьи.
– Когда в вашей местности следует ждать подъёма воды в реках?
– Со второго августа, это Ильин день по новому стилю, начнутся дожди, и я смогу провести нобелевскую баржу по Белой до Уфы. Надеюсь, агенты «Шелль» нас встретят? Я не хочу, чтобы меня увидели с чужой баржей.
Голдинг выбросил окурок и по-русски сплюнул через перила.
– Репутация будет вам ни к чему, если мы аннулируем сделку. Просто пригоните баржу – и чёрт с ней, с репутацией. У вас ведь гражданская война.
09
Возле большого села Пьяный Бор Кама разъезжалась протоками вдоль зелёных островов, и в разгар лета, когда вода упала, извилистые фарватеры занесло бродячими песками. Путейская служба теперь не работала: никто не выставлял бакенов, не поднимал «доски» и «шары» на сигнальных мачтах водомерных постов. А балтийцы не умели прокладывать курс по указаниям створных знаков и не догадались нанять лоцмана, который знает «ворота» всех отмелей, и потому, потеряв судовой ход, «Межень» застряла на перекате.
Село виднелось вдалеке на высоком берегу: в сиянии неба таяли крестики ветряных мельниц и спичка колокольни. В былые времена на Пьяноборской пристани пассажиры пересаживались с крупных камских судов на малые пароходики Белой, их называли «мышами». Маркин отправил своих матросов в село, в пароходную контору, чтобы нанять лошадей и коноводов. После встречи с «Фельдмаршалом Суворовым» у Маркина имелось чем заплатить.
Пьяноборские мужики пригнали целый табун, привезли в телеге особую «судовую» упряжь и деревянные лопаты. Лошадей как бурлаков впрягли в бечеву, закреплённую на кнехтах. Погрузившись по брюхо, лошади медленно потащили пароход через перекат, а моряки, ворочаясь в грязной воде выше пояса, лопатами отгребали песок, который судно собирало перед носом.
– Ежели братва узнает, как лихо мы реки на конной тяге бороздим, то затравит насмерть, – натужно прокряхтел кто-то из матросов.
– Сенечка, не отвлекайтесь, пароходом ножку прищемит, – отвечали ему.
Пылало солнце июля. Вода журчала в колёсах парохода, остановленных, чтобы не поломать плицы. Лоснились спины лошадей и голые плечи матросов. Над «Меженью», чирикая, с острова на остров заполошно перелетали мелкие птички. На качающийся буксирный трос, блестя, опускались стрекозы.
Но Лялю не трогали старорежимные пасторали с деревнями и перекатами. Ляля лежала в жарком салоне на оттоманке. Маркин сидел у неё в ногах.
– Николь, у тебя – пулемёты! Ты – комиссар бронефлотилии! – устало выговаривала ему Ляля. – Приказал – и все должны подчиниться! Так какого же дьявола ты заплатил этим мужикам?
– Трудовому народу подмога. Для него же революцию-то делали, – оправдывался Маркин. – Ладно тебе, Михаловна.
– Глупейшее обращение, Николь! – злилась Ляля. – Будто я у тебя в избе!
Ляля давно поняла, что моряк Маркин так и остался крестьянином.
Они познакомились примерно полгода назад в Петрограде. Ляля тогда работала секретарём Луначарского, и Анатолий Васильевич отправил её на помощь заместителю Троцкого. Заместителем и был унтер-офицер Маркин.
Лев Давидович часто хватал первых попавшихся людей и поручал им самые неподходящие дела. Он был уверен, что случайным выбором выявит неожиданные способности. По его мнению, таким образом стихия революции порождает своих героев. Маркину Троцкий дал задание прошерстить архив Министерства иностранных дел и разыскать секретные соглашения царского правительства со странами Антанты, чтобы потом опубликовать их, вскрывая предательский характер прежней власти. А у Маркина просто не хватило ума. И к нему приставили образованную и решительную Лялю. Там, в высоких кабинетах Главного штаба в сером свете зимнего петроградского дня матрос Николай Маркин и влюбился в дерзкую поэтессу Ларису Рейснер. Маркину тогда было двадцать четыре года, а Ляле – двадцать два.
Она не сомневалась, что Маркин в неё влюбится. В неё все влюблялись. Коля не лез к ней с признаниями и всякими предложениями, здраво осознавая неравенство, однако смешные его чувства оказались глубже, чем Ляля думала. Когда весной Рейснеры переехали в Москву, в гостиницу «Лоскутную» на Тверской, Маркин почти каждый вечер вместе с Фёдором Раскольниковым приходил в гости – в штаб «товарища Ляли». Фёдор беседовал с отцом Ларисы, профессором-юристом, а Коля в другой комнате с Лялиной мамой чистил картошку и лук. Он словно бы не замечал сближения Ляли и Раскольникова.
Ляля и Фёдор поженились в мае. Поженились по-новому буднично: подписали бумаги и стали спать вместе. А для Маркина ничего не изменилось. Коля был подобен верному псу, для которого замужество хозяйки не играет никакой роли. Рейснерам-старшим честный Коля Маркин нравился больше напыщенного Фёдора Раскольникова, но Ляле было с Колей скучновато. Коля – обычная дворняга. А ей нужен королевский дог. Или полудикий волкодав.
«Межень» волокли через перекат мягкими рывками. Дно парохода ползло по дресве, и Лялин салон наполняло странное широкое шуршание вперемешку с тихим скрежетом и скрипом. Эти звуки и лёгкое подрагивание корпуса наводили на что-то интимное, тайное, любовное. Маркин придвинулся ближе и положил руку Ляле на грудь. Ляля смотрела испытующе и лукаво.
– Я жена твоего командира, – негромко напомнила она.
Маркин нравился ей своей понятностью, простонародным здоровьем.
– Я не в шутку… – смущённо прошептал он. – Брось Фёдора…
Ляля улыбнулась, ожидая продолжения. Брак ничем её не ограничивал. Не Раскольникову определять, как ей жить. Всё зависело от самого Коли.
– Я же с тобой хоть под венец!.. – Коля не знал, что ещё добавить.
Ляля вздохнула. Маркин смотрел на неё собачьими глазами.
– Тебе жена нужна или женщина? – снисходительно спросила Ляля.
Коля окончательно запутался.
– Ты, Маркин, со всеми стремишься договориться. – Ляля убрала его руку со своей груди и приподнялась на оттоманке, опираясь на локоть. – В тот раз с Реховичем договаривался, теперь – с этими мужиками из Пьяного Бора…
– Ну, гнида Рехович… – покорно согласился Маркин. – Маху я дал…
– А со мной ты не договоришься, – беспощадно отрезала Ляля. – У меня тебе ничего не выпросить. Я жадная. И злая – со мной миром не сладить.
Ляля очень нравилась себе сейчас: она необузданная и вожделенная!
– Иди давай, Маркин, отсюда. У тебя команда без надзора.
Маркин сник.
– Ну, извиняюсь премного… – виновато промямлил он. – И вправду пойду… Что они там творят? Так дёргают – баллер погнут.
Он встал, оправил форменку и вышел из тёмного салона на яркий свет.
10
На Волге и Каме война выморила судоходство, будто холера. С борт а «Русла» Горецкий видел брошенные у берегов буксиры с разбитыми окнами, полузатонувшие пассажирские пароходы, часто разграбленные и обглоданные пожарами, бесхозные баржи. На перекатах торчали застрявшие плоты. Затоны словно подавились и задохнулись, переполненные мёртвыми судами.
В сумерках, немного не дойдя до Чистополя, Горецкий заметил большой пассажирский пароход, точнее, лайнер, вставший на ночлег у песчаной косы возле села Жукотино. Это был «Фельдмаршал Суворов». Горецкий оживился.
– Давайте причалим, – сказал он Мамедову. – Хотелось бы поздороваться с Аристархом Палычем. Когда-то он экзаменовал меня в речном училище.
Горецкий с юности мечтал о красивой карьере – вроде карьеры капитана. Отец его, ссыльный поляк, заведовал земской школой в городишке Кологрив Костромской губернии. Местный помещик Фёдор Егорыч Крепиш учредил небольшое пароходство; как уездный предводитель дворянства, он радел душой за учителей, теряющих работу на летних вакациях, и устраивал их на свои суда боцманами и капитанами. Так Роман и попал на речной флот.
Практика у Крепиша позволила ему поступить в Нижегородское речное училище, попечительский совет назначил стипендию. А после учёбы Романа приняли в общество «По Волге». Третьим помощником капитана он ходил на пароходе «Боярин», вторым – на «Императрице Александре», первым – на лайнере «Витязь». Блистательные близнецы «Витязь» и «Баян» были лучшими судами общества. Если бы не революция, Роман Андреевич Горецкий стал бы капитаном следующего флагмана своей компании. Но не сложилось.
Обшарпанный буксир пришвартовался к царственному борту лайнера. В синих сумерках горел длинный ряд жёлтых окон пассажирского яруса, озаряя ржавую крышу и щелястую палубу низенького судёнышка. На галерее лайнера негромко разговаривали пассажиры, будто всё было как в прежние времена.
Фаворский принял Горецкого и Мамедова в своей двухкомнатной каюте с дорогой венской мебелью. В электрическом свете на столе блестел самовар.
– А вы, Роман Андреич, теперь капитан буксира? – удивился Фаворский.
Командиры пассажирских пароходов редко уходили на рабочие суда.
– Временно, Аристарх Павлович, – заверил Горецкий. – Только до Перми.
В числе полезных связей у Романа была дружба с семейством Александра Александровича Мейрера, главы астраханского отделения синдиката КАМВО. Месяц назад в Самаре Горецкий встретил Георгия Мейрера, сына Александра Александровича. Георгий, выпускник Морского корпуса, возглавлял речную военную флотилию КОМУЧа. Он и предложил Горецкому стать капитаном «Русла».
Буксир шёл в Пермь. А Горецкому очень надо было в Пермь.
– Расскажите, уважаемый, как дэла на Каме? – поинтересовался Мамедов.
Фаворский задумался, вспоминая события прошедшего месяца.
– Должен предупредить, господа, что вам надо быть бдительными. Выше по Каме разбойничает «Межень», её захватила красная матросня. У них два пулемёта. Остановили меня и ограбили пассажиров.
– У этих матросов какая-то цэл? – насторожился Мамедов.
– Во время грабежа мой машинист услышал, что красные разыскивают нефтекараван общества «Мазут». Полагаю, что караван попал в руки молодого Стахеева, акционера компании «По Волге». Этот юноша собирает суда своей компании, рассчитывая на скорую победу белых. При нём находится некий англичанин из «Шелля», а в Святом Ключе на даче у Стахеева живёт матушка.
– Вэсма благодару за такие свэденья! – искренне сказал Мамедов.
– Знаете ли вы что-нибудь о Дмитрии Платоновиче Якутове? – спросил Горецкий: для него это было важнее любых других новостей.
Фаворский глянул исподлобья и поправил кран самовара, чтоб не капало.
– Дмитрий Платонович погиб.
Горецкий был изумлён. Конечно, он слышал о жестокости большевиков, но считал, что люди вроде Якутова надёжно защищены своим авторитетом.
– А как Екатерина Дмитриевна? Она ведь уехала к отцу.
Горецкий задал вопрос тоном вежливого участия, но Фаворский понял, ради чего честолюбивый Роман Андреевич вдруг решил командовать жалким буксиром, прорывающимся в Пермь. Не ради же товарищества «Бранобель».
– Среди моих пассажиров есть молодой человек, который ближе меня знаком с этой историей. Поговорите с ним, Роман Андреич.
С Катей Якутовой Роман познакомился в 1915 году на «Витязе». Дмитрий Платонович отправил сына и дочь в круиз от Нижнего до Астрахани и обратно. Как помощник капитана, Роман обедал с самыми важными пассажирами – и таковыми были дети знаменитого пароходчика. Роману очень понравилась Катя – умная и строгая. Они много разговаривали, прохаживаясь по галерее, Роман приводил её в рубку. Ему показалось, что они сдружились. Катя тогда была ещё девочкой. Роман много вспоминал её зимой, когда Катя уехала на учёбу в «Шерборн скул гёлс», и даже хотел послать ей почтовую карточку.
А через год Катя чудесным образом превратилась в красивую девушку. Якутов опять выкупил детям каюты на «Витязе», и Роман понял: с Катей у него – не дружба. Возможно, даже не любовь. Сложно сказать что. Какая-то непреклонная необходимость иметь Катю Якутову подле себя, иначе собой он будет не полностью. Только эта девушка могла оценить в нём то, что он ценил в себе больше всего, – желание получить от жизни самое лучшее.
Горецкий нашёл Костю Строльмана в каюте и вытащил на галерею.
– Простите. – Костя зевнул и помотал головой. – Я уже спал…
С просторной и тёмной реки веяло свежестью. Гладкий плёс чуть мерцал из непрозрачной глубины. Лёгкие лохматые облака, подсвеченные по краям луной, неуловимо перемещались в небе невесомо-объёмными кружевами.
– Я хочу узнать о Катерине Дмитриевне Якутовой.
Костя огляделся по сторонам – не слышит ли кто.
– Я не могу открыть вам всего, – ответил он очень тихо, – но Дмитрий Платонович и Екатерина Дмитриевна спасали весьма знатного человека. Увы, Дмитрия Платоновича арестовали чекисты. А Екатерину Дмитриевну с этим человеком я сумел вывезти в относительно спокойное место. Надеюсь, у них всё благополучно. Хотя сложно утверждать ответственно.
– Что это за человек?
– Прошу вас, Роман Андреевич… – замялся Костя.
– Здесь нет большевиков, – напирал Горецкий. – Кто рядом с Катей?
Костя сдался:
– Великий князь Михаил Александрович.
Горецкий ощутил мягкий и тяжёлый удар по самолюбию. Не ревность, а именно удар по самолюбию: для ревности Горецкий был слишком уверен в своём превосходстве. Что ж, юная Катя Якутова и вправду оказалась такой же, как он: Катя тоже принимала от жизни только самое лучшее.
11
Ксения Алексеевна Стахеева понимала, что господин Мамедов ничем ей не угрожает – как агент «Бранобеля», он на её стороне. И всё же чувствовала в нём какую-то опасность, а потому обращалась больше к Роману Андреевичу.
– Эту дачу Иван Сергеевич построил для меня, когда Кеше исполнился годик, – рассказывала Ксения Алексеевна. – Здесь я провожу каждое лето. Я очень люблю нашу Россию, господа. Мне за границей неуютно. Даже языка французского я не выучила – чем мне заниматься на Ривьере или в Париже?
– Но сейчас вам и вправду лучше быть во Франции, – возразил Горецкий.
Они сидели в полумраке гостиной на низких диванах. Медово светился китайский абажур настольной лампы. В открытые окна, качая занавеси, влетал прохладный ветерок с Камы. Откуда-то доносилось ночное пение лягушек.
– Кешенька тоже считает, что мне надо уехать, – грустно сказала Ксения Алексеевна. – Он такой заботливый… Но я не могу покинуть Отечество, пока здесь остаётся мой сын. А он жаждет сражаться с большевиками. Боже, они ведь ужасны, эти большевики! Они расстреливают людей!
– А гдэ сэчас ваш сын? – спросил Мамедов.
– Он превратился в настоящего пирата. В Сарапуле он отнял у красных наш буксир, теперь плавает по Каме и нападает на корабли.
– Зачем? – спросил Мамедов.
– Забирает те, которые принадлежат нам. Высаживает пассажиров перед Елабугой и приводит корабли сюда. Вы же видели, господа: за пристанью у него целый флот, будто он адмирал Нельсон! Кешенька хочет сохранить наше пароходство до того времени, когда армия наведёт порядок.
– У вашего сына эст другие затоны кроме этого, в Сьвятом Клуче?
– Не знаю, господа, – беспомощно улыбнулась Ксения Алексеевна. – Дела вёл Иван Сергеевич, мой покойный муж. Я не умею пользоваться деньгами.
Двадцать лет назад купец Иван Стахеев стал основным собственником общества «По Волге» – самого первого российского пароходства.
«По Волге», «Кавказ и Меркурий» и «Самолёт» были триадой главных судокомпаний страны. К концу прошлого столетия «поволговские» пароходы устарели, и общество почти разорилось, однако упразднить столь славное предприятие было бы позором для купечества. Вот тогда и появился Иван Сергеевич. Обширный род Стахеевых разбогател на хлеботорговле; огромные стахеевские элеваторы словно рыцарские цитадели поднимались над крышами Бирска, Сарапула, Елабуги, Чистополя и Набережных Челнов. Иван Сергеевич выкупил долги пароходства «По Волге». А теперь сын спасал то, что осталось.
– Капьитан Фаворский сообщил нам, что пры вашем сыне находится нэкий аньгличанин, – продолжал допрос Мамедов. – Кто он?
– Наверное, друг, – ответила Ксения Алексеевна. – У Кеши много друзей.
Мамедов понял, что Ксения Алексеевна почему-то боится его.
Когда Ксения Алексеевна вышла отдать распоряжение о комнатах для ночлега, Горецкий наклонился к Хамзату Хадиевичу и прошептал:
– Мамедов, вы не умеете говорить с дамами. А я умею.
Горецкому была симпатична эта милая и пикантная женщина. Разница в возрасте его не смущала. В Ксении Алексеевне он увидел глубокую и зрелую чувственность, обострённую одиночеством вдовы. – Я не прочь прогуляться по вашему парку, – сказал Роман, когда хозяйка вернулась. – Не составите мне компанию, если ещё не слишком поздний час?
В тёмной аллее под ветерком с тополя на тополь перелетал высокий и таинственный шум. Под ногами чуть скрипел песок дорожки.
– Можно пройтись до нашего святого источника, – предложила Ксения Алексеевна. – Помню, я провожала к нему отца Иоанна Кронштадтского…
– Я не религиозный человек, – мягко отказался Роман. – Но мне кажется, что и вы, Ксения Алексеевна, отнюдь не религиозны.
– Почему же вы так решили? – лукаво удивилась Ксения Алексеевна.
– Потому что свою слабость люди прячут, а ваша всем очевидна.
В её слабости был явный призыв, и призыв к мужчине, а не к богу.
– Вы – мальчишка дерзкий, – заметила Ксения Алексеевна.
– Вы тоже ставили себе весьма высокие цели, – улыбнулся Роман.
Ксения Алексеевна поняла намёк. Двадцать лет назад весь Петербург обсуждал две свадьбы: миллионщики Якутов и Стахеев женились на актрисах. Ксения Алексеевна принуждённо засмеялась. Да, современные капитаны – уже не романтики, а циники, теперь это в моде. Однако Роман Горецкий ей нравился: высокий, красивый и опытный мужчина с твёрдой линией рта.
– Я уже не та юная актриса, – вздохнула Ксения Алексеевна.
– Думаю, вы не изменились.
Горецкий был прав: ей по-прежнему хотелось быть желанной. Она одна и хороша собой, а положение в обществе у неё совсем не то, что было раньше, – вряд ли кто осмелится её осудить. Летняя ночь такая тёплая, а мужчина такой самоуверенный… И ничто никогда не повторится: ни юность, ни этот миг.
Горецкий осторожно взял её за плечо и склонился к лицу.
– Давайте вернёмся, – негромко пригласил он.
– Возможно, пора… – прошептали полные губы Ксении Алексеевны.
Спальня находилась на втором этаже. Ксения Алексеевна бросила перед дверью веточку шиповника – знак для горничной, что не надо входить или стучать. Тёмного времени им не хватило, и последний нежный вскрик слился с пением петухов на подворье. Потом Ксения Алексеевна затихла. Горецкий немного полежал и бережно высвободил руку из-под её головы. Воздух в спальне светился – окно смотрело на раннее низкое солнце. Сдвинув тяжёлые кудрявые волосы Ксении Алексеевны, Горецкий поцеловал спящую женщину в тёплую щеку и выбрался из постели. Ему надо было спешить на пароход.
Лоцман Федя стоял на кормовом подзоре, измеряя уровень воды шестом-намёткой. Машина поднимала пары, и судно подрагивало. Мамедов встретил Горецкого в рубке. Штурвальный зевал в кулак.
– Надеюсь, лубэзный, ночь прошла нэ напрасно? – усмехнулся Мамедов.
Горецкий поглядел на берег, на парковую балюстраду под тополями.
– У молодого Стахеева есть ещё и пароходная зимовка в десяти верстах выше по течению, – ответил он. – Наша баржа там. Захватить её мальчишку надоумил агент компании «Шелль». Компания пообещала купить у Стахеевых активы их пароходства, если Стахеев приведёт нашу баржу в Самару или Уфу. Путь в Самару перекрыли красные, а в Уфу – мелководье. Мальчишка ждёт.
Мамедов недобро прищурился:
– А как зовут агэнта «Шелль»? Дьжозеф Гольдинг?
12
– Это «Межень», – сказал Роман, глядя в бинокль. – Мы опоздали.
Пароход красных, о котором сообщил капитан Фаворский, преграждая путь, стоял вдали прямо посреди блещущего створа. Из склонённой трубы «Межени» стелился лёгкий дымок – машина работала вхолостую.
– Бросил становое железо на перевале ходовой, – определил лоцман Федя.
Романа раздражала народная лексика лоцманов. Неужели нельзя выучить общепринятые термины судоходства?
– Отдал оба якоря, носовой и кормовой, и занял фарватер на его повороте от левого берега к правому, – объяснил Горецкий Мамедову.
– Друг, я нэ новичок на рэке, – ответил Мамедов.
От солнца в рубке было жарко. Горецкий в бинокль долго изучал створ.
– Судя по мачтам за кустами на косе, этот Стахеев собрал штук восемь разных барж. Его буксир – там же: вижу торговый флаг компании на топе. А «Межень» караулит добычу возле выхода из акватории зимовки.
Сбавив обороты, «Русло» медленно приближался к «Межени».
Вскоре на «Межени» простучал пулемёт, и перед носом «Русла» взбурлила линия белых фонтанчиков. Красные приказывали остановиться.
– Боятся нас, – усмехнулся Мамедов. – Подойду к ным на лодке.
– Возьмёте с собой? – спросил Горецкий. – Мне любопытно.
На кормовом якоре буксир медленно развернуло по течению. Матросы спустили на воду лёгкую лодку, закреплённую на шлюпбалке.
Мамедов и Горецкий дружно гребли распашными вёслами и смотрели, как удаляется «Русло». Вода в Каме была тёмная, глиняная, и на лопастях вёсел отливала краснотой. А волжская вода, песчаная, всегда казалась жёлтой.
– Думаете, Мамедов, большевики разрешат нам забрать нашу баржу?
– Почему бы и нэт? У нас пройзводствэнное дэло. Болшевикам наша баржа нэ нужна. А вот Гольдингу – нужна.
– По какой причине? – тотчас спросил Горецкий.
– «Шелль» тоже добывает нэфт, а на барже – буровое оборудованье новэйшего образца.
На борту «Межени» толпились разморённые зноем моряки в тельняшках и бескозырках. Мамедова и Горецкого вытащили из лодки и в первую очередь бесцеремонно обыскали, затем провели в полутёмный салон.
Как волжанин, Роман не раз встречал на реке «царский пароход», однако бывать на борту ему не приходилось. Роман с интересом разглядывал салон – мебель, дорогую обивку переборок, занавеси на окнах. На оттоманке сидела с ногами красивая девушка. За столом расположился моряк с бородкой клином.
– Кто таковы? – сурово произнёс он.
– Я агэнт завода «Лудвиг Нобэл», а он, – Мамедов кивнул на Горецкого, – капьитан буксыра… Слюшай, друг, у нас промысел за Николо-Бэрозовкой. Вышка стоит, рабочие ждут, а баржа с оборудованьем пропала. Мы искали её. Баржу этот Стахэев, дурной человек, экспропрыыровал и на зимовку загнал.
Стараясь смутить, Маркин сверлил Мамедова недоверчивым взглядом.
– Чем докажешь?
– Так баржей и докажу! Кому ещчё-то наши насосы и лэбёдки нужны?… А ты, я вижу, прыжал Стахэева, да? Ай, молодец моряк!
Маркин был польщён, хотя вида не подал, – но Мамедов это понял.
– Отдай мнэ баржу, дорогой, – проникновенно попросил он. – Эсли нэ вэришь – пойдём со мной до промысла, кланус, сам увыдишь, что нэ вру!
Горецкий удивлялся преображению Мамедова из холодного и умного командира в какого-то льстивого торговца с восточного базара.
– Стахеева ещё выкурить надобно, – поддавшись на уловку Мамедова, открылся Маркин. – Щенок-то огрызается.
Мамедов выдвинул из-за стола стул и уселся как для дружеской беседы.
– Уйми его, брат. Мнэ бэз баржи нэльзя возвращаться.
Горецкий тоже осторожно опустился на диванчик у двери. Он наблюдал за девушкой. Что она делает на пароходе? Чем так явно недовольна?
– Легко свистеть-то, – вздохнул Маркин. – А у Стахеева два «виккерса».
Девушка вдруг резко перебила Маркина:
– Стахеева мы уймём!
Мамедов быстро обернулся к ней:
– Он и ваши суда захватил?
– Это никого не касается! – отрезала девушка.
– Прости! – Мамедов хлопнул по груди растопыренной пятернёй. – Нэ в свою компетенцью сунулся! Думал, может, помогу чем…
– Да чем ты поможешь? – с досадой поморщился Маркин.
Мамедов покашлял в притворном смущении.
– У Стахэева, слюшай, в Сьвятом Клуче мать живёт, – сказал он.
Горецкий даже выпрямился. Он был впечатлён – но не столько низостью этого намёка, сколько готовностью Мамедова применять любые средства для достижения цели. Горецкий никогда не верил в благородство конкуренции: в гонках пароходов самые достойные капитаны выпихивали суда соперников на мель, и машины ударом срывало с крепёжных болтов, а пассажиры летели кубарем. Однако с такой беспощадностью борьбы Роман ещё не сталкивался. Это был урок от опытного специалиста. Урок гражданской войны в экономике.
– Мы не используем женщин как оружие! – зло заявила Ляля Рейснер.
Мамедов поджал толстые губы. Ляля сама себе являлась опровержением.
Маркин размышлял, ни на кого не глядя.
– Пригрозить-то не грех… – уклончиво заметил он. – И Стахеев уйдёт…
– Мы его затопим без всяких подлостей! – Ляля еле держала себя в руках.
Мамедов не вмешивался. Он забросил наживку и просто ждал. Он видел, что эта огненная девка подмяла морячка – не даром же она тут сидит. Морячок надеется уладить дело без хлопот, а девке такое против шерсти. Чего она хочет? Красивой войны с пальбой? Битвы пароходов? Мамедов внимательно рассматривал Лялю: бывают женщины, у которых внутри – чёрт. А морячок елозит задом… Ему и девка нужна, и под пулями рисковать неохота.
Маркин так и не принял никакого решения.
– Вали с борта, – раздражённо сказал он Мамедову. – Без вас разберёмся.
13
Зимовками речники называли никак не оборудованные места на реке, где суда укрывались на зиму, не опасаясь, что весной их сметёт ледоходом. Стахеевская зимовка располагалась в тесной глухой протоке между берегом и песчаной косой, заросшей густым тальником. На мысу возвышалась тренога облупленного створного знака. Стахеев загнал в протоку семь разных барж, два буксира – считая и свой, и старый товарно-пассажирский пароход. Ржавые суда выглядели безотрадно, будто отощавшие коровы в истоптанном загоне.
Лодка Вольки Вишневского скользила вдоль вешек, обозначающих узкий фарватер. Волька грёб распашными вёслами и оглядывался через плечо. На подмытом обрезном берегу виднелся окоп пулемётного гнезда, из которого торчал рубчатый ствол «виккерса». Стахеев держал фарватер под контролем.
– Эй, не балуй! – крикнул Волька людям в окопе. – Я парламентёр!
Он направил лодку к буксиру Стахеева. Лодка брякнула штевнем в борт.
– Хватай фалинь! – скомандовал Волька матросам на буксире.
Иннокентий Стахеев встретил посланника с «Межени» в рубке. Волька одобрительно оглядел туго застёгнутый студенческий мундир Стахеева с тёмно-синими петлицами и двумя рядами гербовых пуговиц.
– Коммерц-инженер? – угадал он. – Из Алексеевского, да?
Московский коммерческий институт носил имя цесаревича. Выпускник Стахеев был всего на пару лет старше простого солдата Вишневского.
– К делу, – сухо распорядился Иннокентий.
– Короче, братишка, нам нужны твои баржи. Комиссар Маркин передаёт тебе, что либо мы баржи забираем, либо твою мамку. Решай сам до вечера.
Вольке нравилось быть бесстыжим. Это как-то по-революционному.
Стахеев поправил форменную фуражку с синим околышем.
– Я понял, – мёртво произнёс он. – Можешь идти.
– Дай пожрать на дорожку, – попросил Волька и задорно подмигнул.
Над сонной протокой, ивняком и тихими судами висело знойное марево. В мутной небесной голубизне проступало мятое жёлтое облако. Заложив руки за спину, Кеша Стахеев с высоты колёсного кожуха смотрел на пароходную стоянку и думал о маме. О доброй и ласковой маме, которая жила безмятежно в своей дачной уютной глуши с малиновым вареньем и розариями. Она верила, что все беды проплывут мимо, потому что она никому не причиняет зла.
Вскоре Стахеев постучал в каюту Голдинга. Англичанин лежал на койке, задрав на стену длинные ноги, и читал старый журнал «Русское судоходство».
– Господин Голдинг, у меня был переговорщик от большевиков. Они нашли маму в Святом Ключе и угрожают арестом, чтобы я покинул зимовку.
– А вы? – Голдинг опустил журнал.
– А я подчинюсь. – Стахеев отвернулся. – Вы должны меня понять.
– Я ничего не должен, Иннокентий, – спокойно ответил Голдинг. – Если бросите нобелевскую баржу, то не получите от «Шелль» ни пенса.
Об этом они условились ещё три недели назад в Сарапуле, где Джозеф Голдинг, агент концерна «Шелль», отыскал сына Ивана Сергеевича Стахеева. Иннокентий нуждался в деньгах, чтобы вывезти мать из России и обеспечить её жизнь в Европе. Голдинг и Стахеев-младший заключили сделку.
– В борьбу я вступил ради мамы. Ради неё должен и выйти из борьбы.
Голдинг скинул ноги, сел и посмотрел на Стахеева холодными глазами.
– Захват безоружных судов – ерунда. У вас мощный буксир и пулемёты. Атакуйте «Межень», вот это будет настоящая борьба.
Кеша отрицательно покачал головой:
– Россия для вас – джунгли, Джозеф, и вы здесь на охоте. Но я не могу разделить ваше упоение.
– А ваш отец мог бы, – заметил Голдинг с презрением и сожалением.
В Иване Сергеевиче действительно была непонятная дерзость. Жениться на актрисе. Спасти пароходство. Затеять самоубийственное соперничество…
Иван Стахеев, главный акционер компании «По Волге», в 1904 году начал войну с компанией «Кавказ и Меркурий». Чтобы переманить великосветскую клиентуру конкурента, он построил три роскошных лайнера. «Меркурьевцы» всполошились; против стахеевской идеи богатства они выдвинули идею прогресса и построили сразу четыре лайнера на дизелях. Стахеев продолжил игру и поднял ставки: заложил ещё два парохода с невиданными удобствами. «Кавказ и Меркурий» пошёл ва-банк и заказал ещё десять теплоходов.
На биржах тогда гадали: у кого раньше «лопнут жилы»? Жилы лопнули у обоих соперников. «Меркурьевцы» залезли в долги к столичным банкам, и кредиторы во избежание убытков соединили «Кавказ и Меркурий» с большим пароходством «Восточное общество». Получился речной синдикат КАМВО. «Кавказу и Меркурию» в нём оставили только название и атрибуты – торговые флаги на «сияниях» и тройной гудок. А компания «По Волге», привлекая дополнительный капитал, выпустила большой пакет новых акций, и этот пакет купило буксирное пароходство «Мазут» – подразделение концерна «Шелль». Отныне судьбу компании «По Волге» определяли «Мазут» и «Шелль», а не Иван Стахеев. Иннокентий знал: это надломило дух отца, и отец умер.
Голдинг вытащил из нагрудного кармана серебряный брегет на цепочке.
– Когда вы уведёте свой буксир? – поинтересовался он.
– Мне нужно четыре часа, чтобы поднять пары и забрать пулемётчиков.
– Я останусь здесь, на зимовке. – Голдинг спрятал брегет обратно. – А вы снимите с судов все команды и даже шкиперов.
– Вы хотите затопить нобелевскую баржу?
– Это бессмысленно. – Голдинг снисходительно усмехнулся. – Под судами тут не больше двух футов воды. Баржа осядет на дно и останется доступной. А я предотвращу саму возможность перегрузки на другое судно.
– Хорошо. Я буду ждать вас в Святом Ключе.
– Не ждите. Моя миссия исчерпана. Отсюда я уйду на лодке в Елабугу.
Стахеев печально кивнул:
– Как угодно… Прощайте, Джозеф. Помните, что я считал вас другом.
– Вы заблуждались, – ответил Голдинг.
Вечером буксир Иннокентия Стахеева двинулся по узкому изогнутому фарватеру из протоки на Каму. По бортам стояли матросы и пожарными баграми выдёргивали вешки, обозначающие границы судового хода. Стахеев вышел из рубки на кожух колеса и смотрел в бинокль. На алой от заката реке чернел вдали красивый и зловещий силуэт парохода «Межень».
14
Мамедов видел, как стахеевский буксир, недовольно дымя, выбирается из протоки. Значит, план сработал: Стахеев бросился к матери. Исхлёстанный ветвями Мамедов упрямо ломился через тонкий и густой лес-жегольник вдоль заливного берега. Баржу с оборудованием нельзя оставлять без присмотра.
На топком пятачке Мамедов разделся, связал одежду в узел и вошёл в прогретую мутную воду. Поддерживая узел над головой, он доплыл до баржи и ухватился за якорную цепь, спущенную с кормы. Рывок – и он на борту.
Пока солнце не село, он быстро и тщательно осмотрел трюмы.
Он искал закладку динамита или адскую машину – всё, чем можно взорвать эту баржу. Заряд должен быть сравнительно большим, иначе посудину не затопить; опытный человек сумеет найти эту закладку даже в тесных проходах между ящиков и длинных связок обсадных труб. Но Мамедов ничего не обнаружил.
Странно. Голдинг не допустит, чтобы груз попал к Турберну. Что же он задумал? Мамедов сидел в замусоренной рубке и разглядывал стоянку. Закат. Безлюдье. Шесть плоских и широких барж. Брошенный буксир – все двери в надстройке распахнуты. Старый товарнопассажирский пароход… Похоже, он так плотно застрял на мели, что немного накренился. Ветерок чуть покачивает тросы такелажа на мачтах. Носятся птицы. Изредка где-то бултыхает рыба.
Про Голдинга Мамедов узнал в 1905 году. В стране разгорелась смута, и донецкий синдикат «Продуголь» использовал её для борьбы с «Бранобелем». В Баку большевики подожгли вышки на промыслах Балаханов и Сабунчей. Над сотнями скважин с рёвом взвились чудовищные факелы, изрыгающие адский дым. В зареве пожаров появились персидские муллы; они подстрекали азербайджанцев, и те шли резать армян. Чёрный кир на промыслах – грунт, пропитанный нефтью, – от крови стал бурым. А власти не вмешивались.
Главари армянских банд в Баку назывались «кочи». Некоторые из них были осведомителями Мамедова. И один из «кочи» сообщил, что злодеяния большевиков, проповеди мулл и бездействие губернатора, князя Никашидзе, оплачивает синдикат «Продуголь». Взятки привозит агент Джозеф Голдинг.
До Голдинга Мамедов тогда не добрался – но сам начинил взрывчаткой бомбу, которую дашнак Дро, армянский боевик, метнул в фаэтон губернатора у гостиницы «Метрополь». Князь погиб. После этого жандармы усмирили Баку. Однако «Продуголь» всё равно победил. Планы Нобелей потерпели крах: железные дороги и морской флот России в качестве топлива предпочли нефти уголь. На нефть «Бранобель» сумел перевести только речные пароходы.
Большой пакет акций синдиката «Продуголь» принадлежал Ротшильдам. И Голдинг тоже принадлежал Ротшильдам. Когда те продали свои нефтяные активы концерну «Шелль», Голдинг стал тайным оружием концерна.
Мамедов просто лежал на носу своей баржи и ждал, что будет. Закат угас, но разогретая железная палуба ещё долго оставалась тёплой. Подсвеченные яркой жёлтой луной суда в протоке превратились в угловато-бесформенные нагромождения бледных и тёмных объёмов. Блещущая вода чуть подрагивала течением. В спутанной гриве тальника на косе пробегали тонкие шорохи.
С протоки донёсся плеск. Глянув сквозь шпигат в фальшборте, Мамедов увидел рядом с дальней нефтебаржей лодку и человека. Это мог быть только Голдинг. Прячась за фальшбортом, Мамедов принялся снова стаскивать одежду. Из оружия у него имелся один лишь узкий персидский нож пешкабз.
Соскользнув в воду, Мамедов поплыл вдоль своей баржи, а потом и по открытому пространству. Он подгребал очень осторожно, чтобы не спугнуть человека в лодке ни звуком, ни колебаниями лунного отражения. Казалось, что течение тащит кусок дёрна или ком травы. Но человек в лодке всё же заметил, что к нему подбирается враг. Выпрямившись во весь рост, человек достал револьвер и выстрелил. Тогда Мамедов шумно вывалился из воды и рванулся в ближайшую тень – к борту пассажирского парохода. Он заколотил руками и ногами, взбивая брызги, чтобы спутать стрелка мельтешением блеска и мрака. Грохнули ещё несколько выстрелов. Мамедов нырнул под обнос парохода. Хватаясь за кронштейны над головой, он переместился к корме судна, а там, уже вне поля зрения противника, ловко вскарабкался на борт.
Человек в лодке сел на вёсла и быстро погрёб к пароходу.
– Не сомневаюсь, что это вы, Хамзат! – весело крикнул он.
– Рад встрэче, Дьжозеф! – ответил Мамедов из глубины парохода.
Голдинг тотчас выстрелил на голос.
Это означало, что кто-то из них сегодня должен умереть.
Голдинг причалил к борту судна за кожухом колеса и перебрался из лодки в сквозной проём багажного отсека. Он понимал, что Мамедов нападёт – для этого «нобелевец» сюда и явился. Сверху, с пассажирской палубы, слышались удары и треск: Мамедов вышибал двери. В тесных и тёмных помещениях парохода револьвер был не лучшим оружием; Голдинг переложил его в левую руку и вытянул из ножен солдатский нож. А затем поднялся по лестнице.
Он обходил каюты одну за другой, в любой момент готовый к броску врага из темноты. Мамедов поджидал его под столом в ресторане первого класса. Сперва он хотел по лунной тени на полу посмотреть на руки Голдинга.
Голдинг намеревался пройти через ресторан в салон, однако стол слева от него внезапно взбесился – подпрыгнул и ударил по локтю. Револьвер отлетел в сторону. Перед Голдингом оказался Мамедов – в мокрых подштанниках, с голым волосатым брюхом и с кинжалом-пешкабзом. Голдинг мгновенно занял оборонную позицию, выставив клинок. Мамедов сразу оценил нож Голдинга – французский траншейный «Мститель». Тяжёлая игрушка европейцев.
Грузный Мамедов странно затанцевал перед Голдингом, будто переливал своё тело из сосуда в сосуд. Руки его безостановочно двигались, заполняя всё пространство. Голдинг нанёс удар. Уклоняясь от выпада, Мамедов определил: англичанин тренировался в морских спортивных клубах и воспринимал своё оружие как кортик. А «кочи Хамзата» ножевому бою обучали беспощадные торговцы гашишем в Баку и подлые сутенёры в портовых притонах Батума.
Расшвыривая столы и стулья, Мамедов и Голдинг закружились по залу ресторана. Голдинг атаковал – напористо и хищно. Мамедов отступал, уходил от клинка, настраивая врага на ритм, и затем сбил его, вынуждая спутаться. Голдинг раскрылся и потерял защиту. Отведя пролетающий «Мститель», Мамедов пригнулся и несколько раз быстро ткнул Голдинга в живот и грудь.
Голдинг выронил нож и упал на колени, зажимая раны. Мамедов присел рядом, обхватил врага за плечи и приложил пешкабз к его яремной вене.
– Глушков – твоё дэло? – спросил он.
Инженер Иван Глушков, главный российский специалист по бурению нефтяных скважин, погиб в Ревеле полтора года назад. Погиб нелепо: зрелый и здравомыслящий человек, он просто угорел насмерть в своей комнате, будто пьяница в бане, когда ночью работал над чертежами. А чертежи исчезли.
– Да, – прохрипел Голдинг.
Глушков проектировал технологию небывало глубокого бурения. Такой не имелось ни у «Шелль», ни у «Стандарт ойль». Оборудование, что сейчас лежало в трюме баржи, инженеры «Бранобеля» изготовили в царицынских мастерских по идеям Глушкова – насколько, конечно, это было возможно без участия разработчика. Мамедов уже понял, что бумаги Глушкова похитителям так и не пригодились – видимо, те не сумели разобраться в эскизах и подсчётах Ивана Николаевича. Иначе «Шелль» не охотился бы теперь за нобелевской баржей – за готовым образцом оборудования по проекту Глушкова.
Тогда в Ревеле Мамедов опоздал всего на полдня – и проиграл. Нобели проиграли. А сегодня проиграли Джозеф Голдинг и «Шелль».
– Ыван Ныколаич хорошее дэло дэлал, а ты эму помешал, собака, – с сожалением сказал Мамедов и поцокал языком.
А потом перерезал Голдингу яремную вену.
15
Построенная как буксир, царственная «Межень» предназначалась для разъездов начальства и не могла тянуть баржи – не имела арок на корме и рамы с укреплённым гаком. Балтийцам с утра пришлось заняться машиной другого буксира, брошенного Стахеевым на зимовке. Лишь днём этот буксир взял первую баржу и, неспешно вращая колёсами, осторожно двинулся к узкому выходу из протоки.
Маркин и Ляля наблюдали за ним с кожуха «Межени».
Нефтекараван общества «Мазут», изловленный Стахеевым, состоял из трёх наливных барж старой конструкции – с острыми носами и пароходными обводами. Их называли «ножовками». Два матроса в рубке баржи с натугой поворачивали огромный двойной штурвал с цепной передачей.
…Голдинг рассчитал всё точно. С остывшим буксиром красные будут возиться долго; за это время солнце разогреет баржу, и сырая нефть начнёт дышать горючими газами – англичанин заранее заткнул тряпками и ветошью вентиляционные трубы под колпаками дефлекторов. Когда баржа пойдёт по главному изгибу фарватера, штурвальные переложат руль на максимум; плечо румпеля дёрнет за тросик, проложенный к нефтяному баку, и тросик приведёт в действие самодельный запал. Его искра воспламенит нефтяной газ, что скопится в цистерне. Баржа взорвётся и затонет, загородив путь из протоки.
Баржа взорвалась как бутылка шампанского, выбив крышку люка. Взрыв разворотил в трюме стенки коффердамов – предохранительных отсеков, и вслед за первой цистерной взорвались и вторая, и третья. Рубку смело с кормы, а мачта рухнула. Из вспоротых бортов на воду хлынула горящая нефть. Под полуденным солнцем огонь казался прозрачным, однако чёрно-смоляной тяжёлый дым завалил собою фарватер, словно сошёл клубящийся оползень.
– С-сука!.. – ошарашенно выдохнул Маркин.
У Ляли был вид человека, убедившегося в своей полной правоте.
– Вот теперь Стахеев заберёт свою мать, а оставшиеся баржи нам отсюда не вытащить, – холодно произнесла она. – Я сразу сказала тебе, Николь, что этого беляка надо топить без жалости. Но ведь ты со всеми договариваешься.
Маркина обдавало то жаром, то холодом. Он чувствовал себя даже не обманутым, а жестоко оскорблённым. Его оскорбил Стахеев, который ответил коварством, хотя он, комиссар Маркин, отпустил этого барчука по-людски. Оскорбляла Лялька, которая называла нежелание зверствовать слабостью. Да он и сам оскорблял себя, потому что в Лялькиных глазах выглядел не грозным военачальником, а жалким просителем. Таких бабы не любят и не уважают.
– Ты не боец революции, а купчик деревенский. И тебя объегорили.
– Да не долби в башку! – яростно рявкнул Маркин.
Он хлопнул за собой дверью рубки и решительно перекинул рукоять машинного телеграфа на сектор «полный вперёд».
– Поворачивай! – скомандовал он штурвальному. – Идём в Святой Ключ!
Десять вёрст вниз по течению «Межень» пролетела за полчаса. Колёса её вертелись так, что кожухи внутри забило пеной, будто в прачечной. Изображая разочарование, Ляля держалась в стороне от осатаневшего комиссара, но на самом деле впервые в жизни она побаивалась Маркина.
«Межень» приткнулась у стахеевской пристани. Маркин сразу спрыгнул на причал и, не оглядываясь, зло свистнул своим спутникам. За комиссаром пошли Волька Вишневский, Утёмин и два матроса. В душе у Маркина всё не утихал гнев. Шагая по пятнистой от солнца аллее к дачному терему, Маркин вытащил из кобуры наган и проверил патроны в барабане.
Пинком распахнув двойную дверь в гостиную, Маркин увидел молодого Стахеева – тот удивлённо поднялся с дивана с книгой в руках. Студенческая тужурка у него была расстёгнута на груди.
Вощёный паркет пылал от солнца.
– Этот, – сказал Волька Маркину.
– Я к тебе заместо трибунала!.. – Маркин поднял наган.
– В чём дело?… – не понял Стахеев.
Маркин выстрелил, и Стахеев пошатнулся, но устоял на ногах.
На грохот в гостиную ворвалась Ксения Алексеевна – растрёпанная, в домашнем платье, с лёгкой кружевной шалью на плечах.
– Нет! – отчаянно закричала она. – Нет, господа!..
Стахеев механически запахнул тужурку, скрывая кровавое пятно на груди – словно прятал от мамы рубашку, испачканную земляничным соком.
– Нет! – кричала Ксения Алексеевна, раскидывая руки и загораживая собой сына. – Он не виноват!..
Утёмин молча выстрелил ей в лоб. Красивое лицо Ксении Алексеевны странно исказилось в какой-то капризной гримасе. Стахеев подхватил мягко оседающую маму, и Маркин снова выстрелил в него, теперь тоже в лоб.
Стахеевы нелепо повалились у дивана, точно споткнулись друг о друга.
Маркин зачем-то назидательно потряс наганом, развернулся и вышел.
Через десять минут пятеро балтийцев уже были на борту «Межени».
Мерно работала машина, пароход ровно двигался по стрежню, и Маркин стоял в рубке возле штурвального. Только что они прикончили парня и бабу – а ничего в мире не изменилось. Не омрачилось синее небо, по-прежнему валил дым из трубы, над кормой метались чайки, увязавшиеся за судном.
Маркин думал: как всё это, оказывается, просто. Бах, бах, бах – и он уже не виноват в потере нефтекаравана. Команда ему подчиняется. Лялька сидит у себя в салоне и не высовывается. И грех не жжёт, не гложет душу – надо только не вспоминать, как убитые упали на пол. Он, Коля Маркин, сгубил себя? Он – злодей? А вот нет! Он такой же, как был. Он может любить, может дружить, и совесть у него никуда не делась – он хочет поступать правильно, по-доброму. В его жизни будто вынули палку из колеса: жизнь покатилась, как ей и должно.
Он ощущал себя освобождённым, ему было легко. Он спустился из рубки, миновал коридор и открыл дверь в салон. Лялька полулежала на оттоманке и что-то писала карандашом в маленькой книжке. Маркин присел рядом.
– До Нижнего, Лялька, нам дня три шуровать, – сказал он.
Ляля с таинственной улыбкой отложила книжку и карандаш.
Маркин бережно потрогал пальцем её налитые губы, затем придвинулся ближе, обнял и начал целовать. Ляля не возражала.
16
Нобелевская баржа угодила в ловушку, будто большая рыба в старицу. Казалось бы, чего проще: разгрузить посудину, протолкнуть её через мели на верхнем конце протоки и снова загрузить.
Но оборудование для буровой было громоздким и тяжёлым. Требовалось в двух местах на берегу соорудить два крана-оцепа, а между ними протянуть канатную самотаску. Для такой работы нужна была артель в полсотни человек. И дело заняло бы слишком много времени: на Арлане геолог Турберн уже не успел бы наладить бурение до конца сезона. Поэтому Мамедов искал другой способ освобождения баржи.
Лоцман Федя Панафидин по облупленным доскам вскарабкался на самую верхушку створного знака и долго изучал очертания фарватера. Вода, журча, бежала по песчаным гривам. В небе плыли редкие кучевые облака, их тени ползли через дремотные отмели, и река искрила пятнами. Мамедов и Горецкий ждали внизу, смотрели наверх и щурились. Федя осторожно спустился.
– Можно попробовать с двумя пароходами, – подытожил он. – Посадим их на дно, как я укажу, и соберём все струи воедино. Дня через три с божьей помощью река сама промоет ложбину. Тогда вытянем баржу без распаузки.
– Пароходы возмом у Стахэева, – сразу решил Мамедов.
«Русло» был пришвартован к чёрному остову развороченной взрывами нефтебаржи. Иззубренными листами обшивки нефтебаржа врезалась в дно, точно плуг. Разъятые трюмы ещё дымили, комья мазута качались на волнах.
– Снимай швартовы, – скомандовал матросам Горецкий.
«Русло», пыхтя, зашлёпал плицами к Святому Ключу.
– То, что ты задумал, называется водотеснением, – в рубке сообщил Феде Горецкий. – Устаревшая техника пробивания перекатов. Слышал о снарядах господина Клейбера? О гидродинамической теории профессора Тимонова?
Роману хотелось поддеть лоцмана. Ему всегда были крайне сомнительны эти славянофильские самородки, мастерившие прогресс из лыка и прутьев.
– О господине Клейбере все слышали, – ответил Федя. – Да и видели все, как его суда работают. А про другого господина ничего не знаю.
Профессор Тимонов вычислил законы движения водотоков. На их основе инженер Клейбер малым числом плавучих землеройных машин прокладывал глубокие фарватеры сквозь самые непролазные мели. Громыхающие агрегаты Клейбера обеспечили судоходство на всём огромном протяжении Волги.
– Но у вас-то нету землечерпалки, – добавил Федя.
Горецкий хмыкнул. Мальчишка огрызается!
– Вот объясни-ка мне, Панафидин… Река – это божья тайна?
– Конечно, – уважительно согласился лоцман.
– Ты говорил, что божью тайну отрицать нельзя. А разве Тимонов с Клейбером не отрицают её, когда сами течение реки исправляют?
Федя перекрестился на икону Николы Якорника, словно просил терпения.
– Тайна-то не в беге воды, Роман Андреич.
– А в чём? – не унимался Горецкий.
– Ну, не знаю…
Горецкий недовольно хмыкнул. Следует как-то упростить разговор.
– Федя, а бесы есть?
– Есть, – убеждённо кивнул Федя.
– Ты сам-то их видел?
– Навроде да. Козлоногие такие и тощие.
Штурвальный Бурмакин опасливо покосился на Федю.
Горецкий не ожидал подобного аргумента.
– Про бесов, значит, ты всё понял, а про божью тайну – ничего?
– Да почто её понимать-то? – не выдержал Федя. – Она ведь не паровая машина! Её чинить не надо! Коли понимаешь её, значит, отрицаешь!
Роман не успел расколупать хитроумное невежество молодого лоцмана – буксир приближался к пристани Святого Ключа.
С берега Мамедов и Горецкий знакомым уже путём направились к даче. Мамедов захватил Федю с собой – на тот случай, если им придётся объяснять Стахееву практически, зачем нужны два парохода и что с ними сделают.
У крыльца топтались крестьяне и дворня. Из дома доносился речитатив священника. В гостиной все окна были закрыты и задёрнуты шторами, зеркала завешаны тканью. Посреди зала на лавках вытянулись два гроба. Иннокентия одели в студенческий мундир, Ксения Алексеевна лежала в строгом платье. Поп ходил вокруг усопших с кадилом; пахло дымом ладана; горничные тихо плакали, садовники, повара и лакеи сжимали в руках горящие свечи.
Романа странно поразил вид мёртвой Ксении Алексеевны. В памяти, в ощущениях она была ещё слишком живой для него – обнажённая и нежная. Падала ветка шиповника у двери… И кудрявые волосы темнели на подушке… И вдруг эта невыносимая неподвижность, страшное изъятие сути женщины…
– Просто вошли и застрелили, – прошептала Роману горничная.
– Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи по тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго… – заунывно читал поп.
На обратном пути Мамедов не думал о Стахеевых. Что о них думать? Всё ясно. Красногвардейская барышня с «Межени» всё-таки согнула мягкотелого комиссара в бараний рог. Или же комиссар догадался, как ему прорваться в постель к своей возлюбленной. И Стахеевы погибли. Не они первые, не они последние. На Биби-Эйбате или в Сабунчах он, Хамзат Мамедов, не раз видел глинобитные армянские дома, заваленные телами женщин и детей. Причиной резни называли и веру, и нацию, и общественный класс, но Мамедов знал, что главная, предельная причина – нефть. Потому что нефть – это кровь.
Горецкий догнал Мамедова и с нервной усмешкой спросил:
– Как полагаете, есть в этом наша вина?
– Со своэй душевной организацьей разбырайтесь сами, – отсёк Мамедов.
Горецкий умолк. Безжалостная целеустремлённость Мамедова невольно вызвала в нём уважение. Но Ксению Алексеевну жалко.
А Федя Панафидин приотстал. Душа его изнемогала. Как любой лоцман на Каме, он водил суда Стахеевых и был знаком с хозяевами – и с барыней, и с молодым наследником. Речники относились к ним уважительно. Хорошие были господа – вежливые и не хапуги. И гибель их – вовсе не та божья тайна, о которой Федя говорил капитану. Их гибель – как удар дьявольского хвоста по цветам на лугу, только одуванчики летят. А ворота дьяволу из его загона отворили вот эти двое. Может, не со зла, но это они выпустили зверя на луг.
Низкое солнце навылет пронзало зелёную аллею красным светом заката. Мамедов и Горецкий отбрасывали длинные тени – длинные и козлоногие.
17
В трюмы двух товарно-пассажирских пароходов закачали воды, и суда легли на близкое дно у поворота в протоку – там, где определил Федя. Глубина была столь мала, что казалось, будто пароходы по-прежнему на плаву. Сжатое их тушами течение сразу ускорилось, промывая фарватер. Через два дня Федя прощупал его намёткой и сказал, что можно попробовать вытащить баржу.
«Русло» подобрался как можно ближе к началу протоки, удерживаясь на якорях-рыскачах. Баржу подцепили длинным тросом с оттяжками-клёвками. Горецкий встал за штурвал буксира, а Федя управлял рулём баржи. Буксир мощно заработал колёсами. Баржа заскрипела всем корпусом и медленно, как во сне, двинулась вперёд. Под днищем зашуршали зыбкие пески. Баржа тихо проползла мимо притопленных пароходов и очутилась на просторе плёса.
До цели оставалось сто пятьдесят вёрст, не больше.
Река Белая перед устьем расслаивалась на множество рукавов.
В одном из них и располагалась временная пристань экспедиции Турберна: причальные мостки, краны-оцепы, склады и сарай с локомобилем.
Баржу задвинули в небольшой залив. На борт буксира поднялся Фегреус Турберн – пожилой и сухопарый. На буровых вышках он загорел докрасна, а его белые норвежские усы пожелтели от русского табака-самосада. С геологом Турберном Мамедов был знаком уже много лет – с экспедиции на реку Эмбу в степях Туркестана, где «Бранобель» тоже завёл нефтедобычу.
Мамедов и Турберн крепко пожали друг другу руки.
– Какие у вас достыженья, дорогой? – спросил Мамедов.
– Биттер открывать ещё рано, – ответил Турберн, – однако мой скептицизм относительно воззрений господина Губкина изрядно пошатнулся.
Мамедов почувствовал себя польщённым, ведь это он с отрядом горцев сопровождал геолога Ивана Губкина по нобелевским промыслам и вообще по Апшерону – по его холмам с жёсткой травой, по солончакам и булькающим грязевым ямам. В тех путешествиях Губкин нашёл своё объяснение нефти, её появлению в недрах земли, а вечером у костра Мамедов с искренним интересом расспрашивал Губкина, потому что ценил беседы с инженерами и учёными.
– Я пэредам Эманьилу Людьвиговичу эту прыятную новост, – пообещал Мамедов. – Мы уходим в Пэрм, а оттуда я поэздом поеду в Пэтроград.
– Поклонитесь от меня Хансу Иоганну и Анне Луизе. Скажите, что их одичавший друг Фрегеус грозится превратить Пермь в Баку, и тогда скромная резиденция Викфорсов станет второй «Виллой Петролеа».
«Виллой Петролеа» в Баку назывался роскошный городок «Бранобеля».
Горецкий тоже внимательно слушал Турберна и смотрел по сторонам: тихая река, заводь, заросший тальником пойменный остров, крутой травяной бережок с хибарами и кранами-журавлями, сосновый бор. Стук дятла и голоса мастеровых, разгружающих баржу. Дымок работающего локомобиля. Вышки «Бранобеля» находились где-то далеко отсюда, в густых лесах. Трудно было поверить, что эти привычные русские пейзажи могут породить какое-то другое чувство, кроме вечной и безысходной печали земледельцев.
«Русло» заночевал у причала Турберна и отвалил уже утром.
А Федя Панафидин решил в этот день бежать с буксира. От устья Белой до его родной Николо-Берёзовки было совсем близко – пятьдесят пять вёрст. Когда «Русло» поравняется с селом, Федя быстро спустит лодку и угребёт. Он был уверен, что его не догонят, да и догонять не станут.
После Святого Ключа какая-то сила точно отодвинула Федю от Мамедова и Горецкого. Эти двое теперь пугали его. Их души оказались хищными, Федя не чуял в них божьего ограничения. Когда Мамедову потребовалось, он взял и скормил дьяволу несчастных Стахеевых, а Горецкий ему помог. Наверное, Мамедов не ожидал, что молодой Стахеев заминирует нефтебаржу и потом поплатится за это, но никакого раскаяния Федя в Мамедове не заметил. Оба они, Мамедов и Горецкий, даже не вспоминали убиенных.
Однажды на Нижегородской ярмарке Федя видел пожарный пароход. Красивый, яблочно-красный, с водяными пушками. А из носа у него торчал страшный кованый таран, чтобы топить горящие суда. Умом Федя понимал, что горящее судно может поджечь всю флотилию на рейде, и его надо пустить на дно, однако душой принять такое не мог никак. Нельзя топить пароходы. Нельзя убивать людей. А Мамедов с Горецким были как тот пожарный убивец.
Но планы Феди не сбылись. Вёрст за десять до Николо-Берёзовки в рубку явился Мамедов и аккуратно отцепил кивот с иконой от гвоздика.
– Подэржу у сэбя, – сказал он. – В Пэрми отдам, нэ пэрэживай, дорогой.
– Почто творите такое? – спросил Федя, наливаясь гневом и стыдом.
Он понял, что недалёкий с виду Мамедов легко разгадал и чувства его, и замыслы. А для лоцмана сбежать с полпути считалось позором.
– Мнэ, друг, по работе полагаэтся лудэй выдеть. А до Пэрми ещё ой много пэрекатов. Без лоцьмана нэльзя. А тебе, смотру, без йиконы ныкуда.
Федя отвернулся, глядя на простор реки. В глазах его набухли слёзы.
А Горецкий удивился проницательности Мамедова. Да, Мамедов – знаток своего дела… Выходит, юного лоцмана так впечатлила смерть Стахеевых, что мальчишка затеял дать дёру домой – прочь от бездушных людей на борту… Однако же он, Роман Горецкий, не был бездушным. Просто он думал о другом.
Гибель Ксении Алексеевны словно бы обозначила для него то, над чем не скорбят при посторонних, – крах любви. Он рвался в Пермь, рвался к Кате Якутовой, а мысли Кати, оказывается, были заняты другим мужчиной… И пускай между Катей и её спутником не было никаких отношений, эту связь невозможно оставить без внимания. Невозможно принять. Невозможно.
Избегая соблазна, Мамедов приказал вести «Русло» правой протокой, чтобы Краснокамский остров отгородил собою Николо-Берёзовку от буксира. За покосами острова проплыли крыши и тополя деревни, колокольня церкви. А выше створных указателей и водомерного поста на реке вдруг появился маленький паровой баркас. На его мачте трепыхался красный флажок. На корме толпились люди, вооружённые винтовками.
Баркас решительно сблизился с «Руслом». На палубу буксира перескочил паренёк в синей косоворотке и рабочей фуражке со звездой. С ремня у него свисала большая, как сапёрная лопатка, деревянная кобура маузера.
Мамедов и Горецкий по лесенке спустились с надстройки.
– Я сарапульский военком Седельников! – звонко представился паренёк, покраснев от смущения. – Ваня зовут. А вы кто такие?
– А мы – пароход компаньи «Бранобэл», – ответил Мамедов. – У нас буровые вишки под Арланом. Я – началник экспедицьи, а это вот капьитан.
Ваня Седельников прищурился с подозрением.
– Все пароходы национализированы! Никаких компаний больше нету!
Мамедов развёл руками: ну, нету – так нету…
– Ваш буксир приказом Рупвода я изымаю! – заявил Ваня и положил руку на кобуру маузера. – Имею полное революционное право!
Мамедов усмехнулся. Судно ему не требовалось. Его задача – вернуться к Нобелю. Можно уехать в Петроград не из Перми через Вятку, а из Сарапула через Казань и Москву. Не резать же этого юнца, не воевать с баркасом.
– Изымай, родной, – кивнул Мамедов. – Революцья – вопрос сэрьёзный.
Военком Ваня Седельников явно ободрился.
– А капитана и машиниста беру под арест! – добавил он.
– За что же это? – удивился Горецкий.
Ваня надвинул козырёк фуражки на глаза.
– Командный плавсостав мобилизуется в Казань для военной флотилии!
Горецкий посмотрел на Мамедова. Мамедов вздохнул:
– Поступай как угодно, Роман Андрэич. Дэло своё мы сдэлали.
Горецкий пожал плечами. Хорошо. В Пермь он уже не стремился. Кате Якутовой есть чем заняться, кроме бывшего жениха.
– Я тоже подчиняюсь, господин военком, – сказал Горецкий.
Мамедов ласково взял Седельникова за рукав.
– Слюшай, родной, – попросил он, – арэстуй и мэня! Я тоже в Казань хочу!
Часть третья
Воздать
01
– Товарищи китайцы! – с чувством произнёс Ганька.
Он вложил в обращение всю свою волю, чтобы словом прожечь скорлупу непонимания и проникнуть в разум этих чужих и загадочных людей.
– Я буду по-нашему товарищ Гавриил, фамилия моя Мясников, служу в Чрезвычайной комиссии по городу Перми.
Ганька внимательно оглядел публику. Товарищи китайцы аккуратными рядами неподвижно и бесстрастно сидели на скамьях среди станков токарного цеха. Никто не осмелился взгромоздиться задом на пустой верстак или на подоконник: дали скамейки – значит, на них и надо сидеть. Большие арочные окна с ячеистыми рамами рассыпали свет летнего вечера на квадраты.
– Среди народа я уже потёрся, – продолжил Ганька, – и скажу вам прямо, что революционная сознательность у нас не на высоте, а политическое зрение близорукое. Объясню наглядно в полном масштабе.
Ганька начал агитацию издалека – кто ж разберёт, что этим хунхузам известно о России и пролетариате, а что для них тёмный лес? На кожух, закрывающий колесо ременной трансмиссии, Ганька водрузил школьный глобус, реквизированный им из магазина наглядных пособий на Покровке.
В Россию китайцев завезли ещё до мировой войны как самую дешёвую трудовую силу. В Перми они работали крючниками на пристанях, таскали грузы на железной дороге, кидали уголь в кочегарках, подметали улицы, рыли канавы, сжигали мусор и пилили брёвна на лесопилках в затонах. За пять лет китайцы вполне освоили русский язык, да выглядели они словно обычные босяки: все в грязных парусиновых штанах и замасленных робах; на головах, обритых по-татарски, – картузы или широкополые шляпы от солнца.
– Карл Маркс учит, что по Европе бродит призрак коммунизма, – сообщил Ганька. – А коммунизм, скажу вам, товарищи китайцы, давно не призрак не только по Европе, но и по всему шару Земли. Извольте наблюдать сами…
Ганька вытащил из кармана пиджака обломок химического карандаша, послюнявил грифель и принялся рисовать на глобусе кривые круги:
– Вот Европа, вот наша Советская республика, а вот реки Волга и Кама!
Ганька поднял глобус в ладонях и показал направо и налево.
– Что мы имеем? – риторически спросил он. – Германия! – Ганька прижал глобус к груди и карандашом начертил на Германии крест. – Тут всё давно ясно, до революции рукой подать. А вот Франция. – Ганька пометил Францию другим крестом. – Тут Парижская коммуна была, значит, жив дух классовой борьбы. Антанта, считай, расколота!
Ганька старался нарисовать бодрую картину мира, однако дела у красных шли очень плохо. Самара и Уфа лежали под белочехами, а вчера в исполком доставили телеграмму, что подполковник Каппель захватил Казань. Ганька счёл это оскорблением. Жена Каппеля содержалась в заложницах у чекистов, но её хлыщ всё одно не унялся. Бабу нужно было кончить, вот только Малков, председатель Чека, не дозволял – надеялся, что Каппельша ещё потребуется.
А на город надвигался голод. Мешочников придушили, и кормить людей стало нечем. Чека принялась рассылать по окрестностям продовольственные отряды, которые выколачивали из крестьян провиант и при необходимости давили мятежи. Памятуя о злополучном расстреле Великого князя, Малков решил отправить Мясникова подальше от Перми и поручил ему сформировать свой продотряд. Ганьке негде было взять бойцов, но он придумал, что сделать: надо мобилизовать бесхозных китайцев. Китайцы – они послушные, к тому же чужаки, им русских крестьян не жалко. И Ганька созвал китайцев на митинг в бездействующем токарном цеху судомеханического завода «Старый бурлак».
– Империалисты окопались в Британии и Японии, но это всё острова, и оттуда не спрыгнешь, – увлечённо просвещал Ганька. – В Австралии всякий уголовный элемент. Нижняя Америка и Африка – дело тёмное, мы пока туда не суёмся. А в верхней Америке была война негритянских рабов за свободу. Ежели негры там перекроят войну на гражданскую, как мы у себя учинили, то будет мировая революция. К ней большевики и гнут свою программу.
Ганька сделал передышку, удивляясь своим открытиям на исчёрканном глобусе, и уверенно повернул к насущным вопросам:
– А теперь к нашим делам! Вот Китай, обвожу его чертой. Замечаете – он в аккурат между Волгой и Америкой. И потому понимайте, товарищи: вам буржуазную гидру бить всё едино где: либо у нас, либо в Америке, путь-то равный. Ловите мысль? Это и значит «пролетарии всех стран, соединяйтесь»! Так что призываю вас вступать в наш речной краснофлотский отряд!
Ганька удовлетворённо водрузил глобус обратно на кожух. Китайцы безмолвствовали. На станках блестели под солнцем винты и суппорты.
Речной отряд Ганька придумал не сам. Ещё до революции по заказу военного ведомства Мотовилихинский завод изготовил два десятка понтонов для наплавных мостов. На Мотовилихе работали мадьяры, бывшие пленные; они предложили оснастить понтоны бензиновыми моторами – получатся десантные суда. А таким судам нужны буксиры. Вот тогда Ганька и сообразил: из понтонов, буксиров и вспомогательных пароходов следует создать флотилию Чека. Флотилия – не продотряд на телегах; с десантами, пулемётами и пушками она соберёт столько хлеба, сколько нужно для целой армии. И Гавриил Мясников, командир флотилии, окажется героем гражданской войны.
Малкову, матросу-балтийцу, эта идея понравилась. Ганька тотчас взялся за дело. Он сразу подобрал два пригодных буксира. Один – «Медведь»: Чека уже использовала его для своих операций.
Другой – «Лёвшино». Этот буксир пытался удрать из Курьи вместе с «Фельдмаршалом Суворовым», значит, был в исправности, а капитана Ганька обломал так, что рыпаться тот не станет. Под плавбазу Ганька определил товарно-пассажирский пароход «Соликамск».
Буксиры перегнали к причалам завода «Старый бурлак», чтобы навесить броню и вообще переоборудовать под канонерки. Артиллерийские расчёты и пулемётные команды Ганька составил из мотовилихинских чекистов, а вот революционных мадьяр даже на роту десанта не хватило. Тогда Ганька и вспомнил о китайцах – и созвал их на митинг в токарном цеху.
– Я не понужаю вас, товарищи, – завершил он свою речь. – Думайте крепко. А шар нашей Земли я оставляю вам в матчасть. Долбите политграмоту.
От причалов донёсся гудок парохода.
02
С арестантской баржей на тросе «Русло» шёл из Сарапула в Галёво.
Старая хлебная баржа, деревянная и неуклюжая, не предназначалась для перевозки людей, но её набили пленными. На палубе возле большого люка сидели под рогожами караульные красноармейцы с пулемётом. С мутного неба сыпался мелкий дождь, всполохами налетал ветер. Баржу водило по реке, её тупое рыло обтекало пеной. Буксирный трос то натягивался, то провисал, окунаясь в тёмные волны, покрытые белыми разводьями. Буксировать капитан Дорофей Михайлов толком не умел, однако в сердцах орал на штурвального:
– Бурмакин, грабля колчерукая, держи твёрже!
Федя не утерпел и негромко сказал:
– К ветру по косой идите, Дорофей Петрович. Тогда баржа уравняет ход.
– Поучи меня ещё! – рявкнул Дорофей на Федю. – Вот он я!
– Если потеряем баржу, ответите перед трибуналом, – пригрозил военком Ваня Седельников. – Я уже шлёпнул одного такого, как вы.
– А я к твоему делу не просился! – огрызнулся Дорофей. – Я капитан пассажирский! Ты сам меня на борт приволок!
С капитанами в Сарапуле и правда было туго. И вообще с командным плавсоставом. Все разбежались и попрятались. Кого удалось выколупать – тех приказали отправить в Казань для Волжской военной флотилии.
– Вас революция мобилизовала, – серьёзно ответил Ваня.
С Дорофеем ему повезло. Дорофей Михайлов был родом из Орла.
На Каме вотчиной капитанов считались уездные сёла Орёл и Слудка – подобно Кадницам, Работкам и Золотому на Волге. Здесь стояли целые улицы из добротных капитанских домов с нижним кирпичным полуэтажом. На их крышах гордо громоздились большие, ярко раскрашенные макеты пароходов, которыми командовали хозяева. Феде такое казалось нескромным – родовые лоцманы не кичились достоинством и означали свои дома лишь спасательным кругом на фронтоне. Но честолюбивые капитаны жаждали славы.
В селе Орёл хозяйства братьев Михайловых располагались бок о бок. У Севастьяна Петровича, старшего брата, на крыше сидел буксир «Медведь». У Дорофея Петровича, младшего брата, с крыши срывалась в небо причудливая «Алабама» – судно «бразильской системы»: колесо за кормой, а пассажирская палуба с верандой поднята над товарной палубой будто на тонких ножках. «Бразильцев» по Волге запустил пароходчик Зевеке. Из-за двух высоких труб, стоящих перед рубкой в ряд, как козьи рога, эти пароходы речники прозвали «козами». Капитанство на «козе» было высшим взлётом Дорофея Михайлова.
– Революция твоя – обман! – отмахнул Седельникову Дорофей.
Штурвальный Бурмакин испуганно покосился на капитана.
– Думайте, что говорите, Дорофей Петрович, – предостерёг Федя.
Мальчишески румяное лицо военкома Вани посуровело.
– И кто же вас обманул, гражданин капитан?
Федя Панафидин знал безрассудный нрав Дорофея. Если бы не этот нрав, Дорофей Михайлов, капитан от бога, командовал бы не старыми «козами», а настоящими большими пароходами. Вряд ли «Фельдмаршалом Суворовым» или «Великой княжной Ольгой», но каким-нибудь «Графом» или «Боярином» уж точно. Однако Дорофей не умел подлаживаться и всегда отчаянно ругался с хозяевами судов. Как-то раз пьяный пароходчик вкатил с пристани на борт в пролётке с лошадьми, и Дорофей с матюгами выкатил его обратно.
А ещё Дорофей Михайлов полагал, что пассажиры – это безмозглое стадо. В попутном городе Дорофей мог загулять в гостях, и его судно понуро торчало на плёсе, ожидая капитана. Дорофей был азартным гонщиком, и случалось, что лайнер выталкивал его на мель: в буфете вся посуда билась вдребезги, а пассажиры улетали в реку. Говорили, что пароходчик Качков уволил Дорофея, когда узнал, что тот заставил несчастных пассажиров тащить судно через перекат на лямке. Дорофей был высокий, рукастый и кудлатый как цыган. Ему бы не капитанский китель носить, а малиновую рубаху и гармонь на перевязи.
– Вы, большевики, и обманули меня! – крикнул Седельникову Дорофей. – Обещали пароход по чести, и вот он я, а гли-ко ся, бегу в «золотой роте»!
«Золотой ротой» называли извозчиков, вывозивших бочки с нечистотами, а в Сарапуле такое прозвище присвоили речникам с «арестантских буксиров». Знаменитые сарапульские пароходчики Колчин и Курбатов ещё полвека назад заключили подряд на буксировку тюремных барж. О пароходстве Колчина и Курбатова нельзя было сказать ничего дурного: работники – в достатке, суда – в исправности, рейсы – точно в срок. Вся Волга уважала сарапульские «белошейки» – пароходы с белой полосой на трубе. И всё же водить буксиры с арестантскими баржами капитаны почитали делом бесславным и обидным. После него капитану не было пути наверх.
«Золотая рота» – это клеймо.
– Агитацию затеял? – разозлился военком Ваня. – При буржуях лучше было? Так баржа-то недалеко! Контрики у нас там сидят, а не здесь!
По стёклам рубки текла прозрачная дождевая вода. Река тихо дрожала в мороси. Дорофей яростно задвигал широкими плечами, будто ему сделалось тесно. Судьба опять тыкала его мордой в то, против чего он всегда бунтовал.
Со старшим братом Севастьяном дружества у него не сложилось, хоть оба и стали капитанами. Севастьяну хватало буксиров, а Дорофею – нет. Севастьян сам жил по правилам и от брата требовал того же. А Дорофею по правилам полагалась только «коза», не больше. И вдруг ахнула революция, отменившая все старые порядки. Дорофея это воодушевило. Но вместе с революцией появились большевики, которые завели новые правила. И по новым правилам Дорофей вёл не «Княжну Ольгу» или «Суворова», а баржу с арестантами.
– Кого партия прикажет возить, того и будешь, понял? – добавил Ваня.
Дорофей еле смолчал. Оглядев взбешённого капитана с головы до ног, Ваня поправил деревянную кобуру маузера и вышел из рубки под дождь.
– Сгубят вас ваши страсти-то, – примирительно сказал Дорофею Федя.
– Болото, а не стрежень! – прорычал Дорофей. – Большевики херовы!
Штурвальный Бурмакин вжал голову, словно хотел заткнуть уши.
– Вы лучше молитесь, Дорофей Петрович. – Федя перекрестился на икону Николы Якорника. – Как бог грехи простит, жизнь дале сама наладится.
– Да лопни ты поперёк себя, праведник проклятущий! – Дорофей натянул капитанскую фуражку на свою большую башку, и околыш заскрипел. – Грехи-то я отмолю, а уваженья людского у бога не выпросишь! И вот он я тут!
03
В Перми главным конкурентом Якутова было пароходство Любимовых. Любимовский судомеханический завод «Старый бурлак» стоял на Заимке неподалёку от железнодорожного моста. Большевики нашли здесь запасы стального проката, поэтому бронировать свои пароходы решили на Заимке.
Буксир «Лёвшино» заполз на салазки, и паровой лебёдкой его вытянули из воды на слип. К бортам прикрепили прочную обрешётку из брусьев и сняли с её секций лекала. В цеху по лекалам обрубили бронелисты, затем с помощью крана их навесили на борта парохода, выгнули кувалдами, как требовалось, и заклепали. «Лёвшино» получил броневой пояс от планширей до ватерлинии.
Надстройки бронировали уже на плаву. Иван Диодорович наблюдал, как его судно меняет облик, превращаясь в ржаво-серую упрощённую громадину, будто бы грубо вытесанную из камня; казалось, что «Лёвшино» замуровывают заживо. На корме спилили буксирные арки, а палубы на время сняли, чтобы усилить набор дополнительными балками под бимсы и карлингсы. Затем палубы положили обратно и соорудили поворотные круги для двух орудий – на корме и на носу. На кругах смонтировали лафеты и скошенные полубашни. Пулемётные барбеты установили перед рубкой и по бокам на кожухи колёс. Мирный буксир «Лёвшино» переродился в вооружённый бронепароход.
На причалы Заимки по вечерам стали приходить горожане, им хотелось поглазеть на «Лёвшино» и «Медведя» – страшенные клёпаные чудища: таких никогда не было ни на Каме, ни на Волге с Окой. Да и собственная команда разглядывала «Лёвшино» с удивлением и некоторой опаской.
– А пулять тоже будем мы? – спросил матрос Митька Ошмарин.
– Обяжут – и будем, – с потаённой злостью ответил боцман Панфёров.
Павлуха Челубеев возмущённо задёргался большим телом:
– Я же в будку с пушкой не влезу!..
– Господь помилует, – мягко сказала Дарья Отавина, новая буфетчица.
– Наше дело – ходовое, – успокоил всех старпом Зеров.
А Иван Диодорович ничего не говорил. В его душе иссякло ощущение правоты, которое является сутью капитана. Он не мог забыть тот день в затоне, когда глумливый чекист застрелил матроса Федьку, а потом вынудил отдать на расправу ещё и штурвального Гришку. Настоящий капитан не допустил бы такого – а он, Нерехтин, допустил. Но зло сотворилось легко и просто, будто бы ему заранее было приготовлено место под солнцем. Будто бы на буксире и не было капитана. Может, его действительно уже не было?…
Иван Диодорович вспоминал свою жизнь. Он ведь и вправду потерял всё. Сашка, сын, покончил с собой. Ефросинья, жена, умерла. Погиб Дмитрий Платоныч Якутов – самый надёжный друг. Большевистская власть запретила Нерехтину его главное дело и отняла пароход. Большевик пришёл и убил двух парней из его команды… Конечно, команда и словом не упрекнула капитана… так ведь, похоже, некого было упрекать. Капитан кончился. От былой полноты жизни у Ивана Диодоровича уцелела только белая капитанская фуражка.
Ганька явился принимать судно, хотя ничего не понимал ни в буксирах, ни в пушках. Капитану и команде он приказал сойти на пирс, а сам с комиссией от Чека обошёл барбеты и полубашни, заглянул в кубрик и в машинное отделение, проверил каюты в надстройке и поднялся в рубку. Команда угрюмо следила за чекистами, словно те проводили обыск. Среди машинистов и матросов стояла Катя Якутова. Она согласилась работать простой посудницей, и Нерехтин зачислил её в команду под начало буфетчицы Дарьи.
– Какого ляда они у нас шарются? – проворчал матрос Краснопёров.
Чекисты перебрались на причал.
– Ну что, довольны крейсером? – весело спросил команду Ганька.
Стальными и прямоугольными объёмами пароход громоздился у пирса как чужак. Вместо окон темнели смотровые прорези с крышками-козырьками.
– Ох ты, мать! – вдруг спохватился Ганька. – Название-то новое надо!
– Лёвшино – моя родная деревня, – глухо возразил Нерехтин.
Ганька похлопал его по плечу:
– В яму твою деревню, дядя. «Медведь» теперича «Карлом Марксом» стал, а твой пароход будет называться «Урицкий»!
Иван Диодорович промолчал. Что ж, всё потеряно – значит, всё. Катя смотрела на Нерехтина и не узнавала его. Почему дядя Ваня такой покорный?
Вечером Катя постучала в каюту Нерехтина. Иван Диодорович лежал в светлой темноте на койке, но не спал. Катя присела у него в ногах.
– Дядя Ваня, вы боитесь этого Мясникова? – прямо спросила она.
– И тебе надо бояться, – негромко отозвался Нерехтин.
– А я вот не боюсь, – просто сказала Катя.
Даже сквозь полумрак Иван Диодорович увидел в Кате Якутовой то же самое, что увидел в сыне Сашке в последнюю встречу: юношескую тонкость лица и непримиримую чистоту. Сашке тогда было столько же лет, сколько теперь Кате. Он учился на кораблестроительном факультете Петербургского политехнического института. Едва началась война с Германией, он записался добровольцем.
Его направили на фронт в штаб генерала Самсонова.
В августе 1914 года в Восточной Пруссии огромная армия Самсонова угодила в ловушку и была растерзана немцами. Поражение потрясло генерала и сломало его дух. С офицерами штаба генерал выходил из окружения пешком по лесам. В одну из ночей, выбрав момент, Самсонов тихо удалился в чащу. Сопровождал его лишь адъютант Александр Нерехтин. Генерал вытащил из кобуры револьвер и выстрелил себе в сердце. Но адъютант не мог бросить своего командира даже за чертой смерти и тоже взвёл курок. Тела погибших так и остались лежать в траве под шумящими мазурскими вётлами.
Сейчас, в августе 1918 года, капитан Нерехтин прекрасно понимал генерала Самсонова. Но Сашку не понимал. Если честь выше вины – значит, это гордыня. Честь восстанавливает порядок жизни, пускай и через боль, а гордыня разрушает. И Саша, единственный сын, убил не только себя – убил и свою мать. Душа Ивана Диодоровича истекала слезами от жалости и нежности к Сашке – и куда-то бессмысленно рвалась в тёмном гневе на него.
В 1915 году вдова генерала Самсонова отыскала в Пруссии могилу мужа: погибших русских офицеров похоронил местный мельник. Тело генерала перевезли в Россию, в родовое имение Самсоновых. А Саша Нерехтин остался в Пруссии. Вдова взяла только горсть земли с его холмика. В январе 1916 года в Пермь на квартиру Нерехтиных курьер доставил от вдовы шкатулку с этой землёй.
В январе 1918 года Иван Диодорович высыпал её в могилу жены.
Иван Диодорович смотрел на Катю и в полумраке каюты словно бы видел рядом с ней своего Сашу – как жениха рядом с невестой. Отчего оно – Катино бесстрашие перед чекистами? От юношеской пылкости? Или от гордыни?
– Послушай, Катюша… – медленно сказал Нерехтин. – Твой батюшка был слишком смелый. Мой сын – слишком честный. А моя жена слишком сильно любила. Поэтому они умерли.
– К чему вы о них заговорили, дядя Ваня? – удивилась Катя.
– Я поумней тебя, Катюша. И я тебя узнал. В тебе – все три перебора.
04
Красноармейцы выволокли из трюма баржи первых попавшихся узников – какого-то парня и господина в истрёпанной тужурке, наверное земского учителя. Их поставили на краю палубы. Парень нелепо улыбался: дескать, это ведь шутка, я понимаю, ладно уж, потешу вас… Учитель что-то возмущённо выговаривал. Бойцы вскинули винтовки. Залп. Учитель полетел в воду, а парень, корчась, упал на доски. Один из красноармейцев подбежал и ткнул его штыком.
Парень выгнулся. Красноармеец ногой столкнул убитого с борта.
Караульные арестантской баржи затеяли расстрелы не просто так. Увидев на «Русле» военкома Седельникова, они захотели показать, что не даром едят свой хлеб. А Ване было не до баржи. Из Сарапула на буксире он привёз отряд для обороны Галёво. Восставшие на Ижевском заводе солдаты перебили у себя большевиков и могли атаковать Воткинский завод – значит, и Галёво тоже.
Воткинский завод находился в восемнадцати верстах от Галёво; железная дорога подбиралась с юга и перед селением ныряла в распадок, спускаясь на узкую бровку берега. Миновав клёпаные башни резервуаров товарищества «Мазут», она пробегала вдоль пристаней и заканчивалась на судомастерских. Воткинский завод изготовлял мостовые фермы, орудийные лафеты и рельсы; в Галёво их перегружали на баржи. А ещё на верфи заводского пруда строили корпуса пароходов. Их пустыми осторожно сплавляли по мелким речкам от завода до Камы, затем подтягивали к пирсам галёвских судомастерских и там уже оснащали машинами – доводили до готовности. В затончике под хмурым еловым крутояром стояли три буксира и новенькое пассажирское судно.
«Русло» пришвартовался у небольшого дебаркадера, а тюремная баржа находилась чуть поодаль, на рейде, зачаленная посреди реки двумя якорями. Когда Седельников, разместив бойцов по домам, вернулся на буксир, на барже засуетились караульные. Сам военком, капитан Дорофей Михайлов, лоцман Федя Панафидин и команда «Русла» с кормы наблюдали за казнью на барже.
– Боже святый… – крестясь, в ужасе прошептал Федя. – Вань, зачем это?…
Ваня не знал зачем. Он тоже был неприятно взволнован.
– Революционная необходимость, – ответил он.
– Зверюги, да и всё, – зло сказал Дорофей.
Изначально в эту баржу загнали крестьян из села Топорнино на реке Белой. Село забунтовало месяц назад – в начале июля. Мужики отметелили местных большевиков и застрелили уездного комиссара. И вскоре из Уфы прибыл буксир «Зюйд»; рубка его была блиндирована плахами, а на палубах выложены стрелковые гнёзда из мешков с песком. «Зюйд» окатил село из пулемётов. Бунтовщики попрятались. Красноармейцы разгромили волостное правление и почту, разграбили потребительскую лавку и скопом арестовали всех мужиков, кто побогаче. Их и посадили в баржу. Баржу отбуксировали в Сарапул, потому что Уфу в это время уже заняли белочехи.
В Сарапуле в баржу отправляли тех, кого хватали уездные чекисты. Баржа превратилась в ад. Из её трюма доносились вопли сошедших с ума. Охрана по своему почину принялась понемногу расстреливать узников, но всё равно их оставалось слишком много. Военком Ваня приказал выдать охране ручные бомбы: если что случится – кидать их прямо в трюм, в толпу. А Сарапул тихо закипал гневом. Баржа чернела на реке у всех на виду, словно огромный гроб. Вот тогда Ваня и решил убрать посудину подальше от города – в Галёво.
Караульные на барже, не удовлетворившись, выволокли из трюма ещё двух пленников. Однако у люка что-то произошло, и один из обречённых – растрёпанный щуплый мужичонка – исхитрился вывернуться. Он отчаянно растолкал красноармейцев, метнулся к борту и очертя голову сиганул в воду. Бойцы, матерясь, клацали затворами винтовок. Мужичонка вынырнул и дикими сажёнками погрёб прочь от страшной баржи. Караульные с палубы вразнобой принялись палить. Вокруг мужичонки заплясали белые всплески. Мужичонка бешено махал руками. Он плыл напрямик к «Руслу».
На корме «Русла» матросы затаили дыхание. Не сговариваясь, по природе человеческой они переживали за беглеца, а не за стрелков. Мужичонка был уже совсем близко. Боцман Корепанов и штурвальный Бурмакин распахнули дверку в фальшборте и вылезли на обносный брус. Они присели, держась за фальшборт, потянулись к плывущему и единым рывком выдернули его на борт. Задыхаясь, мужичонка рухнул на колени. Вода текла с него ручьями.
– Спаси вас господи, братцы!.. – скулил он. – Спаси вас господи!..
Ваня Седельников властно раздвинул толпу матросов. Как военком, он не мог допустить потворства побегу. В руке у Вани был маузер – большой и прямоугольный, словно чугунная печная дверца.
Мужичонка звериным чутьём уловил угрозу и вытаращился на Ваню.
– Товарищ дорогой, не убивай! – взвыл он. – За что, боже правый? Ни в чём я не виноват!.. Святым спасителем!.. Двенадцатью апостолами!..
– Бежал – значит, враг! – упрямо ответил Ваня.
Матросы возмущённо загомонили. Мужичонка, стуча коленями, пополз к Ване сквозь толпу. Глаза его взывали как с древней иконы, страдальческое лицо обросло чёрной щетиной, длинные мокрые волосы облепили лысинку, на узких плечах висел обратившийся в лохмотья сюртук.
Федя попытался взять Седельникова за локоть, но Ваня сбросил его руку.
– Я не мешочник, не бунтовщик!.. Отмолю вину!.. Возьмите в работники, в матросы!.. Всю палубу языком вылизывать буду!..
– А я же его помню! – вдруг сказал капитан Дорофей. – Я сам ему рыло расквасил, когда «Козьмой Каменским» командовал. Шулер он пароходный.
– Шулер я! – заплакал мужичонка. – Грешен!.. Дак не до смерти же!..
Бедой пароходов были шулера. Они покупали билеты в первый класс; выдавая себя за коммерческих агентов или присяжных поверенных, заводили знакомства с богатыми пассажирами, а потом в салоне обыгрывали их в карты – и сразу исчезали на ближайшей пристани. Шулера скакали по пароходам всю навигацию. На судах «Кавказа и Меркурия» они орудовали целыми шайками.
Ваня Седельников растерялся.
– Семейство у меня в Чистополе… – плакал мужичонка. – Деток надо кормить… И в Сызрани семейство… Яков Перчаткин я, меня там все знают…
Ваня глядел на жалкого шулера с брезгливостью. Угораздило же этого олуха попасть на «баржу смерти» к контрреволюционерам!
– Христом богом, Ваня, помилуй, – тихо попросил Федя Панафидин.
– Ванька, не лютуй, – добавил и Дорофей. – Отдай мне его в матросы.
– Мы из него дурь-то вытрясем, – сказал кто-то из команды.
– Не подведу! – горячо обещал Перчаткин, пытаясь поймать и облобызать руку Седельникова. – Всей силой воинства святого клянусь!..
Ваня посмотрел на матросов. Конечно, мошенника Перчаткина следовало шлёпнуть, но Ваня опасался речников – даже не из-за бунта, а из-за мёртвого отчуждения. Оно означало бы, что военком Седельников для них никто, а Ваня этого боялся больше, чем непокорства. И он с досадой отвернулся.
– Да забирайте! – буркнул он.
05
– Порядок, значит, у вас будет такой, – громко вещал Мясников. – Когда плывёте – это боевое дежурство. При нём у каждой пушки пребывается расчёт по четыре бойца, и по два у пулемётов. Харчи для них – с вашей поварни. На ночь бойцы уходят на плавбазу, а здесь всё охраняет караул.
Ганька стоял на крыше надстройки будто на трибуне. За ним с ноги на ногу переминались бойцы-чекисты; недавние рабочие Мотовилихи, в чужой и непривычной обстановке судна они чувствовали себя незваными гостями. А команда «Лёвшина» толпилась на корме вокруг орудийной полубашни.
– Дело серьёзное, ребята, не зевайте, – негромко сказал речникам Серёга Зеров, старпом. – Надо знать, как нам с ними уживаться.
– Все вместе вы отряд! – выкрикивал Ганька, сжимая кулак. – Дисциплина военная! Главный у вас – командир, а не капитан! Вот он – Жужгов Николай!
Ганька вытолкнул на край крыши угрюмого черноусого мужика. Речники ожидали от него каких-то слов, но Жужгов молчал с каменным лицом.
– Меньше брехни, больше работы! – нашёлся Ганька, отодвигая тупого приятеля в сторону. – Объявляю отправление флотилии! Идём до Оханска!
Ганька желал устроить торжественные проводы у какой-нибудь большой пристани Перми – любимовской, якутовской или «меркурьевской», и чтобы оркестр сыграл «Интернационал», но Малков не разрешил. Не до музыки пока: на Ижевском заводе рабочий класс попёр с винтовками на свою же советскую власть, а в деревнях зашевелилась кулацкая контра. Нечего праздновать. И флотилия отвалила от товарных причалов Заимки без шума и почестей.
«Лёвшино» и «Медведь» – для себя Нерехтин называл суда их прежними именами – буксировали по четыре военно-сапёрных понтона; пассажирский пароход «Соликамск», плавбаза флотилии, пришвартовал к бортам ещё пару штук. Понтоны были оснащены японскими бензиновыми моторами. Ганька, командир флотилии, занял апартаменты первого класса на «Соликамске».
В рубке, закрытой стальными листами, теперь царил сумрак, и Нерехтин вышел наружу, к барбету с «льюисом» на треноге. Ветром на рубку набросило мазутный дым, и Нерехтин подумал, что суда его молодости ходили на дровах, и дым был мягкий и хлебный, как из деревенской печки. Но смоляное удушье быстро рассеялось, и вернулся тонкий запах речной воды. Иван Диодорович знал, что этот воздух, это мерное движение в пространстве, шум гребных колёс и подрагиванье судна лечат любую боль, как всемогущий бабушкин заговор.
Ночные дожди остудили небосвод, смыв с него красный оттенок жары, и синева над Камой была свежая и блескучая, словно заплаканный взгляд. Белые облака в утробах пропитались холодной серой влагой, но её не хватало, чтобы пролиться. Солнце августа, окутанное невесомой дымкой, уже не жгло.
«Медведь» шёл немного поодаль, и Нерехтин, разглядывая его очертания, удивился: оказывается, в грубой броне пароход сохранял ясную красоту своих линий. Наверное, Севастьян Михайлов, капитан «Медведя», тоже смотрел на судно напарника – Нерехтин видел Севастьяна, стоящего с биноклем у гнутого раструба дефлекторной трубы. Вспенивая волны, «Медведь» деловито шлёпал плицами вдоль крутого берега с фигурными теремками купеческих дач.
Жужгову тоже не хотелось торчать в полутёмной рубке. Зная, что удобств на буксире не будет, он заранее захватил с собой лёгкое камышовое кресло с прогулочной галереи «Соликамска». Рассевшись на крыше надстройки, будто отдыхающий в круизе, он покосился на Ивана Диодоровича:
– Капитан, выпить у тебя есть?
– Водка, – недовольно ответил Нерехтин.
– Прикажи.
В это время из камбуза вышла Дарья Отавина, буфетчица, и выплеснула за борт ведро кухонных ополосков.
– Дарья, – окликнул её Нерехтин, – принеси наверх четверть и стакан.
Никакого буфета на «Лёвшине» не имелось, однако на всех речных судах поваров называли буфетчиками. Буксирные буфетчики не только готовили, но и сами закупали продукты, поэтому на камбуз брали честных и трезвенных – чаще всего баб. Дарья была женой такого же капитана, как Иван Диодорович; она всегда работала при муже боцманом, но два года назад овдовела и теперь еле сводила концы с концами. Её пожалел добросердечный Серёга Зеров, сосед по улице на Разгуляе, и попросил Нерехтина помочь. Нерехтин помог.
Водку принесла Катя Якутова. Иван Диодорович помрачнел. Не дело для дочери знаменитого пароходчика подносить водку всякому отребью.
– Примешь со мной, капитан? – спросил Жужгов.
– На вахте не принимаю.
Жужгов хмыкнул в чёрные усы.
А Катю на палубе остановил молодой боец, румяный и растрёпанный.
– Катерина Дмитриевна? – волнуясь, спросил он. – Вот радость-то!.. Я Сенька, Сенька Рябухин! Помните меня?
Катя прищурилась – и вспомнила. Этот парень был охранником в тюрьме и отдал Дмитрию Платоновичу револьвер, а потом прибежал к Кате каяться.
– Что вы хотите? – нахмурилась Катя.
– Ничего! – горячо заверил Сенька. – Я тут при антилерии состою! Ежели вам какое дело надо, я завсегда к услуге! О батюшке вашем крепко сожалею!
Катя смерила этого дурня взглядом.
– Семён, вы в бога верите?
– Истинный крест! – Сенька вытащил из ворота крестик и поцеловал.
– А в советскую власть?
– Наша эта власть, народная!
– А я не верю ни в бога, ни в коммунизм. Не приставайте ко мне.
Катя направилась к двери в камбуз.
– Я завсегда!.. – вслед ей крикнул ничего не понявший Сенька. – Я здеся!
В тёмном, горячем и душном камбузе Дарья чистила едкий лук и утирала слёзы рукой с ножом. В крупнотелой и красивой Дарье Петровне была тягучая бабья томность. Кате нравилась начальница, добрая и спокойная. При ней не обидно было выполнять грязную работу посудницы – мыть тарелки и столы, таскать воду из-за борта, отбивать и выполаскивать матросское бельё.
– Катюша, снеси воду машинистам, – попросила Дарья. – У них там совсем пекло, всегда питьё нужно. Я настойку на бруснике сделала.
Катя с кувшином осторожно спустилась в трюм. Низкое помещение еле освещали коптилки. Всё здесь было сложное и железное: двигающая рычагами громада машины, клёпаная туша котла, трубы, рёбра, вентили, циферблаты. Зной. Лязг, шипенье, утробное клокотанье огня в топке. Густо пахло нефтью. Осип Саныч Прокофьев, старший машинист, сидел на скамеечке под огоньком лампы и читал замасленную газету, придерживая очки. Лысина его блестела.
Осип Саныч принял у Кати кувшин и сказал с осуждением:
– Дарья сюда пускай матросов шлёт. Не надо барышне к нам соваться.
– Не беспокойтесь за меня, Осип Саныч, – улыбнулась Катя.
Она украдкой посмотрела в проход вдоль борта. Там из непонятной тьмы вылепился человек в мокрой рубахе, что-то подправил и подкрутил на щитке управления и оглянулся на Катю. Это был Великий князь Михаил Романов.
06
– Кто тебе фонарь-то подарил? – Дорофей поцеловал Стешу в подбитый глаз. – Приставал, что ли, кто? Скажи мне, я за тебя любому зубы подровняю.
– Я уже сама подровняла, – весело ответила Стеша.
Она была нрава лёгкого и боевого, поэтому в защите не нуждалась.
Дорофей и Стеша лежали голые в дремотной траве заброшенного покоса. Покос располагался на краю прибрежной горы. С высоты была видна огромная плоская излучина Камы; ночью Кама казалась тускло-синей, словно глубокий сон. Внизу вдоль реки цепочкой вытянулись мерцающие огни – мастерские, вокзал, суда у пристаней. Стеша работала матросом на буксире «Звенига». На речных пароходах вообще работало немало баб, и не только на камбузах. Порой капитаны буксиров назначали своих супружниц боцманами, а мелкие судохозяева, оберегая груз, определяли жён шкиперами на баржи.
Небо над покосом, заполненное дымно-звёздными клубами тьмы, плавно и невесомо шевелилось. Дальний дикий берег заволакивало бледным зыбким туманом, сквозь который прорастали мохнатые гривы ельников на холмах.
– Звёздочки мигают – будто ребятишки играются, – сказала Стеша. – А падает звезда – будто от мамки убежала. Мы с тятей на плотах звёзды считали. Сидим на порожке избы, тятя меня обнимет, а плот широко так идёт и тихо…
В лесных гаванях не только составляли плоты, но и рубили деревянные дома на продажу; длиннющие плоты плыли сразу с избами, в которых жили плотогоны. Стешин отец, плотогон и горький пьяница, погиб на работе: во хмелю свалился в воду и не выбрался. И Стеша пошла на Нижегородскую ярмарку в арфистки. Арфистками называли проституток при дорогих кабаках и ресторациях; поскольку жандармы хватали и высылали публичных девок, чтобы те не обворовывали купцов, кутивших до бесчувствия, владельцы заведений выдавали своих работниц за музыканток. Девок учили бренчать на арфах и петь что-нибудь душещипательное. Спела – и в нумер.
Дорофей сорвал травинку и пощекотал Стеше нос. Стеша чихнула.
– Щас как дам в лоб! – сердито сказала она.
– Потешно чишешь, – улыбаясь, ответил Дорофей.
– Я тебе не кошка!
– Переходи ко мне на «Русло» буфетчицей, – предложил Дорофей.
– Не-а, – помотала головой Стеша.
– Из-за Севастьяна? – помрачнел Дорофей.
– Он мне денег даёт, – просто объяснила Стеша, – а при тебе лишит.
Заветной мечтой всех арфисток было найти «папашу» – состоятельного клиента, который возьмёт в полюбовницы и выделит содержание. Пусть и небольшое, но достаточное, чтобы уйти на приличную работу. Стеше повезло: на каком-то биржевом банкете она встретила капитана Севастьяна Михайлова, старшего брата Дорофея. И добропорядочный Севастьян, не знавший никаких баб, кроме жены, потерял голову от арфистки. Он сам уговорил девицу оказать ему милость и принять в «папаши», и за пять лет ни разу не просрочил платёж.
Хотя и не осмелился позвать на свой пароход – боялся огласки.
– Ну как Севастьяна угораздило с тобой связаться? – спросил Дорофей с досадой и болью. – Ему же якорь на ногу урони – он матом не сругнётся!
– А я-то грешница, – засмеялась Стеша. – Мой ангел – его чёрт.
Она повернулась на бок и оперлась локтем, глядя на Дорофея. Дорофей с благоговением провёл ладонью по её крутому бедру. Рыжеватая и белокожая, Стеша словно светилась в темноте. Получив что желал, Дорофей всё равно не мог избавиться от телесного влечения к этой бабе. Стешино непокорство судьбе и спокойное согласие с греховностью жизни томило Дорофея жаждой обладать Стешей всецело, ведь он привык быть капитаном и хозяином.
– Может, мне дом у Севастьяна спалить?
– Зачем, дурачина?
– У погорельца денег на тебя не будет.
– Для меня он вывернется, да отыщет.
– Стешка, горе моё, ну брось ты Севастьяна! – страдальчески взмолился Дорофей. – Севастьян уже кончился! Якутова, пароходчика его, убили, а все деньги большевики скоро отменят! На кой ляд тебе Севастьян? Вот он я!
– У большевиков кишка тонка деньги отменить, – усмехнулась Стеша.
Она не была корыстной. Ещё в арфистках она родила, и сынишка теперь жил у знакомой бабки в Кунавинской слободе возле Нижнего. В навигациях Стеша зарабатывала деньги для сына. Дорофей это знал и всё понимал.
– От тебя-то, мой милый, ни рубля не дождаться, – мягко сказала Стеша.
Дорофей тяжело вздохнул: всё правда. Ни о чём не заботясь, он пропивал и прогуливал жалованье, а оставшиеся крохи потом покаянно уносил домой. Как и брат Севастьян, он тоже был женат, и у него тоже было трое детей.
Где-то в глубине тёмного леса вдруг протяжно завыл волк. Этот тонкий и тоскливый вой будто бы выявил какой-то другой мир, в котором нет радости, нет любимой бабы, нет борьбы, а есть одно лишь сожаление о несбывшемся.
– Стешка, а ежели я всё переменяю? – испытующе спросил Дорофей.
– Что переменяешь?
– Революции на старое наплевать. Теперь всё сделалось можно.
Я уйду от Прасковьи, от детей уйду и по новой на тебе женюсь.
Стеша придвинулась к нему и погладила по лицу.
– А совести-то хватит?
Дорофей яростно поскрёб пятернёй кудлатую голову.
– Не хватит – дак сопьюсь, – честно ответил он.
Стеша звонко и свободно захохотала, груди её закачались. Волк в глубине леса, наверно, услышал человеческий голос и не посмел опять завыть.
…Они спустились с горы в Галёво уже перед рассветом. Дорофей довёл Стешу до судомастерских, где у причальной стенки стоял буксир «Звенига», поцеловал, потискав Стешин круглый зад, и отправился на свой пароход.
Ещё с берега он заметил, что в рубке горит лампа вахтенного. Спать не хотелось, и Дорофей пошагал наверх. Вахту нёс лоцман Федя Панафидин. Он притащил в рубку табурет и дремал под иконой Николы Якорника.
– Ты чего тут торчишь? – удивился Дорофей. – Лоцманам на стоянках вахты не положены. Где Бурмакин, пёсий сын?
– Он меня упросил за него помучиться. – Федя зевнул и перекрестил рот. – Никуда ведь завтра не идём. Я высплюсь ещё, а у него работа.
Дорофей замер перед Федей во весь рост и, забыв о хитром Бурмакине, смотрел на тёмный лик Николы Якорника, словно видел в первый раз.
– Слушай, лоцман, а правда, что твой образ может пароход остановить?
– Правда, – подтвердил Федя.
Думая о своём, Дорофей поглядел Феде в глаза:
– А человека может?
07
Последние тусклые отсветы заката сделали простое лицо князя Михаила странно значительным, будто из бронзы. Катя подумала, что в людей вроде Великого князя история вселяется сама – властно и против их желания. И от таких людей требуются стойкость и жертвенность, иначе они существуют зря.
– Он забрал меня из гостиницы, и мы два часа ехали рядом в фаэтоне, – вспоминал Михаил. – Он не может не узнать меня, Екатерина Дмитриевна.
– Но вы изменились, – заметила Катя.
Михаил и вправду изменился: похудел, отпустил усы и ладную бородку разночинца. Волосы его совсем поредели. В глазах и в чертах затаилась какая-то горечь. На вид Михаилу можно было дать не его сорок лет, а все пятьдесят.
– Он меня убивал. Я бы не забыл человека, которого расстреливал.
«Лёвшино» и «Медведь» стояли на якорях поодаль от низкого берега, а «Соликамск» пришвартовался к дебаркадеру Оханской пристани. На жёлтой полосе вечернего зарева темнели силуэты кряжистой колокольни и купола. Катя и Михаил сидели на цепном ящике у кормовой лебёдки. Из открытого короба орудийной полубашни торчали ноги караульного и доносился его храп. Другой караульный – Сенька Рябухин – застыл с удочкой на колёсном кожухе.
– Вы можете бежать с нашего судна, – сказала Катя.
Михаил печально покачал головой:
– Не лучшее решение. Я ведь не умею жить в России. В Петербурге или в Москве я бы не пропал, и даже в Перми бы как-нибудь устроился… Но не в селе Оханском. И не в гражданскую войну – без денег и документов.
Катя почувствовала облегчение. Она не желала, чтобы Великий князь исчез из её судьбы. Но за это облегчение Кате стало немного стыдно.
В убогом лазарете при затоне Катя выходила Михаила Александровича и поставила на ноги. Зачем?… Она не смогла бы объяснить. Не только из-за отца, который предпочёл умереть, но не выдать невинного человека чекистам. И, конечно, не из-за девочек в «Шерборн скул гёлс», которые восхищались романтическим романом русского аристократа. Там, в закрытой британской школе, девочки были как бы не при жизни. И жизнь мамы в Каннах тоже была насквозь фальшивой и выморочной. Подлинной жизнью с борьбой и победами жил только Дмитрий Платонович. Спасение Великого князя стало для Кати его прощальным подарком, потому что это дело тоже было настоящим.
Катя почти не вспоминала Романа Горецкого. Даже не верилось, что он существует. Роман ушёл в прошлое вместе с той Катей, которая училась в «Шерборн скул» и восхищалась отцом безответно. Прежней Кати больше нет – значит, нет и Романа Андреевича. Есть Катя, которая потеряла отца, спасла Великого князя и теперь плывёт по гражданской войне на бронепароходе.
– Впрочем, Екатерина Дмитриевна, мои личные затруднения – не главная причина для отказа от бегства, – рассуждал Михаил. – Чекисты обнаружат моё исчезновение. Допросят команду. И тогда капитана Нерехтина и вас покарают за пособничество врагу революции. А кара у большевиков одна – пуля.
– Команда не подозревает, кто вы, – возразила Катя.
– Достаточно того, что меня принимают за беглого офицера.
Катя упустила возможность уехать на «Суворове», однако по-прежнему желала перебраться в Сарапул к тёте Ксении Стахеевой. Иван Диодорович предлагал Кате остаться в Перми и поселиться в его пустой квартире: он имел неплохое жильё в добротном полукаменном доме возле трамвайного депо на Разгуляе. Катя отказалась. Что ей делать в Перми одной? А бронефлотилия Чека отправлялась потрошить хлебные амбары Сайгатки, Николо-Берёзовки и Мензелинска – и Сарапула тоже. Скрепя сердце Нерехтин согласился взять Катю на буксир; буфетчица Дарья как раз попросила у капитана себе в помощь посудницу, и Катя настояла, чтобы капитан позволил ей работать на камбузе. Вот так Катя и заняла вторую койку в маленькой каютке тёти Даши.
– Неладно я чту память твоего батюшки, – проворчал Нерехтин.
– Папа меня тоже не баловал, – улыбнулась Катя.
Конечно, это она уговорила дядю Ваню забрать Великого князя на свой пароход. Катя не хотела бросать Михаила в Перми: а вдруг здесь кто-нибудь опознает его? К тому же из Сарапула до белых было ближе. Нерехтин же, выручая Михаила, понимал всю меру опасности. За спасение князя Дмитрий Платонович заплатил жизнью. Но Нерехтин был безразличен к себе – считал, что терять ему нечего. И строгой девочке Кате Якутовой он почему-то не мог сказать «нет».
Видимо, покорившись ей один раз, он покорился насовсем.
– Это родственник Дмитрия Платоныча, – пояснил Нерехтин про князя старшему машинисту Прокофьеву. – Застрял у нас. Пристрой к делу.
– Вы офицер? – посмотрев на Михаила, сразу догадался Осип Саныч.
– Военный инженер, – спокойно ответил Михаил. – Заведовал батальоном бронеавтомобилей. Умею обслуживать моторы на бензине и газолине.
Князь Михаил действительно любил и знал авто.
– Паровой агрегат – другой коленкор, – с важностью мастера произнёс Прокофьев. – Дам вам «Атлас» Калашникова. Смотрите и осваивайте.
Родственник Якутова, разумеется, был роднёй и дочери пароходчика, и на «Лёвшине» никого не удивляло, что эти двое беседуют в стороне от всех.
– До беды не задружись, Катюшка, – проницательно посоветовала Дарья.
– Я взрослый человек, тётя Даша! – отрезала Катя.
Сенька Рябухин, удивший рыбу с колёсного кожуха, поглядывал на Катю и механика и не думал ничего дурного. Барышня-то честная, ить сразу видно. Без батюшки осталась. Механик-то еённый дядька, небось крёстный. Заместо отца. То по-божески. Эх, зачем он, дубина, отдал тогда леворьверт? Ведал же почто! А дак как же не отдать-то, коли сам Митрий Платоныч повелевает?…
– Господину Нерехтину, полагаю, не следует знать, что командир нашего парохода – мой несостоявшийся убийца, – осторожно произнёс Михаил.
– Почему? – тотчас спросила Катя.
– Мы не в силах повлиять на события. Но капитану – лишняя тревога.
– А вы сами что собираетесь делать?
Михаил пожал плечами.
– Перепачкаю лицо мазутом и буду сидеть в трюме, как тролль в пещере, пока этот чекист на борту.
– Каково же вам видеть его? – осторожно поинтересовалась Катя. – Знаете, Екатерина Дмитриевна, у меня нет никаких чувств. Я – частный человек, и хочу прожить свою частную жизнь, никому ничего не доказывая.
В твёрдом отчуждении Великого князя от времени и обстоятельств Катя ощутила какое-то упрямое достоинство человека, непоказное противоборство порядку вещей. Люди выгадывали, где лучше, а князь Михаил наперекор всем не желал ничего – ни империи, ни мести. Такого Катя ещё не встречала.
Лёжа на жёсткой койке в тесной каюте, она думала о Михаиле.
– Не спишь, глупая?… – вдруг в темноте зашептала Дарья. – Катюшка, не бегай к нему на вечорки. Какой он тебе дядька? Врёшь ведь.
– Ты ничего не понимаешь, тётя Даша! – рассердилась Катя.
– Всё я понимаю. Сама девкой была.
08
Жителей Ижевского завода называли «рябинниками». 17 августа отряд мятежных «рябинников» атаковал Воткинский завод. Красноармейцы и бойцы местной самообороны отстреливались как получалось; на деревянных улицах трещали наганы и трёхлинейки, с обхода осанистой башни над Николаевским корпусом широкую заводскую плотину подметал пулемёт. Однако на завод наступали бывалые солдаты из «Союза фронтовиков», и командовали ими офицеры, получившие свои погоны в окопах Германской войны. Красные бежали кто куда. А «рябинники» тотчас снарядили поезд на пристань Галёво.
Заводской паровоз-«кукушка» тянул состав из шести товарных платформ, на которых сидели фронтовики с винтовками и пулемётами. А в Галёво никто не знал о событиях на Воткинском заводе; красный гарнизон не приготовился к обороне. Неяркое солнце клонилось к закату; белые облака, сияя вздутиями, висели в густеющей синеве неба и отражались в затихшей воде Камы; берег накрыла широкая тень мохнатых гор. Поезд выкатился из распадка, миновал деревянный вокзал и с ходу вышиб железные ворота в ограде судомастерских. С платформ на дощатый помост перрона посыпались солдаты и офицеры.
«Русло» стоял возле дебаркадера галёвской пристани под парами: его котёл работал, и машинист время от времени стравливал давление. Когда в мастерских началась пальба, вся команда вывалилась на палубу.
– Что там такое? – встревоженно спрашивали матросы. – «Рябинники», что ли, добрались? Или свои же забунтовали?
– Ижевцы, – спускаясь из рубки, сказал капитан Дорофей. – Я видел, как их поезд проехал. Прохлопали комиссары супротивников.
В руках у Дорофея был бинокль. Дорофей прошагал к брашпилю на носу и принялся рассматривать буксиры у пирса судомастерских. Интересовала его, конечно, «Звенига». На ней заполошно металась команда: матросы рубили швартовы, сходню сбросили в воду. Дымя, «Звенига» отвалила от причала, но какие-то люди ещё перепрыгивали с пирса на борт. От здания механической фабрики ударил пулемёт.
Окна «Звениги» засверкали разбитыми стёклами.
– Может, и нам убраться отсель? – робко предложил Яков Перчаткин.
Дорофей задумчиво оглянулся на бывшего шулера. Тот сменил свой рваный сюртук на чистую матросскую робу, но выглядел ещё более жалким.
– Куда убраться, продувная ты рожа? По чекистам заскучал?
От судомастерских по замусоренному берегу побежали отступающие красноармейцы – немного, человек пять. «Рябинники» стреляли им вслед, и один из бегущих упал. Среди красноармейцев был военком Ваня Седельников. Он размахивал маузером и пытался командовать, но его не слушали.
– К нам на буксир драпают, – заметил боцман Корепанов.
Федя Панафидин перекрестился: он тихо просил бога уберечь Ваню.
Но Дорофей смотрел не на берег, а на реку – на «Звенигу», которая сейчас проходила мимо «баржи смерти». С баржи отчаянно вопили караульные, требуя снять их, но «Звенига» даже не сбавила хода. Из трубы её валил дым, колёса равнодушно крутились. Дорофей обшаривал взглядом людей на палубах буксира и зияющие окна надстройки. Он надеялся увидеть Стешу. И увидел. Разрывая какое-то тряпьё, Стеша стояла на коленях над лежащим человеком – наверное, раненым. Ветерок трепал её светлые волосы, выпавшие из-под косынки. И Дорофей почувствовал себя счастливым:
Стеша невредима!
Он решительно обернулся, и на глаза ему попался Перчаткин.
– Яшка, чеши в машинное! – тотчас приказал Дорофей. – Скажи Егорычу, чтобы заливал котёл!
Перчаткин исчез. Матросы заволновались.
– Ты чего затеял, капитан?
– Сдаёмся ижевцам, – объявил Дорофей. – Кто боится – мотайте отсюда.
Из трубы со свистом вылетел столб густого раскалённого пара.
На дебаркадере загремели сапоги, и по сходне на борт буксира заскочил военком Ваня. При нём было уже только двое красноармейцев, и одного из них Ваня тащил на себе, закинув его руку на свои плечи. Гимнастёрка на боку у бойца пропиталась кровью. Второй боец задыхался и пошатывался.
– Михайлов, живо отплывай от пристани! – приказал Ваня Дорофею, укладывая подстреленного красноармейца на палубу.
– Отплывалка сломалась, – ответил Дорофей. – Котёл холодный.
Ваня распрямился, непонимающе глядя на капитана.
– Я же тебе велел пары держать!
– Чё-то вот не удержал. – Дорофей глумливо улыбнулся.
Седельников вызывал у него не сочувствие, а застарелое раздражение.
– Ты же предатель!.. – изумлённо выдохнул Ваня.
Душа у него словно тряслась от недавнего боя и бега на пределе сил. С этого разгона Ваня мог сделать всё что угодно. И он вытащил маузер.
– Да стреляй, вот он я! – заорал Дорофей, растопырив длинные ручищи. – Только стрелять и можете, комиссары сраные! Замордовали уже народ!..
И Ваня выстрелил бы, но ему нужно было хоть какое-нибудь, хоть самое малое одобрение. Он озирался. А команда буксира стояла за капитаном молча.
Красноармеец, который прибежал вместе с Ваней, со вздохом прислонил к стене надстройки винтовку и сел, привалившись спиной к фальшборту.
– Кажись, отвоевался, – опустошённо сказал он.
– Гады вы! Гады! – надрывно взвизгнул Ваня. – Я сам машину заведу!..
Он бросился к проёму прохода возле колёсного кожуха.
– Давай, заводи, – угрюмо произнёс Дорофей, надвигая на глаза фуражку.
Федя Панафидин морщил лицо от жалости к юному военкому.
А Ваня по лесенке свалился в трюм и ворвался в машинное отделение. Он захлопнул за собой мятую железную дверь и запер на задвижку. В машинном отделении плавал горячий пар, пахло маслом. Было темно: «Русло» – буксир, уже изношенный за полсотни навигаций, – не имел динамо и электроламп, его помещения освещались прадедовскими коптилками. Ваня истерично подёргал какие-то рукояти, повернул какие-то вентили и наконец осознал, что бессилен. Он опустился на грязную от мазута стлань, под которой мёртво плескалась чёрная вода, и заплакал как маленький мальчик. Ржавые балки бимсов давили душу, словно жуткие перекладины виселиц. Ну почему всё получилось вот так плохо?… Почему его предали? Он же всё делал правильно! Он был примерным учеником революции!..
В это время на борт буксира с дебаркадера уверенно переходили солдаты-«рябинники» с винтовками. Их командир повертел головой.
– Где комиссар? – спросил он. – Я видел, он сюда ускакал.
– В машинном отделении заперся, – ответил Дорофей.
– Есть там окошко? Бомбу шарахнем.
– Не надо бомбу, – волнуясь, попросил Федя. – Я его выведу!
– А ты кто такой сердобольный? – удивился «рябинник».
– Лоцман наш, – сказал Дорофей. – Хороший парень, хоть и с придурью.
В полумраке машинного отделения Ваня Седельников проверил патроны в магазине маузера и уткнул ствол пистолета себе под челюсть. Ему очень не хотелось нажимать на спуск, но примерный ученик должен сделать это. Ваня утёр глаза кулаком, испачкав лицо мазутом, однако слёзы текли и текли.
В железную дверь осторожно постучали.
Федя понимал, что Ване сейчас невыносимо тяжко. Вряд ли Ваня жалеет о злодеяниях, в которых участвовал, но ему всё равно тяжко. Душа-то живая.
– Ванюша, – позвал Федя. – Ванюша… Ладно тебе… Смирись…
За дверью было тихо. Федя верил, что Ваня его слушает.
– Смирись, – повторил Федя. – Кто смиряется, тот мир обретает…
Федя ждал. И засов за дверью наконец заскрежетал, отодвигаясь.
09
Вдоль замусоренного берега с лодками и мостками вытянулось большое село Бабка, разморённое полуденным солнцем. Кое-где синели крашеные железные крыши, липы на ветерке играли тенями, торчала колоколенка.
– Село-то вроде советское, – заметил Серёга Зеров. – Вон красный флаг.
– У ижевцев тоже красный флаг, – ответили ему.
– Ежели бы наше село было, какого пса пристань пожгли?
Обгоревший чёрный дебаркадер не годился для причала, и суда флотилии бросили якоря на рейде – поодаль от берега. На «Медведе» и «Лёвшине» орудийная прислуга и пулемётные расчёты дежурили по боевому расписанию, а команды бронепароходов вывалились на палубы – посмотреть, что будет. У борта «Соликамска» загружались два мотопонтона, все прочие уже лежали на мелководье, выехав тупыми носами на песок; возле них топтались мадьяры-караульные в куцых кепи и военной форме сизо-серого цвета «фельдграу».
Молодой матросик Егорка Минеев, которого Нерехтин принял в команду только неделю назад, смущённо улыбаясь, оглядывался на товарищей.
– Моё село-то, родное! – горделиво говорил он. – Вон там батькин двор! А там дядьки моего! – Он показывал рукой. – Мы живём-то небедно! Школа есть! Волостное правление! У купца Никанорова десять лавок по уезду!
И тут в селе началась стрельба. До пароходов донеслись вопли и злобный собачий лай, меж домов замелькали бегущие люди, над церковкой взвились голуби. Речники, толпившиеся у фальшборта, взволнованно загомонили.
– Чего палят-то как сволочи? – забеспокоился Сенька Рябухин, второй номер при пулемёте. – В деревне же бабы, детишки!..
– Помалкивай, контра, – одёрнул его Жужгов.
Он развалился в своём камышовом кресле рядом с пулемётным барбетом.
Иван Диодорович, стоявший возле рубки, догадывался, что происходит сейчас на улочках. Китайцы, мадьяры и чекисты врываются в подворья, лезут в подклеты и погреба, распахивают двери амбаров, волокут мешки с зерном, выкатывают бочки. Если хозяева сопротивляются, их бьют. Может, в селе и нет никаких ижевских повстанцев, но непременно кто-нибудь из местных в ярости схватился за обрез – и разгорелась бойня. Мужик ломанулся в избу – выстрел ему в спину; баба заслонила вход в кладовую – штык ей в живот; старик вцепился в локоть бойца – прикладом хрычу в зубы; мальчонка в ужасе помчался наутёк – пуля догонит: небось, за подмогой побежал, гадёныш.
Катя, конечно, понимала, что идёт гражданская война. Однако война – это когда дивизия на дивизию, полк на полк, а здесь вооружённые люди бесстыже грабили соотечественников и убивали непокорных. Катя стискивала руками планширь фальшборта. Захолустное село под мягкими белыми облачками казалось безмятежным только издали, с другого берега реки, а с парохода было слышно, как сквозь треск винтовок село кричит и воет, будто на пытке.
– Хосподи Сусе!.. – помертвев, шептал матросик Егорка.
Речники смотрели на село с угрюмым недовольством.
– Сами виноваты, довели до продразвёрстки, – сказал кочегар Сиваков.
– А ты свой хлеб отдал бы? – зло ответил ему матрос Девяткин.
В трюме тоже было слышно стрельбу. Осип Саныч Прокофьев, старший машинист, не должен был покидать свой пост, пока машина под парами; он сидел на откидной скамеечке возле переговорной трубы, положив на колени потрёпанный журнал «Русское судоходство». Очки его строго блеснули на князя Михаила. Он испытующе спросил:
– Кому сочувствуете, господин офицер?
Михаил, сидящий напротив на станине котла, поднялся и ушёл в темноту.
А речники с борта своего парохода увидели, как на берегу появились люди: это бойцы продотряда возвращались к понтонам с добычей и пленными. Мужики и бабы за оглобли тянули телеги с грудами рогожных мешков. Два мадьяра несли раненого товарища. Маленькие китайцы в суконных шапках, грозно выставив штыки, вели под конвоем десятка полтора окровавленных крестьян в разодранной одежде. За пленными, рыдая, спешили жёны.
– Батя, што ли?… – изумлённо прищурился Егорка Минеев.
Мужики и бабы, прикатившие телеги, под прицелом винтовок принялись переваливать мешки в понтоны. Пленные понуро стояли в стороне. Видимо, бойцы продотряда намеревались забрать их на пароход и увезти в город – в тюрьму и на суд. Казалось, разгром села завершился.
Однако на крышу «Соликамска» вылез Ганька. В руках у него был рупор.
– Мюнних, не надо мне их на борт! – заорал он командиру продотряда, мадьяру в кепи с пуговицами на лбу. – Места нет! Там кончай!
– Кого кончай?… – обомлел Минеев и завертел головой, словно ждал от товарищей объяснения или опровержения. – Он же батька мой!..
Мадьяры ещё колебались, но послушные китайцы исполняли все приказы бестрепетно. Они и так держали винтовки навскидку. Пленные не пытались бежать и даже не крестились; неподвижные, словно деревья, они были не в силах поверить в простоту расправы. Как же так?… Ещё утром они спокойно выгоняли коров к пастуху, идущему по улице, а сейчас – умирай, хотя и до вечера-то ещё далеко!.. Всему виной – эти три страшных парохода, застывшие у берега!.. Винтовки китайцев деловито забабахали. А убитые мужики стояли и не падали, не успев освоиться с окатившей их смертью. Бабы кинулись к своим мужьям, китайцы же хладнокровно продолжали стрелять и по бабам, словно были обязаны очистить этот клочок берега от любых людей.
Жужгов наблюдал за расстрелом из кресла с интересом знатока.
Убитые лежали в траве друг на друге как попало, точно их небрежно свалили откуда-то сверху. Речники ошеломлённо смотрели на россыпь трупов. Иван Диодорович вдруг понял, что ощущает не гнев и не страх, а жестокое унижение. Там, на берегу, чекисты сотворили такое, что душа выгибала рёбра наружу, но он, уважаемый капитан и немолодой человек, подобно скотине, был лишён права вмешаться в беззаконие, лишён права хотя бы пожалеть погибших, иначе какой-нибудь Ганька пристрелит и его самого.
Егорка Минеев задёргался и рванулся на фальшборт в бессмысленном порыве прыгнуть в воду и поплыть к берегу, а Серёга Зеров облапил его большими руками в бессмысленном желании остановить. Им обоим, да и всем, кто рядом, надо было что-то быстро сделать, чтобы выпустить безумие, дать ему отплясать на воле. Матросы и кочегары зачем-то хватали Егорку за руки и за одежду, шлёпали по щекам, а Егорка извивался, бился как припадочный и выл по-собачьи. Катя отступила от толпы, лицо её некрасиво исказилось. Кочегар Павлуха Челубеев метался, сотрясаясь брюхом, Дарья закрыла рот ладонями, а маслёнщик Митька Ошмарин едва не плакал и жалко повизгивал:
– Так куда же?… Покуда где это?… Они же одно!..
Жужгов снисходительно ухмылялся. Подобное он видал уже не раз.
– Дарья! – рявкнул с надстройки Нерехтин, и Дарья уставилась на него с палубы, как на Саваофа. – Дарья! Принеси водки Минееву!
10
Хлеб, изъятый продотрядом, нужно было отправить в Пермь, и флотилия вернулась в город Осу: здесь в устье речки Тулвы Рупвод собрал пустые баржи. Ночью бронепароход «Медведь» встал ниже Осы на боевое дежурство. Перед рассветом на холодных алых облаках у горизонта вахтенный увидел в створе тонкую прядку дыма – по Каме шло какое-то судно. Вахтенный потянул стремя гудка, прикреплённое к клапану, и басовитый рёв поднял команду на ноги. Неизвестное судно, приближаясь, тоже загудело. Севастьян Михайлов, капитан «Медведя», узнал его. Это был буксир «Звенига». В лице у Севастьяна ничего не дрогнуло, а душа забултыхалась.
На «Звениге» работала Стеша.
Судьба Севастьяна строилась на подчинении закону; исполнение правил было основой его благополучия. В «Былине», компании Якутова, его считали лучшим капитаном. Он не пил на борту, строго соблюдал расписание, не брал взяток, не обворовывал команду, не пёр по реке на авось, пренебрегая знаками обстановки, не перегружал баржи, надеясь на премию, не гонялся с другими пароходами, как брат Дорофей, не скупился и всегда нанимал лоцманов. Жена, как и положено, ни в чём не испытывала недостатка, а дети учились в гимназии на пансионе, как и должно детям капитана. И только Стеша, арфистка Стеша нарушила весь уклад Севастьяна, посмеялась над его праведностью.
Стеша была той жизнью, которую он не прожил. Которая принадлежала одному ему, а не царю и не семейству, не начальнику судоходной дистанции и не хозяину судна. Севастьян терпел измены Стеши, хотя и бил её, особенно за Дорофея, давал ей деньги, дарил подарки, целовал её губы, плечи и груди – и прятал её на «Звениге», оставаясь в общем мнении примерным семьянином и капитаном. Когда дело касалось порядка, он был непримиримо истов, точно тайком вымаливал у большого закона дозволение на маленькую волю.
«Звенига» приблизилась, и Севастьян с рупором шагнул к барбету.
– Швартуйся левым бортом! – крикнул он.
Буксиры сошвартовались. Севастьян и командир «Медведя» перешли на «Звенигу». Обе палубы буксира были заполнены красноармейцами. Капитана «Звениги» Мохова Севастьян знал много лет и доверял ему безоговорочно – потому и поручил Стешу его попечению. Мохов сообщил, что восставшие ижевцы захватили Галёво и перерезали движение по Каме. Эту новость надо было срочно передать Мясникову. Буксиры расцепились и устремились в Осу.
Ганька собрал на борту «Соликамска» совет: командиры пароходов, командиры десанта и комиссар флотилии. Мохова, разумеется, тоже вызвали, а капитанов «Урицкого» и «Карла Маркса» – нет: у Ганьки они права голоса не имели. Севастьяну это было безразлично, он хотел поговорить со Стешей.
Стешу он застал на камбузе «Звениги». Стеша мыла посуду в лохани.
– Вишь, какие дела-то, Степанида, – неловко начал Севастьян, – похоже, война не на шутку… Я тебя от Мохова к себе на борт забираю.
– Чего же раньше не забирал, Севастьян Петрович? – буркнула Стеша.
– Осужденья боялся. А теперь страшнее за тебя. Стреляют же. «Медведь» – он с бронёй, с пушками, солдаты имеются. На «Медведе» не опасно.
Стеша не смотрела на Севастьяна.
– Не пойду я на твой буксир, – сказала она. – Мне барин ни к чему.
Севастьян тяжело засопел. Он привык быть капитаном, привык решать за других, и чужая строптивость выводила его из себя.
– Перечить мне, Степанида, ты не должна. Я тебя из грязи достал, дал место при деле, помогал. Без меня ты на Почайне лежала бы с пулей во лбу.
Недавно пролетел жуткий слух, будто большевики в Нижнем Новгороде собрали всех ярмарочных арфисток, свезли под кремль в Почаинский овраг и расстреляли. Сделано это было для укрепления дисциплины среди балтийских матросов, из которых состояли команды судов Волжской военной флотилии.
– За благодеяния ваши премного спасибо, Севастьян свет Петрович, – зло ответила Стеша, – только я вам их все отплатила, и долгов за мной нет!
Севастьян еле сдержался.
– Не буду я с тобой лаяться, Стешка, – проскрипел он. – Добром ко мне не придёшь – пришлю за тобой караул. У меня воинский пароход!
Лицо у Стеши запылало, и Севастьян понял, как дорога ему эта бабёнка.
– Ежели силой захватишь меня, то тебя Дорофей зарежет! – по-босяцки выдала Стеша. – Мы с ним жить вместе уговорились!
Нынче можно!
– Нынче можно с Дорофеем?! – изумился Севастьян.
Наверно, он оставил бы Стешу на «Звениге», но слова о Дорофее взорвали его. Дорофей, проклятущий братец, всегда был Севастьяну и соперником, и укором. Что в этом Дорофее особенного-то?! Пьяница, потаскун и ухарь, выше капитанства на «козе» ему вовек не подняться!.. Однако же люди почему-то любили беспутного Дорофея, и начальство ему всё прощало, и девки на него заглядывались. Севастьян столько сил потратил на братца! Кланялся за него судовладельцам, чтобы приняли на работу; совал червонцы околоточным, чтобы не сажали под арест за драки; давал деньги бедной жене Дорофея вместо пропитого супружником жалованья… А неблагодарный Дорофей взял и отнял у старшего брата единственную отраду! Есть ли совесть у этого мерзавца?