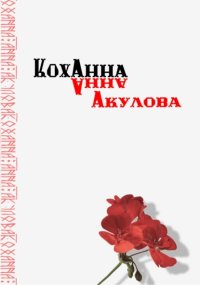
Читать онлайн Коханна бесплатно
- Все книги автора: Анна Акулова
Глава 1 Мама
Посвящается моей бабушке Анне, чья замечательная жизнь вдохновила маму на мое имя, а меня – рассказать почему. А также миллионам судеб, в чьи жизни вмешалась война, в том числе, О. Тебя нет рядом. Ты всегда со мной.
1933 год, село Лобки Погарского района
“Не дождешься!”, – в сердцах подумала Аня. Горечь и обида за мать застучали молоточками сначала в груди, а потом – в висках.
Полуденное солнце ярким светом заявляло о своих правах на чудесный летний день. Домотканая кисея на окнах большой светлой избы пыталась сгладить его неуемный и неуместный сегодня напор. Подоконники густо уставлены горшками с геранью. Шапки алых цветов, пропуская лучи, пылали красным цветом, как будто поддерживая светило. Пылинки кружились в незамысловантом танце, как всегда немые ко всему на свете.
Со двора доносились привычные звуки. То вдалеке глухо замычит корова. То проедет где-то внизу по улице телега, скрипя колесам. То у самых сеней деловито закудахчет квочка. Как если бы она умела считать и неожиданно не досчиталась одного или парочки своих пищащих желто-пуховых наследников. Из палисадника вновь и вновь слышится деловитый баритон майского жука. Будто он, пролетая, сообщал всем, у кого только есть уши, последние новости с полей или откуда он изволил явиться.
День был как день. По-видимому, ни герань, ни солнце, и никто на свете кроме Ани не чувствовали и не слышали той тишины, которая тяжело заполняла светлицу. Тишину стало слышно сквозь все шорохи и звуки, доносившиеся со двора и из сеней.
День был бы как день. Если бы Аня не чувствовала кожей эту тишину. Если бы она не ощущала как безвозвратно становится взрослой, в свои четырнадцать. Прямо сейчас в майские ласковые дни. Когда хочется маленькой девчушкой бежать босоного по сочной траве с косогора прямо в прохладу реки.
День был бы как день. Если бы мама не смотрела на нее прозрачными сейчас, а когда-то ярко голубыми как васильки, глазами. Если бы только она привычно суетилась по хозяйству где-нибудь на дворе или в “холодной” избе. Вместо того, чтобы лежать здесь и наполнять горницу звенящей тишиной.
Низкие и тяжелые дубовые двери в сени и на улицу оставили открытыми. Чтобы прогретый солнышком воздух мог свободно течь по всей избе. Он приносил запах поздней разнотравной весны со двора, смешанный с ароматами бесчисленных пучков растений и корений, что висели в сенцах. Их каждый год собирала, сушила, переплетала, а потом развешивала в разных частях дома старенькая бабушка Анюты – Таисия.
В сенцы то и дело кто-то заходил, что-то перекладывал, перевешивал, открывал и закрывал сундуки. Зачем-то именно сейчас понадобилось бегать в “холодную” избу через общие с “теплой” половиной низкие, но просторные сени. Как будто этот кто-то чего-то ждал, каких-то новостей, но пройти в избу и спросить не решался.
Анюта сделала глубокий вдох, чтобы усмирить себя. Не здесь и не сейчас. В этой горнице нет места обидам, злости или ревности. Она заполнена скорбью и тихой грустью. Заполнена до самого верха. Как тяжелые сундуки в сенях заполнены всяким хозяйским добром.
– Мама, аль что хочешь? воды? – проговорила Аня, заранее зная ответ. Она взяла болящую за руку. Совсем легкая и такая бледная. Кожа на ней, как и на всем теле, слегка пожелтела. Вены как-то враз стали видны. Аня никак не могла понять, как получилось, что совсем недавно мама Маша носила полные ведра молока, с легкостью взбивала масло в тяжелой кадушке. А теперь с трудом держит чашку воды. И почему жизнь так стремительно покидает маму Машу. И почему она, Аня, никоим образом не может хоть чуть чуть замедлить это неестественное движение в Никуда.
– Спасибо доченька, – еле слышно, но внятно, без надрыва или жалости к себе прошептала мама. И от ее тихого уверенного голоса Ане стало спокойней.
“Может, все и обойдется”, – пронеслось в ее белокурой голове с золотистыми косами. Но от одного взгляда на мать мысль растворилась, как будто никогда не думалась.
Послышалась тяжелая и вместе с тем неуверенная поступь отца Ани – Демьяна. Через мгновение он показался в дверях горницы. Рослый, рыжеволосый и коренастый, как молодой бычок. Два года как Демьян Сипейко разменял седьмой десяток. Но если не заглядывать в метрику, ни в жизнь не угадать, сколько ему лет от роду.
Коханки издревле были моложавыми, крепкими и, что греха таить, любвеобильными. “Божьи любимчики” – то ли с завистью, то ли с любовью называли род Сипейко на селе. Сильные и зажиточные обычно вызывают восхищение – у сильных и зажиточных. И зависть – у мелких духом людей.
Зайдя в горницу, отец, уставившись в Красный угол, потянулся сложенными перстами ко лбу, чтобы проделать привычный десяткам поколений брянских казаков нехитрый ритуал. Но с пальцами у самого лба Демьян вспомнил, что сейчас 1933 год, и что село Лобки уже два года как превратилось в колхоз Красные Лобки, и что в Красных Лобках не крестятся. Он вроде бы раздумал осенять себя крестом в присутствии дочери. “А ну как прилепится привычка, да дите где-нибудь в сельсовете истово закрестится”, но через еще мгновение не удержался и перекрестился. “Отходит моя Машенька, – подумал он, – черт с ним, с сельсоветом”.
– Как она? – по привычке властно изрек Демьян. Но почему-то дальше мАтицы (Матица – центральная горизонтальная балка под потолком русской избы. Она условно делила жилище на две равные части, до нее – гостиная-коридор, а после – пространство строго для своих – здесь и далее Прим. автора)в светелку не прошел, а остановился в собственном доме как чужак, ближе к сенцам.
– Все то же, батюшка. Все то же – заверила Аня. За что получила благодарный взгляд мамы, от которого защемило сердечко. Молоточки снова застучали в висках и в глазах стало едко.
– Все то же – энто хорошо. Резонно и по-хозяйски вывел отец. Тон его говорил “сделаю вид, что я верю, что все хорошо. Но было бы здОрово, если бы это была правда. Было бы правда здОрово, донюшка. Не моя вина, что все так образуется.”
Вслух он такое никогда бы не произнес, не повинился, Аня тонко чувствовала его переживания и без слов. Чувствовала, а умом не верила. Из “холодной” избы послышался звон упавшей крынки и непроизвольный возглас Ксении “Ай, Божечки!” Голос мелодичный звучный и предательски здоровый. Такой, какой и должен быть у молодой пышногрудой и полнотелой крестьянки. Такой, который тяжело простить, когда ты держишь невесомую руку умирающей матери.
– Все проходит, доченька, пройдет и это. Всегда все к лучшему, – мама словно извинялась за отца, как будто было что-то давнишнее между ними, что прошло, и теперь наступила ее очередь прощать.
Аня хотела быть такой же мудрой и терпимой, как мама, силилась, не понимая до конца, принимать уготованное судьбой. Молоточки застучали по наковальне в висках. Как бы Аня хотела смотать веретено времени. Хотя бы на одно мгновение назад. Чтобы Ксения ничего не роняла и не кудахтала красивым голосом, напоминая о своем гадком присутствии в отчем доме, всего в нескольких саженях от лежанки укрытой красным одеялом матери.
“То-то будет, когда Иван приедет. То-то будет”, то ли с опаской, то ли со злостью плюхнулся в озерцо ее обиды камешек. И когда мысль разлилась в воображении в полную картину приезда старшего брата, маминого любимчика и заступника, молоточки в висках устроили настоящую революцию, а голубые глаза Анюты наполнились страхом. Страхом преддверия чего-то ужасного и непоправимого, а главное – неизвестности. А это самый сильный страх. Сильней него только страх смерти.
– Ксения на стол собрала, – не терпящим возражений тоном сказал отец.
– Иду, папа, – сказала Аня, вставая с лежанки, немного удивленная тому, что вместо батюшка или тятя зачем-то сказала “папа”. Хотя чему удивляться, если каждую минутку тратишь на чтение книг, а они то и дело о дворянской да о купеческой жизни, в которой барышни кличут тятю папА. Гораздо более удивительно, что отец пришел позвать ее к столу.
Глава крестьянской семьи обычно никого за столом не ждет и уж точно не бегает обеденным глашатаем. Если бы он пришел позвать ее к столу месяц назад, она наверное от изумления не смогла бы сдвинуться с места. Но за последний месяц в их семье произошло много событий, не помещающихся в сундучок обыденности. Анина душа ими напиталась с лихвой и попросту устала удивляться.
Она молча и покорно шла, не ощущая голода и стараясь не замечать, что вокруг стола и отца хлопочет Ксения. Ее наняли помочь по хозяйству после того, как слегла мать. Анюта не сразу обратила внимание на ее женскую манкость. При первом взгляде на Ксюшу девочка про себя заметила, что грудь и руки жинки полные и мягкие, как у попадьи. Лицо, почти не тронутое солнцем и морщинами, излучает здоровье и ласковость. Кисти рук при этом большие и натруженные, босые ноги – в мозолях и натоптышах. Словно верхняя часть Ксении была из одного человеческого набора, а нижняя, примерно от пояса – из другого. Аня еще попыталась тогда представить вместе оставшиеся части Ксениного наборного тела и улыбнулась. Явившаяся воображению женщина с изящными ногами, тонкими пальцами и грубым крестьянским лицом была гораздо смешнее настоящей Ксении.
Через время оказалось, что нанятая в хозяйство женщина готова брать ночные сверхурочные и выполнять не только обязанности батрачки. Было еще одно амплуа, как сказали бы театралы, бесстыдная очевидная роль. Неясно было одно: как такое вообще может быть на глазах у всего села и домочадцев! Ох, Коханки!
Глава 2 Бабушка Коханиха
То же село Лобки, но гораздо раньше
Кто и за что окрестил Лобки Лобками доподлинно неизвестно. Вполне вероятно их так величают за мягкие выпуклости – не то пригорки, не то пологие холмы – ни дать ни взять – лобок на красивом земном зеленом теле, усыпанном луговыми цветами и испещренном серебром неглубоких разливных рек.
Имя поселения сохранилось еще с семнадцатого века, когда здесь хозяйничал шляхтич Рачинский панского польского рода. Так бы и хозяйничал пан, да в середине века вскипело восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, главным образом, из-за веры. Речь Посполитая освящена католическим четырехконечным крестом, а Стародуб, Погар, Почеп, Мглина тяготели к восьмиконечному православному. В 1654 году жители Погара, к которым относились лобковчане, присягали на подданичество русскому царю.
Если глянуть на карту России века двадцатого, то в западной части видно будет небольшой отросточек в виде головы акулы-молота. Застряла эта акулья голова между Белоруссией и Украиной, словно сунулась поглядеть, что у соседей делается. Лобки будут примерно на шее у этой акулы, если, конечно, у акул есть шея, что весьма сомнительно. То что есть Лобки, слава Богу, сомневаться не приходится.
Дом Коханков громоздился на выпуклом пригорке, на одном из “лобков”. Огромное крестьянское хозяйство растянулось вплоть до самой речки. По весне ее воды бурлили, как будто что-то варится. Так она и значилась с незапамятных времен – Варенец. А местные ласково называли ее Вареник.
На противоположном “лобке” красовался пряничный домик церкви. Чистенькая и беленькая, с четко очерченными синими куполами на фоне хрустального неба и зеленой травушки-муравушки церквушка так и просилась на холст. Если бы сюда телепортировался или приехал своим ходом Репин, то не удержался бы и кинулся ее писать. А потом бы увидел как чуть выше по речке приветливо и без устали машет лопостями-ручищами мельница. Илья Ефимович бросил бы незаконченный пейзаж с церковью. Побежал бы знаменитый “передвижник”, сломя голову, на телеграф, коря несовершенство действительности за отсутствие Интернета, соцсетей и смартфонов. Как было бы чудесно передать картинку в одно мгновение, но увы! Уставший и взмокший, он телеграфировал бы Шишкину, промакивая испарину белым батистовым платочком. “Иван Иванович, милейший, срочно закладывайте шестерку лошадей и всенепременно мчитесь в Лобки, что в Орловщине в нескольких верстах от Погара. Я вам такую мельницу уготовил, такой пейзажик, что вы ахните!” И ждал бы Шишкина, борясь со жгучим желанием изобразить излучину Варенца с мельницей самостоятельно (Правда в том, что в 1870 году художники Илья Репин, Иван Шишкин вместе с Иваном Крамским, Василием Перовым, Николаем Ге, Григорием Мясоедовым основали Товарищество передвижных художественных выставок. Правда и то, что Репин и Шишкин были приятелями. Но подыскивали ли они друг другу пейзажики – об этом автору ничего не известно. Известно то, что художники-передвижники искренне желали познакомить простых людей с искусством и красотой).
К сожалению, среди обитателей Лобков не было сколько нибудь значимых художников и хранились лобковские красоты исключительно в сердцах сельчан, в той папочке что называется “Родные просторы”.
Помимо отсутствия художников в Лобках наблюдалось отсутствие врачебного участка. Ближайший земкий доктор квартировался за 10 верст в Погаре. Одним из неоспоримых достоинств доктора было то, что его услуги были безкоштовны, то есть – даром. Оплачивало работу врача земство. Хотя ни один из болящих не смел прийти без копеечки или какого-нибудь подношения. К недостаткам врача любой профессиональной пригодности относилось то, что он был один на несколько тысяч человек и мог оставаться по несколько дней на каком-нибудь хуторе у богатого больного. Попасть на прием было не просто. Ездили к земскому доктору в случае крайней нужды.
Врачей в селах долгое время заменяли бабки. Услуги добровольного заместителя были не бесплатны. Бабке, независимо от возраста, полагалось “серебрение” или подношение в виде хлеба, яиц, платков. Обитатели Лобков Погарской волости чаще всего обращались с недугами к Таисие Коханихе, потомственной ведунье, знахарке и повитухе.
Высокая, осанистая да по молодости фигуристая, она была взята в жены Степаном Коханком. Жениться на ведунье – смелый шаг, граничащий с легким слабоумием и, так сказать, недальновидностью. Видит ведь насквозь. Но Коханки – на то и Коханки, чтоб жениться по любви на самых красивых девках. Не взирая на прошлое, место в деревенской иерархии, бедная или зажиточная. Единственное, что имело для них значение – внешняя и внутренняя красота девушки.
Бог любил их род. Посылал в наследники здоровеньких ребятишек, по преимуществу мужского пола. А по старой системе наделы земли под угодья выдавались по количеству сыновей. И так из года в год, из поколения в поколение хозяйство Коханков ширилось да прибавлялось.
На Брянщине не приняты загородки. Дом, амбар и другие хозяйственные постройки ничем не ограждены и видимы со всех сторон. Как и жизнь каждого обитателя, как принято в сельской местности.
Если спуститься вниз от дома Коханков по широкой и некрутой тропе, то попадешь к запруде. Здесь сельские бабы с верхних Лобков тяжелыми вальками выбивали замоченное в кадушках с щелоком белье. Выбивали и полоскали тут же, в речке. Помимо белья, как водится, полоскали всем без исключения соседям кости. Мокрое белье приносили и уносили хлопцы, стараясь унести ноги до того, как попасть на язык говорливым девкам да бабкам. Хохот перемежал добродушные смешки с незлобивой руганью, потом вновь хохотали. Запруда могла бы именоваться Парламент общин или Главное министерство сплетен. Но сельчане не знали столь пышных фраз и кликали место Рукав.
Век уж целый год как сменил старое платье на новое. Конца света при смене эпох, как пророчил батюшка на вечерней службе в “пряничной” церкви, не произошло. Поговаривали, что графа Льва Толстого отлучили от церкви (Постановление Святейшего правительствующего синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной церкви, так как его убеждения несовместимы с таким членством. Опубликовано в официальном органе Синода «Церковные ведомости», полное название документа: «Определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года № 557, с посланием верным чадам Православной Грекороссийской Церкви о графе Льве Толстом»)и что была зачем-то студенческая демонстрация, но по совсем другому поводу. Что-то творилось в столицах и городах, что-то приготовлялось. А жизнь в Лобках текла своим чередом, как много веков назад. За зимой налетела громогласным ледоколом весна. Птичье царство с зарей спорило шумностью с ледоколом. Птахи проигрывали в громкости, но брали за душу мелодичностью.
Был весенний погожий и ласковый день. Вареник совсем уже сменил ледяной панцирь на подвижную сверкающую на солнце чешую. Казалось, что все вокруг наконец-то проснулось от зимней спячки. Таисия вместе с другими селянками гутарили на Рукаве о том о сем, полоская белье. Пришел черед вымывать от щелока тяжелые тулупы да полушубки и женщинам было не справиться, не вытянуть из запруды напитавшиеся водой шубы. Зато плечистый Демьян Коханок справлялся легко, выбрасывая на берег увесистую мокрую одежду, как кот мелкие рыбешки.
Краем глаза Демьян заприметил тонкую фигуру девушки, спускающейся по косогору к Рукаву. Он распрямился, отер рукой пот со лба и не стесняясь встречал глазами идущую. Мать Таисия проследила за его взглядом и тоже обернулась на девку, предчувствуя почему-то худое. Мария Колыванова. “Байстрючка (Байстрюк – внебрачный ребенок, незаконнорожденный)” – зашептал и зашевелился Лобковский Парламент. “Мать пропащая и она туда же”, – уловила Таисия Афанасьевна. Взгляд на сына. “Только не она!” – пронеслось в голове матери и одновременно звучало “Поздно. Пропал сын”.
– Доброго дня! – поздоровалась не умеющая читать мысли Маша.
– Доброго, доброго, – закудахтал Парламент.
Василькового цвета глаза спорили красотой с небом. Румянец на высоких скулах звал прильнуть к щеке. По крайней мере именно так казалось Демьяну. Он как будто впервые увидел и разглядел по-настоящему Машу Колыванову. Как так случилось, что он не замечал ее девичей красоты раньше, он не мог сообразить.
– Держи! Держи! Кафтан уплывает! – загалдели бабки, как будто криком можно было замедлить отплытие крейсера “Зипун Кафтанович”.
Демьян опомнился, потянулся за медленно тонущим кафтаном, вытянул жилистую руку что было мОчи и плюхнулся в ледяную реку.
“Конфуз-то какой!” – вылезая из воды с коричневой мокрой добычей в руках, сокрушался в сердцах Демьян.
Когда стало ясно, что никому не угрожает опасность, ни белью, ни Демьяну, Министерство сплетен дружно захохотало. На селе не так много всего происходит, чтобы упустить возможность вдоволь посмеяться над ближним. Не упустила эту возможность и байстрючка Колыванова. Ее заливистый смех казался Демьяну самым певучим. Вот остальные ржут как лошади в поле, а Машенька одна звенит, как колокольчик степной.
Не смеялась только Таисия. Совсем не потому что боялась хвори. Эка невидаль в холодную воду окунуться. Это не беда, это Бог с ним. Пропарили мужика в баньке да с веничком дубовым – и ни одна зараза не подступится. Сердце матери чуяло другое, недоброе и неотвратимое. Уж она то умела читать мысли и глядеть будущее. Это ж надо такому случиться. Столько лет перебирать невестами точно еврей шелками на ярмарке, разменять четвертый десяток и бах! положить глаз на чужую девку.
“Ох, беда, беда!” , – сокрушалась Таисия глубоко внутри себя, ни одним мускулом не выдавая, что творится у нее на душе.
Кафтан был спасен. Демьян вышел из реки и струйки воды стекали по его рыжим волосам, телу и прилипшей рубахе.
Маша поставила тяжелую корзину с бельем, заправила выбившиеся из под полушалка золотистые как пшеница волосы. Давно она так не смеялась. Ей было гораздо привычней, что смеются над ней. Они с матерью жили вдвоем. Отца никогда не видела и не знала. Байстрючка, одним словом. Поговаривали, что он – заезжий гость поручика Наврозова. Дескать, гостил одно лето, спортил Глашу и, как водится у господ, был таков. Мать сказывала, что он уехал на войну аглицкую, но почему-то в Азию, к бусурманам. Маша спрашивала у учителя в сельской школе, тот показал где Англия и где Азия. И Маша сделала поспешный вывод, что малограмотная мать все выдумала, причем не очень-то складно (Англо-русская война (1884-1885) – вооруженный конфликт между Российской империей и Британией. Боевые действия велись, в том числе, на территории Средней Азии. Итогом сражений тех лет стало установление британского протектората над Ачехом и Тибетом). А отец скорее всего где-то рядом, может даже кто-то из усадьбы. Знает ли он, что у него растет дочь, приедет ли когда-нибудь да попросит у них с матерью прощения. Такие мысли нет нет да подкрадывались. Как, наверное, у всех до единого брошенных детей.
– Ого какая корзина! Полна полнешенька. У вас с Глашкой и добра то столько нет. Признавайся, чьи портки приволокла на запруду. За деньги аль задаром стирать думаешь? – начала упражняться в острословии Настасья Крынкина, рябая от усыпавших лицо и тело веснушек бойкая девица. Про таких говорят “палец в рот не клади”.
– Хошь заплачУ – простирнешь и мое исподнее? – присоединилась бабка Агафья из Ельцовых, делая вид что скидывает с себя одежу.
Маша спокойно и без лишних эмоций делала то, зачем пришла на реку, не обращая ни на кого внимания. Как будто она была в каком-то слюдяном домике, и все смешки и шуточки стекали по его стенам. Правда была в том, что белье она принесла не свое, а людей, у которых работала мать. Об этом мог бы догадаться любой человек, если бы пораскинул своим умишком. Но не всем жителям Лобков было чем раскидывать.
– Нет, глядите только, она и ухом не ведет. Уж простите, королевишна вы наша, что мы к вам без поклона.
На Рукаве поднялся хохот пуще прежнего. Но теперь не смеялись три человека, двое – из Коханков. Демьян поднял мокрый картуз с земли, помял маленько и вдруг метко швырнул его в Настасью. Попал прямо в ее рябое с оспинами лицо. Хлопок был пренеприятный, но девка не охолонула.
– Глядите, люди добрые, на Машку зенки пялил, да чуть не утоп, кафтан чуть не схоронил. Уж не его ли портки у Машки в стирке?
– То то он переживает, – не унималась Агафья – Мабуть, в речку сиганул, чтоб ей меньше работы, на себе думает рубаху да портки простирнуть ха-ха-ха по-быстрому.
– Ну будет вам, бабоньки, будет, – степенно закончила стендап батл Таисия.
Ведунью никто сердить не планировал и Парламент перешел к рассмотрению других насущных вопросов.
Пойдем сынок баньку топить. Как раз собиралась, – заключила Таисия, укладывая свой мокрый скарб и желая увести великовозрастного сына от байстрючки подальше и как можно скорее. Демьян играючи подхватил тяжелую корзину и, проходя мимо Марии, услышал робкое “благодарю” и почуял прикосновение ее руки к своей, чуть выше запястья.
Он вздрогнул, как от ожога. Вверх по руке побежали мурашки. Все тело сковало, и парень еле смог двинуться за матерью, которая необычно шустро неслась домой. Что за музыка ее голос! Как лелеял ухо ее шепот, точно плеск воды в жаркий день.
“Баран! Ох и баран же я! Надо же было сказать что-то в ответ. А может вернуться?” – в каком-то оцепенении размышлял Демьян.
– Демьян! – Голос матери вернул его назад, в село Лобки Погарской волости.
– Мамань, что вы как на пожар летите?!
– Тебя, горемычного, отогревать. Поди озяб весь!
“Ну точно – олень я замороженый! Вернуться бы надо. Ан нет, будет повод в гости зайти”, – повеселел и “разморозился” бесповоротно влюбленный олень.
Через несколько минут Демьян затапливал баню, а Таисия подбирала травки для отвара, чтобы сын не захворал.
“Ох и выбрал! Тридцать лет жил да выбирал! Ох порадует батюшку!” – крутилось в голове у ведуньи. А губы шептали на ветерок остуду “Сердечный змей, извейся, изыди, твоя воля пусть по ветру развеется, сердце перестанет маяться, а душа перестанет скорбеть…” Но сердце матери знало, что против истинной любви остуда не подействует, а против любви Коханка и подавно. Знала она этот взгляд, что был сегодня у старшего сына на реке. Ой, знала. “На то и Коханки! На то и Коханки!”– принимала то, что не в силах изменить никакая ведунья, Таисия Афанасьевна Сипейко.
Она вспомнила свое сватовство, вспомнила как Степан точно также увидел ее, обомлел и порешил, что она будет его. Вспомнила Таисия, как весь мир был против. Как покойница свекровка костьми хотела лечь и “не допустить в дом ведьму”, а его отец знай приговаривал “На то и Коханки! На то и Коханки!” И свадьба состоялась. С жареным поросенком, протяжными да веселыми песнями и всем что причиталось в добротном хозяйстве на веселой деревенской свадьбе.
Глава 3 Глафира Евсеевна
После неспешной баньки с матушкиными травами и взварами, весь чистенький и напоеный силой да удалью, Демьян в который раз вспомнил о Маше. Ее хрупкая фигурка, спускающаяся по косогору к Рукаву, робкое прикосновение и нежное “благодарю” прокручивались в голове, как смотрят понравившееся видео в соцсети его правнуки.
Если кто-то думает, что социальные сети, вроде Facebook, Instagram или Одноклассники – изобретение двадцать первого века, то прав он лишь отчасти. Техническое исполнение конечно претерпело существенные изменения. Но принцип работы был заложен коллективной жизнью от начала времен и во всех деревнях и весях издревле существовали их прототипы. Когда у каждого жителя есть аккаунт и вся его жизнь выложена в нем как на ладони. Можно было бы назвать этот прототип Книга Сплетен или Односельчане. Только если профиль в facebook или какую другую страничку человек заводит по своему желанию, то в социальной сети под кодовым названием Односельчане профиль заведен на каждого жителя, была на то его воля или нет.
Информацию в такой профиль выкладывали в основном не хозяева профиля, а чуткие сторонние наблюдатели. Как и в современных пабликах были на селе свои хейтеры и фоловеры. Вместо кнопки “передать данные” использовался принцип “пересказ из уст в уста”. Весьма некачественный канал, который однако не страдал потерей информации, а как раз наоборот грешил ее приумножением. Хранились данные на сервере людской памяти долгие годы, обрастая новыми, иногда нелепыми подробностями. Уничтожение базового аккаунта человека происходило при смене двух, а то и трех поколений его родственников и соседей. А если житель чем-то отличился, попал в какую-то или смешную, или героическую, или занимательную историю, то аккаунт мог храниться на сервере людской памяти десятки и даже сотни лет, пересказываясь или перепеваясь. Мы сегодня называем такие былины и сказания народным эпосом.
Вполне предсказуемо Демьян обратился к сети Односельчане. Запрос его касался жизни и актуального статуса Марии Колывановой. Не далее чем за полчаса ему удалось получить доступ к тайнам ее личной жизни, жизни ее матери и к легенде о мифическом отце. Вместо Интернета Демьян вышел во двор, где на завалинке как раз сидели главные сельские блогеры: бабка Герасютиха и дед Антип с фоловерами-слушателями. Селяне точили лясы, ожидая гульный скот и лузгая семки.
– Да она же Глашки Колывановой дочка. В дальнем хуторе вдвоем они живут. Живут – одно слово и то шепотом. Не живут, а так, прозябают. По лету ягоды лесные да грибы на продажу сбирают. Чем зимой живут, ума не приложу, ни скотины у них, ни запасов. Глашка поди христарадничает в Погаре да по селам. Ты б сам съездил да поглядел, мож подсобил бы чем сиротам, – вещал канал бабки Герасютихи, что из Балабков.
Герасютиха по старости лет к работе была почти не пригодна. Телевизоров в то время не было и дома ей было бы скучно. В свободное от ничегонеделанья время она жестко “спамила”. Передавала одну и ту же новость из двора во двор, попутно собирая новый материал для “рассылки”. Эдакая пенсионерка двадцать первого века, которая овладела тайнами рассылки сообщений в Ватсапе. Найдет что-то интересное, пару раз по экрану телефона кликнет и всем своим подружкам отправит.
Герасютиха при таком же действии невольно соблюдала норму 10 000 шагов в день, шляясь от одного хозяйства к другому, из переднего хутора в дальний. Норму она перевыполняла и если бы у нее был установлен шагомер, то могла бы собой гордиться. Но и без шагомера, есть чем погордиться. Ведь одного вопроса Демьяна “а что Колывановы на дальнем хуторе живет чи не?” Герасютихе было достаточно, чтоб додумать всю их историю. И история была ей на руку в одном хорошем дельце, которое она своим бабьим умишком в два счета сложила.
Следующим, кто смог пролить свет на нехитрое житье-бытье Маши, а заодно и на истинное лицо Герасютихи и всего ее семейства, оказался дед Антип Ельцов. Он, не перебивая, выслушал весь доклад Герасютихи. Дед многозначительно молчал, давая ей время покинуть владения Коханков и, как только та торопливо ушла разносить новости о Демьяне и Машке по всем Лобкам, буднично изрек:
– У Балабков полдвора девок на выданье, они сами в худой год христарадничают по селам да в Погаре. Герасютиха и до Брянска шастает, а это больше трехсотен верст. Да подают наверное в Брянске отменно. Вона рожу каку наела. А Колывановы – обе батрачки. И Глашка, и Машка. Только в дом, где девки имеются, их не берут. Срамно. Одна – девку от барина заезжего в шестнадцать годков нагуляла, а другая – энто самое, байстрючка, значит.
Он хотел сначала добавить, что и Машка порченая, но вовремя остановился. Инстинкт самосохранения позволил ему дожить до седин и он не хотел изменять ему в преклонном возрасте. Опытному человеку сразу видно, что про Машу при Демьяне лучше говорить как про покойницу – либо ничего, либо хорошо.
– А те, что берут к себе на двор, мабуть не доплачивают. Знают, что деваться им некуда. Вроде Глашка у Бычков трудится. У них мал мала меньше, а Матрена померла от тифа, нарожала кучу ребятни и померла, прости Господи, уж третий год пошел как схоронили, – продолжал рубрику “Лобки: кто? где? и с кем?” дедусь Антип Ельцов.
– А Маша-то шо?! – не унимался Демьян, стараясь изгладить из памяти информацию про Матрену, Герасютиху, да Балабков. Пропади они пропадом! Его Машенька, душа ненаглядная, интересует. А Антип как будто нарочно околесицу всякую мелет.
– Колыванова то? А шо с ней?
– Ты дед надо мной насмехаешься че ли? – Можно было сказать, что Демьян терял терпение, да только не было у него терпения с самого начала разговора с дедом Антипом.
– И не думал, Демьянушка, Господь с тобой. Жива она да здравствует вроде, Маша энта, значит. Шо с ней станется то?
По отцовскому заданию Демьян снарядился в Погар. Особенной надобности не было. Так, купить всякие мелочи да переговорить с людьми нужными. Все это могло и обождать до другого раза. И уж точно не было никакой производственной необходимости делать крюк через дальний хутор. Если бы отец узнал, то точно пенял бы сыну нецелевое использование перевозочного средства марки “серый конь в яблоках”. Тюнингован был конь дорогим седлом с кожаными ремнями и посеребренными луками.
В общем Демьян скакал на коне со сбруей по ценности как ехал бы его праправнук на Гелендвагине с салоном и обвесами от ателье Брабус. Хотя резоннее было бы поехать в Погар на телеге, запряженной лошадкой Машкой. Это как если бы его внук выбрал из парка отца минивен типа Газель. Но кто ездит женихаться на Газели, когда есть Гелендваген? Имя лошадки Машка и совсем уж не в тему. Еще больше не в тему, чем телега. Нет, ну кому только придумалось назвать кобылу таким красивым да ладным именем?! Мысль, что Маша Колыванова рано или поздно узнает, что у них на дворе лошадь Машка, удручала Демьяна, как будто он нес персональную ответственность за имена живности на дворе. Хорошо хоть лошадь, а не свинья, успокаивал он себя. Надо будет сказать маменьке, что негоже тварюг именем богородицы величать. Богохульство какое-то! Ну в самом деле, горячился он, погоняя коня.
Рысак тем временем домчал Демьяна до дальнего хутора. Домовладение Колывановых выглядело, прямо скажем, бедненьким. Крытая соломой изба, как будто стесняясь своего внешнего вида, немного вросла в землю. Амбар был не заперт, с приоткрытой дверью, из которой зияла причина его открытости миру. Он был пуст. И по этой простой причине совершенно не интересен лихим людям. Сараюшка вся покосилась, как будто старая бабуська в юбке припала на коленки и забыла встать. В сарае совещались куры, парочка бегала по двору, выискивая червячков и делая вид, что они не замечают гостя.
“Куры есть – энто хорошо”, – констатировал про себя Демьян, стараясь не подмечать остальной бедноты.
В дверях избы показалась круглолицая Глафира Колыванова. Шерстяная синяя кофточка кокетливо не сходилась на ее пышной груди. Темная домотканая юбка тоже была узкая и не по-крестьянски обтягивала крутые бедра обладательницы. На Демьяна с интересом смотрели ее беличьи глаза с прищуром. Она была совсем не старая и выглядела даже младше Демьяна.
– Здорово, матушка. Я – Демьян Степанович из Коханков. Вы яйца продаете? “Зачем мне яйца то сдались?! – пронеслось у него в голове – а ну как продаст, я их как везти буду? На рысаке то?” И он представил как гарцует по селу с куриными яйцами в руках.
– Будьте здравы. Меня Глафирой Евсеевной звать. Колывановы мы. Яйца то? Отчего не продать? Сколько тебе, хлопчик? – удивилась, но сразу нашлась Глафира.
– Да мне парочку, матушка. Я их здесь и выпью, оголодал, – нес какую-то несуразицу Демьян и уже готов был сквозь землю провалиться.
– Откуда ж ты путь держишь, что оголодать успел? – с еле скрываемой улыбкой спросила Глаша, начиная смекать, в чем может быть дело – а впрочем мне что за дело? откуда б ни был, проходи в дом. Яйца я сейчас принесу да хлеб-соль найду.
– Благодарствую, матушка, – не веря своей удаче, от всей души сказал Демьян, спешиваясь.
“А ну как она не дома?” – забеспокоился он, озираясь в темных узких сенях. “Ежели б никого в хате не было, в дом бы не позвали. Живут вдвоем. Значит, дома моя незабудочка”, – резонно и к своей радости подумал Демьян. Распрямился весь, плечи расправил и тут же пожелал, чтоб “незабудочка” не дай Бог не оказалась дома, потому что задел какое-то приспособление и полетели по сеням миски да крынки, упала с грохотом кадушка, что-то потекло. В общем, в горницу он вошел с громкой помпой.
Маша оказалась в доме и с опаской глядела в сторону двери. Было ясно, что пришел чужак и наверняка мужского роду. Кто еще, как не мужик, такой переполох на ровном месте устроит.
Ее васильковые глаза удивленно и испуганно-строго встретили Демьяна. Так иной раз глядит кошка, когда ты тянешь к ней руку гладить, а она не в настроении быть поглаженной. Взгляд ее расширенных глаз говорит: “в чем еще дело, товарищ, держите себя в руках.” Она одновременно боится тебя и немного негодует твоей вольности в обращении.
– Здравствуйте, барышня, – промямлил Демьян, снимая шапку и крестясь, глянув по привычке в Красный угол, а потом непривычно – себе под ноги.
Маша прыснула. Барышнями называли дочерей барина или городских каких-нибудь. Ее так отродясь не величали. Только дразнили “королевишной да княжной”, намекая на ее недобарское происхождение.
– Здравствуйте, барин! – в тон ему выпалила она.
Да, девка не из робкого десятка, языкатая. Вот хорошо, что языкатая. На что нужны все эти молчуньи, глаза в пол, да скучные лица? Рассуждал наш жених.
Когда человек нравится, все в нем нравится. Особенно попервой. Любовь она глаза застит. Если бы он зашел, а она сильно стушевалась, он бы подумал. Ой, как хорошо, что скромная. На что нужны эти языкатые.
– Я – Демьян Степанович, из Коханков мы.
– Знаю, барин, – съязвила Маша, – Я Мария Евсеевна Колыванова, – подойдя ближе к нему, она сделала реверанс, как будто они были из “благородных”.
По деду значит отчество, такое же как и у ее белки-матери, ну да точно, она ж байстрючка. И прекрасно. Мороки меньше. Подсказывал лукавый в голове у Демьяна.
– Позвольте ручку – включился в игру Демьян.
Она протянула руку, оттопыривая пальчик и слегка отворачиваясь, очень натуралистично изображая кисейную барышню, вот не ровен час упадет в обморок.
Демьян вдруг стал серьезен, схватил руку, поднес к своему лицу и жадно припал к раскрытой девичьей ладони губами. Маша оторопела. В неожиданном откровенном жесте виделось нечто дикое животное и пугающее. Как будто он ее собрался съесть и начал с руки. Она хотела отдернуть ладонь, но он не отпускал, жарко глядя в ее глаза. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, что он хочет. Во взгляде не было наглости, но был напор и страсть, жар и желание. Если бы они были хоть чуть-чуть ответны, то неизвестно, чем бы эта мизансцена закончилась.
Закончилась она приходом Глафиры Евсеевны с лукошком с дюжиной яиц в одной руке и туеском с какой-то снедью в другой.
– Чего гостя в дверях держишь? – заворчала мать на Машу, как будто не видела, что гость ведет себя и без того вольно. – Проходи, мил человек. У нас небогато, да чем богаты, тем и рады.
– Благодарствую, матушка, – повторился Демьян и как-то по-хозяйски вошел в дом, озираясь вокруг словно управляющий в усадьбе. Он почувствовал немое расположение матери Колывановой и поглядывал на Машу как на дорогой, но продающийся, а значит покупаемый трофей. Что-то подсказывало ему, что стоить васильковоглазый подарок судьбы будет не сильно дорого. Дешевле, чем он готов был платить. Робость его куда-то враз подевалась.
Пробыл Демьян у Колывановых недолго. Вышел окрыленный и опьяненный самыми приятными мыслями да предчувствиями. По дороге в отчий дом нежно гладил “Гелендваген в яблоках” и пытался не уронить куриные яйца, которые всуропила Глафира Евсеевна с поклоном Таисии Афанасьевне да Степану Демьяновичу.
Дома отец принял поклон по-своему. Отходил Демьяна плетью. Не сильно, а для порядку. Чтоб охолонился и в башке провеялось, а то сдурел совсем – рысака в праздничной сбруе без спроса взял да приветы по халупникам сбирает.
Дед Антип всю эту картину зафиксировал в своем полутрезвом сознании, сложил все пазлы воедино и решил, что полностью готов пополнить новостную ленту Лобков. Дескать, Демьян к Машке Колывановой не ровно дышит, а Глашка, мать ее непутевая, рада радешенька, иначе поклоны бы не слала. А Машка то гулящая. А Демьян то ни сном ни духом.
Новость эта распространялась быстрее, чем вирусная реклама в двадцать первом веке. Подкрепляла ее подлинность другая новость – как Демьян давече на Рукаве швырнул тяжелый мокрый кафтан и зашиб безобидную Настасью Крынкину. Самое начало всей истории, а картуз уже успел превратиться в кафтан. То ли еще будет. Деревне впору запастись попкорном. Вместо попкорна в Лобках лузгали семки. Не слышали последних новостей только Демьян, Маша да Павел. Так уж водится, что главные герои сплетен узнают обо всем последними.
Глава 4 Иван Снытко
Павло, тот самый что был третьим в треугольнике Демьян-Маша-Паша, родился в горемычной семье солдатки Авдотьи Снытко. По какому-то злому стечению обстоятельств ее молодого да пригожего мужа “забрили в армию” на целую дюжину лет. На тот момент на действительную службу отправлялись “по жеребью”. Годные к службе молодцы тянули бумажки с номерами и в зависимости от цифры, либо оставались дома, в запасе, либо уходили служить Отечеству. Ивану Снытко выпало служить. Двенадцать лет не видеть мужа, когда вы и года не женаты. Авдотья голосила в присутствии (читай, в военкомате) как на похоронах.
За год до этого был издан Указ, по которому любой желающий мог внести в казну определенную сумму денег и не отбывать службу. Сумма была большой, но вполне посильной для среднего по достатку крестьянина. Называлось такое, с позиции современного военкомата, непотребство нанять за себя «охотника» (Охотник – в данном случае не тот, кто по лесам дичь бьет, а тот, кто делает что-то по своему желанию, в охотку). Хороший Указ, да только нужной суммы у Снытко не оказалось. Иван был пригожий, но не шибко хваткий. Кроме того, он был вполне себе уверен, что родители отдадут с их двора служить младшего брата Серго.
Было правило отдавать сначала бессемейных. Но как раз перед набором вылилось, что младший брат обрюхатил девку из соседнего Борщово. Их спешно обженили, чтобы живот молодухи из срама превратился в гордость. На семейном совете было решено отдать в солдаты Ивана. Наревелась тогда Авдотья. Да ничего не поделаешь.
Чтобы ощутить полнейшую нефортовость ее мужа, достаточно знать, что на следующий год прошла знаменитая военная реформа батюшки царя Александра II. Что Иван Снытко почувствовал, когда через месяц после призыва узнал, что отныне будут призывать не на 12 лет, как его, горемычного, а на 6, одному Богу известно. Что он в этот момент сказал? Слова эти солдатские навряд ли могут быть печатными.
После того как забрали ее “родненького”, “единственного”, “ненаглядного” Ивана в солдаты Авдотья не вернулась на двор свекра, а осталась проживать отдельно. Оно и понятно. Молодая, не сказать, чтоб уж очень красивая, но манкая для мужчин Авдотья не сумела пополнить нестройный ряд верных своим мужьям солдаток. Крестьяне не слишком осуждали бобылок. Судьба у них была незавидная. Примерно у одной из двадцати женщин была возможность встреч с мужем, да и то раз в несколько месяцев, а то и лет.
Везучесть Авдотьи и Ивана Снытко не оставляла им шанса попасть в тот маленький процент удачливых семей, кому положены были встречи. Пехотная дивизия, в которую по несчастливой случайности попал Иван, была откомандирована на борьбу с бусурманами в какой-то далекий и непонятный простому русскому крестьянину Туркестан (Земля, ставшая русским Туркестаном (Средняя Азия при СССР), была присоединена к Российской Империи во второй половине 19 века. Сейчас она разделена между Казахстаном на севере, Узбекистаном в центре, Кыргызстаном на востоке, Таджикистаном на юго-востоке и Туркменистаном на юго-западе. На эти земли активно претендовали англичане. “Бусурманами” зачастую командовали английские офицеры). Наш горемычный солдат наверное мог бы много чего интересного да занятного написать своей дрожайшей и оставленной без присмотра половине. Но вначале службы Иван был абсолютно неграмотен. А когда его уже в армии обучили писать, читать и считать, он посчитал глупым писать не умеющей читать Авдотье. А то бы он с удовольствием ей поведал, что баба по-бусурмански это баян, а сарай – это дворец. И что ему очень хочется поиграть на своем баяне у себя во дворце. Но на этом баяне играли другие.
Через восемь лет после рекрутинга Ивана в солдаты стало известно, что где теперь Иван никому, окромя Бога, неизвестно. Если бы Ивану да Авдотье повезло родиться в семье дворян, то оставшись без кормильца Авдотья могла бы рассчитывать на сносную пенсию. Про везучесть семьи Снытко уже много нами сказано. Крестьянскому сословию никакие пенсии в те времена не полагались. При том, что отставные офицеры получали не только пенсию, но и специальное дополнительное пособие на оплату прислуги. Такие были нравы.
Свезло нашему солдату Снытко по итогу вот в чем. Семья его ширилась и ему для этого ровным счетом ничегошеньки не приходилось делать. В тот момент, когда родился его первенец Павел, он мог быть занят в битвах за крепость Геок-Тепе в песках Каракумов (На месте крепости Геок-Тепе в 1881 году был основан Ашхабад в качестве передового опорного пункта русских войск), если бы не пропал парой лет ранее. Так как он по-прежнему не значился в списках убитых, сын и обе рожденные опосля с шагом в два года девочки, Людмила и Малуша, были записаны как дети солдата Снытко. Развестись с безвестно отсутствующим сколь угодно долго мужем по тем временам не представлялось возможным.
Авдотья жила с детьми с северной стороны Лобков, ближе к хутору Левдиков. Изба, амбар, пуня ( Пуня – сарай для хранения мякины, сена и пр.) – все добротное, просторное, успели справить с Иваном до его скоропостижного отбытия в армию. Кряжистый, но крепкий еще свекр Елисей предлагал отделить со своего двора младшего Серго с молодой жинкой, а Авдотью забрать к себе. Покуда Иван из солдатов не воротится. Строили то для сына Ивана, а не чтоб Авдотья туда мужиков таскала. Супружница кряжистого “горжилхоза” в приватной беседе высказала свои соображения на сей счет. “Перетопчешься, хрен старый! На кой нам тут Авдотья?! Ишь чего удумал. Седина тебе в бороду, бес в ребро. Постыдися!”. Елисей Павлович не смог найти сколько-нибудь увесистых аргументов против наглых и небоснованных подозрений и отходил бабку вожжами. Не нашли его идеи поддержки в лице и других частях тела Авдотьи. Так, из-за глупой ревности ушло из семьи имущество не знамо кому.
Когда у Елисей Павловича через семь лет отсутствия дома сына пошли один за другим “внук и внучки” он вспоминал эпизод с вожжами и многократно хотел его повторить на спинах и бабки, и Авдотьи. Да было поздно и бесполезно.
По понятным причинам Павел своего “деда” почти не знал. Когда Паша по малолетству бегал к ним на двор и обращался к Елисею “дедусь”, тот крякал как будто его подстрелили и невнятно ругался. Ребенок был конечно ни в чем не виноват: ни в рекрутчине, ни в том, что “Авдотья совсем стыд потеряла”, ни в том, что “бабку слушать было нечо”. Но доставалось за всех Пашке. “Дедусь” отвешивал ему затрещины как будто поучал родного внука. “Елисей Палыч мы, Елисей Палыч, бисова ты душа, оглоед окаянный, нашел дедуся!” Авдотья не раз пожалела, что зачем-то сказала сынишке, мол тут твои дед да бабка живут. Наверное, не сдержалась, представляя лицо свекра, когда малец назовет его “дедушкой”. Пораскинуть умишком и предвидеть, что мальцу хорошенько всыпят, она не сдюжила. Дуня принадлежала к той категории жителей Лобков, кому не особенно хотелось лишний раз задумываться. Она жила здесь и сейчас, решения принимала чаще сердцем, а не разумом. Отчего зачастую упускала выгоду.
Павло вырос в худощавого, крепкого и милого парня. Он даже был чем-то похож на своего “отца” Ивана. Те же раскосые глаза, белесые кудри, какая-то нежность во всей конструкции тела. В двадцать первом веке он мог бы снимать клевые видосы в тикток и томно смотреть в камеру, поправляя челку или чуть прикусывая губу. Наверняка, он стал бы популярным и не было бы отбою от фанаток, так и дымел бы директ. В конце девятнадцатого века ему приходилось дымить, помогая взрослым выжигать по весне лес, чтобы в следующем году помогать сеять на этом месте рожь. Все трое детей Авдотьи были совершенно друг на друга не похожи. С Павло можно было смело списать Леля из славянских сказок (Лель – в славянском дохристианском эпосе маленький пламенный бог любви, весны и молодости, оплодотворения всего живого. Чаще всего изображался молодым златокудрым юношей). Добродушный, пригожий, голубоглазый и тонкокостный. Людмила, на шесть лет младше брата, в противовес своему имени (Людмила – Милая людям) была неприветливая, с темными волосом и глазами, с каким-то тяжелым недетским взглядом. Сызмальства она смотрела на мир исподлобья, как будто ожидая от действительности еще какого-нибудь подвоха помимо отсутствия в жизни тяти. Она почему-то напоминала мышь или блоху. Мелкая, кусучая и дурная.
Малуша, сестра ее, была крупная круглолицая и улыбчивая. Между ней и Людой было два года разницы, но выглядели они как однолетки. Малушино ладное тело как будто не знало голода. Румянец не сходил с щек и глаза излучали спокойствие. Почти всякий, кто приходил в дом, путал имена девчонок.
Всякий: “Которая из вас Людмила? Ты куколка златоволосая? А Малушенька, ты, девочка?”
Люда про себя: “И не в склад и не в лад – поцелуй кобылу в зад”
Люда вслух: “Обознатушки. Я – Люда, она – Луша”.
Павел с детства ощущал, что он единственный в семье мужчина и на него вся надежда. Безропотно и с усердием выполнял он любые работы, не помышляя, что можно от забот отлынивать или ослушаться мать. Авдотья и рада бы не нагружать парня, да ничего не поделаешь, какое-никакое – хозяйство. Коровушке сена накосить, воды в дом натаскать, коровник почистить, огород вскопать, крыльцо поправить, что-то починить, что-то наточить, а хорошо бы и за денежки работу какую по соседям сыскать, да в дом копеечку принести. Это вам не у репетитора после школы часик позаниматься, тесты порешать да раз в три дня пакетик с мусором, кряхча как старый дед, до мусоропровода донести.
В одном повезло – Павел как единственный в семье кормилец не подлежал призыву в армию. Семья Авдотьи расплатилась с государством по этим счетам. Слава Богу, прошли те времена, когда все мальчики, нарожденные в семье солдатки, зачислялись в воинское сословие и в будущем должны были повторить незавидную судьбу своих формальных отцов.
Глава 5 Авдотья
С того дня как Демьян запустил картузом в Настасью, защищая на реке честь байстрючки Марии Колывановой, минуло десять дней. Воздух налился весенней свежестью, попросыпались и повыползали букашки, весело чирикали птички во дворе. Параскева Ивановна Балабкова, в миру Герасютиха (кликали так по девичьей фамилии), по частому своему обыкновению пожаловала до соседей Снытков. Она чуть не наступила на жмурящуюся на солнышке трехцветную кошку. Та, внезапно и дерзко потревоженная шумной юбкой Герасютихи, прижалась к земле и сделала полукруг на присогнутых лапах, зыркая недобро на пришелицу.
– Ну нечо, нечо! Что ты вздыбилась, котеюшка?– примирялась с четерехлапой хозяйкой гостья. Сегодня Герасютихе хотелось выглядеть особенно приветливой и доброй.
Павел чем-то стучал в пуне, починяя инвентарь. Парень выглянул поздоровкаться, услыхав сквозь шум своей работы звучное “здорово, соседушки. Как спалось?”
– Слава богу, все хорошо. Благодарствуем, соседушка. Вы как? Как девицы ваши поживают? Как дед? – ответствовала Авдотья по всем правилам крестьянского этикета. Обменялись нехитрыми домашними новостями.
– Попить бы чего-нибудь, соседка, – напросилась Герасютиха.
Хозяйка жестом пригласила Параскеву Ивановну в дом, поднимаясь по ступеням и обметая подолом домашней шерстяной юбки высокое крыльцо. Кошка последовала за людьми, авось, прямоходящие будут трапезничать и кусочек ей, красавице, перепадет.
Войдя в хату, обе женщины поочередно перекрестились на образа в Красном углу. В избе щекотал ноздри запах свежесваренных щей. Постные. Определила для себя Герасютиха, как будто в Великий Пост могли у кого-то быть приготовлены скоромные (Скоромное – еда с мясом, яйцами и другими продуктами животного происхождения. Постное – то, что можно есть в пост).
– Ладный у тебя Павло, работящий, – начала издали Герасютиха, поглаживая стульчик прежде чем притулить на него свой увесистый зад.
– Благодарствую, соседушка, не жалуюсь, послал Бог сыночка, мне горемычной в помощь, – заехала спереду разговора Авдотья, помятуя, что у Балабков две девки перестарка да еще две на выданье (В XIX столетии крестьянские девушки выходили замуж по меркам XXI века рано, в 15-17 лет. В 20 лет они считались уже «перестарками». В 35 у большинства женщин на селе были взрослые дети, в 35-40 почти все становились бабушками. Возраст для вступления в брак был установлен законом: 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин, но в сельской местности могли отыграть свадьбу, а запись в церковных книгах сделать попозже, по наступлению положенного возраста. Для вступления в брак необходимо было получить согласие родителей независимо от возраста жениха и невесты. Согласие брачующихся носило иногда формальный характер. Считалось, что родители дольше понимают жизнь и знают лучше, кто подходит молодым) – угощайся, Ивановна, кваском свеженьким, – предложила Авдотья, и не дожидаясь ответа, налила гостье кислый квас. Оставив крынку на столе, хозяйка подошла к печке и открыла заслонку. В печи стояла большая чугуняка, в горнице еще шибче и приятней запахло нехитрой крестьянской едой.
– Тебе бы в помощь еще одни женские рученьки. Разлетятся твои дочки по семьям вскоре. Самой придется всю бабью работу по дому влачить на своих плечах. А плечи то поди наносились за жизнь непростую, ой, наносились тяжестей житейских, – гнула свое Герасютиха, жалостливо и с пониманием да добром глядя на Авдотью. Она качала головой, глядя как крепкая да справная хозяйка легко достает ухватом из печи полную чугуняку не меньше ведра по объему (Ведро – основная русская дометрическая мера объема жидкостей, обычно 12-15 литров). Качала с таким видом как будто ноша для той была непосильной.
– Еще одни женские рученьки – это, бабушка, еще один в семье рот. А нас и так на дворе четверо. Хорошо соседи добрые, когда-никогда да помогут с работами полевыми. А иной год сами управляемся, – хозяйка поднесла к столу табуретку и присела за стол – Нам бы еще одного мужика в дом, – распрямляясь и потягиваясь, как будто желая продемонстрировать свое совсем не старое дородное и мягкое тело потенциальным женихам,– закончила мысль Авдотья. Она зачем-то встала и, вставив руки в боки, прошлась по горнице, сладко вспоминая былые годы, когда хаживали к ней мужички. Да вот ни один не удержался.
– Да где ж его раздобудешь ныне, матушка, – всплескивала руками с поддельной грустью и беспокойством Герасютиха. Она подошла к оконцу, заглянула в него, словно высматривая мужичка для соседушки. И за неимением такового, обернулась и подошла к Авдотье с самым серьезным лицом. С таким выражением люди обычно приступают к важному торгу, давая визави понять, что дело нужное и копейничать не стоит.
– Мы с тобой одной кровушки крестьянской, обе горемыки. Прости Господи, что скажешь. Так уж сложилось, по воле Его, аль супротив, того я не разумею. Твой муженечек сгинул в чужих землях, а мой дед с Крымской то вернулся, да без ноги, да как выпьет так лютует. Старший сын пятерых деток с жинкой настрогали. И ток один – пацан, да помер скоренько. А потом и жинка его в шестых родах померла, два года как схоронили. Так сыночек не оправился, все пил беспробудно, да в Варенце потом нашли. Еле священника уговорили в ограде положить, взял он с чего-то что Алешенька по доброй волюшке втопился. Свят, свят, – искренне и с большим чувством осенила себя крестом Герасютиха. Но тут же вспомнила, к чему весь разговор затеяла. Если бы бабка Герасютиха владела теорией НЛП (НЛП – Теория межличностного общения, развития личности и психотерапии. НЛП было разработано в 1970-х годах американцами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. Широко применяется, в том числе, в агрессивных манипуляциях), то она знала бы что такой прием в переговорах называется подстройкой (Подстройка – процесс намеренной демонстрации схожести с собеседником. Важна при установлении раппорта. Это когда вы установили доверие и человек готов следовать за вами, то есть соглашаться с вами, идти у вас на поводу). Но бабка, мастерски владея техникой установления раппорта, делала все не по науке, а по зову своей крестьянской выгоды, для счастия своих домочадцев.
– Царствие небесное Алешеньке вашему, – со вздохом, понимающе кивая, перекрестилась, глядя на образа темного письма в углу Авдотья.
– Помощи нам с тобой, бессеребреницам, ожидать неоткудова.
– Твоя правда, соседушка, неоткудово, – соглашалась присмиревшая Авдотья. Она села на табурет, вся как-то съежилась, вздохнула и глубокая межбровная складка, сильно просившая ботокса, как сказали бы косметологи в начале двадцать первого века, стала глубже и виднее.
Параскева Ивановна присела рядом, взяла ее ладони в свои руки и заговорила как можно проникновеннее.
– Давай к друг другу лепиться, Авдотьюшка. Вы ж мне и так, как родные. Обженим детей наших, породнимся по-христиански. Всем легче будет, – перешла к основному тезису Герасютиха.
Авдотья враз встрепенулась, сбрасывая с себя гипноз Герасютихи, как страшный сон поутру. Старушка не ведала, что для пользы дела нужно как минимум три “да” от собеседника, а уж потом свою тему толочь, поторопилась бабуська.
– Какую же из своих кровиночек за Павло моего отдать думаешь? – глаза матери жениха смотрели на гостью с прищуром. Как если бы в доме случилась пропажа или кража только готовилась, а вор он вот он, напротив сидит, и ты смотришь на него, не желая пока говорить, что преступление раскрыто, но уже киваешь и источаешь всем своим существом мысль “Эх ты, что удумал, не стыдно тебе?”
– Дык не гоже младшим поперед старшой замуж выскакивать, Авдотьюшка, – заерзала Герасютиха, еще не догоняя своим умишкой, что подстройка не удалась и что вопросы ей задаются, только чтоб выведать всю полноту коварства.
– За Богдану стало быть толкуем, – как хороший следователь повторила за подозреваемой хозяйка.
– Стало быть за Богдану, соседушка. Работящая она у меня, смирная, слова поперек от нее не услышишь. Одна радость такую в семье честной заиметь. От сердца отрываю кровиночку мою. Главная она у нас во всем доме, все хозяйство истинно на ней, – нахваливала залежалый по меркам того времени товар бабка.
– Как можно в таком разе у вас ее забрать, соседушка? Грех это. Лишу вас опоры большой. Еще какой большой – она у вас еле в дверь проходит, такая опора что задница шире плеч раза в три, – заводилась Авдотья.
– Так это она в нашу Герасютину породу. Мы все справные, да к деторождению пригодные, широкобедрые да грудастые. Хоть по два ребеночка зараз закладывай. Чай у вас есть двойнятки в роду аль нет? – заискивающий добрый такой взгляд, прямо в душу. Хороший прием. Жаль не сработал.
– Бог не дал такой радости, – всплеснула руками Авдотья и подскочила с табурета, как будто он стал неожиданно горячим и обжег ей седалище – И вашей Богданы нам не нужно. Уж простите, соседушка, как есть скажу. Ну как мы ее прокормим? У нас и без нее ртов хватает, прости Господи, четверо. Милке скоро четырнадцать, Лушке – двенадцать весен, едят как взрослые, да мы с Павлом. Да он ее и обхватить не сдюжит, Богдану вашу, – все увереннее и увереннее говорила Авдотья, убеждая и себя и соседушку в глупости затеи. Нет это ж надо себе такое намечтать. Да за ее Павла пригожего любая пойдет, ну может не любая, учитывая кой-какие обстоятельства, но можно невестами поперебирать.
Герасютиху так просто не проймешь. Делай, что должен, и будь что будет. Замечательный принцип отчаявшихся людей. С одной стороны, сделай все, что от тебя зависит, старайся, до последнего, не сдавайся. С другой, после того как сделал все, от тебя требуемое, предоставь воле Божьей случиться, как Им было задумано. Сейчас бабка чуяла, что разговор не удается, но у нее хорошие карты в руке, как сказали бы картежники, и даже один козырь.
– Чай не раздавится голубок твой Павлушенька, сдюжит. Говорят, тощие парни до полнотелых пирожочков ой как охочи, – бабуська причмокнула, как будто смакует свежеиспеченную ватрушку и ватрушка на вкус – ну точно Богдашенька ее внученька, сладкая да мягкая.
– Ну вот и ищите тощих охотников на вашу булочку сдобную. Ничего худого я про вашу Богдану не говорю, по-соседски завсегда ей рада, но в невестки брать не буду. Уволь ты меня от этого разговора, Ивановна, – закрывая переговоры, отвернулась от Герасютихи хозяйка. Она начала суетиться вокруг печи, как бы показывая, мол, посидели, квасу попили, а нужно и хозяйством заниматься, а не о пустом полдня гутарить.
– Каку ж вам невесточку надобно? Аль побогаче кого присмотрели да с приданым знатным? – не унималась соседушка, стараясь задеть за живое.
– Да если бы побогаче?! Если бы! – нервно заходила по избе Авдотья. Эвона, гетуновская девка Антонина все глаза на моего Павло в церкви третьего дня проглядела. Уж целый год глаз с него не сводит, испепеляет всего.
– Гетуны – знатное семейство. Все у них честь по чести. Одних коров голов двадцать, да гульного скота не перечесть. Нешто они Тонечку свою отдадут за Павлика вашего? Такой невесте и жених нужен честь по чести, да чтоб с “поклажей” богатою (Поклажа – дары жениха невесте. Обычно в поклажу входила шуба, кое-что из одежды и деньги. Размер поклажи задавался родителями невесты при первичном сватовстве – смотринах. Если невеста нравилась родителям жениха, то они либо соглашались, либо просили уступить, уменьшить поклажу. Помогала им переговорщица – сваха. Иногда родители невесты нарочно требовали непосильную для семьи жениха поклажу. Зная, что им такую вовек не собрать. А иной раз родители жениха, если на смотринах им чем-то не угодила невеста, не соглашались даже на малую поклажу и уходили домой, говоря “мы подумаем, посоветуемся с родственниками”. Такие вот тонкости брачного крестьянского этикета). Даже купца могут ожидать, – подливала маслица в огонь Герасютиха.
– Тонька у Гетуна – любимица. Кого выберет, за того и отдадут, девка хорошая, да тятькой балована, – Авдотья продолжала нервно ходить, метя подолом юбки пол, – А мы что – мы тоже не голодранцы. Корова есть, даст Бог приплод в этом году будет. Тут бы хорошее невестино приданое очень впору было бы и зажили б как люди, – делилась соображениями Авдотья.
– Мы бы с Богдашенькой в приданое дали крупы две меры да сундук с одежей справной: шерстяной сарафан, полушалок пуховый да две рубахи, из постельного – стеганое ситцевое одеяло, – вставила свои пять копеек соседушка.
– Обещала я тебе, Ивановна, на чистоту говорить. Так вот скажу я, что не видать мне ни Тоньки, ни хоть бы сундука вашего, потому как Павлик мой с Машкой Колывановой милуется. Свадьбу еще на тот мясоед хотел с ней справить, на силу отговорила (Мясоед – период между постами, когда по церковному уставу разрешена мясная пища). Думала, охолонится парень. Ведь живут они, бесстыжие, взрослой любовной жизнью, а парень обычно, когда энто дело получит, враз остывает к зазнобушке, – она остановилась, налила себе квасу и хлопнула стакан залпом почти, как будто это была горилка или какой другой спиртной напиток, – Не тут-то было! Не таков оказался мой Павлушенька. Только и слышу дома. Маша то, Маша се! А Маша – голь перекатная, за нее и курицу не дадут!
– Не дадут. Откуда у Глашки окаянной лишняя курица в хозяйстве? А мы бы с Богданушкой вам петушка б завернули. Знатная у наших петушков порода, хоть на бои выставляй, хоть суп вари, – не отступала от принципа “гни свою линию” Параскева.
Но Авдотья разошлась не на шутку и ни про каких петушков уже расслышать не могла. Видно было, что мысли про свадьбу Павло давно у ней в голове зародились, сформировались и им суждено было появиться на свет Божий прямо сейчас, цепляясь одна за другую. Повитухой стала Герасютиха, ненарочно спровоцировавшая эти роды.
– Глашка еще носом крутит. Не для вас я Машеньку, цветочек мой аленький, растила, – скривляла гнусавым голосом Глафиру Евсеевну Авдотья – Поди не знает, дура, что ягодка уже Машка ее, а не цветочек. Того и гляди семечки с нее пойдут приплодом Пашкиным, тогда точно пиши пропало – высказала наконец все свои опасения Авдотья, ища взглядом поддержки у Герасютихи.
Только вот беда, Герасютиха пришла опасения не развеивать, а сеять. Чтоб потом развеять единственно верным способом – женитьбой на ее старшей внучке Богданушке. Девке давно пора было замуж. То, что она не в меру упитанная, по тем временам было скорее достоинством невесты, но почему-то женихи не толпились. Наверное, из-за небогатого приданого. Откуда ж ему взяться то, коли на дворе сразу четыре невесты.
То, что Демьян Коханок Богдану в жены не возьмет, было ясно как божий день. Поэтому у Коханков в доме таких разговоров Герасютихой сроду не велось. Зато бедовый Коханок, наверное, единственный из всего села, кроме вдовых, кто мог взять порченную девку и не поморщиться. Коханкам коли глянулась девка, все было ни по чем. С приданым невеста, аль без, что и кто о ней по селу болтает. Уж сколько таких историй о них было, не перечесть. На то и Коханки. А Павлуша, как любовь его с Машкой расстроится, наверняка женится на ком мать скажет. С такими мыслями Герасютиха достала наконец из рукава главный свой козырь:
– Машка то может за кого другого выскочит.
– Врешь, бабка, кому она, халупница, нужна? – в сердцах выпалила Авдотья – еще и Павел ее спортил – махнула она рукой в сторону Герасютихи, словно та тоже была виновата, что Пашка спал с Машкой, – деваться нам особо некуда теперь.
– Глянулась она Демьяну Коханку, а ты их породу знаешь. Не посмотрит он, что девка порченная. Опосля конечно будет ей пенять, но коли глянулась, Демьян не отступится. А я в их союзе пособить берусь. Где нужно слушок распущу, когда нужно сплетни перекукую, да с ног на голову все переставлю, – степенно продолжала Параскева Ивановна.
– В этом ты, соседушка, большая мастерица, надо отдать тебе должное. Язык твой что помело метет, никого не щадит, – прищурилась на Герасютиху Авдотья, вспоминая сколько сплетен о ней самой распустила в свое время словоохотливая соседушка.
Много она страдала от молвы на селе, оставшись в девятнадцать лет без мужа. Из-за сплетен передумал строить с ней быт кареглазый бобыль Михей, отец Людимилки. Ох и страдала Авдотья, в омут кинуться хотелось. Михей был ее поздней и сильной любовью, она цвела с ним как в последний раз, а он бросил ее из-за наговоров. Потом оказалось, что под ее сердцем бьется сердце нового человечка. Вспомнила она и как нахватавшийся бредней Герасютихи и всяких злых на язык людей Михей беспочвенно сомневался, что ребенок от него. Как жгли ее каленым железом его укоры и распросы.
– Как тебе мои разуменья, Авдотьюшка? Сплавим Машку Коханку да свадебку нашим деткам сыграем. Породнимся по-христиански? – повторилась Герасютиха. Видимо, это была заготовленная фраза, да бабка запамятовала, что уже ее использовала. Забыла она думать и о Михее, конечно, и как пятнадцать лет назад сплавляла в угоду какого-то другого хитроумного разуменья саму Авдотью.
– Благодарствую, Параскева Ивановна, за вести, за заботу. Идея мне твоя ясна. Вижу, ты о детях наших переживаешь да радеешь. Только гоже Бога гневить, в дела сердечные вмешиваться. Хай ужо сами разбираются. А там как Бог решит, так тому и быть. Сладится коли у Демьяна с Машкой, да Павло мой на Богданушке намерится женится, препятствовать не стану. А сплетни какие распускать иль сына неволить я не сподобна, – холодно и с достоинством ответила Авдотья, торопливо и суетно выпроваживая незваную гостью из избы на двор.
Добрососедское настроение покинуло Герасютиху.
– Глупая ты баба, Авдотья. Демьян – мужик лихой, битый. Уж пятый год как со службы пришел. Сколько невест ему Коханиха прочила, а он все перебирал, нагличал, гулять гулял с бобылками да солдатками, а о свадьбе и думать не хотел. А Машка его душу сильно забрала, у меня глаз наметанный. Он твоего Пашку в бараний рог скрутит, выплюнет и не подавится, коли тот на его пути встанет. Тайка Коханиха любую невзгоду навести может. Локти потом кусать будешь, – не теряя надежды пристроить Богданушку, увещевала сплетница номер один всей Погарской волости совсем сбитую с толку соседушку.
– Как Бог повелит, так тому и быть. Прощевайте, Параскева Ивановна.
Проводив гостью, Авдотья вернулась в дом. На душе неспокойно. Трехцветная кошка хотела подластиться к ней, выгнула спину и тыкалась мордашкой в ноги. Хозяйка споткнулась об нее. Та отскочила и смотрела укоризненно, как будто говоря: “Да что с вами сегодня, кожаные?!” Авдотья хотела убрать крынку с квасом в погреб, да посудина запотела, выскользнула из рук и разбилась на черепки. Вся юбка была в квасе. И хотя потеря кваса и крынки не нанесла существенного урона хозяйству Авдотьи, женщина, опустившись на пол собрать глиняные кусочки, так с осколками в руках и заплакала. Тихо и горько, предчувствуя большую беду. Крупные слезинки падали на юбку прямо на пятно от кваса. Словно она специально разлила квас, чтоб никто не приметил пролитых в глухом одиночестве слез.
Глава 6 Демьян
До 1872 года Погар принадлежал к территории стародубского казачьего полка. То есть, населяли эту местность в основном казаки – служилые люди, готовые в любую трудную минуту прийти на помощь стране в полном оружии. Как и при каких обстоятельствах казачьи малороссийские семьи перевели в крестьянство в конце восемнадцатого века – доподлинно сейчас одному Богу известно. Возможно, Бог хотел сохранить казачью кровь, предвидя их массовое истребление через сто лет с небольшим во время становления Советской власти. Если так, то Его далеко идущий план на примере рода Коханков во многом сработал.
Есть предположение, что в одну из ревизских сказок некоторые казаки добровольно переписались в крестьяне, чтобы не нести пожизненную воинскую повинность (Ревизская сказка – перепись населения. Называлась сказкой, потому что составлялась со слов, “сказом”). Но кровь не водица. Как себя не называй, а порода берет свое.
В Демьяне Степановиче Сипейко текла червонная кровушка стародубских атаманцев. Многие поколения Коханков до его рождения в 1871 году числились казаками. То, что по неясным причинам они стали значиться податными крестьянами, не могло вытравить горячность, задор, казачье упрямство и своеволие. Этих качеств, которые нравятся женщинам и раздражают мужчин, у Демьяна было с лихвой. Плечистый, рослый да статный, волосы с рыжиной, орехово-зеленые глаза, дерзкий взгляд. Его правнучки, в один голос сказали бы, что он брутал и альфа-самец.
В Лобках начала двадцатого века назвать Демьяна самцом вряд ли кто решился. А ежели бы решился, то абсолютно целым ходить ему пришлось бы скорее всего недолго. Иной раз крутоват на расправу бывал Демьянушка. Но только за дело. Вообще слыл справедливым, хоть и своенравным, но не злобивым. Да и откуда злости взяться?
Дом – полная чаша, хозяйство крепкое, одно из самых зажиточных в Лобках, не сравнивая, конечно, с усадьбой Наврозовых или домом купцов Сомовых. Отец с матерью, слава Богу, в добром здравии. Младший брат Илья года четыре как при семье. Живут справно. Акулина, жена его, чернобровая, пышнотелая да работящая, коханкам отрада. Илья с Акулькой сына прижили и, даст Бог, еще наживут.
Вернулся из армии Демьян за четыре года до смены девятнадцатого века на неспокойный двадцатый. Спесь, какая была по молодости, местами пообтесалась с Демьяна за время действительной шестилетней службы. Все пять лет, что сменяли своим чередом друг друга после его радостного возвращения целым и невредимым, Таисия Афанасьевна присматривала Демьяну самых лакомых невест.
В первые два года перебрали ладных и справных девок из ближайших станиц, сел и деревень. На третий год радиус поисков существенно расширили за счет добрых семей и хозяйств дальних от Лобков поселений. Что тоже не принесло урожайных результатов. Не потому что подобающих невест не было в наличии и не потому что Демьян был особенно привередлив. “Не по сердцу, матушка”, – так каждый раз говорил Демьян и отправлять сватов в очередной раз откладывалось.
Положение усугубляли сельские солдатки да бобылки. Кабы Демьян не справлял свои мужские потребности благодаря их непотребству, возможно, вопрос о надобности жены стоял бы злободневней, особенно по утрам. Но Демьян был один из немногих видных и в добавок свободных мужичков в Лобках. Простой, заботливый, сильный как мужчина, что еще нужно? Одинокие бабы были завсегда рады его простым, но неустанным ласкам. Иной раз он помогал им с покосом или с другими крестьянскими делами, покуда управлялся со своими, в другой раз мог и с денежкой помочь. Романтика села – это не цветочек на подушке, а вскопанный твоим мужиком огород. Бабонькам отрадно было видеть Демьяна на своем подворье и тошно, когда он с такой же молодецкой удалью управлялся на хозяйстве по соседству. Они бы его наперебой привораживали да от разлучниц отсушивали, но вот беда, мастерицей в подобных делах была Таисия Коханиха, евойная матушка.
Ни одна из бобылок молитвами ее соперниц и Коханихи не застревала занозой в сердце Демьяна. Ему нравилась одна славница еще до армии, шибко нравилась. Но он всеми силами притушил дикую первую страсть. Парень здраво рассудил, что сначала отслужит, а потом, даст Бог, вернется и женится. С девчушкой он даже ни разу не целовался и себя ждать не наказывал. Та лишь смутно догадывалась о силе его чувств. Видел Демьян, как живут солдатки в отсутствии мужей и не желал такой судьбы девке, и сам не хотел рогами притолоку задевать.
Девку ту родители выдали, покамест он в армии был, замуж и она умерла в первых родах. Возможно, это каким-то образом сказалось на нежелании Демьяна прикипать душой к женскому полу. Может, если бы он посетил модных в Австрии и Франции психотерапевтов, те подсказали как быть. Но Демьян мало того, что родился на селе, где психотерапия в принципе не развита, так еще и в России, а не в Австрии, к тому же не в том сословии, чтобы иметь свободное время на душевные страдания.
Жизнь текла своим чередом и он был вполне ею доволен. Пока не повстречал повзрослевшую Машку Колыванову на Рукаве. Она чем-то напоминала ту, первую девушку, что пускала сердце Демьяна в галоп добрых десять лет назад. Ладненькая, белокожая, с васильковыми глазами, толстой пшеничного цвета косой и чуть вздернутым тонким носиком. Она могла бы отлично вписаться в дворянский интерьер и украсить собой чью-то дорогую гостиную. По деревенским канонам – чуть худовата, ведь в норме крестьяне искали в невесте дородность, широкие да крутые бедра и хорошее приданое. Жена – это еще одна пара рук в хозяйстве и мать для деток. Но у Демьяна на дворе матери помогали батрачки. Семья могла себе позволить нанимать людей и этот факт мог пополнить копилочку причин, отчего сын был так долго не женат.
Все дороги ведут, как известно, в Рим. Римом для Демьяна этой весной стал дальний хутор. Куда бы ни отправился Демьян, все правил коня на знакомую дорожку. Другой раз и пешим совершал знатный крюк, лишь бы пройти мимо хатенки Колывановых.
Чаще всего его привечала Глафира Евсеевна. Они с Демьяном были почти ровесники и Глаша мнила себя женщиной в самом соку. То кофточку не застегнет до конца и с деланным стыдом при Демьяне поправляет. То юбку подоткнет по какой хозяйственной надобности, чтоб белизна икр была видна гостю. Демьян не мог не видеть всех ее немудреных бабьих ухищрений. Не будь он влюблен в дочку, может, и сгодилась бы ему Глашка. Так, на пару раз. Но он не собирался размениваться.
В один из погожих весенних дней, Демьян посетил семейство Колывановых, возвращаясь из Погара. Тарантас был запряжен гнедой лошадью, которая до недавнего времени звалась Машей, но уже месяц, как была переименована в Марфушу. Демьян лихо соскочил с козел, поднимая маленький тайфун придорожной пыли, и захватил с собой небольшой сверток
– Здравствуйте, маменька! – звучно обозначил свое отношение к Глаше Демьян
– Ох и нашел маменьку, – жеманно смеялась хозяйка, – здоровей видали, – приподнимая бровь и меряя парня взглядом, хорохорилась она.
– Что дочка ваша? дома?
– В дом? Проходи, проходи – как будто не расслышав вопрос, приглашала Глафира, шурша нижней юбкой и плавно покачивая бедрами. Она шла впереди Демьяна то и дело, оборачиваясь. Поворот головы: “Ой, не смотри на меня так”,– говорит взгляд. Отворачивается. Снова поворот: “а впрочем, ладно, смотри”.
Демьян и не думал смотреть, и весь маленький женский спектакль пропадал без зрителя.
–Я вам, матушка, рыбки привез, – сказал Демьян, особенно остановившись голосом на слове “матушка”. Он аккуратно прошел через сенцы, переживая как бы снова чего не опрокинуть, как в прошлый раз.
– Благодарствуем, – процедила сквозь зубы Глафира.
Рыба была редчайшим в Лобках угощением. Варенец – широкая, но мелководная речка. Доброй рыбы в Погарской волости почти не водилось, так, мелюзга всякая. Гостинец был знатным. Удивить таким образом “Машку с Глашкой, чтоб зенки у них повыпали” посоветовал вездесущий дед Антип.
– Так Маши нету? – пытаясь не показывать глубину расстройства, еще раз спросил Демьян.
– Нету, соколик, – как-то недобро глянула хозяйка, принимая сверток.
– Где же она?
– Где ж ей быть? – вроде как сама у себя спросила Глафира. И покумекав, через мгновение обрушила на Демьяна слова – Мабуть, с Павлом? Как на заре ушла к Сныткам, так домой еще не верталась. Передать что?
Глаза мужчины вспыхнули как два уголька. Вспыхнули и погасли. Он умел себя сдерживать, когда нужно было. Потолковав с Глафирой о ничего не значащих для обоих вещах, Демьян откланялся.
Новость, что Маша зарюет со Снытком, пришлась Демьяну не по нраву. Поначалу он даже хотел пойти по уже разыгранному десять лет назад сценарию – наступить своей страсти на горло. Но в этот раз “коханковская” порода взяла верх над доводами разума. К тому же он смекнул, что дело не в распутстве девки, а в ее своеволии и упрямстве. Была бы блудливой, так Павло был бы не единственным и ворота всенепременно ребята давно дегтем вымазали, да и держала бы она себя по-другому. Он предпринял на всякий случай несколько попыток найти в ней распутство, но ее реакции говорили в защиту ее чистоты и неопытности в амурных делах.
Демьян собрал небольшое досье, используя соцсеть Односельчане. ОтметЯ то, что селяне могли рассказать про Машу и Павло из зависти, ревности или злобы, выходило вот как. Павло и Маша дружат с детства, повзрослев, решили разделить жизнь друг с другом. Но Авдотья, мать Павло, переживала, что еще один рот при двух малолетних сестрах Павло будет в семье лишний. А Глафира рассчитывала на жениха побогаче, чем безродный Павло. Маша проявила своеволие – стала, не дожидаясь свадьбы, любить своего Павлика. Нехитрый ход искренней любви разбивал вдребезги хрустальную мечту матери о славном и зажиточном будущем за счет удачного замужества дочери. К такому повороту часто прибегали девушки, чтобы их не выдали замуж за нелюбого.
Когда ты прикипел к кому-то, все в этом человеке вызывает восхищение. Какая Маша смелая да гордая, – размышлял лежа в пуне на мякине Демьян, – не побоялась молвы и осуждения. Мария виделась ему гордым красивым существом, которое хотелось приручить и любить, покорить, а потом холить да лелеять.
– Эх, девка, не за тем парнем ты побежала супротив материной воли,– вспоминал о Павло Демьян – но по зову сердца, – клал он копеечку в копилочку Машиных достоинств.
Менее влюбленный человек, может, усмотрел бы, что то был зов другой части Машиного тела и не было здесь особенной гордости да дерзости, а одна лишь глупость женская да неуважение традиций. Степан Демьянович был как раз из таких людей. Родитель знал, что переубедить Демьяна, коли что задумал, сама Царица Небесная не сможет, прости, Господи, что скажешь.
Степап отпускал колкие шуточки по поводу Маши, Павло и Демьяна, чтоб хоть чуток остудить сына, но только разогревал того еще жарче. Вылетал молча Демьян из хаты, играя желваками, не желая продолжать разговор, чтоб не перечить отцу да ходил опосля с лицом каменным.
– Молчи уж лучше, Степан, не поминай при сыне Колыванову – говаривала мудрая Таисия, по привычке практически не используя мимику, с таким же каменным лицом, как у Демьяна. Не для того, чтоб морщин меньше было, об этом ей переживать было поздно и в то время морщины не считались чем-то позорным, а чтоб никто не мог по лицу считать мысли.
– Аль думаешь хорошая партия Машка для Демьяна нашего, может сватов зашлем? Эт я мигом. Ой, погоди, хромой то кобылы у нас в хозяйстве нету, на чем же поедем к нашей паночке? – прятал тревогу за остротами Степан Демьянович
– Нехороша партия. То, что бедные, это пусть. Это иной раз только на руку, больше в жене уважения. То, что погуленная девка – беды не вижу, коли девка хочет позор скрыть и признательна после, – размышляла вслух повидавшая жизнь Таисия, стоя посреди горницы и придерживая рукой голову, как будто мысли в ней были тяжелы или напирали на лоб.
– Отчего ж нехороша тогда партия, матушка моя? Что худое про нее знаешь? – спрашивал Степан серьезно, привставая со скамьи в нетерпении.
– Худого не вижу. Неплохая девка-то. Душа у нее чистая, прямая, гордая. Уступила бы Демьяну, он бы и охладел вскоре, а Павло простил бы опосля и все бы разрешилось. Да не уступит она, не люб ей Демьянушка. Как бы сын какой беды не наделал.
Степан Демьянович нутром чувствовал, что жена видит больше, чем говорит. Знал он и то, что проговаривать вслух беду – лишний раз горе кликать и потому не расспрашивал, уповая, на Господа. Пусть отведет, что бы ни узрела Таисия. Бог любит Коханков. Чай, беды не допустит. Но беда была тут как тут, даром, что не звали.
Глава 7 Павло
За весной явилось лето в сарафане заливных лугов, с подолом налитых зерном хлебов, с рукавами цветущего табака да хмеля. Урожай выдался богатым, работы на селе было через край. И стар, и млад были заняты делом от зари до зари. Не было времени для страданий, обид, любви, свадеб. В добрых хозяйствах все, кроме крестьянского труда, откладывалось на осень.
Степан Демьянович нагружал Демьяна Степановича больше обычного. Иногда пускался на хитрости, притворяясь более немощным, чем на самом деле. Старик в прямом смысле слова не давал сыну ни минуты продыху.
Павло нанялся на уборку табака в соседней волости. Обещали платить по пятьдесят копеек в день. Мать Авдотья разрешила сыграть свадьбу с Машей по осени, но денег парнишка должен был заработать сам.
Колыванова младшая пошла сезонной кухаркой на усадьбу к Наврозовым. Она готовила нехитрую еду для нанятых на лето людей и помогала делать запасы на зиму в виде солений, варений, колбас, пастилы, сушеных овощей, ягод и фруктов. За труд от зари до заката девушке платили по двадцать копеек в день. Совсем не густо. В разы меньше платили женскому полу по сравнению с работниками-мужчинами. Знай, Маша, что это никуда не годится и что существует равноправие и что платить должны одинаково, без всякого шовинизма и сексизма, так наверное осталась бы без работы. Но она не знала ни о суфражистках, ни о феминистках, и была рада тому, что получает (Суфражистки и феминистки боролись за права женщин. Для начала им невтерпеж как хотелось голосовать наравне с мужчинами, получать плату за труд не меньше, чем мужчины, иметь доступ к образованию и все такое. Впоследствии все это привело к тому, что женщины получили не только права, но и ворох обязанностей, типа платить налоги наравне с мужчинами, содержать детей. По мнению автора, именно их движение способствовало тому, что мужчины по всему миру перестали законно нести ответственность за женщин. Потому что всякая идея, доведенная до абсурда, становится абсурдом). Еда и кров предоставлялись, к питию вина Маша была равнодушна, так что все денежки ей удавалось копить. Она знала, что мать будет кочевряжиться, как придут сваты от Павло, и хотела ее умаслить хорошим подарком. Лучший подарок для Глафиры Евсеевны – денежки. Оченно она их уважала.
Герасютиха подалась с несколькими девками да бабами на богомолье. Пойти на богомолье – звучит благопристойно и, наверное, представляются крестящиеся старушки в белых платочках, что расточают поклоны поясные да заемные Творцу. На деле на богомолье уходили женщины разного возраста. В основном не отягощенные большим хозяйством или если есть кого на хозяйстве оставить. Детей малых зачастую брали с собой. Возможно, чтоб было проще христарадничать, то есть, попрошайничать.
Официально миссия была не в бомжевании и отлынивании от тяжелой крестьянской работы, а – в паломничестве ко святым местам. Наверное, так крестьяне реализовывали свою тягу к путешествиям, чтоб из привычного попасть в непривычное, мир посмотреть да в конце пути святым мощам да знаменитым иконам поклониться. Телевизора и Интернета не было, не было даже цветных открыток. Единственный способ увидеть диковинное – снарядиться, добраться и посмотреть. Вместо селфи – живые эмоции и память на всю жизнь. А потом, в своем краю ты становишься ведущим “Орел и решка”, рассказывая по многу раз, что в далеких краях повидал. По дороге на дворах постоялых и ночлегах могло происходить всякое. Так что, придя к месту назначения, всем было о чем помолиться и за что у Господа попросить прощения. А когда и у кого нет такого повода?
В отсутствии Герасютихи функции главного местного канала новостей были творчески разделены между дедом Антипом, Агафьей Ельцовой и Анчуткой Цыганковой. Справлялась эта троица так себе. Сплетни разносились ими хаотично и без особого прицела, бездумно передавали они услышанное и увиденное. Разве что Агафья могла добротно прибрехать да хорошенько приукрасить, но до Герасютихи ей было далеко.
В конце августа через село проходил табор цыган. Они разбили свой стан, не доходя до Погара версты три. Их цветные шатры и палатки раскрасили убранное желтое поле всего на пару дней. По ночам молодежь ездила на зов их костров и песен. Крестьяне близлежащих сел и деревень зорко стерегли своих коней, не одобряя цветастого соседства. На третий день пожаловали казаки из уезда и табор без особенных возражений снялся с необжитого места.
В Лобках все кони были на месте. Не досчитались средней внучки Герасютихи – Меланьи Балабковой. Говаривали, что этот же табор проходил здесь год назад, когда Меланье было пятнадцать (Брачный возраст в России наступал для мужчин с 18 лет, для девушек – с 16. Требовалось согласие родителей или опекунов). Черноглазый и чернобровый сын цыганского народа еще тогда пришелся Меланье по вкусу. В этом году они сговорились и в условленный час тот увез девушку в табор. “Коней уберегли, а козочку одну подрезали”, – комментировал произошедшее дед Антип на своем новостном канале.
Добровольный отъезд Меланьи с “нехристем” стал самым большим инфоповодом лета. Сельчане качали головами и радовались за родителей новоиспеченной цыганки, дескать, те не дожили до такого позора. Одноногий дед Балабок, как бы извиняясь, долдонил “я ж без ноги, не уследил”. Как будто наличие у него второй конечности могло как-то изменить ситуацию и затушить страсть Меланьи к черноглазому цыганчонку. Признаться, пропажа лишнего рта, не сказать, что обрадовала старика, но точно не сильно расстроила. Иначе он мог бы пожаловаться десятскому или волостному старшине и шанс вернуть Меланью был очень высок. Шанс то был, но Балабок им не воспользовался.
Тем временем летний сарафан Брянщины сменился пестрым осенним платьем. На богатом цветастом одеянии: пуговицы черники и поздней смородины, орнамент душистых яблок и сладких слив, россыпь червленой облепихи, подол – из убранных колосьев ржи, овса да пшеницы. Кружилась природа Черниговской губернии (Село Лобки в начале двадцатого века принадлежало к Погарской волости Стародубского уезда (читай – района) Черниговской губернии (области)) в таком одеянии под оркестр багряной, желтой, красной, бордовой, рыжей и золотой листвы, наполняя душу осенним неспешным вальсом.
Работы немного поубавилось. Группа паломниц с Герасютихой вернулись до дождей по домам. По дороге им встречались сезонные рабочие. Те понесли пожитки в холщовых заплечных мешках, надеясь поймать трудовую удачу в городах. На селе их услуги в этот год были более без надобности. Осядут горемычные в шинках, прогуляют большую часть летнего заработка и с чистой совестью и пустым или полупустым карманом будут сетовать на свою судьбу. Не зря революции обычно зимой или поздней осенью свершают. Подходящее у людей, кто себе дела не нашел, настроение.
В середине сентября Маша Колыванова вернулась из усадьбы Наврозовых на дальний хутор. Как только рассчитали сезонных работяг, местная немолодая кухарка всеми правдами неправдами выжила Машу со своей кухни. Обоснованно переживала старуха, что Маша миловидней и расторопней, чем она. А на симпатичную прислугу, известно, глаз панский больше радуется. Такая конкуренция кухонной работнице была не по нутру и она потратила немало хозяйской наливочки и других весомых аргументов управляющему усадьбой против присутствия на усадьбе Маши.
Возлюбленный Маши Павло пришел из Погара на дальний хутор пешком. Потный, в дорожной пыли, со сбитыми ногами, даже в таком неприглядном виде не смог он миновать подворье Колывановых.
Маша прижалась к нему всем телом, ощущая запах его путешествия и дробный стук сердца. Не таясь, долго долго стояли они посреди улицы, словно прорастая друг в друга, превращаясь в одно целое. Павло был невысокого роста, всего на пару вершков выше Маши (1 вершок – примерно 4,45 см). Глаза их были почти на одном уровне. Маша верила и не верила, что вот он, ее Павлуша, стоит перед ней и она видит себя в его глазах, на которые то и дело падают его белесые длинные кудри. Они бы еще долго простояли, не в силах наглядеться друг на друга. Но соседская детвора загалдела: “жених и невеста, тили-тили тесто”. На их крики выскочила как ошпаренная из сарая Глафира Евсеевна, стрекоча по сторонам беличьим своим взглядом.
– Здравствуйте, Глафира Евсеевна, – устало произнес Павло.
– И вам не хворать. На чем же записать такое счастье, Палываныч? Какими судьбами? Нешто сразу к нам? А как же маменьку проведать? Не хорошо, Палываныч, не хорошо. Поклон Авдотьюшке.
Глаша не дала молодым перемолвиться даже парой фраз, выпроводив возлюбленного дочери со своей территории на нейтральную по добру, по здорову – до дому, до хаты.
– На закате, на нашем месте, – уже вдогонку услышал Павло любимый голос-колокольчик своей Машеньки.
– На нашем месте, на нашем месте, – кривляла Машу мамаша, – ух! Всыпать бы тебе по одному месту! – не выдержала Глафира, глядя на филейные части дочкиного тела. Так и шла она за ней, сжимая маленькие кулачки и как будто ища по двору хворостину. От бессилия ее беличье хитренькое и востроносенькое лицо покрыла испарина.
В версте от двора Колывановых на Павло повисла другая женщина. Авдотья. Мамочка. Так же смотрела она на Павло и не могла налюбоваться на его необычного цвета лилово-голубые глазоньки, на золотистые кудри, ниспадающие на красивое его лицо. Высыпали на улицу сестренки, прильнули к мамке и брату.
– Совсем невесточки, – улыбался Павло, осаждаемый бабьим войском. У него было чувство, что он пришел не с работ из соседнего уезда, а с войны. Так тепло они его встречали.
На сходе велели всем хлопцам двадцати лет явиться в уездное Присутствие в первый день грудня (Грудень – ноябрь), – уже в хате, меча на стол все, что есть в печи, вспомнила заполошная Авдотья. Присутствие – царская канцелярия, выполнявшая, в том числе, функции военкомата.
– Жребий что ль тянуть? – спокойно спросил Павло, откидывая кудрявые волосы назад, чтоб в тарелку не лезли, окаянные (С 1874 года все годные на службу парни тянули жребий и в соответствии с вытянутым номером шли на действительную службу или в запас, а по истечению 15 лет – в ополчение. От жребия освобождался ряд льготников. Льготы были разных разрядов и видов).
– Нииии, – протянула Авдотья, – у тебя льгота самого первого разряда (Первый разряд льготы по семейному положению: а) для единственного способного к труду сына, при отце, к труду неспособном, или при матери-вдове; б) для единственного способного к труду брата, при одном или нескольких круглых сиротах, братьях или сестрах; в) для единственного способного к труду внука, при деде или бабке, не имевших способного к труду сына; г) для единственного сына в семье, хотя бы при отце, способном к труду и д) для внебрачного ребенка в семье, на попечении которого находились: мать, не имевшая других способных к труду сыновей, или сестра, или неспособный к труду брат). Один ты добытчик при мне и малолетних сестрах. Я узнавала. Писарь в Присутствии сказывал, пожизненная льгота энта.
– Бумагу надобно наверное справить, чтоб льготу зачли? – предположил Павло, не догадываясь как тяжело будет получать такую бумагу для военкомата в двадцать первом веке и как сильно за сто лет изменится состав льгот.
– Известное дело. Волостной староста сказывал, что бумагу о семье выправил и куда следует передал. Я спрашивала про свидетельство из волостного правления, он кажит, не потребуется.
Авдотья помнила, как забрали в солдаты ее муженечка Ивана. Долго после этого в страшных опустошающих снах ей являлось военное присутствие и последний виноватый и жалкий взгляд Ванечки. Она просыпалась, разметавшаяся по кровати, в слезах и поту и с ужасом понимала, что это не сон, а тяжелое муторное воспоминание.
– От Глафиры Евсеевны поклон, – жадно сербая “варево”, сквозь рот, полный еды, передал Павло (Варево – щи или подобие супа. В Орловской губернии в скоромные дни варево приправлялись салом, в постные – конопляным маслом).
– Благодарствую. Когда ж успел до них? – чуть заметно поджались губы Авдотьи.
– Так мимоходом, мам, по дороге ж мне, – загружая остатки щей из миски в запрокинутый рот, оправдывался сын. Он словно хотел спрятать лицо за миской.
“Прям как пеликан едой нагрузился”, – могла бы подумать Авдотья, но она никогда не видела пеликанов и поэтому не подумала.
Павло хотел было обсудить с матерью предстоящую свадьбу с Колывановой, но его остановили поджатые материны губы при упоминании о Глафире Евсеевне. Ну как толковать о сговоре с будущей свашенькой, когда одно имя свашеньки вызывает оскомину. (Сговор (обручение, помолвка, запой, заручины, просватанье, своды, рукобитье) – важная часть русского свадебного обряда, в ходе которой родители жениха и невесты договаривались по поводу свадьбы детей. Устанавливался окончательный размер приданого и поклажи, оговаривались всякие материально-технические свадебные приготовления. Сваты знакомились семьями и зачастую напивались пьяны в доме у невесты. В том числе, чтоб увидеть всю подноготную будущих родственников)
Да и что обсуждать, обещала мать добро дать. Он все лето спины не разгибал на табачной фабрике. Целых пятьдесят целковых скопил на предстоящую свадьбу. Не возьмет матушка слов обратно. Осенний мясоед продлится до начала Рождественского поста (Осенний мясоед (между Успенским и Рождественским постами) начинается на следующий день после праздника Успение Божией Матери – 29 августа и продолжается до 27 ноября – дня святого Апостола Филиппа. В народном календаре древних славян 14 (27) ноября назывался Куделицей. Он завершал сезон свадеб. Таким вот чудесным образом накладывались христианские праздники поверх уже существующих народных обрядов). На дворе – хмурень (сентябрь). Есть еще времечко, чтоб сговориться да сделать все честь по чести. Хорошо бы в свадебник (октябрь). Только удастся ль сговориться с Колывановой старшей? Не запросит ли ее беличья душа непомерную поклажу? Кого позвать поязыкатей в свахи, чтоб разрешила спор? Одному такие сказки не рассказать, а мать неожиданно стала не в духе. После потолкуем, – прокрастинировал Павло.
В середине октября-свадебника Маша и Павло нежились на теплом зипуне в риге.
– Паш, мне в материном доме тошно. Мать совсем голову потеряла. Прочит меня замуж за нелюбого, за рыжего Коханка. Он ей мягко стелет, она тает. Я ей говорю, сами за него и идите, матушка, коли он вам так нравится
– ахаха! хорошо ты придумала
– я то хорошо придумала. Ты что делать думаешь?
– Поговорю с матушкой да зазовем сватов к вам
– Когда ж поговоришь?
– Поговорю, горлица моя, поговорю. В духе добром будет и поговорю.
Мать Авдотья так и не пришла в нужный дух до самого грудня, в первый день которого нужно было зачем-то явиться в уезд. Со слов старосты, Павло требовался “для мебли”. Тянуть жребий ему без надобности. Дескать, в этом году всем годным, включая льготников, надлежало явиться вместе с призывниками в Стародуб. Путь не близкий, почитай тридцать пять верст.
Все годные к службе парни отгуляли свое в ночь перед первым ноября (Годные – в ночь перед тем, как отправиться тянуть жребий, кто из них пойдет на действительную службу, а кто в запас, все годные к службе двадцатилетние парни по традиции шумно и весело гуляли). Лобки каким-то ежегодным чудом выдержали буйное веселье призывников. Павло не упустил возможность погулять с друзьям. Возможно, с кем-то из них они больше не увидятся. Один из них угощал и угощал его, сверх всякой меры. Почти до зари вся ватага годных шкалик за шкаликом опустошала запасы местного потайного, но известного всем шинка.
Ехали в Стародуб гуртом. Было холодно и ветер разгулялся, мать его так. Павло где-то оставил шапку и наборной пояс зипуна, сидел нахохлившись, весь мятый и не протрезвевший. В дороге так замерз, что ничего не понимал и двигался на чистом автопилоте, как сказали бы его правнуки.
Приехали. Казенный двор нагонял серую тоску. Где он? Зачем он здесь? Долго ему еще тут стоять с призывниками? И когда их, льготников, повезут домой? И где дОлжно стоять льготникам? И куда делся староста? Вопросы медленно шевелились в заспанной тяжелой голове. Вспухая, как волдыри жижи на болоте.
Призывники тянули жребий. Их вызывали поименно. Неожиданно Павло услышал свою фамилию вкупе со своим именем. Надо же какое совпадение, шевельнулось в его замерзшем мозгу. Опять. “Снытко Павел!” “Снытко Павел?!”
– Иди! Тебя! – кто-то толкнул его и он поковылял через плац. Вытянул продолговатую бумажку. Номер он ее не видел, писарь забрал листочек и огласил его сам. Аккурат номер для действенной службы. “У меня льгота. Первого разряда. Семейная. У меня льгота. Бумага ж есть”, – твердил он всем вокруг, но никто не слушал. Была бы льгота, чтоб ты тут делал? Льготники дома на печах лежат.
То ли обманул их с матерью староста, то ли что-то напутал. А только попал Павло на действительную службу, как кур во щи. Было это в ноябре 1901 года. Призывались ребята на долгих шесть лет. Помятуя об антивезении старшего Снытко, не сложно угадать, что белесые кудри Павло никто больше в Лобках не увидит.
“И ведь не одной они с Ванькой Снытко крови, а невезучесть Ванькина передалась. Авдотья, значится, корень невезения, через нее вся беда”, – зло вещал потом по селу беспощадный канал бабки Герасютихи.
Как только дошел до Маши слух, что Павло ее теперича в армии, себя не помня, полетела-побежала девка к несостоявшейся свекрови на двор.
– Через тебяяяя всяяяя беда! Гадинааа! Павло говаривал, глаза-василькиии у ней, у Машеньки моеееей. А сама змея проклятая! – голосила в слезах и отчаянии Авдотья.
– Авдотья Филипповна, Господь с вами. В чем я то пред вами виновна? Я Павлика люблю и ждать буду.
– Чего ждать ты будешь? Через твою любовь окаянную пропал сыночек мой, кровиночка, – источала свою боль, раня всех вокруг Авдотья. Малуша и Людмилка жались друг к дружке на передней лавке, ничего не понимая, но веря, что вот она, змея, Машка, через нее брата забрали в армию. Армия рисовалась им чем-то вроде Ада, откуда живыми не возвращаются.
– Зачем вы так говорите? – бесцветно проскрипел Машин голос – я к вам, к одной пришла, не к кому больше.
– Уйди с глаз моих, уйди, проклятая, и не попадайся мне, мОчи нет на тебя смотреть.
Маша беспомощно подняла руки к опухшему от слез лицу, на секунду задержала их обручем, словно придерживая, чтоб голова ее не раскололась на части, тяжело вздохнула, покачала головой в знак неверия тому, что случилось, и пошла прочь, держась за голову, не отнимая рук ото лба. Павло, ее златокудрый Лель, не приедет к ней и свадьбы в зимний мясоед не будет ((Зимний мясоед длится с Рождества (7 января) по последний день Масленицы. Свадьбы играют обычно после Иванова дня (20 января) и до Масленицы (начало масленичной недели – дата плавающая, примерно конец февраля – начало марта)).
Глава 8 Варвара Макаровна
Ошибалась Машенька. Случилась свадьба. И не за двадцать рублей, а за двести! Давно в Лобках так не гуляли.
В первые дни святок (Святки – несколько дней после Рождества Христова) снарядились Коханки на смотрины невесты. Демьян запряг в сани серого рысака в яблоках и гнедого донской породы коня, помог усесться Таисии Афанасьевне и свахе Варваре Макаровне. Степан Демьянович взгромоздился самостоятельно, всем своим видом показывая, что хоть он и участвует в затее, но затея гроша ломанного не стоит. Демьян, благодарно заглядывая в глаза матери, заботливо укутал ноги родителей овчиною, сам сел рядом с Макаровной, раскрасневшейся от мороза и выпитой “для хорошего сговора” водочки. Та стреляла по сторонам глазами, придерживая на коленях подарки и угощенье. Правил Илья, Акулина примостилась рядом с ним на кОзлах и концессия тронулась в неспешный путь.
В это время принаряженная Глафира Евсеевна скакала белкой по избе. Макаровна загодя обговорила с ней общие моменты, а этим утром Коханки отправили Колывановым голосовое сообщение. Дескать, кланяемся, принимайте в вечеру гостей. Голосовушка была платной и в валенках. За труды сын батрачки Кирюшка получил одну копеечку. На обратном пути малец раззвонил новость по всему селу. Очевидно, функция “рассказать всем, кого встречу по дороге ” входила в стоимость оплаченного тарифа.
Бабка Герасютиха, как только новость достигла ее не по годам чутких ушей, тотчас засобиралась к Колывановым. Ее гнал к ним журналистский долг, вперемешку со святым крестьянским любопытством. Еле дожила она до вечера. Слава Христу, вечерело в январе рано, а не то б она совсем извелась. Явилась бабуська часа за полтора до Коханков. Там уже находился дед Антип. Глафира Евсеевна сама его кликнула, чтоб выступил в роли крестного Маши, заменяя отца. Антип глядел на Параскеву Ивановну с нескрываемым превосходством.
Ощущение превосходства журналиста-конкурента подталкивало Герасютиху к действиям. Она изводила и без того дерганную Глафиру Евсеевну искрометнейшими замечаниями да вопросами, типа “подсобить чем, хозяюшка?” “а может сухой калинки к чаю принесть?” “а хлеб то не сырой внутри, Глашенька, что-то бледноват?” “а водки немало ты приготовила?” “а из закуски то что?” Евсеевна готова была выгнать горе-помощницу взашей, но понимала, что ни по чем Герасютиха не уйдет. И только приговаривала “ой, соседушка, не знаю, я не знаю, еще вы под руку булькаете, сидите ужо!” Антип Балабок, осознавая дальше и глубже важность миссии, возложенной на него, весь раздувался и совсем уж свысока поглядывал на Герасютиху, отчего та еще больше кудахтала, а Глафира Евсеевна еще больше подпрыгивала.
Не об водке да закуске переживала Колыванова старшая, а о загадочной непредсказуемости Колывановой-младшей. Как ее разобрать? Весь последний месяц, как Павло попал в солдаты и Авдотья, как ни бегала по присутствиям, как ни молила, не смогла вернуть “льготника”, Маша была сама не своя. Бледная и словно не живая. Как будто Павло унес в кармане зипуна ее душу. Тело Маши осталось в Лобках и способно было совершать какие-то механические обыденные действия, а душа ушла из этого тела сопровождать горемычного возлюбленного в его армейских мытарствах.
По всему селу трезвонили, что избираемый раз в три года староста пошел на встречу Коханку и подстроил жребий Павло. А как не пойти было старосте? Голоса Коханков на сельском сходе весили гораздо больше, чем голос Павло Снытко (Сельский сход – местное крестьянское самоуправление. Крестьяне по сути вели общинное хозяйство. Например, подати (налоги) собирались старшиной и подавались от всего села. Если зажиточные крестьяне (основные плательщики) не уплатят их в срок, то старшине не миновать неприятностей с земскими властями. Принятие решений на сельском сходе напрямую зависело от самых больших семей, которые обычно были заодно. Таким образом, они могли влиять на старосту и на жизнь всего села, держали народ “в кулаке”. Возможно поэтому зажиточные большие семьи называли в деревнях “кулаками.”). Проголосуют против Коханки – и полдеревни за ними повторят. Не видать тогда старосте своего места. А это шестьсот рублей жалованья, да еще столько же, а то и поболее, на всяких махинациях при распределении общественной собственности.
И вот по непроверенным слухам зачинщик Машиного несчастья – Демьян едет свататься. Слышала ли дочка треп про старосту и Демьяна или не слышала? Что она там себе думает за пустыми невидящими никого глазами? Что у ней за настроения? Как себя дочь поведет? Глафира Евсеевна могла только догадываться. Вот и металась баба по избе как белка в преславутом колесе, занимая себя деятельностью, чтоб успокоить нервы. А тут еще Герасютиха со своим журналистским расследованием!
“Едут! едут” – послышались со двора запыхавшиеся детские голоса и через несколько долгих мгновений в небогатые владения Колывановых въехали сани Коханков. В тот же момент что-то с дребезгом разбилось в бабьем углу (Бабий кут (бабий угол, печной угол, теплюшка, чулан, кухня) находился напротив “рта” печи. Обычно крестьяне отделяли его от основного помещения занавесом или деревянной переборкой, так что получалась маленькая комнатка – исключительно женское пространством в избе).
Глафира Евсеевна с Антипом Ельцовым по традиции не пошли встречать гостей, а ожидали чинно в хате. Первой вошла Таисия Афанасьевна. Ни одной мысли на лице ее прочесть невозможно. Она почему-то напомнила Глафире Евсеевне Богоматерь Семистрельную с иконы, что стояла в красном углу. Обладательница непроницаемых, но острых как алмаз глаз была одета в богатую беличью шубу и красивую расписную шаль. Следом за иконой крестьянского стиля показалась Варвара Макаровна в овчинном добротном тулупе. Женщины поздоровались.
– Нам за матицу перейти надо, – по-театральному громко и певуче молвила Варвара.
– Что ж, хорошее дело, – залопотала в ответ Глафира, чувствуя, что дело и впрямь для нее хорошее.
Дальше дежурное: “у вас товар, у нас купец”, “мы не шутим”, “и мы не шутим, мы с отцом согласны.”
После этих слов в горницу вошли оставшиеся концессионеры. Степан Демьянович поглаживал ладную длинную бороду, как будто он не был уверен, что пришел по адресу. Глаза Демьяна напротив жгли пространство исступленностью и было ясно, что он или уйдет отсюда с “товаром” или …не может быть никакого “или”. Акулька с Ильей хранили нейтральные лица.
– Сейчас дочку спрошу,– метнулась Глафира за пеструю ситцевую занавеску в бабий угол.
Демьяну показалось, что их нет добрых полчаса. На деле прошло минуты две. Наконец гордо появилась Евсеевна-старшая. Будущая свашенька ступнула пару шагов от занавески, явно рассчитывая, что позади нее неслышной девичьей походкой грациозно семенит дочь. Глафира посторонилась, обеими руками медленно и театрально зачерпнула немного воздуха и перенесла этот воздух справа от себя, чуть за спину, словно показывая “вот оно – мое сокровище сияет перед вами”. Шасть глазами, а сокровище-то за ней не вышло!
Глафира выпучила глаза на полное отсутствие Маши, как будто могла ее материализовать силой мысли. Она выставила две ладони вперед от себя, жестом давая понять: “Дорогие мои зрители, минуточку, технические неполадки, сей же час все будет исправлено” и скрылась за занавеской.
Демьян побледнел, еще жестче стал его взгляд. Отец закатил глаза, глубоко-глубоко вздохнул и перестал гладить бороду. Таисия хранила то же лицо, с которым вошла. Макаровна заметалась, похоже, она в совершенстве владела техникой “метаться, не сходя с места”. В том ей помогал украденный по традиции веник – нещадно колол под юбкой, куда она его мастерски спрятала. (По преданию украденный свахой веник сулил согласие невесты. Домыслы автора: когда-то давно одну из предприимчивых свах уличили в краже хозяйственного инвентаря и ей ничего не оставалось, как придумать эту традицию. Типа “на кой ляд мне ваш веник вшивый, традиция такая, а вы, дураки темные, и не знаете, тьфу на вас!”. Так и пошло) В голове у ней закипело: “Ужель веник не сработал?! Батюшки светы, что деется!”
Но сила веника пересилила волю Маши и каким-то чудом она вышла за матерью. Та вела ее теперь за руку, как маленькую непослушную девочку, что не хочет рассказать гостям стишок.
“Как же хороша!” – мысль Демьяна.
“Фух! Сработал веник! – мысль Макаровны. Покалывания веника стали ей теперь родны и приятственны.
– Как вы, батюшка и матушка, желаете – глядя на всех и ни на кого конкретно еле слышно, холодно и обреченно произнесла Маша.
Таисия и Варвара подошли к девушке. Обычно свахи на этом этапе осматривают “товар-невесту”, как какую-нибудь скотинку перед покупкой. Могут даже попросить пройтись или показать зубы, высказывая свои оценочные суждения. Возможно, Макаровна так бы и поступила. Но начать осмотр должна была мать жениха, а та что-то медлила и отходила от принятого протокола.
Вместо того, чтобы задать ряд унизительных вопросов, Таисия Афанасьевна глянула в глаза будущей невестки. Смотрела она долго и пристально. “Наша Маша”. Сказано было с участием, ласково и по-матерински. Мария словно очнулась и взгляд ее потеплел. Видно было, что она не ожидала такой обволакивающей добротой фразы. Чувствовалось, что давно не слышала она подобных фраз и сердце истосковалось по человеческому обращению.
Таисия словно напустила на нее гипноз, гипноз принятия. Когда ты чувствуешь, что кто-то принимает тебя всего без остатка, со всем твоим прошлым, всеми ошибками и горестями, принимает не потому что одобряет, понимает или сочувствует, а просто разрешает тебе быть самим собой и ни за что не осуждает.
– Что ж, можно и винца выпить! – с облегчением выдохнула Глафира, вернув своим голосом Машу в привычный опостылевший мир попреков и сравнений.
Дальше были разговоры при “поклажу” от жениха и “дары” от невесты и совместные возлияния сватов. В общем, “пропили невесту”, как ритуально называется сие действие.
Как во сне прошли для Маши “смотренки” (Смотренки, смотрины – еще один ритуальный совместный пир в доме невесты с богатыми гостинцами от жениха и родни невесты), благословение матери и свекров и “покатушки” (Жених после смотренок катает невесту и ее подруг по селу), девичник и сама свадьба. Она не была весела, но была спокойна и даже иногда улыбалась. Безропотно выполняла невеста все необходимые предсвадебные и свадебные действия: подставляла голову, когда повязывала будущая свекровь платок на голову, шила жениху рубашки, парилась с девушками в баньке, где распускали ее девичью косу, держалась с Демьяном за руки, стояла красивой точеной статуэткой в церкви на венчании.
Проснулась она, когда обнаружила себя на брачном ложе – обычной завалинке в избе у Коханков. Демьян истово целовал ее губы, осыпал поцелуями лицо, шею и плечи, просунул горячие умелые руки под исподнюю рубашку, легко нашел ее тверденькие девичьи груди, приятно сжал пальцами соски, отчего у Маши внизу живота потеплело и повлажнело. Он словно ждал этого и его рука легко и точно определила, откуда исходит жар Машиного тела и хозяйничала в срамном месте. Тело жены выгнулось и она часто, удивленно и испуганно задышала. Муж проник в нее, властно, уверенно, страстно и со знанием дела. Она вытерпела приятное вторжение, но несмотря на благоприятные факторы особого удовольствия от близости не испытала. Демьян оставался по-прежнему чужой.
Если бы Маша смогла хоть на минутку отключить голову и расслабиться, то наверняка не раз была бы потом инициатором брачных игр с мужем. Но она не догадалась так сделать. Не читала она в Космополитене, что оргазм – в голове и что ей непременно его нужно испытывать при каждой близости. Маша испытывала угрызения совести за свое естественное удовольствие и страдала по утраченному Павло с удвоенной силой. Такое впечатление, что если бы кто-то сделал томографию Машиного мозга, то вместо обычного снимка орехового вида полушарий получилась бы фотокарточка Павлика. А то и две.
Маша не помнила, чтобы от робких прикосновений Павло с ней происходило нечто подобное, чтоб тело ее так бесчинно реагировало, выгибалось, сочилось. Не иначе рыжий Демьян – колдун и знает что-то запретное и срамное, что милый и добрый Павлик не обязан и не мог знать. Так думала новобрачная, не желая признавать, что природа взяла свое, а Павлик просто не одарен был по естественной части. Ведь секс – музыка тела, у кого-то есть слух, а у кому-то медведь на ухо наступил. А у некоторых белобрысых Лелей кое-что не больше свистульки и руки не из нужного места для энтого дела произрастают.
Глава 9 Иван
Время шло. Мария старалась всячески избегать колдовского влияния законного мужа. Ее холодность не оттолкивала Демьяна, а только больше распаляла. Заводило, что молодая жена, уступая натиску, словно совсем не хочет близости, но через несколько сладких минут ничего не может с собой поделать: извивается и стонет под ним. Ее явный и забавный страх перед его желаниями пробуждал в нем животное начало. Каждый раз Демьян покорял и укрощал супругу, как в первый. Ответными ласками рыжего колдуна Маша не одаривала. Другой бы плюнул и вернулся к более опытным в постельных делах бобылкам, но по первой Демьян наслаждался ежедневными завоеваниями и было как-то не до соседок.
К неудовольствию Акулины не особенно озадаченная работой по дому Маша находила массу времени для страданий по Павло. Мария казалась себе эдакой царевной, которую украл кащей бессмертный (Забегая вперед: Демьян Степанович (1871-1972) прожил 101 год) и непременно должен спасти Принц. Здоровые мечты шестнадцатилетней девушки. Все ждала от любимого весточки, готовая убежать с ним, куда глаза глядят. Романтичная ее натура представляла их встречу через пять лет. Как он придет за ней после армии, возмужавший, златокудрый и в кожаных сапогах, и она упорхнет из дома Коханков, только ее и видели.
Через год после свадьбы фантазии Маши о Павло приняли несколько навязчивые формы. Почти в каждом человеке, что шел по селу ей виделся возлюбленный. Положение усугубляло, что дом Коханков высился над всем селом на довольно высоком пригорке. Маша, по-прежнему не особенно занятая по хозяйству, могла украдкой изучать местность и чуть завидит кого, так вытянется стрункой и трепетно вглядывается в пространство. Ни дать ни взять Ассоль и алые паруса.
Акульке не раз хотелось врезать снохе по корпусу, чтоб выбить дурную привычку. Всем домочадцам было понятно, кого высматривает Мария Евсеевна СИ-ПЕЙ-КО. Свекр давно отходил бы невесточку вожжами и ей наверняка бы полегчало, но Таисия Афанасьевна словно взяла сторону Маши и с ее незримого разрешения та предавалась своим причудам. Не смущало гордую Таисию даже то, что невестка делилась с посторонними, что не любит Демьяна и жить с ним не будет. Ей хватило ума поделиться такими соображениями “по секрету” с Герасютихой.
Гриф “по секрету” при передаче какой-либо информации каналу инфо-Герасютиха по незримому правилу обозначал ускорение передачи данных и расширение сетки оповещенных. Чтобы прознали все и скорейшим образом требовалось добавить “Только ты уж, Параскева Ивановна, не предай меня, между нами пусть останется”. “Ни в жисть, ни в жисть, будь, матушка моя, покойна. Я никому, никому!” Если бы у Герасютихи был смартфон, она бы в ту секунду как это говорит, набирала бы под столом сообщение и делала массовую рассылку в группу “Лобки”, “Борщово”, “Погар”. Но у Герасютихи – только ноги и длинный язык.
Пару раз в первый год замужества Маша собирала свои нехитрые пожитки и уходила через село на дальний хутор. Оба раза ее, как нашкодившую собачку, приводила в дом свекров Глафира Евсеевна. С поклонами, заискиваниями, кривыми улыбками и сетованиями на дурь дочери, матерью повыбитую. На третий раз Глафира Евсеевна предприняла новую тактику, когда узнала, что дочь с мешочком отправляется до матушки. Она попросту закрыла дом и ушла ночевать к Герасютихе. То, что Машу из уважения к Коханкам никто на ночлег не возьмет, было ею тонко просчитано. К слову сказать, взять могла из любопытства Герасютиха. Именно поэтому Евсеевна окопалась у нее, а не у кого-то другого. На улице было морозно, и Маше после не очень долгих раздумий ничего не оставалось делать, как вернуться в дом Кащея. Не ночевать же царевне в сараюшке.
Через года полтора “дурь” чудесным образом исчезла. Кое-что произошло на дворе Коханков, что-то, в чем участвовало двое. С Машиных глаз вдруг упала пелена. Увидела она себя взрослой замужней молодой женщиной, которую взяли в богатый да любый дом, где долго терпят ее глупые девчачьи выходки. В доме этом она живет с одним из самых завидных мужиков села. Конечно, Маша не воспылала какой-то дикой страстью к Демьяну. Она просто приняла то, что не в силах изменить. Приняла с радостью и осознанием, что Господь лучше знает, что нужно и все, что ни делается, то к лучшему.
На третий год супружеской жизни в семье Демьяна Коханка родился первенец – сыночек Ванечка. Мать в нем, как удивительно говорят на селе, “души не чаяла”. Почему в народе закрепилось, что если ты кого-то любишь, то не слышишь, не чувствуешь его душу? Психологи, наверное, вывели бы интересную теорию по данному поводу. А физиологи – еще интересней. Простыми словами, шибут тебе в голову гормоны и ты себе отчета не отдаешь.
Мария конечно ничего не ведала ни про какие гормоны. Она беззаветно носилась со своим первенцем Ванечкой. Что было в деревне, мягко говоря, диковато. Это в конце двадцатого века стало нормой, что мать “сдувает пылинки” со своего долгожданного ребеночка, иногда забывая о муже и вообще обо всем на свете. В начале века в крестьянских семьях все обстояло совершенно по-другому. По сути, дети были чем-то вроде миниатюрных взрослых. И даже некоей обузой пока они не смогут быть полезными по хозяйству.
Если бы современные матери увидели прообраз ходунков – дуплянку, то их глаза расширились бы в неприятном удивлении. Деревянная конструкция типа стула с дыркой для совсем маленького ребенка. Дырявый стул прибит к плоскому днищу. В него вставляли мальца и он не мог никуда из него деться. В таком положении пупсик мог безопасно стоять и не мешать маме суетиться по хозяйству. Все, чем он мог ответить на данный антипедагогический прием – это обгадиться. Что было не очень целесообразно, так как зачастую количество тех, кто бросал все свои дела и кидался его подмывать, было равно нулю. Его даже могли в таком пахучем виде поставить подальше в угол. Такая вот проза детской крестьянской жизни.
Детство Ивана Сипейко по сравнению с бытом большинства крестьянских детей того времени было не прозой, а самыми что ни на есть стихами. Уж он то не стоял обкаканый и позабытый позаброшенный в уголочке. Мария не спускала его с рук, не оставляла в колыбельке “проплакаться”, нянчилась с ним как будто он был какой-то барчук, а не обыкновенный крестьянский сын.
Таисия Афанасьевна смотрела на Машу с первенцем и не выдерживала.
– Что ты с ним носишься как с писаной торбой! Ничего ему на траве не будет. Тепло давно. Пусть ползает, божий мир узнает.
– Что вы, матушка, а ну как съест что не то да захворает? В прошлый раз он у курей из поилки испил, да всю ночь колики были.
– Ну в дуплянку посади. Спусти с рук то мальца, дай ему продохнуть.
Но как только Мария давала мальцу продохнуть, тот начинал орать во все свое казачье горло, объявляя всему божьему миру, что он не согласен с политикой бабки Таисии. И сколько бы раз властная Таисия, знахарка и повитуха, уважаемая всеми в Лобках и по всему Погару, не пыталась отучить внучка ездить на матери в прямом и переносном смысле, столько раз она терпела неудачу.
В конце концов Таисия сдалась, понимая, что семья сына – это семья сына и со своим каноном в этот монастырь незачем хаживать. Она уже один раз вмешалась в их жизнь по-крупному. И Господь внял тогда ее мольбам. Так зачем его теперь гневить по пустякам? Пусть сами со своими детьми, что хотят, то и делают. А у нее и своих дел покуда хватает. Ох и мудрая да рассудительная была Таисия. Дай Бог такую свекровку.
В деревнях не принято “кусочничать”. Вся семья от мала до велика садится за стол скопом. Примерно в одно и то же время. Опаздывать к столу – верный способ остаться голодным. Пропустил обед – жди теперь, когда сядут вечерять. Накормить вне расписания могут путника или тех, кто задержался допоздна на работах. Если кому-то из семьи делают поблажки – точнехонько он – мамкин любимчик. И не говорите, что для матери все детки равны. Все равны, да, как водится, младшенькому яблочко покрасивее, да кусочек сахарку побольше. Так было и будет.
Но в семье у Марии с Демьяном сложилось иначе. Бессменным маминым любимчиком был Иван – старший сын. Чем он снискал мамину сумасшедшую любовь никто из остальных троих детей не смог бы сказать. Признаться, они об этом как-то не задумывались. Ведь и Егор, и Коленька и Анюта родились в мир, где изначально был Иван. И Иван был номер один. Ему – яблочко послаще, ему – сахарку, ему – чуть больше скупой крестьянской нежности.
И может такое положение семейных дел правильно и ладно. И могло бы приниматься всеми домочадцами полностью и с миром. Ведь с него как со старшего при всей любви спросу должно быть больше. Но что-то в этой схеме давало сбой.
Мальчик рос рассудительным, смелым и уверенным. А еще категоричным, то есть человеком у которого в палитре два цвета: черное и белое. Никаких полутонов. Формула отца “как сказал – так и будет” была им очень рано скопирована. Отчего между ним и отцом, чуть только младший подрос, возникло некое напряжение. Какое бывает между молодым и старым львом в прайде. Только у львов такое случается когда лев стал совсем стар. А Демьян был крепок и открытого противостояния не допустил бы.
Вот и в тот день на завтраке, когда вся семья была за столом, а десятилетний Ваня не занял свое привычное место, Демьян миролюбиво окликнул:
– Сядь, сынок, поешь с нами, успеешь в школу свою
– Я, батюшка, с собой котомочку возьму и в перерыве съем, неохота сейчас.
Оно конечно неохота, коли перед сном мамка пирогами с вишней накормила. Да так, что всю ночь сны цветные снились.
– Не гребуй нами, малограмотными, – подзуживает Демьян, хотя у самого церковно-приходская школа за плечами да армейские занятия и малограмотным на фоне того, что три четверти жителей России не разумеют азбуку, он не был.
– Я не гребую, батя, я просто не хочу есть и я пошел!
– Иди иди , сыночек, – запела, запорхала над своим орленком Мария, – ну что ты, Демьян, будет. Пусть идет учится. Ты же сам велел учиться хорошо. Учителя им довольны. Он у нас – родительская отрада.
Пятитилетний Егор почувствал обиду. Даже галушку бросил и смотрел на недоеденную половинку с недетской грустью. Ванька вроде как отрада, а он вроде как нет. Потому что ему бы батя уже два раза ложкой по лбу треснул. Но малец быстрехонько сам себя успокоил. Будет же и ему когда-нибудь десять – можно будет батю не слушать и тоже быть отрадой. Двухлетний Коля ерзал на лавке и тоже безмолвно мотал на ус, как нужно себя вести, чтоб мамка больше всех любила – не слушать батю и ластиться к маме. Угу. Ясненько.
Ох! Много раз потом вспоминал Демьян и корил себя, что не добился своего, не усадил сына за общий стол и позволил ему ослушаться. Вроде бы мелочь, но иной раз мелочь имеет такой вес, что потом ничем не перевесить.
Иван рос вспыльчивым. Однажды он из-за пустяка повздорил с соседским мальчишкой. Слово за слово, то да се, Ваньке – десять, тому все тринадцать и он на голову выше. Кто-то первым кого-то толкнул. Лицо Ивана налилось кровью и он стремглав помчался в сенцы, а через секунду выскочил на обидчика с топором. Добро дед Антип, рискуя остатками здоровья, Ваньку остановил, а не то, не миновать беды.
Братья Егор и Николай были гораздо спокойней. Обычные мальчуганы, готовые делать то, что им скажут старшие, делать хорошо по мере своих сил, не рассуждая и не удивляясь. А вот Иван – своенравный, упертый. Как будто взял он от отца не только внешность, но и характер. Взял, да в себе преувеличил. И Иван, и Демьян – статные, мускулистые, справные. С живым цепким взглядом, с невидимой, но ощущаемой любым, кто был рядом, мощью.
Единственное чем они внешне отличались – это цвет волос – Иван был русым, а не рыжим как отец. Сходство отца и сына в фигуре, стати, походке отмечали все, кроме мамы Маши.
Когда Ваня был совсем ползунком, она то и дело спрашивала:
– И в кого ты у меня такой красавчик уродился, Ванечка?
– Поди в батюшку, – не выдерживала Таисия принижения роли отца в детопроизводстве
– И совсем не в батюшку, а сам в себя. Сам в себя, мой сладенький. Ты у нас один такой – ворковала Машенька и зацеловывала Ванюшку как куколку
– Господь с тобой, что удумала. Виданное дело, чтоб дитятко сам в себя был. Нешто он мох козий, что без корней растет? Без роду, без племени? В Коханков он, к бабке не ходить.
Из ее уст последнюю фразу было забавно слышать, потому что бабкой, к которой ходило все село за советом да за снадобьем, была как раз Таисия Афанасьевна. Маша улыбнулась, чуть-чуть, самыми уголочками рта, но это не укрылось от свекрови. Что в ответ подумала Таисия Афанасьевна, не смог бы прочитать даже доктор Лайтман из сериала “Обмани меня, если сможешь”. До самой старости смогла сохранить ведунья и чуткий слух и тонкое понимание человеческой натуры.
В один памятный для Маши вечер наварила Таисия Афанасьевна брусничного киселя из сухой, оставшейся после зимы брусники, наварила прямо перед тем как пора уж было укладываться. Знатный кисель, сладко-кисленький да пахучий. Маша, большая охотница до всего сахарного, лупила стакан за стаканом, широко и довольно улыбаясь. Хоть и родила к тому времени первенца, временами она чувствовала себя и вела совсем девчонкой, той что ждет принца в кожаных сапогах и с белыми кудрями.
Поблагодарив Господа за прожитый день, Маша примостилась к Демьяну под бочок. На свежепостеленнной мягкой соломе было тепло и уютно. Вдобавок не разбудила благоверного и не пришлось нести сладостные тяготы супружеской жизни. Хорошо то как! Да вот на тебе – кисель, войдя через верхнее отверстие Машиного тела, пройдя свой нехитрый путь сквозь, запросился наружу. Через некоторое время женщине пришлось встать по его требованию и юркнуть на двор по естественной надобности.
Тусклая луна с трудом несла службу ночного освещения Лобков. Прямо скажем, совсем не справлялась. Маша почти на ощупь выбралась на воздух, сделала несколько быстрых шагов за пуню с посапывающими домашними животными и замерла.
Она увидела привидение. В паре десятков аршин (Аршин – 71,12 см). от амбара в белом одеянии на коленях стояло чудище. Кикимора – пришло в крестьянскую голову девушки логичное объяснение. Маша истово закрестилась и даже крестила в воздухе существо, еле слышно лепеча “чур меня, чур меня”, но картинка не менялась.
Существо продолжало стоять и, как Маша смогла расслышать в глухой тишине ночи, молилось. Молилось горячо, не замечая ничего и никого вокруг. Существо было Таисией Афанасьевной.
Господи, Святый Боже, помилуй мя. Ниспошли в сердце невестки моей, рабы Божией Марии, любовь к моему сыночку, рабу Божиему Демьяну. Открой ее сердце для любви, для радости. Открой душу ее для разумения. Помоги Господи семье нашей. Ниспошли нам лад да радость, деток здоровых, хлебов богатых, лет долгих…
Она что-то достала из рукавов и бормотала: “в сладости волосы сплетаются. Так и души Демьяна и Марии в страсти и неге сплетаются”.
Маша обмерла. Даже кисель присмирел в ее теле. Она попятилась назад маленькими шажочками, завернула за пуню и тогда уж бегом, как мышь от кота, полетела к дальнему нужнику.
Лежа потом рядом с похрапывающим супругом, как со стороны увидела Маша всю картину их с мужем жизни. Она вдруг ощутила всю боль матери Демьяна. Со стыдом вспомнила, как уходила из дома, где с ней обращались по-семейному тепло, к родной, но извечно недовольной и осуждающей матери. Как гордо и глупо говорила свекрови: “Я вашего сына, душегубца, никогда не полюблю”. Теперь, когда у самой рос сыночек, слова эти жгли душу. Что-то навсегда изменилось в сердце Маши. В ту ночь она со слезами простилась с принцем Павликом, простилась тяжело и навсегда. С утра встала с лежанки покладистой и понимающей женой своего рыжего Коханка.
Года два-три Коханки жили без существенных поводов пополнить колонку лобковских новостей. Даром что дед Антип к ним хаживал чуть не каждый день. В 1909 году родился сыночек Егорушка, в 1912 – Николенька. Несмотря на то, что Демьян испробовал свои “колдовские” приемчики на парочке соседских бобылок, в семье был относительный лад и спокойствие. Чего нельзя сказать про жизнь российской империи.
Странные были времена, муторные. После революций 1905, 1917, после раскола людей на “белых” и “красных”, на идейных и безыдейных, недопонимание проросло во всем, что касалось человеческого общения. Как будто люди потеряли основу мира и теперь пытались ее найти, пробуя новые роли. Пробуя и удивляясь, а что и так можно было? И так тоже правильно? Чудны дела твои, Господи. Господа коммунисты тоже упразднили. Погорячились конечно, Он был бы кстати в такие смутные времена. Но Бога враз отменили. И казалось, что он действительно покинул Русскую землю и люди справлялись без него по своему скудному разумению.
Все встало с ног на голову. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов перевернул действительность резче, чем Декрет о Мире или о Земле. Хороша была эта действительность или так себе, справедлива или нет, не под силу рассудить отдельному человеку. Но был определенный, понятный каждому уклад. И всякий кто хотел находил свое место под солнцем, знал что и как делать, что дозволено, а что нет и чего примерно ждать. Все шло своим чередом.
Реформы Столыпина обещали сделать крестьян хозяевами земель. Одной из вех реформы была идея о выкупе государством земель у помещиков и продажа по льготным условиям крестьянам, а также переселение семей с подъемными на необжитые земли (Подъемные – денежная ссуда для подъема хозяйства).
Земля была бы в настоящей собственности. О большем люди села и мечтать не могли. Ведь и с церковно-приходским образованием ясно, что богатые жители – это богатая страна.
Петр Аркадьевич Столыпин был убит в 1911 году каким-то психом, застрелен прямо театре, где находились августейшие особы. А мечту крестьян о своей земле взяли на идеологическое вооружение совсем не те, кто хотел им ее отдать. Фантазиями о мире и собственной земле подкупили революционеры неокрепшие умы. Но обещать – не значит, жениться. Вместо мира получили войну внутри своего же государства, а вместо того, чтобы раздать людям землю, поотбирали даже у тех, у кого она была.
После революции князья перестали быть дворянами, попы – духовенством, лавочники – купцами. Все стали называться непонятным на селе словом – гражданин. Стали равноправными гражданами и гражданками молодой страны, товарищами. Равноправие очень скоро проявилось в одинаковом отсутствии прав. А самые истовые товарищи вели себя совсем не по-товарищески.
Сотни тысяч казаков вдоль почти всей российской границы перестали быть казаками. Перестали ими быть на бумаге, документально. Но разве может голова простого человека успеть за Декретами? Разве может человек в одночасье стать кем-то, кем вчера не был? В умах одних новоявленных граждан пошла смута и неприятие, в головах других – восторг и желание двигаться вперед к изменениям, пусть и пока непонятным.
Из всего этого вылилась Гражданская война. В ней все стали равноправными перед смертью. Зачастую жестокой, нелепой и ненужной, как будто граждане убивали друг друга на всякий случай. Очень странные получились товарищи, готовые обокрасть, растерзать, убить и все во имя счастья и справедливости.
Лобки успели побывать под властью Австро-Венгрии по условиям мирного договора, которым бесславно для России завершилась первая мировая война. Лихорадило волость во времена гражданской войны. Вплоть до конца ее в тех краях значилось два самоуправляющихся общества: крестьянское и казачье. Последнее почти поголовно выступало за прежние традиции. Вместе с другими деникинцами продвигались сторонники старого режима к Москве. Если бы советские власти не подкупили Махно деньгами и обещаниями и его вольная армия не ударила в тыл белогвардейцам, никто не знает как бы развернулись события. Но все закончилось по известному сценарию. Казаков нещадно истребляли.
Бог любил Коханков. Они уже в нескольких поколениях значились крестьянами. Не пришлось никому из семьи в братоубийственной гражданской войне участвовать. Дедушка Степан успел почить, Демьян и дядя Илья миновали мобилизационный возраст, а мальчишки были малы. На момент октябрьской революции Ивану Сипейко – старшему из сыновей Демьяна и Марии – тринадцать, Егору – восемь, Николаю – пять. Через два года Бог подарил редкую для Коханков драгоценность – родилась девочка. Ее назвали Анютой.
Глава 10 Мама, прощай
Через четырнадцать лет Анюта в горнице с геранью на окнах будет держать за руку укрытую красным одеялом Марию Евсеевну. В холодной избе сбирает на стол пышнотелая Ксения, роняя от волнения крынки и кудахча “ай, божечки, божечки!” Анюта вздрагивает и жалеет, что дома нет ни одного из братьев. Николай учится в Москве. Егор – в Брянске. Оба брата – на инженеров. Молодая страна советов усиленно готовит кадры для индустриализации. Иван из столицы перебрался в Краснодар, где заведует сельско-хозяйственным техникумом.
Хороша или плоха рабочая революция, но только при царе вряд ли крестьянские дети, вроде Коханков, смогли бы учиться в высших учебных заведениях. До революции если такое случалось, то как единичные, уникальные случаи.
Новая власть дала новые возможности. Одним, которые буржуи, – попробовать жить без привычного комфорта. Другим, которые пролетариат и крестьяне, – примерить непривычные роли. Всех несогласных либо выслали из страны, либо уничтожили. Либо им пришлось делать вид, что они со всем согласны и тщательно скрывать непролетарское происхождение. У Коханков была хоть и непролетарская, но правильная для Советов родословная – крестьянская. Об их казачьих корнях сведений не сохранилось, а не то пришлось бы худо.
Иван со всем пылом юности воспринял новую политику. Когда только все свершалось в 1917, услышал малец, как отец ругает советскую власть. Дескать, шантропа да голодранцы слушают немецкие бредню и дурью маются. С тех пор он при каждом удобном случае выискивал “немецкие бредни” и убеждался, что отец ничего не понимает, а Ленин – тот дело говорит.
Когда ты отучился семь годов в сельской школе, а отец всего лишь прожил жизнь, то ты в жизни, конечно, лучше разбираешься, чем он. Голова то у тебя светлая, умная, свежая, не то что у него, старика. Отец – он тоже башковитый, но приземленный. Высокие идеи коммунизма и всеобщего равенства рожденному при царе родителю в голове не уместить. Есть в нем мудрость и опыт, но хватает их туточки, в Лобках, по хозяйству, а мировую революцию таким умом не осмыслить. Тут Ивановых семи классов школы маловато, не то что четырех церковно-приходских, как у Демьяна.
В пятнадцать лет Иван под причитания матери и бабки собрал котомку, попросил у родителей денег на первое время и отправился в Москву доучиваться. Образование оказалось бесплатным и качественным. Иван после рабфака окончил сельскохозяйственную академию и по распределению попал в Краснодар.
Выбился Иван, как говорят на селе, в люди, женился, родил дочку Валю, назначен директором сельскохозяйственного техникума. На рабочем месте и застала его весть о тяжелой болезни и смерти матери. На похороны Иван никак не успевал. Решил в таком разе попасть на девятый день.
Путь из Краснодара до Лобков не близкий. В начале двадцать первого века этот путь станет еще длиннее. Не по километражу, конечно. Пространство осталось прежним. Судьбы украинского и российского народов неожиданно отдалились друг от друга на высоком политическом уровне. Донбасский транзитный железнодорожный ход, проложенный через Украину, будет утрачен.
В тридцатые годы двадцатого века две трети поездов из Москвы на юг следовали через Малороссию, следовательно, громыхали и мимо станции Погар. Так что жители двадцать первого века могут только позавидовать Ивану Сипейко, который без проблем взял жд билет Краснодар – Погар.
Хотя чему тут завидовать. Сын ехал навсегда проститься с матерью. В купе Иван был один. Осмотревшись, он тяжело опустился на нижнюю полку. Заглянула кокетливая проводница с вопросом о чае. Она увидела серьезное, даже суровое круглое лицо пассажира. Ее опытный глаз определил: едет номенклатурный работник, семейный, явно на хорошем счету и ловить с ним ей нечего. Больше девушка его не беспокоила до самого Погара.
Сознание Ивана Демьяновича всеми силами старалось уберечь носителя от конечной цели поездки. Он размышлял о рабочих несданных планах в своем учреждении, о педсоставе на следующий учебный год, о том, что неплохо бы забрать Анюту учиться в Краснодар, что жене была бы помощь с маленькой Валечкой, что кстати нужно распорядиться насчет инвентаризации постельного в общежитии техникума – посчитать сколько осталось одеял да подушек. Но в какой-то момент Иван Демьянович упустил нить рассуждения и мысль, что “мамы больше нет” накрыла его жуткой тишиной. Он слышал стук колес, слышал как кто-то в соседнем купе перебирает струны гитары, слышал шаги по коридору. Но внутри себя он не улавливал ни одной мысли, кроме страшной, пустой и безобразной. “Мамы нет! Моей мамы Маши нет!”
Если бы снимали фильм, он, наверное, зарыдал бы навзрыд и картинно закинул руки, закрывая уродуемое болью лицо. Но он был советский гражданин и даже наедине с собой не мог позволить разрыдаться как в дешевом театре. Иван сидел ровно, смотрел в окно немигающими глазами, а мысли выбивали его из колеи.
Мысли о Боге. Если Бога нет. А его нет, это доказано диалектическим марксизмом. То мать умерла насовсем? Ее нет? Совсем нет? Но она то верила в Бога и всегда говорила, что тот уготовил самое лучшее для нас, что главное ему не мешать. Делай, Ванечка, что должен, и будь, что будет, Он все управит. Звенел ее родной голос в душе. Она верила в вечную жизнь, а теперь умерла. Попала она в вечность? Увидит он ее в каком-то новом качестве? Если такое предположить, Бог есть что ли? Лучше бы он был. Лучше бы она была права. Ленин тогда не прав? Сознание опять пыталось заглушить ту жуткую мысль. Но она просачивалась: “Есть Бог в итоге или нет, а мамы нет. Мамы нет.”
Глаза жгло. Он допустил слезы. Они текли по его раскрасневшемуся разгоряченному каменному лицу. Неожиданно по подбородку потекла струйка крови. Иван Демьянович, пытаясь сдержать эмоции, прокусил губу. Он отер подбородок, поискал, обо что вытереть руку, кроме свернутого красного одеяла в купе ничего подходящего не нашел. “Я же не распорядился в общежитие заказать дополнительные одеяла”, – ворвалось в его голову. Это была последняя капля. Взрослый Иван упал на красный калачик белья и разрыдался в голос, как маленький мальчик на коленях у любящей матери. Больше никакие посторонние мысли не донимали пассажира. Он перебирал в памяти детство, юность, как мало маме писал, как мало с мамой говорил, как редко приезжал навестить, корил себя и оправдывал, оправдывал и снова обвинял.
В Лобки он приехал совершенно издерганным и постаревшим. Словно ему шел не тридцатый год, а как минимум семидесятый. Наверное, потеря родителя – основная ступень во взрослении. Даже не ступень, а целый этаж. Сколько бы тебе ни было лет, каким бы серьезным ты ни был человеком, пока живы родители, ты все равно чей-то ребенок. А когда они уходят, ты теряешь детство навсегда.
Герань на окнах отчего дома не успокоила и не обрадовала Ваню, только добавила в душу пустоты. Раньше цветы ассоциировались с мамой, которую он через минуту крепко-крепко обнимет. Навстречу ему вышла красивая и совсем молоденькая девушка. Анюта? Анюта! Как она выросла. Как!? Он то помнил ее десятилетней девчушкой. Четыре года, что они не виделись, изменили сестру, превратив из девочки в почти что женщину с очень пронзительными взрослыми мудрыми глазами. “Есть в ней что-то от Любови Орловой”, – примечал он, разглядывая сестру, как будто видел ее впервые.
Анюта обняла брата. Скорбь захватила их немые объятия. Но было еще что-то. Что-то, что сестра прячет от него, что-то, что он все равно узнает. Растерзанный горем, Иван стал сверхчувствительным. И он чуял нутром, что-то не так. Он смотрел Ане в глаза и читал в них страх, боль и одновременно желание ему что-то рассказать, поведать. Что-то, что нельзя сказать словами, это что-то тяготило ее, и нет, это не касалось смерти матери.
Иван обменялся крепкими рукопожатиями и объятиями с отцом и братьями. Снова ощущение недосказанности. Какой-то тайны между всеми. Ему стало казаться, что он сходит от печали с ума, что он накручивает себя.
На дворе и в избе сновали соседские бабы и девки. Точнее, не бабы да девки, а сознательные и не чуждые соседского горя жительницы колхоза “Красные Лобки”. С самого утра они чистили овощи, шинковали капусту на традиционные для поминок щи, заводили и месили тесто для пирогов, варили кисель. Все делалось бережно и помощниц было гораздо больше, чем требовало количество приготовляемого. Щи – совсем пустые, пироги с лебедой, кисель жиденький и совсем не такой пахучий да сладенький, какой любила покойница. Все блюда – постные, хотя никакого церковного поста в советском колхозе быть не могло. Постились люди не по религиозному разумению, а вынужденно.
В стране был голод. Если бы жителей Лобков перенесли в двадцать первый век в какой-нибудь супермаркет и они услышали, как кто-то страдает от отсутствия хамона иберико или настоящего французского сыра из-за жестоких санкций, то этот кто-то наверное услышал бы о себе всякие непечатные крестьянские слова. Его бы сюда, в 1933 на Брянщину или Поволжье.
Голод 1932-1933 случился не только из-за засухи. Промышленно развитые страны наложили эмбарго на советское золото, запретили ввозить из СССР лес, руду, уголь, нефтепродукты, драгметаллы. В общем, все, за что можно получить валюту. Валюта нужна была для закупки промышленного оборудования. Без которого не восстановить экономику. К оплате принималось только зерно. Расчет простой: в СССР начнется голод, народ взбунтуется, большевики потеряют власть, территорию страны можно будет растащить по лакомым кускам. План по развалу какой-либо страны обычно такой: дестабилизируем ситуацию внутри страны, граждане свергают власть, пользуемся неспокойными временами (от дачи невыгодных кредитов до аннексий территорий).
К слову, на этот раз власть удержалась и индустриализация страны шла небывалыми темпами, удобренная жизнями умерших от голода, приправленная пОтом и смертью репрессированных людей. Кто знает, как бы страна перенесла Великую Отечественную войну 1941-1945, не будь жутких мер по развитию промышленности в тридцатые годы. Кто знает, была бы Великая Отечественная вообще, было бы Гитлеру с кем воевать на Востоке. Или был бы Гитлер, который появился сразу после неудачной попытки развалить СССР. Говорят, его партию спонсировали американские и британские финансисты. Может, где-то в параллельных Вселенных и существует мир без России, СССР или Гитлера в разных вариациях, а в осязаемой людьми Вселенной история не дает ответов на вопросы “что было бы?”
Жители Лобков политических премудростей не знали. На их глазах произошло вот как. Власти сначала забрали весь хлеб и скот у частников, а потом посгоняли людей в колхозы с нелегкой трудовой повинностью. Ходила тяжелая крестьянская шутка “Колхоз – дело добровольное. Не пойдете – расстреляем”.
Введенные в СССР паспорта с прописанным местом жительства колхозникам на руки не выдавались, чтобы они не сбежали от своего трудового счастья. Несмотря на тяжелую работу, жизнь не становилась сытнее. Убранный колхозный хлеб нельзя было трогать под страхом смертной казни. Есть было почти нечего, даже в черноземных территориях страны.
Помянуть Марию Евсеевну сойдутся жители трех колхозов: Красные Лобки, Путь бедняка (так решил именоваться дальний хутор), Захаркин Гай, что организовались на месте Лобков. Иван ходил по некогда богатому дому, заглядывал в пуню, вспоминал как здесь толклись овечки, а в стойлах стояли рабочие лошади и два ездовых красавца. Дитем он любил залезть на самую верхатуру стога и утопать в запахе сухих трав. Сейчас карабкаться в пуне не на что, сеном кормить некого. Но им пахнет по-прежнему, все пропитано воспоминаниями и мамой. Мамой, которой больше нет.
Демьян Степанович, як быти? Посудины под кысэль нэ хватат, – певучий с ярким кацапским говором голос принадлежал ладной женщине с белыми полными руками. Она стояла напротив отца, излагая нехитрые бабьи соображения по важным на поминках мелочам.
Иван шел на ее голос, подмечая каждый жест отца. Как будто все происходило в замедленной съемке. Вот баба при разговоре трогает батю повыше локтя. Тот убирает ее руку. Она как будто спохватившись прячет свои белые руки за спину. Но взгляд. Взгляд не спрячешь за спину. Не так глядят батрачки. Так может смотреть только … Как цунами накрыло Ивана понимание ситуации. Мать в земле всего девять дней, а постель родителя греет вот эта пышногрудая белотелая баба!
Видя приближение Ивана, Ксения умелась в избу. Сын схватил отца повыше локтя, там где только что трогала Ксения, и резко развернул к себе, пылая гневом.
– Батя! батя! ты как… – Иван не смог закончить. Ярость душила его. – Как?!!!
Отец смотрит пристально и молча. Во взгляде нет раскаяния и вообще эмоций. Долгую минуту два Коханка жестко играют в гляделки. Душевное смятение проступило красными пятнами и каплями пота на лице у сына. Он в сердцах отталкивает родителя, отрывая мысленно себя от него. Демьян не шелохнулся, словно врос в землю и какую-то свою правду, и на том стоять будет.
Из избы выскочили Егор с Николаем. Они замерли на крыльце, как два коня у пропасти. Иван вперил в них налитые злостью и бессилием глаза, мотал головой из стороны в сторону, мучимый вопросами, на которые один за одним сами собой приходили тяжелые ответы. Эти ответы гнули его к земле и не давали свободно дышать. Он рванул ворот на рубахе и с нее, как пули, полетели пуговицы.
– Аня! Аня, где ты?!
– Я туточки, Ванечка, – Аня растерянно вытирает руки об фартук, переводя взгляд с отца на брата.
Ее ласковый голос, так похожий на материн, ни капли не успокоил. Зато шквал горячих эмоций сменился рассуждением и желанием действовать.
– Собирайся! Немедленно собирайся – холодно приказал брат.
– Куда? Зачем?
– Мы уезжаем с тобой ко мне, в Краснодар.
– Сейчас?
– Немедленно
– Ваня, як же так? А поминки по матушке?
– Здесь о ней зазорно и поминать
– Да як же зазорно? Тады где же?
Аня переводила взгляд с Ивана на отца, с отца – на Егора, с Егора – на Мыколу, но никто не подсказывал ей, как быть. Она поняла, сейчас нужно принять, возможно, самое важное решение в жизни. И сделать нужно самой. Никто не подскажет, никто не обоснует, что дескать, вот так хорошо, потому-то и потому-то, а так – по эдакому. Взрослая жизнь неожиданно обрушилась на нее. Ей хотелось забраться на полати и там отлежаться, пока все не закончится. А еще хотелось положить голову на колени к маме. Но мамы больше не было.
Аня выдохнула и пошла в дом. На крыльце безмолвно, в тревоге стояла Ксения. Аня сильно и намеренно задела ее плечом, втолкнув обратно в сенцы.
Ай, божечки! – наигранно взвизгнула бабенка.
Девочка не обернулась, не повинилась.
Собираться в те годы было проще некуда. Почти ни у кого не имелось больше двух смен одежды. Одна – на каждый день, вторая – праздничная. Косметические средства для подростковой кожи, привычный кондиционер для волос, красивый халатик и любимые тапочки со зверушками, пижамка – все это напрочь отсутствовало.
Аня даже растерялась, когда решительно зашла в горницу. А что собирать то? Герань с окон? Мама так любила цветы и так не хотелось оставлять их Ксении. Но Аня не могла себя представить, отъезжающей на подводе с горшком герани в руках. Если бы она посмотрела фильм Леон, где герой таскал за собой фикус, возможно она бы прихватила кустик. Аня сложила юбку, пальто и две своих рубахи в красное одеяло, которое завязала узлом.
Отсутствие вещей для сбора поубавило решимость. Как уехать вот так от родного отца? Мама не осуждала его, хотя видела Ксению и понимала, что происходит. Все проходит. Пройдет и это. Бог все управит, как следует. Говорила она, глядя Анюте глубоко в душу, запрещая взглядом не то что осуждать, а вообще рассуждать на эту тему. Если мама не осуждала, то как смеет Аня? И что она, простая крестьянская девчушка, будет делать в большом городе Краснодаре?
Аня сидела на лежанке, обхватив голову руками. Той самой лежанке, на которой совсем недавно хворала мама. Девочка суетно соображала. Часы тикали набатом, словно поторапливая, а она никак не могла собрать разбежавшиеся мысли и на что-то решиться.
Как вихрь, ворвался старший брат.
– Готова?!
Аня отняла трясущиеся руки от лица и растерянно опустила их на колени, всем своим видом выражая нерешительность и непонимание, что делать.
– Демьян Степанович, Гетуны едуть, – услышали они с братом певучий голос отцовой полюбовницы, которая распоряжалась на поминках матери как хозяйка.
– Готова, – глаза сузились как щелочки, ручки сжались в кулачки.
Аня встала с лежанки, схватила узел и пошла прочь, не желая больше никогда возвращаться в дом отца.
Глава 11 Анна Андреевна
Краснодар, 1933 год
Анюта долго не могла прийти в себя после стремительного и тяжелого отъезда из Лобков. За окнами поезда зелень холмов и серебряных рек сменились желто-цветочной степью. Конца и края не было этому пейзажу, и Ане становилось все больше не по себе. Из воспоминаний не шел последний взгляд отца и вид их дома с алой геранью на окнах. Неужели она никогда не увидит ни тятю, ни родные Лобки? А братья? Егор? Николай? С ними как?
Тихая смерть мамы – удар какой не описать. И следом – потеря отца и полная сумятица мыслей. А вокруг снуют, как деловитые муравьи, незнакомые пассажиры. Некоторые из них, проходя, столь роскошно “благоухали” немытыми телами, что Анюта вздрагивала, как от нашатыря. Словно Бог-доктор хотел привести ее в чувство после жизненного нокаута.
В Краснодар прибыли ближе к вечеру. Сойдя с подножки поезда, Анюта застыла перед зданием вокзала. Большие витражные окна с отражением закатного оранжево-красного солнца и пурпурного неба остановили ее в немом восхищении. Белое одноэтажное здание с двумя достаточно скромными флигелями по бокам казались ей вершиной архитектурного творчества.
“Раз город начинается с вокзала, значит, это самое главное здание города. Раз самое главное здание города такое красивое, значит, и город красивый”, – настроилась на позитивное восприятие действительности Аня. Если бы она посещала психолога, он был бы ею чрезмерно доволен. Она в тот момент посещала вокзал Краснодар-1, и ее чуть не снес мерзкий грубый дядька с тележкой, полной тюков и баулов. “Поберегись!” – заорал он тогда, когда уже поздно беречься, судя по выражению мерзкой рожи лица, Аней он был чрезмерно недоволен.
Не зевай, сестра, чай не в Погаре на станции. Поторопись, мы дальше – на трамвай.
“Травмовай какой-то – только новых травм не достает”, – улетучивался позитивный настрой крестьянской девушки. Впрочем благостное расположение духа не замедлило вернуться, как только Анюта увидала “травмовай”. “А! Сын поезда, – маленький и не пыхтит, как старичок-поезд”.
№ 4 Кожзаводы – написано на табличке “травмовая” “Кто кого заводит на энтих кожзаводах? Наверное, живность какую выращивают для кож. Стало быть, коровы там да телята. Потом попался “травмовай” с табличкой “Скотобойня – Роща”. И Аня представила, как кто-то режет поросят на скотобойне и, как устанет, так едет по маршруту № 2 отдыхать от свиных смертей в Рощу. “Травмовай” с Краснодаром нравился Ане все больше и больше.
Не обманул Вокзал – красивый город. Когда шли с Иваном по улице Красной – центральной в Краснодаре – Анюта вертела головой, как петушок-флюгер на переменном ветру. Бывшие купеческие дома словно соревновались друг с другом фасадами, балкончиками, лепниной, вывесками. Самые затейливые в гардеробе зданий – ажурные кованные козырьки крылечек. Аня представила, как каждый день видит эти приветливые крылечки, и на душе стало щекотно-приятно.
На углу улицы Пашковской свернули в большой опрятный двор. У ворот салютовал дворник, словно он не швейцар, а солдат при исполнении и брат Иван – генерал или как минимум полковник.
– Вот, Лукьяныч, принимай новую жилицу – Анна Демьяновна Сипейко, сестра моя рОдная, – улыбнулся брат.
– Премно…премно… премного благо… благо.. – силился произнести длинную неподходящую случаю фразу Лукьяныч. Но, видно, не судьба, и он сначала икнул последствиями ужина с беленькой, а потом кивнул.
Иван Демьянович перестал улыбаться, но ничего не сказал. Торопился увидеть жену и дочь, наверное, потому что обычно не пропускал случая ткнуть ближнего лицом в его безобразие, пристыдить и направить на путь истинный. Иначе как приблизить светлое будущее, если кругом непотребство.
На втором этаже дома они попали в длинный коридор. На стенах висели тазы, велосипеды, какая-то утварь, рядом с каждой дверью громоздился ларь или сундук. На встречу прибывшим походкой гусыни семенила босая женщина в домашней юбке с ворохом мокрой одежды и ожерельем из прищепок.
– Добрий вэчир, Иван Демьянович, – поздоровалась гусыня, – цэ шо за крайшая дывчина с вами прибыла?
– Анюта – сестра моя.
– Гарнэсэнькая она у вас. Погостить аль на постой?
– Насовсем, Горпина Даниловна.
– Ну приятно познакомиться, – сказала гусыня с не очень-то приятным лицом. Возможно, она просто не умела делать свое хмурое лицо приветливым.
– И мне очинно приятно, – сказала Анюта вслед исчезающей на лестнице фигуре.
– Горпина Даниловна – прислужница товарища Кусли. Он живет прямо по коридору в трех комнатах, – пояснил брат социальный статус гусыни.
Из двери слева выглянул мужчина лет тридцати. На Аню и Ивана смотрели чуть раскосые глаза, брови были сдвинуты к переносице, а скулы сильно выделялись на мужественном лице. “На татарина похож и такой же грозный”, – отметила Аня, хотя никогда не видела ни просто татар, ни грозных татар, а если и видела, то не знала, что они татары.
– А это вы, Иван Демьянович? Приветствую, – мужчина протягивал брату руку.
– Добрый вечер, Николай Павлович. Знакомьтесь, сестра моя – Анна.
– Мое почтение, Николай Чапайкин, – и “татарин” протянул раскрытую ладонь Анюте.
Аня растерялась. Женщинам ведь руки не подают. Так здороваются только с мужчинам и детьми. А она совсем не ребенок. Почему-то ей не хотелось выглядеть маленькой девочкой в глазах “татарина”. Она смерила его достойным кисти Рембрандта взглядом и слегка пожала протянутую конечность.
Николай обратил внимание на этот жест и глянул украдкой на Аню. В ней есть необычная стать для девушки из села, откуда она, судя по одежде и босым ногам, только что приехала. Что-то неуловимое – женственное и девичье одновременно. Белое, как молоко, лицо с пронзительными взрослыми и холодными голубыми глазами как-то не вязались с простым крестьянским платьем.
Иван резко отворил дверь в комнату направо и остановился в проходе, отчего Аня, оглянувшаяся на Чапайкина, слегка врезалась в брата.
– Проходи, сестра, проходи, Анюта. Будь как дома. – пропустил Анюту вперед – Да что там “как дома”, отныне это и есть твой дом.
Его жена, стоявшая лицом к двери при последней фразе чуть вздрогнула плечами и еле заметно поджала губы. Аня подметила каждую черточку ее мимики и позы и, не дрогнув ни единым мускулом, определила, что пришлась не ко двору.
– Здравствуйте, – поздоровалась она с женой брата Анной Андреевной.
Последний раз они виделись около трех лет назад. С тех пор обе Анны заметно изменились: пополнели и похорошели. Младшая из девочки превратилась в девушку, а старшая из невесты – в молодую обаятельную женщину с теплым и глубоким взглядом карих волооких глаз. Фигура ее после родов раздобрела и приобрела соблазнительную мягкость.
– Надо бы Анюте устроить уголочек, – скомандовал Иван. Чувствовалось, что в семье слушают оба мнения: сначала его, а если есть возражения, то еще раз его, – если мы вот так переставим шкаф, то получится почти отдельная плацкарта.
Комната была просторной, светлой, со своим рукомойником и очаровательной колыбелькой, из которой не замедлила подать голос племянница Валюшка. Наверное, она отважилась вслух выразить неудовольствие некоторых присутствующих. В городе голод, комната одна и вторая не предвидится, а тут здрасте-пожалуйста тетушка жить пожаловала.
Анна Андреевна взяла малышку на руки и жестом предложила золовке подержать ребенка. Анюта с радостью и трепетом приняла из ее рук пищащий, наполненный жизнью комочек. Племяшка – совсем крошка со сморщенной старческой мордашкой – перестала кричать и вперила в тетю удивленный взгляд.
– Смотри, поладили они, Нюра, – приобнимая жену за плечи, – вот и чудненько, будет тебе помощница и по хозяйству и с Валюшкой, – целует в гладко зачесанные назад цвета вороньего крыла волосы.
– Хорошо, Ванечка. Как доехали? Что дома?
Лицо Ивана приобрело тревожно-напряженное выражение. Анна Андреевна без слов определила, что в Лобках произошло что-то из ряда вон. Губы мужа тряслись от гнева и ноздри втягивали воздух, как будто он рысак после галопа.
Аня сильно устала с дороги, хотела помыться и, к тому же, была голодна, но брату явно нужно многое обсудить с супругой.
– Можно я с Валечкой во дворе погуляю? Вы не бойтесь, не переживайте, Анна Андревна, я с детишками дяди Ильи сызмальства нянчусь.
– Аль не устала с дороги, Анюта? Ну пойди, сестренка. Со двора только ни шагу. И это… с Лукьянычем разговоров не веди, не в той он кондиции, чтоб разговоры разговаривать.
Анюта спустилась во двор, бережно неся сверток с малышкой. Солнце почти село, его мягкий закатный свет красиво ложился на мироздание. Если бы у Ани был смартфон, получились бы клевые фоточки. В таком свете каждый кажется красивее и загадочней. Неожиданный младенец у четырнадцатилетней девочки добавил бы таинственности селфи. Но у Ани не родились естественные в такой обстановке мысли запечатлеть свое лицо в лучах закатного солнца и напустить тумана на свою бытность с лялькой. Тумана в судьбе и так предостаточно. Что такое смартфон она никогда не узнает. Фотографии будут редкими, всего штук двадцать-тридцать за всю жизнь. Аня присела возле подъезда и, убедившись, что Валюшка рада миру, устало откинулась на спинку скамеечки.
Горпина закончила антитворческий процесс по развешиванию белья на металлической проволоке, подоткнула деревянную палку под просевшую от веса мокрой одежды сушилку, отчего то взмыло вверх как флаг чистоты и достатка. Одежда стоила очень дорого и продавалось мало. На сушилке из под рук Горпины явились взору добротные мужские, женские и детские наряды. Такие точно не бросишь во дворе с пьяным Лукьянычем, надобно караулить.
Горпина безапелляционно плюхнулась на скамейку рядом с Аней. Девочка вздрогнула, и Валюша на ее руках тотчас перестала наслаждаться житием своим, о чем возопила к Создателю и родителям. Вид Ани ребенка больше не успокаивал и пришлось подниматься наверх.
Попасть домой не получилось. Дверь была заперта изнутри. Анюта постучалась, несколько раз дернула ручку, но никто не открывал. Может, не та дверь? Не тот этаж? Вроде все правильно. Второй этаж, номер тринадцать. Неожиданная догадка, чем мог закончиться примирительный разговор с женой после разлуки, раскрасил щеки Анюты в цвет японского осеннего клена. Она совсем растерялась с орущей Валькой на руках, в буквальном смысле не зная, куда им деться. В этот нелепо-трагический момент открылась спасительная дверь напротив.
Николай Чапайкин по пунцовым щекам Анюты догадался, в чем дело, и пригласил войти. После секундной нерешительности они с Валей были в комнате у соседа. Такая же просторная, как и у брата, она вся была заполнена книгами, газетами, журналами и журнальчиками. Николай потревожил стопочку последних, переселив со стола на книжную полку, чтобы было место, где перепеленать малышку.
Аня мастерски размотала пеленки, достала мокрые тряпицы, сменила на сухое кухонное полотенце, предложенное хозяином, и источник крика стал вновь источником детской потешности. Споласкивая в рукомойнике испачканные детские подкладушки, Аня подмечала особенности жилища соседа.
Одинаковая по размерам комната больше ничем не походила на комнату брата с женой. Темная массивная мебель наверное лучше смотрелась бы в каком-нибудь присутственном месте, чем в квартире. Диван с зеленой спинкой отдавал чем-то казенным. Подушка и плед, примостившиеся на его изумрудном сукне, словно стеснялась своего домашнего вида. На столе и других горизонтальных поверхностях жили печатные издания, кто одиноко, кто – по парам, а некоторые – большими свальными группами. Функции занавесок несли приклеенные к стеклу газеты, подчеркивая, что в этом логове холостяка безраздельно властвуют печатные издания.
Николай, не спрашивая разрешения в собственной комнате, закурил папиросу.
– Погарские, – горделиво улыбаясь констатировала Аня.
– Погарские, – затягиваясь со смаком подтвердил Чапайкин – вы стало быть тоже погарская? С брянщины?
– Из Лобков мы.
– Чего-чего? Из Лобков? – подавился дымом и смехом собеседник
– Село Лобки Погарского района, – насупилась Аня, давая понять, что ее Родина не повод для смеха, – Коханки мы с братом – Валя издала непонятный звук, то ли икнула, то ли ойкнула – и она вот тоже из Коханков.
– Коханки из Лобков, очень приятно. А мы Чапайкины из …
“Аня! Аня! Да где же вы?!” донесся из коридора раздраженный голос брата.
“Аня!”, – вторил ему голос жены с нотками подозрения племянницы в киднепинге.
– Туточки мы, туточки!
Аня сгребла младшую из Коханков со стола и шустрой ланью скакнула в коридор. Исчезая в дверях, лань пообещала “Полотенце стирану и вертану взад, Мыколай Палыч”.
Через пару часов после чрезвычайно легкого ужина и помощи золовке в ликвидации его последствий, Анюта улеглась на тонком матрасе за шкафом. В окно она видела яркие краснодарские звезды. Светила заглядывали в комнату и рассматривали новую жилицу.
“На новом месте приснись жених невесте”, – тихонько, чтоб не расслышал никто, кроме звезд, прошептала Анюта.
Глава 12 Горпина
Вместо жениха снились поезда, холодный брод с обжигающей ледяной водой, красное одеяло пожаров. Аня резко проснулась, вперилась взглядом в заднюю стенку шкафа, не понимая со сна, где она и что за демоны ее сюда замуровали. В окно вместо звезд заглядывало удивленное солнце. Оно вопрошало: “Как можно спать и смотреть сны с такой мутью, когда я стараюсь, свечу тебе изо всех сил? Проснись, Анюта, впереди новый день!”
Анюта послушалась солнце, прибрала свой матрасик и первым делом направилась к колыбельке. Валюшка приветливо разглядывала Анюту, как будто за ночь успела позабыть, кто эта златоволосая и белотелая девушка. Примеру дочери последовала Анна Андреевна. Ее поразила белизна кожи Анюты цвета изысканного китайского фарфора. В лучах утреннего солнца Аня выглядела “как Весна с полотен Ботичелли”. Такие мысли посетили Анну Андреевну, которая до женитьбы на Иване Демьяновиче желала стать работником искусства. Вслух мысли материализовались чем-то вроде: “Мыло на умывальнике, чистое полотенце в шкафчике справа. На завтрак – пшенка с чаем”.
Аня как можно быстрее умылась, расправилась с кашей, прибрала каждую крошку после себя, помыла тарелку и стакан. Рукомойник прямо в комнате еще вчера приятно поразил ее сельское воображение. Пользоваться таким небывалым комфортом было в диковинку. Вот оказывается, как легко живут люди в городах, как здесь все просто и умно устроено.
Частичка Краснодара в виде комнатного рукомойника, солнечный свет из больших окон охватили Анюту приятным ощущением перемен. Что делает любая женщина без скидок на возраст в приливе подобных эмоций? Новую прическу, конечно. О том, как связаны волосы с желанием изменить жизнь и почему женский род, освобождаясь от старого, интуитивно режет, красит, укладывает на иной манер прическу, Анюта не знала. Как именно заколоть тяжелые, цвета золотистой пшеницы локоны решить сразу не смогла.
В небольшом зеркальце над раковиной появлялась то гладко зачесанная назад голова девушки, то выныривала с собранными волосами наверху пучком, то с косами вокруг головы. Анна Андреевна украдкой и почему-то предосудительно смотрела на племянницу.
Смотреть украдкой на человека перед зеркалом – не самая умная затея. В один из нырков Анюта поймала ее взгляд и настроение меняться улетучилось. Она, оставляя ровное спокойное выражение лица – тайное искусство всех Коханков – заплела обычные косы и предложила погулять с малышкой. При всей любви к своим чадам есть на свете молодые мамы, которые не мечтают, чтобы кто-то освободил их на часик-другой от материнских забот? Может и найдется одна-две, Анна Андреевна к ним не относилась. Анюта не боялась любой домашней работы. Вместе с тем нянчиться с малышкой на приветливом солнышке беспорно приятней, чем полы скоблить или пылюку гонять.
Утренний воздух июля обещал неимоверную жару. Анюта даже опешила, выйдя из подъезда. В Лобках с утра гораздо свежее, чем в Краснодаре. Кожа девушки не могла поверить, что сейчас восемь утра. Наверное, внучка Анюты подумала бы о солнцезащитном креме и что носик может обгореть. Анюта не знала пока слова “крем” и тем более “солнцезащитный”. Защищались в те времена от контрреволюции, интервентов, врагов, а от солнце не очень защищались, чаще прятались в тень. Что Аня с Валечкой на руках и сделала.
Сидя на земле под огромной плакучей ивой Анюта удивлялась, как ракита может расти посередине города, без речки. В Лобках вербные деревья жались друг к дружке вдоль водички. Дерево, которое спасало сейчас девчонок от прямых солнечных лучей, росло само по себе, без подруг и водоема. Городское одним словом.
– Вам плохо? – отвлек от натуралистских мыслей приятный женский голос с почти неуловимым акцентом.
Солнце загораживал изящный силуэт в старомодной, сверхэлегантной длинной юбке с высокой талией, в блузе с буфами и высоким воротничком. Словно великосветская дама вышла испить чаю на веранду в доме с мезонином году эдак в 1905, а потом каким-то злым чудом дама перенеслась в коммунальный советский двор 1933 года выпуска.
– Вы ведь здесь не живете? – продолжил силуэт.
Аня закрутила головой. Кому плохо то? Никого, кроме них с Валечкой, ни позади дерева, ни рядом не наблюдается.
– Вы совсем молоденькая мама. Вы наверное голодны, – сочувствовала блуза с буфами.
– Мы то? – догадалась Анюта, что речь о ней с племяшкой – мы то в порядке: я харчевалась кашей поутру, а она сиську сосала.
– Воны Сипейко Иван Демьяныча сестрица, вчерась прибыли, – пролила свет знаний Горпина Даниловна, материализовавшаяся из ниоткуда с тазом белья наперевес.
– Очень приятно, – кивнул силуэт, – Я ваша соседка по этажу – Корецкая Амалия Карловна.
– Я – Аня, из Кохан… Сипейко.
– Будем знакомы. А я уж худое подумала. Одинокая мать с лялечкой в такие голодные годы – страшно.
– Нешто я б пустил голодранку с дитенком под нашей ракитой с голоду пухнуть? Не извольте беспокоиться, Мамелья Кырловна. Лукьяныч свое дело знает.
– Нализаться под ракитой в вечеру в одно жало – це твое дило? – разила пьянство трезубцем юмора Горпина.
– Мы к вам, Горпинданилна, не изволили обращаться. Запамятовали поинтересоваться об вашем мнении на сей счет, – лениво оборонялся дворник, источая в безветренном воздухе сивушные масла из недр желудка.
– Вы к нам надолго? – продолжила светскую беседу Амалия Карловна.
– Насовсем, проживать отныне с братом буду. Анне Андреевне по хозяйству помогать и учиться.
– Где же вы учиться думаете? В десятилетке на Длинной?
– У брата – в сельскохозяйственном техникуме.
– Ах, да, конечно. Я позабыла, что Иван Демьянович заведует техникумом, – Аня вновь обратила внимание на легкий приятный говор собеседницы.
Вы француженка?
– Полячка, – каким-то извиняющимся тоном произнесла Амалия Карловна. Точнее не извиняющимся, а таким: “да, я полячка, и я не скрываю и даже горжусь этим и стесняться мне нечего.”
Анюта тонко чувствовала, что говорят люди вне зависимости от самих слов, слышала в первую очередь не ЧТО говорят, а КАК говорят, тон, эмоциональный изгиб речи.
– Я тоже могла быть полячкой. Лобки, откеда я родом, когда-то были Польшей. Не Польшей только, а …
– Речью Посполитой, – закончила за нее обладательница красивой сторомодной блузы с буфами.
– Лобки? Це в Стародубском Погаре? – подключилась с географическому ликбезу Горпина, налегая на букву “г”, произнося почти “Похар.”
– Да, в Погаре.
– Та це ж Гетманская земля, яка вона Посполитая? Вы, Гортензия Карловна, мабуть, солнцем голову напекли? Це Гетманская Малороссия.
– Це казачья земля. Стародубского полка. Сама ж токашо брякнула, дура! – подключился Лукьяныч.
И три пары глаз уставились на Аню. Словно она как зачинщик разговора и действительный до недавнего времени житель разнесчастных Лобков должна разрешить спор этого спонтанного географического сообщества. Аня с секунду беспомощно смотрела на всех, а потом выпалила:
– Лобки – Советская земля!
Три пары глаз остановились на мгновение в замешательстве. Спустя доли секунды Горпина подхватила таз и рабочей походкой деловито засеменила к бельевой проволоке. Она сурово встряхивала каждую вещь, развешивала белье словно отдельные весомые доказательства своей пользы всему советскому обществу. Лукьяныч обнял метлу, как родную, и бешено завальсировал с ней по двору, демонстрируя пыльную сопричастность пролетариату и любовь к работе. Одна Амалия Карловна моргала в легком буржуазном недоумении. В руках у нее к тому же имелась книга и, как на зло, не красненький томик из собрания сочинений Ленина, а предательски буржуазный Ги де Мопассан.
– Аня, вы тут? Слава Богу, в теньке, а то я боялась, Валечке голову напечет. Ты вот что – сходи-ка на рынок, будь любезна, выбрать гарбуз сумеешь?
– Гарбуз то? смогу – обрадовалась поручению Анны Андреевны Анюта, представляя, как идет по улицам Краснодара одна. Одна? И по незнакомым улицам? Ой, кабы чего не вышло.
Видя приступ легкой паники на лице у Анюты Анна Андреевна, провожая до ворот, успокоительно добавила: "Не робей, не заблудишься. Смотри – мы на Пашковской живем, следующая – Длинная, свернешь налево, чуток пройти и правее, по Рашпилевской – Сенной рынок. Его не пропустишь – и услышишь, и увидишь, и почуешь. На рынке будь аккуратна, ворон не лови. Сегодня четверг – базарный день. Колхозники понаедут со всего края. Беспризорники и воришки будут шнырять. Смотри в оба, деньги и мешок из рук не выпускай – утащат".
После таких напутствий Анюта шла на рынок, как на войну с интервентами. Она представляла огромный рынок, заполненный грязными босыми крестьянами, трясущимися за свой товар, и снующими между ними бандитами, выхватывающими прямо из рук покупателей кульки со свеже купленной едой.
На деле рынок оказался гораздо больше, чем могло поместиться в ее воображении. Издалека слышен его гомон – смесь мужских и бабьих окриков, мычание коров, кудахтанье птицы. По всему периметру – повозки с быками, попадались угрюмые одинокие лошадки, кругом – навоз, мухи, непередаваемые запахи (С момента основания колхозов лошадей в личных хозяйствах почти не держали, забирали в колхозную собственность. А с 1939 года лошади не могли быть в частной собственности. На дальние расстояния по личной надобности запрягали коров или быков).
Внутри базар еще колоритней, чем снаружи. Грязь – по щиколотку. Летнее жгучее солнце подогревает редкие кровавые лужицы в мясных и рыбных рядах. Продавцов мало, беспокойно глядят они, как бы кто не утащил их богатство. Покупатели с голодными глазами бродят вдоль одиноких прилавков. Кухарки торгуются с колхозницами не на жизнь, а на смерть. Каждое яйцо, каждое яблочко отдается с боем. Беспризорные худосочные мальчишки разного возраста носятся стайками, крадутся по одному, тут и там сидят на земле, как мартовские обезумевшие коты.
Аня пробиралась во всей этой сумятице, попутно подслушивая разговоры взрослых – одно из любимых занятий. Чем тише шел диалог, тем настоятельней она прислушивалась. Самое интересное обсуждают украдкой да оглядываясь. Идешь чуть поодаль, смотришь в другую сторону и ушки на макушке. Как будто через vpn на запрещенный сайт зашла.
– Она в банку зерно закатала, да под сараем зарыла, чтоб опосля хоть чуть посеять. Какой-там – НКВДешники нашли, отправили их усих на СеверА… без права переписки…
– В Величковской намедни впоймали бабу, разделала она младшОго, да съисты не успели, зазря зарезали…
– До прошлого года всем гуртом ночью на убранном поле колоски шукали, да как приняли “дедушкин указ” так прям на полях нашего брата стреляют, шо зайцев… (“Дедушкин указ” (его подписал М.И. Калинин), он же “Закон о трех колосках” – Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Запрещалось подбирать даже упавший с подводы хлеб или собирать оставшиеся после уборки колоски. После введения закона в силу на полях устанавливались дозорные вышки, высылались конные разъезды и часовые с винтовками)
От таких страшилок Анюте перехотелось подслушивать. С трудом отыскала она ряд с тыквами и арбузами. Выбор совсем не большой. Девушка по-хозяйски ткнула в рыжий красивый кабак, небольшой, но и не маленький, поторговалась для порядку. Кабак продавали две совсем отощавшие женщины, глядя в их пустые огромные глаза, пропадало всякое желание сбивать цену. Они расставались с овощем, как с теленком.
Анюта скорым шагом потопала домой, прижимая мешок с кабаком и с оставшимися копейками, как малое дите, к груди. Все казалось ей, беспризорники нападут и отымут покупку. За воротами базара она ускорилась, как могла. Почти всю дорогу домой Аня бежала, не замечая приветливых резных кованых крылечек и всяких краснодарских изысков, вроде затейливой лепнины над окнами или хризантем в садиках.
Запыхавшаяся и растрепанная влетела Анюта в комнату. Спокойная и рассудительная, с гладко зачесанными на прямой пробор волосами Анна Андреевна нарезала кубиками тыкву. Женщина с удивлением и явным сожалением глядела на тыкву в руках племянницы. Не видать им с мужем сладкого гарбуза на ужин (Гарбуз (который велела купить Анна Андреевна) – так на Кубани называют арбуз, а в Малороссии – тыкву).
Глава 13 Фатима
Июль стал для Анюты по-настоящему жарким. И дело касалось не только и не столько погоды, хотя брянское лето и краснодарское – это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. Помощь по хозяйству, нянчиться с племяшкой – с этими обязанностями Аня справлялась играючи, привыкшая к недетскому тяжелому труду в колхозе. Таким ее не испугать. Беда пришла откуда не ждали. Называлась она “физика и химия”.
Для приема в техникум следовало пройти испытательные экзамены. Сдали их, как водится, в августе. Брат был директором техникума и такое положение дел не сулило Анюте ничего хорошего. В первые же дни по приезду Иван Демьянович по всей строгости опросил Анюту по основным дисциплинам: русский язык, математика, обществоведение, физика, химия.
Что ожидал брат услышать после прилежно отсиженных сестрой четырех классов сельской школы сложно предположить. Навряд ли он ожидал, что раздобытое путем его неимоверных усилий удостоверение об окончании ею семилетнего образования, автоматически добавит ей знаний. В полученном аттестате на имя Анны Демьяновны Сипейко значились удовлетворительные оценки по всем дисциплинам. Но реальность и документ совершенно друг другу противоречили. Аня в этом смысле напоминала какого-нибудь “стобальника” по ЕГЭ из высокогорного аула в двадцать первом веке. Брат даже хотел отказаться от затеи с поступлением в этом году, но в конце концов решил, что “Коханки дураками никогда не были” и что Аня нагонит одногруппников в процессе обучения. Надо только натаскать ее ко вступительным экзаменам.
Брат принес из библиотеки техникума пособия по физике, химии, математике и Конституцию СССР. Чтобы успешно сдать обществознание ничего, кроме зазубревания Конституции и Постановлений Пленумов ЦК ВКПб не требовалось (Пленумы ЦК ВКПб – Пленумы Центральных комитетов Российской Коммунистической партии (большевиков) (1919—1925), Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (1925—1952) и Коммунистической партии Советского Союза (1952—1991).
Анюте повезло, к 1933 году их состоялось не так много. Разве что запоминать мешало осознание, что эти даты, названия и цифры ничего не меняют в ее персональной жизни. Вот, к примеру, русский язык или математика, или даже химия и физика – от них польза видна и ощутима. А от знания, в каком конкретно году в состав Политбюро введен Г.К.Орджоникидзе или когда от обязанностей кандидата в члены Политбюро освобожден А.А.Андреев, попахивало бессмысленностью и мозг запоминал натужно и со скрипом.
Математика шла более или менее. Особенно легко давался счет. Дома, в Лобках имелись большие счеты. Аня слышала от родни, что до образования Советской власти хозяйство Коханков было по сельским меркам огромным, одним из самых больших в Лобках. Счеты при таких делах ой как нужны.
Когда организовывался колхоз Красные Лобки, то Коханки добровольно отдали весомую часть имущества в колхозную собственность. Потому что одним из инициаторов всего этого справедливого действия был их с Ваней брат – Егор Сипейко. Батя потом обреченно шутил в холодной избе: “Колхоз – дело добровольное. Не пойдете – расстреляем!”
В общем, имущества не стало, а счеты остались. И Анюта на них бойко считала. Могла за секунды умножать и делить трехзначные числа. Сами счеты ей потом стали не больно нужны. Она умела представлять их в уме и проводить сложнейшие вычисления. Такая вот ментальная арифметика Коханковского разлива.
С русским языком обстояло, как говорят на Кубани, ни шатко, ни валко. Диалект, на котором гутарят в Брянске и на котором привыкла думать и выражаться Анюта, дополненный балаканьем на Кубанской мове в Краснодаре, мягко говоря, отличался от литературного русского языка. Аня с детства любила читать и видела, в чем именно разница красивого русского языка и ее шокательно-якательного, не всегда помнила тонкости, но на “троечку” могла бы удовлетворить не очень взыскательную комиссию. В душе Анюта делала ставки на невзыскательность комиссии, все-таки брат над ними директор.
Но кем бы ни был брат, если ты впервые видишь химические формулы и таблицы, на красивом русском читаешь непонятные до конца физические законы, польза от такого родства стремится к нулю и даже имеет отрицательный баланс. Иван, видя всю глубину физико-химического незнания сестры, скрежетал зубами и ходил желваками, но толку то.
Анюта была готова сквозь землю провалиться при одном слове механика и застрелиться при втором – термодинамика. Чтобы не бесить брата, она уходила учиться в коридор или на улицу, по утрам или когда спадала вечером жара.
– Энергия каждой замкнутой системы при протекании в ней любых явлений непременно сохраняется. Тем не менее она способна трансформироваться в другую форму и эффективно менять свое количественное содержание в различных частях названной системы – бубнила она, как пономарь, сидя на стульчике в коридоре.
– Здравствуйте, Анна Демьяновна, что из Коханков, – отвлек ее голос соседа Чапайкина.
– И вам не хворать, Николай Павлович.
– Постигаете естествознание?
– Ебстебствознание? Только энтого мне не доставало. Физику учу. Закон сохранения энергии.
– И как?
– Шо как?
– Как вы понимаете закон?
– Очинно смутно.
– Зачем же дело стало?
Анюта насупилась и молчала, подозревая, что ответ, который ждет Чапайкин – ее непроходимая глупость. Вслух она такое произносить не собирается.
– Хочешь помогу тебе сдать? Когда экзамен?
– Через месяц. Вы что в платье нарядитесь и за меня на экзамен сходите? Пустая затея. Иван там директор, он вас в миг рассекретит, – зло и мрачно подытожила Аня.
Чапайкин давно так не смеялся. У него даже слезы выступили. Анюта представила Николая Павловича в своей одежде да с косами и тоже заметно повеселела.
На этаж вбежал запыхавшийся грузный человек. Июльский зной как нельзя хуже сказывался на всем его облике. Бордовое лицо покрыла испарина, как будто он поднялся не на второй этаж, а только что выиграл марафон. Подмышками на сером сукне рубашки расползались потные кляксы. Даже удивительно, как может так потеть довольно тощий человек, которым являлся товарищ Федоткин.
– Николай Павлович, вот вы где, голубчик. Я вас ищу по всему городу.
– Поздравляю вас, товарищ Федоткин, миссия выполнена. Я весь пред вами.
– Ой, не до шуток мне. Вас в горком вызывают (Краснодарский городской комитет Коммунистической партии Советского союза. Партийный аппарат гласно и негласно выполнял гораздо больше функций, чем предписано политической партии. По сути, именно партия руководила страной в лице Генерального секретаря ЦК ВКП (Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии).
– Я понял. Иду.
– Николай на секунду замешкался, метнулся в свою комнату и вышел через минуту с небольшим, свернутым треугольничком листочком.
– Анюта, сделай милость, отнеси записку моей знакомой на Пролетарскую (После ВОв 1941-1945 гг. ул. Пролетарскую в Краснодаре переименуют в улицу Мира. До 1920 года она была Екатерининской). Ее зовут Фатима Нартовна. Пролетарская, 42, квартира 6. Запомнишь или записать?
– Запомню. Это ж не второй закон Ньютона. Что тут запоминать. Пролетарская 46, квартира 2, – сваляла дурака Анюта.
– 42, квартира 6, – не понял юмора Чапайкин, – на словах передай, велел, мол, кланяться. Просил извинить. Срочные дела врасплох застали, но постарается быть попозже.
“В записке тогда что, если столько на словах передавать?” – подумала едко Анюта, хотя обрадовалась поработать ходячей смской, пусть и по тарифу "свои люди – сочтемся". Все лучше, чем законы “ебстебсбвознания” зубрить.
От Пашковской до Пролетарской ходу минут тридцать, если тихим шагом. Можно прыгнуть в трамвай, домчаться и вовсе за считанные минуты. Целый день красные красивые “травмоваи” без устали бегали взад-вперед по мощеной брусчаткой Красной. Они дилинькали зазевавшимся пешеходам и извозчикам, наполняя город суетой и жизнью. Между трамваями и Анютой случилась любовь с первого взгляда. Нравились ей разномастные “сыновья поезда”.
Каждый маршрут носил свой цвет. Очень разумно, чтоб издали было видать, твой номер идет или придется еще немного подождать. С условием, конечно, что ты не дальтоник. По Красной логично сновали красные за номером один. Если пройти к улице Горького, то увидишь нарядные фиолетовые вагончики номера шесть. Маршрут номер два, что доставлял пассажиров на вокзал, одевался в успокаивающие душу светло-зеленые тона. Дескать, вы, может, покидаете наш красивый зеленый город, но вы не волнуйтесь.
Однажды Анюта села не в свою сторону и доехала до окраины города на Крестьянскую, где был когда-то Хлебный рынок ( ул. Крестьянская в Краснодаре после 1967 г. стала именоваться ул.им. Хакурате). Дальше трамвай не шел. Пройдя сотню метров от остановки, Аня поняла, что сделала ошибку. Вокруг начинались какие-то трущобы и виднелось кладбище. Со всех ног кинулась она обратно в спасительный трамвай. Вагоновожатый не взял с нее за проезд и довез по назначению. От этого любовь к трамваям упрочилась, ведь железный друг и его кожаный водитель-помощник стали ее личными героями и защитниками.
Идиллию между девочкой и трамваями омрачал лишь один маленький, но существенный фактор. Любовь металлического приятеля была не бескорыстной. За каждую жаркую встречу с постукиванием тяжелых колес по рельсам под ногами у Ани трамвай жаждал денег. Вагоновожатый либо безжалостно требовал оплатить поездку, либо клянчил пятаки, как бомж-попрошайка. А с пятаками у Анюты было напряженно.
В тот июльский день с пятаками была та же песня, что и всегда. Поэтому Анюта любовалась на проезжающие мимо трамваи по ходу своего движения по таксе “бесплатно”. Глаз радовали бывшие купеческие дома. Они щеголяли убранством лепных оконных наличников, пилястрами и полуколоннами на фасадах, затейливыми подъездами. На фоне всего этого эклектичного великолепия ушедших времен советские граждане в серых суконных рубахах и ситцевых одинаковых платьях смотрелись куцой массовкой в фильме о другой яркой эпохе. Словно люди разных национальностей забрели случайно не в свой павильон и терпеливо и понуро бредут в сторону выхода.
Аня легко нашла сорок второй дом по Пролетарской. Красивое здание в стиле модерн, резюмировал бы кто-то чуть лучше знакомый с архитектурой, чем Анюта. Аня отметила про себя, что с такими большими окнами хорошо бы теплицу завести с помидорами. Квартира шесть оказалась на втором этаже. Дверь открыла прислуга – молодая курносая девка в длинной бесфоменной юбке.
– Чаво надоть? – не слишком приветливо спросила она “смску” Аню.
– Я к Фатиме Нартовне, с письмОю.
На эти слова из боковой комнаты, покачивая изящным станом, вышла восточной красоты молодая женщина, черноглазая и волоокая.
– Глаша, ну что вы босиком шастаете, ей богу, как в деревне! Ну сколько раз можно говорить?! – полушепотом сделала она замечание прислуге.
Анюта при этих словах, хоть и не ей адресованных, готова была отрубить свои замызганные босые ноги. Глаша придирчиво зыркнула на них и умелась на кухню, ворча, как напакостивший кот, недовольный абсурдной политикой хозяев.
– От кого записка, девочка?
Анюта завороженно смотрела на хозяйку, не в силах вымолвить ни слова. Тонкий, чуть с горбинкой носик, высокие скулы, глаза подведены по последней моде, черные брови картинно обрамляют лицо. Над губой примостилась агатовая родинка, завершая идеальный портрет последним ярким штришком.
Шелковое со стеклярусом и пайетками платье сверкало в электрическом свете, придавая сказочность происходящему. Оно повторяло нежные и чувственные изгибы тела как вторая соблазнительная кожа. Обладательница невиданного наряда благоухала, как райский цветок. По крайней мере, Аня не могла отыскать в своей памяти ни одного земного запаха, похожего на тот, что струился при каждом движении Фатимы.
– Фатичка, душа моя, куда же ты пропала? Все ждут, – в коридор выглянул приземистый человек с бокалом игристой жидкости, похожей на Дюшес. Уши, нос, как разговаривает – такого в Лобках непременно окрестили бы “жиденок”.
– Минутку, Гога, я сейчас.
Как только Гога самоликвидировался в шумную гостиную, Фатима перевела взгляд на Аню.
– Так от кого, письмо, детка? – наслаждаясь восхищенным взглядом неожиданной наивной почтальонши, переспросила игривая адыгеечка.
– Чапайкин Николай Павлович велел кланяться и, вот вам крест, обуяли его заботы нежданные. Мабуть, попозже прибудет. Очинно извинялись, – стараясь упомнить каждое слово тарахтела Аня – ответ какой будет?
– Пойдем ко мне в будуар.
Анюта вновь хотела отпилить и оставить ноги в прихожей, чтобы не ступать ими, грязнючими, по сверкающему паркету и нежно-мягким ласковым коврам. Ей казалось, она каким-то чудом попала в сказочную реальность, где ей совсем не место. Словно она Золушка, только добрая фея забыла поправить ее костюм или сдуру что-то не то наколдовала. Анюта остановилась в дверях спальни не в силах наступить на белоснежный мех какого-то животного, что мертво и покорно лежал на полу комнаты.
– Подожди – Фатима, картинно усевшись за резной туалетный столик, размашисто и быстро писала на куске розоватой бумаги. Перо скользило в ее руках, как волшебная палочка.
Женщина на минутку задумалась, что-то прикинула в своей изящной головке и дописала еще пару строк. Промокнула письмо тонкой работы пресс папье, свернула пополам, положила в конверт. В каждом движении – грация и нега. Финальный взмах – сбрызнула письмо духами с иностранными незнакомыми черными буквами и номером пять на белом фоне этикетки.
Анюта вытерла руки о подол своего видавшего виды платьишка, прежде чем принять конверт. Всю дорогу домой она то и дело останавливалась и вдыхала аромат послания. “Ежели энтот номер пять пахнит, як фиалка, то шо за дух у нумеров от едного до четвертого?” – крутилась в голове загадка века.
Глава 14 Лукьяныч
Весь вечер Анюта чутким сусликом караулила возвращение Чапайкина. Ну вот где можно шляться, да в каких-таких горкомах сиживать, когда тебя дома ждет послание от феи вроде Фатимы. К тому же у такого милого почтальона, как Анюта. Сосед изволил где-то прохлаждаться, все больше и больше занимая мысли Ани.
“Почтальон” сняла со стены над рукомойником зеркальце и внимательно разглядывала лицо, припоминая тонкие черты прекрасной Фатимы Нартовны. Николаю Павловичу по нраву восточная красота. По-видимому, так. Иначе больно нужно ему писать любовные записки Фатимам всяким. Ну и пусть, и пожалуйста. Наслаждайтесь, Николай Павлович чернеными бровями и глазами-угольками. На здоровье, как говорится. Кому-то хорош калач, а кому-то свиной хрящик.
Из зеркала на Анюту смотрела анти-восточная красота. Молочно-белая гладкая кожа с легким румянцем. Пронзительно голубые глаза с не по годам проницательным взглядом. Когда Анюта говорила Амалии Карловне, что могла бы быть полячкой, она не преувеличивала. С таким же успехом она могла сойти за литовку или очень красивую немку.
Если бы Гитлер, который в как раз в 1933 году пришел к власти со своими странными идеями, увидел ее лицо, то наверняка бы сказал, что это образчик арийской красоты. Миниатюрные скулы, аккуратненький носик и цепкий горделивый взгляд. И если вам, Николай Павлович, такая красота не по нраву, то идите вы знаете куда? Очень далеко. Подальше от красивых русских женщин и нюхайте там свои письма с запахом номер пять от ветреных черкешенок, у которых дома мужики между прочим воду с газиками хлещут, пока вы в горкомах штаны протираете.
Заслышав как в соседской двери поворачивается ключ, Анюта подскочила с табуреточки, повесила на гвоздик зеркальце и пошла вручать письмо, которое источало неприятный аромат за номером пять.
– Держите! Написали вам ответ на поросячьего цвета бумаге. Наслаждайтесь.
Чапайкин даже немного подпрыгнул. Так неожиданно громко и пафосно прозвучала тирада. Он стоял в полоборота к Ане, а та тыкала ему письмо, словно что-то непотребное. Дескать, забирайте, а то сил нет моих у себя такое содержать.
– Спасибо. Как твоя физика?
– А что с моей физикой?
– Выучила закон?
– Не выучила. Письма ваши носила.
– Заходи, давай вместе разберем. С тебя чайник горячий – с меня чай и урок.
– Да куда уж. Вас там Нартовна заждалась поди.
– Это она тебе сказала?
– Не сказала. Наверное, Гогу своего постеснялась.
– Какого Гогу?
– А я почем знаю, был там фармазон один плешивый.
– Фармазон?! Ты где таких слов набралась? – засмеялся Чапайкин – пошли физику учить, фармазонша?
Анюта недолго колебалась. Ей почему-то нравилась загадочная комната Чапайкина, наполненная запахом книг и табака.
– Ну раз вы к Нартовне не идете, то давайте поучим. Сейчас чайник с водой принесу. Есть у вас керосинка?
Они до поздней ночи изучали основы физики. Чапайкин растворил кусочек сахара в чае, обозначив, что это диффузия. Николай Павлович объяснял сложные термины легко, с простыми примерами. Физика перестала казаться Анюте набором непонятных слов.
К Фатиме Нартовне Чапайкин в тот вечер не попал. Засыпая в своей зашкафной келье Анюта смаковала этот факт с особенным теплым чувством. Иш ты! Вместо Нартовны Ньютона с Аней разучивал. Знай наших, Фатима-Шматима, танцуй дальше с плешивым. Даром ты номером пять своим письма поливаешь – улыбалась сама себе Анюта в полудреме.
Утро защекотало лицо Анюты приятным нежным солнцем. Внутри разливалось незнакомое, горячее, даже обжигающее чувство. Отчего ей так хорошо на душе? Отчего комната, воздух, Анна Андреевна, хлеб на столе и вообще все вокруг радует и умиляет и хочется зацеловать племяшку Валюшку? Что такое радостное происходит? Происходит внутри нее, но окрашивает всю Вселенную, подверженную законам Ньютона.
Невестка отправила Анюту на рынок. По дороге попался на глаза обувной магазин. Много раз до этого проходила Анюта мимо, но только сегодня магазин стал для нее заметен. По какой-то причине расхотелось ей бегать босиком по пыльным краснодарским улочкам “как в деревне, ей богу”.
Ассортимент магазина ввел Анюту в ступор. Даже на ее непредвзятый вкус представленное на витрине и полках никак не тянуло на какое-нибудь приличное слово. А вот слово “ширпотреб” оказалось как раз кстати. Грубые неказистые чувяки странных размеров, только очень маленькие и очень большие заполняли куцые полки лавочки. Цвет, форма, материал – чистый “ширпотреб”. Совсем не такими представляла Анюта туфельки на своих ногах. Ей непременно хотелось красненькие и с тонкими полосочками кожи. Ничего похожего в магазине не имелось. Но это сильно не испортило настроение Анюты.
На базаре Анюта торговалась как львица, требуя, клянча, вымаливая сбить цену на нехитрый заказ Анны Андреевны. Аня никогда бы не решилась на такие отчаянные меры, постеснялась бы, но на входе в рынок старенькая армянка торговала шелковыми лентами для волос. Аня увидела в ее руках алую тесемочку и почувствовала, что без нее отсюда не уйдет. Проснувшаяся девушка внутри девочки Ани требовала жертв. Она подсовывала сознанию картинку, на которой Анюта царствовала в новых красных босоножках и с облюбованной цвета коммунизма и страсти лентой в прическе.
Новой обуви, к сожалению, ничто не предвещало, но надо же с чего-то начинать. Удача оказалась благосклонна к моднице-дебютантке. Кто-то обронил монетку, и сумма для ленточки была в кармане. Через пару счастливых мгновений монетки уступили за пазухой место яркой покупке.
На обратном пути Анюта осуществила вылазку в заброшенный купеческий сад. Девочка несколько дней поджидала сладостную спелость ягод роскошной желтой с красными бочками кубанской черешни. Тонкое чахлое деревце росло в самой гуще сада. Хлестский кустарник почти полностью заслонял его от посторонних глаз. Аня нашла его в первые дни по приезду и считала своим тайным садом, не надеясь собрать когда-нибудь урожай. Наверняка о деревце прознали вездесущие мальчишки-беспризорники. Навряд ли ей за ними успеть, думала она, видя небогатую завязь плодов.
Тем отраднее стало обнаружить ягоды в целости. И хоть уродилось их совсем немного, две сочные жменьки приятно покоились в тряпице между покупками с рынка. А не угостить ли черешней Николая Павловича? Такой правильный вопрос ускорил шаги Анюты. Довольная собой и всем вокруг Анюта летела домой, как на крыльях. День, замечательно начавшийся, обещал стать еще интереснее.
Только обещать, не значит, жениться. Прохладная тень подъезда, приятно сменившая уличную жару, принесла недобрые вести. Привычно ослепленная темнотой на лестнице после яркого солнца Аня замерла на первых ступеньках, как будто ее ударили. Она вся сжалась и беспокойно глядела наверх, на второй этаж, словно ожидая увидеть там мерзкое чудовище. Подъезд вонял запахом за номером пять.
Холодное неприятное чувство расползлось у Ани в груди. А впрочем ей то что за дело? Ну ходят к соседям благоухающие гостьи и что? Да на здоровье! Она вскинула горделиво голову и, стараясь не вдыхать аромат, заполонивший лестницу, заторопилась домой. За дверью напротив послышался приглушенный голос Чапайкина и хрустальный смех черкешенки. Ответ на вопрос “а не угостить ли черешней Николая Павловича” напросился сам собой. Не угостить! Самим мало.
Аня постучала в свою дверь, словно НКВД (НКВД – Народный комиссариат внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик (НКВД СССР, Наркомвнудел), то есть, Министерство внутренних дел СССР. Не вдаваясь в сложные подведомственные подробности, НКВД – полиция (тогда милиция) с некоторыми функциями государственной безопасности. В 30е годы ХХ в. НКВД ассоциировалось с репрессиями). Ей не хотелось вдыхать зловоние номер пять, а запас воздуха оказался практически на исходе. Анюта шустро заскочила внутрь, припала спиной к двери, дыша как маленький краснощекий паровозик. Анна Андреевна испугалась, что за заловкой кто-то гонится.
– Что случилось?
– А что случилось? Ничего такого не случилось. Все в порядке, Анандревна, я все купила и еще черешни добыла.
– Украла?!
Аня уничтожающе посмотрела на Эркюля Пуаро в домашней юбке.
– Вовсе нет. Она росла в заброшенном саду за домом. Ничейная.
В доказательство бесхозности Аня высыпала желтенькие с красными бочками ягоды на стол. Они сиротливо рассыпались по большому столу. Анна Андреевна смотрела на черешню с опаской. Слишком невероятно было в те голодные года наличие ничейного дерева. Женщина молча и пристально рассматривала две жменьки плодов. Анюте самой начало казаться, что ягоды какие-то не такие.
Вдруг в дверь настойчиво постучали. Аня и Анна Эркюльпуаровна уставились друг на друга и никто не шел открывать.
– Анна Андреевна, у вас кофе не найдется, хоть грамулечки? – попрошайничал ради черкешенки Чапайкин.
Кофе, разумеется, никакого не было. Анна Андреевна потянулась за баночкой с цикорием и уже хотела предложить альтернативу соседу.
– Нема у нас нияких грамулечек, – опередила Анюта хозяйку комнаты.
Анна Андреевна так и застыла с открытыми цикорием и ртом. Но в ту же секунду оценила рачительность золовки, многозначительно кивнула и закрутила крышечку.
– Я обед буду сбирать, а ты с Валюшкой на воздушке побудешь?
Анюта собрала малышку, захватила пособие по физике и засеменила во двор, прижимая племяшку, чтоб та не наглоталась духа нечистого номер пять.
На лавочке у подъезда обосновались Горпина с Лукьянычем. Парочка, как водится, о чем-то горячо спорила. Заслышав шаги на лестнице, они остановились, приняли отсутствующий вид. Как только показалась Аня, а не кто-то чужой, продолжили диалог в полголоса.
– Ты кажи мне, казачура, де вы свою обмундированию нашукали?
– Та далась тебе форма казацкая?
– Та далася, потому как нэмае воной.
– Шо? А черкеска, бешмет, папаха – це не форма?
– Це вы укравши у горцев, це их одяг.
– А запорожцы в шароварах да кобзах?
– Це воны у тюрок бусурманских поцупивши.
– А женская одежа? Ты сравни русский сарафан да поневу с гарной казачьей жинкой.
– Це украинский одяг
– Тьфу ты! Иде ты нахваталася, шо казаки – це не люди, а сброд какой?
– А умные люди кажуть. И дело кажуть, – последнюю фразу Горпина произнесла медленно и глядя с вызовом.
– Да и то верно, – спохватился Лукьяныч, – казаки они хто – они так, беглые со всего свиту крестьяне. От буржуев они бежали, притесняемые.
Лукьянычу было, что возразить Горпине. Болью отдавал в душе разговор. Он прекрасно помнил форму отца, казачьего подъесаула и свою. Все детство и юность жил с мыслью, что он не какой-то мужик, а казак, человек служивый, на службе у батюшки царя.
В первую мировую его серьезно ранило шрапнелью. После выписки он еле ноги волочил и казался совсем стариком. Осел поэтому в городе, не вернулся в родную станицу. Ничего не понимал в Революции Лукьяныч, кроме того, что царя больше нет, и все, кто был за него, власти не угодны. Чутье подсказало ему называться крестьянином, а не казаком и что служил в пехоте.
Горпина вызнала его корни, когда он пьяненький напевал “Роспрягайте хлопцы коней” прежде чем “лечь почевать”. Хохлушка с тех пор подтрунивала над Лукьянычем. Всякий раз добиваясь от него, что казаки это сброд и сам он не казак.
Аня с Валюшкой на руках и открытым на коленях учебником слушала Горпину и Лукьяныча, не вмешиваясь. Гул шагов на лестнице поставил точку. Дворник распрямился, крякнул, как старый дед, и пошел в сторожку. Из подъезда вышли Фатима с Николаем.
– Анюта, добрый день. Как успехи? – показывал глазами на пособие по физике Чапайкин – Горпина Даниловна, здравствуйте.
– И вам не хворать, Мыколай Палыч
– Ой, это же наша маленькая связная, – умилилась Фатима.
На ней красовалось белое крепдешиновое платье с бантом на неглубоком декольте. Наряд был прост и одновременно роскошен. Маленькая красная сумочка в тон помаде напомнила Анюте про ленточку за пазухой. Почему-то теперь атласная тесемочка совсем не радовала обладательницу.
– Вы уже мамочка? – лезла с расспросами Нартовна.
– Не уже, а еще мамочка, – горделиво констатировала Анюта, не желая делиться подробностями с обворожительной Фатимой.
– Как это мило, – не унималась женщина, спасибо вам за службу. Наверное сложно было найти время и принести весточку от Николая Павловича. Спасибо вам. Как вас зовут, моя хорошая?
– Анна Демьяновна
– Премного вам благодарна, Анна Демьяновна.
Ответила ей Валюша – громким плачем. Уж что-что, а тут она была точно в отца. Орала так, что слышно было за несколько кварталов. Аня кивнула Фатиме и деловито занялась ребенком.
– Ух, шайка-лейка! – зло прошептала вслед Горпина, стоило Фатиме и Николаю отойти от подъезда.
Аня запомнила эту фразу и решила выяснить в будущем, что за шайка-лейка и кто именно шайка-лейка.
Глава 15 Красные туфли
Скоро сказка сказывается, да еще быстрее приходит пора сдавать экзамены. Испытания в техникуме принимались заведующей отделения Лилией Федоровной, преподавателями по дисциплине и сменными представителями партийной организации техникума и исполнительного бюро учащихся. Последние ничего не понимали в предметах и были на одно лицо, словно их отлили в какой-то партийной мастерской. Они придирчиво смотрели анкеты абитуриентов и грозно спрашивали о целях коммунизма, интернационала, партии. Если подросток запинался, они оглядывались на бородато-усатые портреты над своими головами, как бы призывая вождей в свидетели творимой ими справедливости. Испытуемый автоматически следовал за их взглядом и почти всегда исправлялся. Словно портреты наполняли его правильными партийными вибрациями и смыслом бытия.
Все члены комиссии одевались в серые тона и хранили лица, как будто пришли не на экзамены, а на похороны. Особенно траурно выглядела Лилия Федоровна. На столе стояли живые цветы и ее лик с тонкими бесцветными губами и аккуратной гулькой на голове высился над букетом. Она редко шевелилась или подавала признаки жизни. Даже когда женщина что-то строго спрашивала, губы почти не двигались, как у переколотых ботоксом киноактрис в ХХI веке. Из-за этого казалось, что хоронят именно ее, просто труп забыли положить горизонтально.
Анюта выдержала боевое учебное крещение по всем нужным предметам. Русский сдавался первым. Она последняя принесла комиссии на суд листочек с ответами, уверенная, что написала на “два”. Когда она шла по коридорам роскошного, но обветшалого здания техникума в кабинет брата с табличкой “Директор”, то услышала приглушенный голос Лилии Федоровны: “Можно поставить девочке четверки и будет стипендия” и слова брата: “Лилия Федоровна, как это будет выглядеть?! И думать забудьте, ставьте по всем “удовлетворительно”. Анюта почему-то решила, что “девочка” – это непременно она. Ошибалась Аня или нет, но по всем предметам она получила “удовлетворительно”.
Последний экзамен – физика. Осчастливленная “трояком” Анюта танцующей походкой вплыла в родной двор. На камнях ребятишки намалевали классики. Аня пропрыгала их, как маленькая девочка, прощаясь с детством. Все, она теперь не ребенок. Она – учащаяся сельскохозяйственного техникума. Новоявленная студентка подняла глаза и увидела своего репетитора по физике Чапайкина.
– Что? сдала? “пять”? – улыбался он, заражаясь ее победоносным настроением
– Ага! Шесть! – засмеялась Анюта с разбега нырнула в раскрытые поздравительные объятия. Николай закрутил ее по двору со словами “Молодчина! Лично я всегда в тебя верил!” и поставил на грешную землю.
Аня на мгновение задержалась в его руках. Глядя глаза в глаза, стояли они одну коротенькую секундочку посреди пыльного двора. За краткий миг Анюта успела запомнить форму его губ, щетинки над ними, аромат кожи, одеколона и табака, силу объятий и трепет тела рядом с ним. Весь мир словно остановился на минуту. И минута длилась целую вечность, в которой кружатся и переплетаются судьбы, а потом БАХ! и атомы натыкаются друг на друга, но не отталкиваются, а становятся единым целым, нарушая законы физического мира и подтверждая божественный закон любви.
Советский быт не предполагал божественных союзов между девочками-подростками и взрослыми мужчинами. Мысли о чем-то подобном, на что намекнула вечность, пока они стояли с Аней во дворе, прижавшись друг другу одно сладостное мгновение, Николай Павлович прогнал. Нашумевший роман Лолита к тому моменту не был написан и обычные граждане попросту не догадывались, что сношения с малолетними девушками – относительно нормальная часть мужской природы.
Чапайкин перестал замечать Анюту на ближайшие полтора года. Аня не могла ощутить, радует ее это или расстраивает. Как-то и некогда было. Учеба, забота о племяннице, домашние дела поглощали с головой. А вот Амалия Карловна, ставшая случайной невидимой свидетельницей сцены с объятиями, очень радовалась, что беды не случилось. Зная характер Ивана Демьяновича, несложно предвидеть сумасшедший громкий скандал, дай Чапайкин волю мужским инстинктам.
Шестнадцатилетие – особенная дата. В шестнадцать выдавался серенький паспорт с серпасто-молоткастым гербом. Анюта родилась на Крещение. В цифрах даты рождения присутствовали только единицы и девятки: 19.01.1919. Наверное, добрый знак для увлекающихся нумерологией и просто забавное совпадение для остальных смертных.
Отмечали особенную дату узким кругом: брат Иван, Анна Андреевна, Амалия Карловна. Николай Павлович обещался зайти попозже вечером. Товарищ Кусля по каким-то своим причинам сторонился застолий с соседями. У Анюты образовалась парочка подруг, которым было с ней по дороге из техникума и обратно, но они стеснялись приходить в гости к директору заведения, к строгому Ивану Демьяновичу.
Из года в год природа не изменяла себе и на Анин день рождения выдавала обещанную порцию снега и низких температур. Когда за окном давит крещенский мороз, сидеть за столом в теплой комнате контрастно приятно. Запах чая с травами и свежеиспеченного пирога с алычовым вареньем добавляет уюта и хочется верить в светлое будущее.
По радио бесперебойно чему-то радовались. В январе 1935 года особенно активно обсуждали темпы строительства метро. В Москве, конечно, а не в Краснодаре. Каждый день передавали репортажи о станциях невиданной красоты. Нигде в мире не имелось подобного шедевра для перевозки обычных граждан к местам труда. В стране то и дело что-то перевыполнялось, заготовлялось, повышалось, росло и множилось. Никаких печальных новостей в СССР не водилось. Симпатично слушать, не то, что внимать про войны, взятки, забастовки, недостачи, недовольства. Последнее случалось где-то в империалистических странах, куда не успела добраться революция.
Анюта впервые попробовала красное вино и щеки горели румянцем. Брат налил ей пол бокальчика и, скорее всего, сработал эффект плацебо, а не выпитое. Девушка ощущала себя совсем взрослой и почти на одной ноге с собравшимися. Ей же целых шестнадцать, а не пятнадцать, как вчера. Брат с женой подарили невесомый молочно-белый пуховый платок. Подарок мягко и нежно окутывал плечи именинницы. Он рождал на душе такие же чувства, какие бы появились у чуждой гринпису обладательницы норкового манто веке в двадцатом – двадцать первом.
Амалия Карловна преподнесла пяльцы и набор цветных ниток. По тем времена редкая вещь. Промышленность в основном работала на товары первой необходимости и вооружение. Наборы для вышивания навряд ли фигурировали в пятилетнем плане развития народного хозяйства. Соответственно, взять их было негде, кроме дореволюционных запасов. Но кому придет в голову запасаться пяльцами впрок? Вот и стали они на вес золота.
Подарок обрусевшей полячки пришелся как нельзя кстати. Напомнил об отчем доме. Последний раз именно там, в Лобках Анюта держала в руках пяльца. В голове появилась картинка. Мама прядет пряжу, еле слышно постукивает колесико прялки, трещит огонь в печке. Кажется это было в какой-то другой жизни. Потому что в этой вместо печи – водяное отопление, вместо прялки – тарахтит радио. И мамы больше нет.
Из прошлого Анюту вынул звук знакомых шагов в коридоре. Сердце именинницы заработало с удвоенной силой. Хотя лицо не изменило привычного выражения – способность-подарок от бабушки Таисии. Зайдет поздравить или умчится по своим нескончаемым делам. Вот в чем вопрос. Скрежет ключей в соседней двери. Через время – стук во владения Сипейко. Входите, Николай Павлович. Не заперто.
– Где наша именинница?! – в руках у Чапайкина коробка с моментально понятным женскому полу содержимым. Ни одна девушка не перепутает ни с чем другим коробочку с обувью.
Не может быть! Неужели туфли? или босоножки? или сапожки? или это просто коробка от туфлей, а внутри что-то другое? Аня чинно и с достоинством подошла, поблагодарила и стала медленно развязывать тесемочку на упаковке. Спасибо бабушке Таисии за супер-способность сохранять лицо в любой ситуации. А не то неизвестно, с какой скоростью и глазами она бы потрошила подарок.
Красные туфельки на затейливом игривом каблучке! Все присутствующие смотрели на них с восторгом и недоверием. Наверное, гораздо меньше удивились, если бы Чапайкин привел пони или даже слона. Явление красных туфель в эпоху тотального дефицита произвело сначала тишину и горящие глаза, а затем такую улыбку, что сама Грета Гарбо позавидовала бы. Как при такой сдержанной и холодной красоте можно так тепло и просто улыбаться?
Анюте не терпелось примерить обновку. Возможно, если бы в комнате не было брата, она бы так и сделала. Но брат спасительно присутствовал и помог девушке не потерять лицо, как говорят в Японии.
Кроме улыбки Николай Павлович получил здоровущий кусок пирога и бокал красного домашнего вина из винограда Изабелла, что так щедро рос по всему Краснодару. Чапайкин, как опоздавший, вознамерился произнести тост счастливой до последней возможности имениннице. Он встал по-военному прямо с расправленными плечами, но тоста не последовало.
В коридоре отчетливо и строго застучали женские шаги, заскрежетала ручка комнаты Чапайкина, задергалась конвульсиями дверь. Судя по звуку, чья-то маленькая ручка со всей силы вымещала на ней злость. Еще шаги. Рванулась незапертая створка к Сипейко. На пороге стояла Фатима, сжимая смятую газету. Анюта про себя предположила, что у Нартовны, видать, живот прихватило и что туалет у них дальше по коридору. Вслух она хранила молчание. Как и все в комнате. На руках Фатимы – замшевые перчатки, на маленьких топающих ножках – модненькие сапожки, на лице – смесь раздражения и негодования.
– Как ты посмел?! Как ты посмел?! Всех приплел: и отца, и Рафейчика, и Лубкова. Гнида ты! Вошь! – лицо прибывшей утратило привычную светскость и миловидность. Черные глаза сощурились и сделали обладательницу похожей на хорька или крысу – На чьей ты стороне?!
– Фатима Нартовна, я всегда на одной стороне – это сторона здравого смысла и справедливости. И сейчас они мне подсказывают, что вам здесь не место, – раздражающе спокойно ответствовал Николай Павлович.
Черкешенка вскинула брови и обвела стол и людей вокруг него удивленно-презрительным взглядом. Как будто до этого момента она не потрудилась заметить собравшихся незнакомых людей.
– Ты за это ответишь! – каркнула Фатима и бросила скомканный фельетон на стол. Большими буквами значилось: спекулянты в советской шкуре.
– Приятного чаепития, – выдавила Нартовна тоном “чтоб вы подавились и померли” и, вскинув картинно и обиженно голову, удалилась. Остался только шлейф Chanel № 5 и тишина. То безмолвие, что устанавливается, когда никто не знает, что говорят в подобных ситуациях. Потому что подобных казусов ни с кем не случалось.
– Прошу меня извинить за данную сцену. Вы же знаете, что я общественный журналист? Издержки профессии – разорвал молчание Чапайкин.
Анна Андреевна убрала памфлет в сторону и засуетилась с ножом над столом. Двигалась она максимально непринужденно, словно явились люди в черном и стерли ей память про последние пять минут.
– Анна Андреевна, пирог просто божественный! – разряжал как мог атмосферу Чапайкин – Можно мне еще кусочек? Хотя я и так уже два слопал.
– Ну положим, не два, а три, но кто же будет считать? – пошутила Анюта в стиле одесситов, копируя еврейскую картавость. И все, кто был в комнате, зашлись долгим радостным смехом, прогоняя осадок от вторжения Нартовны. Анюта сообразила, что та с улицы слышит их хохот и смеялась чуть громче, чем обычно. От осознания, что роман с красивой змеей Фатимой – вовсе не роман, а журналистское внедрение, работа под прикрытием, хотелось летать в красных туфельках под потолком, как херувим.
Утром первое, на что упал взгляд давешней именинницы было не солнце. Красные туфельки. Они единолично царствовали в Анином уютном “зашкафии”. Подаренная Николаем вещь стояла рядом с кроватью. Ощущение по силе могло сравниться, если бы девушке в ХХI веке преподнесли последний айфон в топовой комплектации и с эксклюзивным дизайном. Конечно, имеет значение, в первую очередь, кто подарил, что именно – вторично. Вроде бы. Зато как поет душа в те счастливые моменты, когда и автор подарка, и сам подарок зажигают и волнуют.
Анюта не могла насмотреться на обновку. Ножку вправо, ножку влево, на носочек. Красотища. Проходка по комнате в нежном пуховом платке. Вперед, назад, наискосок, вокруг стола. Тук тук, каблучки стучат. Отчего только на улице январь, мороз и солнце? День чудесный-расчудесный. Ничего чудесного, если тебе маниакально хочется обуть туфли. Снег еще! Зачем он вообще выпал? Краснодар – южный город вроде бы. К чему на юге снег? Вот куда теперь в красненьких новеньких на каблучке прикажете идти, когда вся комната исхожена и Анна Андреевна уже глаза тихонько закатывает? Тук-тук, каблучки стучат, Анны Андреевны глаза зло глядят. Что делать то?
В окно Анюта приметила, как серенькое пальто Амалии Карловны грустно скрылось за воротами. Можно же было сходить к любименькой Малечке Карловне. Ах, Господи! Почему подумалось об этом сейчас, когда та самоликвидировалась? Куда и зачем она отправилась в крещенский мороз? Как не кстати. О! Кстати. Прекрасная идея – поблагодарить Николай Павловича за чудесный подарунок. И вполне оправданно совершить это с подарком на ногах.
Анюта с горящими, влюбленными в туфли глазами выпорхнула из комнаты брата. Пропуская удары собственного сердца, робко и нежно постучалась она к соседу. Николай открыл, словно ждал ее. Должно быть, влюбленный жаркий взгляд относился совсем не к обуви. Долгие месяцы таились желания и мечты, ничем себя не выдавая. Отложенные на полтора года чувства вырвались из плена стыда, воспитания и условностей…
Весь следующий год Аня открывала нежность, ласку, чувственность. Тосковала по своему милому, когда тот уезжал в командировки. Прогоняла страх, что она – обычная сельская девочка не пара ему, высоко образованному, начитанному, такому холодному и родному. С ужасом представляла, что будет, как узнает брат.
Добрая Малечка жалела и приговаривала: “Что ж ты делаешь, деточка, что ж ты делаешь? Разве ты не знаешь, никогда нельзя делать то, что следует скрывать от других. Из достойного тайн не делают. И нет исключений, поверь мне, нет исключений.” В такие мгновения волнение накатывало лавиной тревоги. Озноб растерянности и беспомощности моментально отступал, когда Николай, уверенный и сильный, оказывался подле нее. Он поговорит с братом, когда придет время. Все будет хорошо.
Мир Ани поделился надвое. Понятный светлый счастливый, когда Николай рядом. Когда он в отъезде – туманный и тревожный. Домашнего телефона у кого-либо из всего пятиэтажного дома не водилось. Одна неделя командировки иногда превращалась в две, а то и три. Оставалось только ждать и надеяться. Каждый лишний день отсутствия добавлял смятения в душу. Каждое возвращение окрыляло надеждой на легкое красивое будущее.
Предчувствия Анюты невидимыми лучами сканировали существующее. Это не были любовные разочарования или неуверенность в себе, или страх, что общество не поймет и не оценит ее жизнь. Сквозь радужные советские новости проглядывала туча междоусобного раздора. Народ усердно готовился к труду и обороне. В сельскохозяйственном техникуме учениям по гражданской обороне уделяли больше внимания, чем растениеводству или зоогигиене. Внешний мир тяжело дробился и готовился к неминуемой войне.
Глава 16Пани Малечка
Семнадцатилетие Анюты справили буднично. Ничем не примечательный ужин с зажаркой из куриных потрошков запомнился только тем, что именинницу всю ночь после него мутило. Приступы тошноты – что-то новенькое в репертуаре ее справного тела. Коханки отличались долголетием и отменным здоровьем. Простуды, женские боли, мигрени, расстройство желудка обходили Анюту стороной. Разбитое состояние, беспокойство и какая-то неосознанная маета приписывалась Аней очередному отсутствию Николая. Он отбыл по делам еще в начале декабря и по ее ощущениям со дня на день должен был вернуться.
Вместо Николая на следующую ночь вернулись тошнота и озноб. Наверное, все-таки простудилась, выскакивая на двор снять белье. Низ живота тоже неприятно тянуло. Подмерзла, поставила себе диагноз Анюта. Ничего, все образуется.
С недельку девушку мучали непонятные недомогания, а потом здоровый молодой организм взял свое. Аня даже немножко поправилась и округлилась. Особенно женственной и налитой стала грудь. Когда никто не видел, Анюта с удовольствием проводила руками по нежной белой коже, по упругому бюсту и ладному стану, представляя, как совсем скоро ее будут обнимать руки любимого человека.
Предчувствия сбылись. В конце января долгожданные объятия растопили зиму и устроили на душе у Ани ландышевую весну. На улице крепчал мороз, а на втором этаже пятиэтажки на пересечении Красной и Пашковской наступило время цветения и радости. Страсть и нежность омывали берега смущения. Счастье струилось по венам и токам горячим коктейлем эндорфинов и всего такого, о чем Аня понятия не имела. Ей просто было хорошо рядом с ним, рядом с ее Николаем.
В те дни, когда Иван Демьянович задерживался на работе, а случалось такое часто, влюбленные подолгу разговаривали. О мире, войне, о том, что Запад зря заигрывает с Гитлером.
– Понимаешь, Анюта, расизм, если он есть в государстве, никогда не остановится на какой-то одной нации или группе людей. Сегодня евреи, завтра кто-то другой. Всю историю человечество губило себя, ненавидя друг друга по разным основаниям. Раньше корнем раздора была религия, а сегодня – философские и политические доктрины.
– Понимаю. Наша философия – ненавидеть буржуев и фашистов?
Николай Павлович осекся. К такому выводу он не был готов.
– Наша философия, что люди равны и имеют одинаковые права. Ты знаешь, что в СССР женщины получили право голоса раньше, чем в Америке.
– А зачем оно нам?
– Участвовать в политической жизни.
– Чтобы кого-то коллективно ненавидеть вместе с мужчинами?
Не ерничай. Чтобы выражать свою позицию. Возможно, если бы женщин в политике было больше, то войн было бы меньше.
– А как можно выражать свою волю, когда все всегда и все решают “единогласно”? Не все ли равно, у кого при этом право голоса?
– Важен принцип. Мы дойдем до того момента, когда будет не “единогласно”, а по совести.
– А “единогласно” – это не по совести?
– Когда дело правое, то по совести.
Чтобы закончить разговор, Николай привлекал Анюту к себе, окаймлял ее лицо своими ладонями, нежно и медленно целовал в глаза, щечки, скулы, губы, подбородок. Аня млела под его лаской, как кошка на солнышке, разве что не мурлыкала. Иногда ему казалось, что любимая нарочно заводит все их разговоры в тупик, зная, что последние его аргументы – поцелуи. В феврале очередная командировка прервала череду бесед и поцелуев.
Амалия Карловна оказалась единственным конфидентом Анюты. Среди девчонок из техникума не нашлось подруги-ровесницы. Разговоры с ними после бесед с Чапайкиным казались детскими. Да и держались они с Аней чуток особняком по понятным причинам – родная сестра директора все-таки.
Горпина называла Амалию Карловну “белошвейкой”. Малечка, как называла Амалию Аня, только глазами хлопала. Из каких соображений кухарка товарища Кусли произвела полячку в работницы рукоделия, ей было неведомо. Возможно, потому что Амалия Карловна любила рукодельничать. Долгими вечерами сидели они с Анютой в чистенькой уютной комнатке за вышиванием или вязанием. Амалия крохотными порциями угощала гостью историей своей судьбы.
Родилась она в Санкт-Петербурге в семье работника Польского посольства. Мама умерла от грудной болезни, когда Малечка была совсем маленькой. От нее в дар дочь получила миловидность, грацию и изящество. Красивые женщины редко рождены для счастья, и Амалия не стала исключением.
Как водится, случился традиционный для того времени роман с блестящим женихом из дворян с пустыми надеждами. Суженный не смог бы выполнить сладкие обещания, даже если бы захотел, так Андрей объяснял их разрыв. Как будто семья не позволила ему жениться на бесприданнице без титула. Амалия перенесла обиду достойно и с головой ушла в необычную работу “телефонной барышней”.
Брали в телефонистки исключительно девушек до 25 лет и с длиной туловища не меньше 128 сантиметров. Помимо клятвы о неразглашении услышанного с них полагалось обязательство выходить замуж только за работников связи. Перспектива так себе. Но Амалия в любом случае поставила на замужестве крест. Мужчины в ее глазах опустились ниже ватерлинии Невы.
В октябре 1917 года рано утром на узел связи ворвались матросы под предводительством комиссара откровенно еврейской наружности. Амалия, находясь в сердцевине событий, даже не сообразила, что происходит правительственный переворот. Плюгавенький человек в круглых маленьких очочках методично раздавал приказания грозного вида матросам. Он же вежливо обратился к девушкам с просьбой отключить Зимний дворец от телефонной связи. Ни выстрелов, ни угроз, ничего такого революционного не происходило. Как будто на телефонной станции поменялось начальство. Телефонные барышни трудились в штатном режиме.
Революционную кухню Амалия попробовала позже. Солдаты и матросы врывались в квартиры и дома Петрограда (Санкт-Петербург в 1914 году был переименован в Петроград). Они не особенно разбирались в предметах роскоши. Основной интерес для них представляло столовое серебро. Нехитрая их фантазия усматривала в вилках и ножах вершину буржуазного богатства. Гораздо бОльший урон происходил не из-за краж, а потому что ломали буржуазное имущество просто так, от злости.
Отданный на откуп новым хозяевам страны Петроград утонул в насилии. У Амалии погиб отец. Чем рядовой сотрудник посольства мог навредить большевикам, рабочим или солдатам? Скорее всего, папа пал случайной жертвой мародеров, а не из-за работы в посольстве. Амалия вернулась вечером домой и нашла его с проломленной пресс-папье головой. Кроме столового серебра почти ничего не пропало. Так и запомнила Амалия революцию. Ковры, истоптанные грязью и кровью, разбитые стекла во всех шкафах, изуродованные картины на стенах и жуткая поза неживого папы.
Спустя время девушка узнала, что вся семья ее бывшего горе-жениха сгинула. Молодую супругу его, прежде чем убить, растерзали несколько солдат. Никогда не угадаешь, что для тебя лучше. Всего за два года до революции Амалия многое отдала бы, чтобы стать женой Андрея.
При первой возможности Амалия покинула скорбный Ленинград (26 января 1924 года Петроград был переименован в Ленинград). Выбор пал на Краснодар практически случайно. Лишь бы попасть в непохожий на северную столицу город. В южной столице Амалия Карловна устроилась учительницей немецкого языка в рядовую советскую школу.
– Анюта, когда Николай Павлович возвращается?
– Не знаю, пани Малечка, через месяц или два.
– Ты уж прости, панни Анна, что я лезу с вопросами. Поверь, не из любопытства. Я волнуюсь за тебя. Почему он скрывает ваши отношения?
– Он поговорит, он обещал. Когда придет время.
– Время для чего? Что должно случиться, чтобы вы перестали делать тайну из встреч?
Аня молчала. Они с Николаем беседовали о чем угодно: об аншлюсе, об истории, о Гитлере, но только не об их будущем. Рядом с возлюбленным Анюта была так счастлива, что и обсуждать казалось нечего. Когда тот долго отсутствовал, уверенность, что все будет хорошо, испарялась. Простые вопросы и замечания Амалии Карловны топили ее раскаленное сердце в ледяной воде неизвестности.
У Анюты не было ответов на робкие вопросы соседки, а у жизни были. Как оказалось, то, что должно было случиться, чтобы Анюта и Николай перестали делать тайну из своих встреч, произошло в декабре прошлого года. Жизнь ответила на голод, неустроенность и неизвестность новой жизнью. Когда Анюта поняла причину своего странного недомогания, Николай находился далеко. Связи с ним не было и Анюте оставалось только ждать.
От мысли, что придется поставить в известность брата, у Анюты случался настоящий ступор. Словно, она в каком-то немом кино, где ей уготована странная роль глупой незамужней беременной девушки. Что все происходит не с ней, а с каким-то другим человеком. И как закончатся съемки, так и закончится эта роль. “Реквизит” тем временем рос. В марте Анюта принялась утягивать животик плотной тряпицей.
В апреле пришло время сдавать нормы ГТО (ГТО – 11 марта 1931 года в СССР было основано физкультурное движение ГТО (Готов к труду и обороне). Нормы были достаточно высокие, не каждому под силу. Те, кто успешно прошел испытания, получали отличительные значки). Спортсменом можешь ты не быть, а физкультурником обязан. Здоровый образ сильного советского человека предполагал выносливость и умение действовать в любой ситуации. Всем в техникуме предстояло продемонстрировать навыки первой медицинской помощи и физподготовку.
Слава Богу, было достаточно холодно и девушки были не в маечках и шортиках, как обычно их рисуют на плакатах, пропагандирующих физкультуру и спорт, а в трико. Подтягивание, прыжки, бег, метание гранаты – так себе идейка на пятом месяце беременности. Анюта попробовала сослаться на женские дни. Лилия Федоровна смерила ее уничтожающим взглядом и апатично прошипела:
– А если завтра война? Тоже скажем врагу, что у нас месячные? Немедленно переодеваться и в строй.
Аня появилась через несколько минут в трико и кофте в обтяжку, готовая дать отпор воображаемому врагу подтягиваниями и прыжками. Глядя на ее фигуру, Лилия Федоровна поняла, что увольнение учителя немецкого в конце учебного года не единственная проблема техникума. Заведующая отделением самолично присутствовала, покуда Анна Сипейко пыжилась ползать по-пластунски с винтовкой и в противогазе. Сомнений, что никаких женских дней у девушки не было ни сегодня, ни последние три-четыре, а то и пять месяцев не осталось.
– Разрешите? – холодно спросила Лилия Федоровна, входя в кабинет Ивана Демьяновича в середине рабочего дня.
– Так а что мне прикажете написать в трудовой книжке? Причина увольнения – папа немец? – рассерженно, но покорно вопрошал директор техникума Сипейко у человека с военной выправкой и застывшим неморгающим взглядом.
– Я позже зайду?
– Проходите, Лилия Федоровна, что у вас?
– Я по личному вопросу.
– И посетитель, и директор, не скрывая удивления, уставились на вошедшую. Слова “личный вопрос” никак не вязались с образом заведующей. Как если бы стриптизерша в кабаре вышла на сцену и зачитала “Философические письма к даме” П.Чаадаева. Только наоборот.
НКВДшник откланялся.
– Говорите, Лилия Федоровна, – в голове у Ивана Демьяновича не родилась ни одна догадка о сути личного вопроса.
– Речь о вашей Анне.
– Сестре? По какому предмету проблемы?
– Речь не об учебе, хотя вы знаете, как она отстала в последнее время.
– Дисциплина?
– Нет, другое.
Иван Демьянович моргал в такт тиканья часов на стене.
– Быть может, я лезу не в свое дело. Но я заведующая отделением и, мне видится, что ситуация патовая. Я бы даже сказала, ЧП (Чрезвычайное происшествие). Простите мою неделикатность, но я должна знать, как вы намерены поступить? И как нам всем реагировать на…
– Да что вы ходите вокруг да около?! – холерично и по-директорски заревел Иван Демьянович – Говорите толком!
– Вы как брат наверное в курсе ваших семейных дел, но я как заведующая…
– Вы разродитесь наконец?! Что с Анютой?
– Я, как вы изволили выразиться, разрожусь вряд ли, а ваша Анюта – очень может быть.
– Что? Как?
– Аня беременна.
– Вы Лилия Федоровна что за предположения себе позволяете? Вы в своем уме?
– Не смею вас больше задерживать, Иван Демьянович. Давайте обсудим этот вопрос завтра, на свежую голову.
– Где Аня? Какой у нее урок, знаете?
– Сегодня день сдачи ГТО. Учащиеся разошлись по домам.
Иван Демьянович попробовал заняться привычными делами, но ни на чем не смог сосредоточиться. В голове крутилась дурацкая фраза “Аня беременна”. Его маленькая сестренка Анюта беременна. От кого? От святого духа? Она никуда не ходит, кажется. Всегда дома. Самое дальнее путешествие – к Амалии Карловне. Лилия Федоровна белены что ли объелась? Кстати, он сегодня еще не обедал. Отчего не поесть дома для разнообразия? Столовская еда успела приесться за учебный год. Иван рысцой пустился на Пашковскую.
Глава 17 Иван Демьянович
Анюта вернулась домой после утренних прыжков и ползаний в грязи с муляжом винтовки наперевес. Она с облегчением вспомнила, что Анна Андреевна не скоро появится. Они с Валюшкой будут до вечера на Покровке, у сестры невестки. Можно, ничего не опасаясь и ни от кого не прячась, перевести дух. Аня устало обмякла на стул, бережно размотала утягивающую талию тряпицу.
Какое облегчение, стало гораздо свободнее дышать. Как ты, малыш? Не по нраву тебе ГТО? Ты против труда и обороны? Зачем протестовал, когда мы стелились по полигону в противогазе, пинался? Кто так делает? С улыбкой выговаривала Аня, поглаживая очертания ребеночка сквозь свою кожу. Она представила насколько забавно смотрелась на спортивной площадке, пытаясь ползти на руках, не налегая на дитя под своим сердцем. Со стороны, наверное, напоминало не бойца красной армии при исполнении, а неуклюжую черепаху.
Весеннее мягкое солнышко ласкало ноги и круглый налитой животик. Оно заглядывало в окно, интересуясь судьбой разомлевшей молоденькой блондинки с мячиком жизни в руках. Свет веселых зайчиков, смягченный занавесками, усыпляюще перетекал с пола на стол, на графин с водой, рассыпаясь крохотными радугами по всей комнате. Веки у Анюты тяжелели. Вся действительность ритмично исчезала, появлялась и вновь исчезала под шторками век.
Усталость брала свое и беременная Аня почти провалилась в сон, когда в комнату вторгся брат. Он остановился в дверях и молча смотрел на явленный миру клубочек жизни. Реальность сконцентрировалась в его сознании на круглом упрямом пузике с наглым вывернутым пупком, какие бывают у женщин в положении. Непролазно долгую минуту Иван просуществовал без слов. Сквозь полуопущенные веки он виделся Анюте в каком-то мареве или тумане. В таком полунастоящем виде брат не стал долго задерживаться.
– Как?! Как прикажешь это понимать, сестра?! – утробно зарычал Иван.
Никогда до этого он не величал Анюту “сестра”. Звучало страшно и непривычно. Сестра подлетела на стуле, словно он в нее выстрелил. Анюта растерялась и в ошарашенной полудреме не могла сообразить, куда бежать, за что хвататься.
– Ваня, Ванечка, братик, – приговаривала она, вставая со стула и пряча живот под кофту.
– Я спрашиваю еще раз. Как это понимать, сестра? Что за бордель ты устроила в моем доме?
Аня вскипела внутри. Ее ребенок – никакой не бордель. Но сдержалась, пятясь к себе в укромное “зашкафие”.
– Ваня, это не бордель. Я давно хотела вам с Анной Андреевной сказать.
– Сказать что?! Что моя сестра сношается с мужиками у меня под боком и теперь понесла в семнадцать лет? Ты это хотела нам с Анной Андреевной сказать? Что уж там? Не нужно утруждаться, я и сам не слепой. Вижу, что у меня за сестрица-мастерица.
– Ваня, пожалуйста, я прошу тебя. Я все та же твоя Анюта, что и была вчера.
– Моя Анюта? Моя Анюта?! Где она? Вот эта наглая и брюхатая – моя Анюта? Это не моя Анюта. Увольте. Моя Анюта не может до такого докатиться.
– Пожалуйста, ты сам будешь жалеть о своих словах.
– Я буду жалеть только о том, что мы с тобой одной фамилии и одного рода. Вот уж коханковская порода. Вся в батю. Его кровь, его. Забрал тебя из его дома, да кровь то из жил не выцедишь. Одно блядство на уме, – глубокое чувство вины, что он, старший мудрый брат, не уследил за своей маленькой Анютой, заставляло искать виноватых и подсовывало на язык гадости.
Упоминание об отце вскрыло у Ани в душе давнюю боль, связанную с их поспешным отъездом из Лобков и с такими же грубыми фразами, которые в сердцах бросал в отца Иван, а она молчаливо поддерживала. Все три года гнала Аня от себя эти воспоминания и вот они обрушились на нее.
– Не смей. Так. Говорить. Об отце, – холодно, с паузами между каждым словом отчеканила Анюта.
Иван Демьянович отпрянул, настолько чужой ему показалась в этот момент сестра. Действительно, не его Анюта это, а какая-то другая незнакомая беременная ледяная девушка с глазами-бритвами.
Аня хаотично складывала в красное одеяло свои нехитрые пожитки. Совсем как три года назад в Лобках. И снова то место, где хранилось воспоминание о последнем взгляде на отчий дом, который из-за воплей Ивана ей не суждено, наверное, увидеть, заныло и заболело. Сначала Иван отрезал ее от отца и братьев, а теперь отрекается от нее. Мама любила повторять, что все всегда к добру. Значит, и это к добру.
– Куда ты собралась?
Аня молчала, суетно прикидывая варианты. В самом деле куда ей деваться? Чапайкина нет в городе. Есть ключ от его комнаты. Но она решила не подвергать жилище своего мужчины опасности. Ей почему-то казалось, если Иван увидит, как она открывает дверь напротив, то ворвется туда и, чего доброго, спалит книги или еще что-нибудь натворит по своей недюжинной неконтролируемой горячности.
– Я к тебе обращаюсь, Анна, к кому ты собралась?
– Я собралась не к кому-то, а от кого-то.
– Этот кто-то, надо полагать я? Твой брат, кто давал тебе кров и хлеб все эти годы, кто любил и оберегал тебя? Так ты меня отблагодарила? Так? Бесчестье и позор – это плата за мое к тебе доброе отношение? Ты вообще соображаешь, что ты натворила? Ты же уничтожила себя, меня, мою репутацию. Я уже молчу про твою. Какой следующий шаг, сестрица? Что дальше тебя ждет? Сегодня – незаконный ребенок, завтра что? Бордель? Сифилис?
– Вы, брат, слишком часто бордели поминаете. Угомонитесь, Христа ради.
Официально брат, как директор техникума и партийный человек, числился атеистом. Упоминание Христа было чем-то вроде манифеста вольнодумства и своеволия со стороны Ани.
– Ох, как ты заговорила. Аня! Опомнись, что с тобой?
– Беременна я, брат. От хорошего порядочного человека. Буду рожать и растить ребенка.
– Где, позволь узнать, произрастает этот разлюбезный человек? Кто он?
Аня колебалась, сказать сейчас про Чапайкина или будет не к месту. Посмотрела на выпученные, налитые кровью глаза брата и сомнения отпали.
– В свое время узнаете. Я вас обязательно познакомлю.
Иван загородил сестре проход из зашкафия и они стояли напротив друг друга. Два Коханка, упрямых и каждый со своей правдой.
– Ну вот как он соизволит явиться пред мои очи, тогда и отправишься к нему. Я тебя сюда привез, я за тебя отвечаю.
– Он не сможет явиться по первому вашему требованию, а я не могу у вас оставаться и портить вам, любезный брат, репутацию. Я взрослый человек и сама могу о себе позаботиться. Пустите меня.
– Глядите какая взрослая нашлась! Нет, вы только поглядите, какая она стала взрослая.
– Какая есть.
– Ну и уходи! Не сестра ты мне.
– Как у вас все просто. Отец – не отец, сестра – не сестра. Легко режете, как горячий нож масло.
– Легко? Ты думаешь, мне легко? Ты, ты – он не смог подобрать слово и хватал воздух ртом.
Аня сгребла одеяло со своим скарбом в охапку и пошла прочь из комнаты. Почти все двери в длинном коридоре были слегка приоткрыты. Угадывалось, что за ними притаились чуткие соседи-слушатели. Случившимся у Сипейко радио-спектаклем наслаждался большой пятиэтажный дом. Если в ХХ веке у людей были телевизоры с шоу, а в ХХI – Интернет и соцсети, где можно подсматривать за ближними, сопереживая или осуждая, то в 1936 году были только живые сплетни и разборки соседей. Случались они редко и потом многократно пересказывались тем, кто по каким-то причинам пропустил представление.
Аня остановилась в нерешительности. Куда податься со своим животом и одеялом в руках? Скрежетать ключами, отпирая жилище Чапайкина – разозлить брата до последней возможности. Чудо, что он не выпрыгнул за ней в коридор. Рассчитывает, наверное, что ей некуда идти и она сей же час вернется. В общем-то ничего другого не остается.
Вдруг последняя на этаже дверь широко распахнулась. На пороге стояла пани Малечка, взглядом и жестом предлагая горемыке кров. Слезы благодарности и жалости к себе и своему нерожденному малышу обожгли глаза. Анюта, роняя и подхватывая вещи, потрусила к спасительнице. В тот момент поляки показались ей самой радушной и доброжелательной нацией на свете. Слава Богу, брат не вышел и Анюта беспрепятственно добралась до крошечной комнатки пани Малечки.
Возможно, Иван, не выскочил за сестрой, потому что не хотел переходить от радио-спектакля к телевизионному шоу на радость подглядывающих. Он ходил по комнате, как запертый в клетке лев. Неприятные мысли, что он привез Аню из села в город и теперь вон как обернулось, терзали его. С нетерпением ждал Иван Демьянович жену, чтобы сделать ее во всем виноватою. В самом деле! Он то на работе целыми днями пропадает. А она то куда, курица, смотрела? Дома ж сиднем сидит. И что за манера уезжать на целый день на Покровку? Эх, были бы сотовые в ходу, кто-то из соседей черканул бы Анне Андреевне смску, она б хоть подготовилась. А так устроит Иван Демьянович вторую за день, но далеко не последнюю серию радио-спектакля.
На следующий день на арене выступала Фатима Нартовна. Откуда она прознала о том, что Аня понесла от Николая, в век жадных до страстей и драм зрителей-соседей, не сложно догадаться. Ее прислужница Глаша и кухарка товарища Кусли Горпина иногда сиживали на лавочке, перемывая до блеска кости всем и вся. Фатима деликатно постучала к Амалии Карловна. Но как только дверь отворилась, любезности поубавилось.
– У тебя потаскушка малолетняя обитает?
Пани Малечка от манер черкешенки чуть язык не проглотила.
– Что ты на меня уставилась? У тебя, говорю, дурында прижилась? – не дожидаясь приглашения Фатима, толкнув хозяйку, влезла в комнату вместе с удушливым ароматом номер пять.
Аня сидела с пяльцами на диванчике и оторопела от странного поведения взрослой женщины.
– Слышь, глупостью не майся, ты пузом своим никого не привяжешь. Он, может, вообще в Краснодар, не вернется. Что делать со своим выблядком будешь? Приходи ко мне пока не поздно, помогу избавиться от твоей проблемы.
– Покиньте мой дом, – властно и холодно вступилась Малечка.
– Рот закрой свой. Ты здесь на птичьих правах. Как бы сама не покинула дом свой. Иш! Дерзить она мне вздумала, мещанка польская недобитая. Кубань – не твой дом, поняла?
Амалия вся сжалась, как любой интеллигентный человек при гадостях, но не отступила, загораживая собой Анюту.
– Покиньте помещение, вам здесь не место.
– Разберемся скоро, где чье место. Обещаю, – зыркнула глазами-угольками Фатима на Амалию, перевела их на Аню – Адрес знаешь.
Фатима умелась восвояси, но запах ее духов еще долго висел в комнате и в коридоре.
– Что ей нужно от меня, пани Малечка? Что у них с Николаем за отношения?
– Откуда мне знать, – с отсутствующим видом и как можно более непринужденно сказала Амалия. Попытка что-то утаить не укрылось от Анюты. С тех пор червячок недоверия поселился в голове у беременной. Страх, что Николай не приедет, что он бросил ее, маячил где-то на задворках души как страшное привидение. Ты не веришь в призраки, ты считаешь, что они точно не существуют, а он нет нет и появится. И ты дрожишь, боясь пошевелиться. Хорошо, что привидение не успело запугать Анюту и мысль воспользоваться предложением Фатимы не возникала.
Через три дня вернулся Николай Павлович. Он пожелал немедленно объясниться с Иваном Демьяновичем. За последние три дня брат Анюты без продыху ругался с женой и успел накрутить себя до крайней возможности. Мысленно он скрутил неведомого жениха в бараний рог. Когда Чапайкин с порога объявил, что ребенок от него и что он испытывает любовь к Анне и уважение ко всей ее семье, Иван полез драться.
Здоровья он был недюжинного, ярость придавала ему сил, но лишала точности. Чапайкин, не желая, наносить удары будущему родственнику уворачивался и обращал тумаки Ивана Демьяновича против него самого. Анна Андреевна висла на муже, рискуя собой. Соседи смогли вдоволь насладиться “радио и телевизионными” постановками с участием Чапайкина и четы Сипейко.
Аня переехала в комнату напротив. Девушка старалась не показываться родственникам на глаза, чтобы не потчевать неблагодарных зрителей продолжением мыльной оперы. Постепенно ситуация выравнивалась. Анна Андреевна через Амалию Карловну интересовалась Аниным самочувствием. Брат сначала выслушивал добытые сведения, но тут же делал вид, что ему не интересно и знать он ее не желает.
Николай ждал ребенка с трепетом, часто гладил и целовал растущий комочек счастья. Смеялся, когда угадывал ножку или ручку сквозь натянутую кожу животика любимой.
– Кто тут у нас? Попался? – щекотал Чапайкин крошечную ступню будущего наследника через Анино тело. Ножка исчезала, точно малыш боялся щекотки.
– Эй, приятель, хватит за мамку прятаться – говорил в пупок Николай.
Ане такое отношение к плоду было в диковинку. Она видела в Лобках беременных баб, но ни разу не наблюдала, чтобы мужья разговаривали с их животами.
– Коль, ну хватит тебе, родится и наболтаетесь, – шептала она, а сама улетала на седьмое небо от счастья.
Пребывала Анюта на том небе не долго. В конце апреля к дому подъехала черная машина. Соседи попрятались кто куда, двор моментально опустел. Даже Лукьянович покинул свой привычный пост. Двое человек в штатском нашли квартиру управдома. Тот на полусогнутых ногах поднялся с ними на второй этаж и проследовал в самый конец коридора. Через минут сорок процессия вышла из уютных владений Амалии Карловны с большим узлом вещей. Комнату управдом опечатал и больше пани Малечку никто не видел (В 1936 году происходила массовая депортация поляков и немцев из приграничных с Польшей территорий СССР из соображений национальной безопасности. В основном депортировали из Житомирской, Винницкой и Кировоградской областей, из Краснодара уехало несколько сот человек. Основную массу депортированных переселили в Северный Казахстан).
Аня места себе не находила. Ей казалось пропала важная составляющая ее души и теперь рана на месте исчезнувшего вместе с людьми в штатском кусочка саднит и ноет.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: возложить на НКВД СССР переселение и организацию поселений в Карагандинской области Казахской АССР для польских и немецких хозяйств, переселяемых из УССР в количестве 15 000 хозяйств – 45 000 человек по типу существующих сельскохозяйственных трудпоселков НКВД. Переселяемый контингент не ограничивается в гражданских правах и имеет право передвижения в пределах административного района расселения, но не имеет права выезда из мест поселений, – вслух прочитала Аня, вдумываясь в каждое слово.
– Видишь, моя хорошая, “не ограничиваются в гражданских правах”, значит твоей пани Малечке ничего не угрожает. Не терзайся, тебе вредно. Думай о нашем малыше. Амалия Карловна скоро напишет тебе, – успокаивал Анюту Николай.
Примерно через два месяца от Амалии Карловны пришло долгожданное письмо. Несколько абзацев и строчек кто-то заботливо замазал чернилами. Из того, что осталось нетронутым, выходило, что Амалия Карловна – трудпоселенец в Северном Казахстане. Жить в поселке № 3 тяжело, но возможно. Земли, куда вывезли поляков с приграничных территорий СССР, малообжитые, и Амалия Карловна “осваивает новую социальную роль” – разнорабочий “принеси-подай”. Аня перечитала послание два раза. Один – для себя, второй – вслух для малыша. Пусть тоже знает, где тетя Малечка.
Когда Коля пришел вечером с работы, Анюта сияла. Весточка от Амалии раскрасила ее день радужными думами про будущее. Аня любовно поглаживала живот, представляя, как у них с Колей родится сыночек. Потом в гости приедет тетя Маля из Казахстана и они будут пить чай с каким-нибудь диковинным казахским вареньем и обо всем на свете разговаривать.
– Анют, у меня командировка намечается и я не знаю, скоро ли вернусь, – голос любимого вернул ее из мечтаний в настоящее.
– Хорошо, – стараясь не показывать тоску в глазах, кивнула Аня. В душе зашевелился вживленный Фатимой червячок.
– Тебе скоро рожать, я не могу оставить тебя здесь совсем одну.
У Анюты заблестели глаза и червячок в душе чуть не издох.
– Я поеду с тобой? А куда? Далеко? Что взять с собой? Теплое брать?
– Сядь, моя хорошая, выслушай, потом вопросы будешь задавать.
Аня покорно и с надеждой глядела на Колю.
– Девочка моя, нет никакой возможности ехать вместе.
Червячок ожил и зашебуршился в самой сердцевине души. Он только прикидывался мертвым.
– Поверь мне, там, куда меня отправляют, совсем не место беременным женщинам. И вообще женщинам. С братом твоим наладить контакт мне не удалось. Я пытался, но все тщетно. Амалия Карловна уехала и не скоро воротится. Оставить тебя здесь одну и с новорожденным, было бы преступлением. Я не могу такое допустить.
– Что же делать? Мне некуда податься, – червячок превратился в мерзкую змейку и больно жалил сердце Анюты. Сдерживаемые слезы жгли веки изнутри. Малыш беспокойно толкался, словно все понимал, и нервничал вместе с мамой.
Слушай внимательно. Знаю, тебе будет нелегко принять, но, поверь, другого рационального выхода нет. Так будет лучше для всех…
Глава 18 Поезд
Поле изрезало ноги травой, приодев Анюту в кровавые причудливые гольфики. Аня брела босиком в этих красных сетчатых высоких носках через село с алой геранью во всех окнах. Одна, простоволосая, с испариной и деланным спокойствием на лице. Изнутри ее пожирал змей сомнений и страха, но ни один мускул не выдавал девушку. В руках – никакого свертка или котомочки, только большущий живот-шар с новой жизнью, подвязанный самодельным бандажем.
Почему-то ей вспомнились из глубокого детства рассказы соседских баб про Иисуса. Как он нес свой крест на какую-то гору. Его все вокруг осуждали, он падал, поднимался и продолжал свой печальный ход. “У каждого свой крест, не только у Иисуса. Каждому нужно нести и не роптать” – рассуждала путем Анюта, бережно придерживая живот. “Ты – мой крест, ты – мой любимый малыш, я всегда буду нести тебя и защищать от всех невзгод. Пока не умру. Ничего не бойся”, – любовно приговаривала она, то ли самой себе, то ли своему ребеночку.
Стараясь не обращать внимания на удивленные, осуждающие или сочувствующие лица односельчан, Анюта замоталась в кокон воспоминаний. Слова Николая “для всех будет лучше, если ты поедешь рожать в Лобки” прозвучали как “уезжай с глаз моих подальше”. Долго успокаивал ее любимый, гладил по спине и голове, целовал лицо и животик, говорил, что приедет за своим сокровищем и что переживать не о чем. Но разве сердцу прикажешь?
Они так и не успели расписаться. Пани Малечка однажды в лоб спросила Колю “Почему вы не женитесь на пани Анне?” Ничего вразумительного Николай не ответил. “Мы и так с тобой муж и жена. Успеем оформиться. Не беспокойся”, – убеждал он Анюту и она верила. Верила, но червячок на душе тоже не дремал. В отсутствие рядом Николая он нашептывал всякие ужасные сценарии. В каждом из них Аня оставалась одна с ребенком на руках. И сейчас она, еле переставляя израненные сбитые ноги, несла тяжелое сокровище по направлению к отчему дому, где ее точно никто не ждет.
В ночь перед отъездом уснуть не удалось. Летняя краснодарская духота, сборы, думы о брате, об отце, о ребенке – надежные составляющие микстуры бессонницы. До последнего Аня колебалась. Может, остаться в Краснодаре? Зачем ехать в Лобки? Николай уверен, что в деревне легче будет прокормиться, пока он не приедет за ней. А что если отец не примет? Почему Коля уверен, в обратном. Не знает он ведь отца, не ведает его сердца. Аня перемалывала подобные мысли на жерновах сомнений, но ясный ответ никак не выходил.
Вещей набралось два здоровых мешка. В одном поместилась одежда Анюты, гостинцы и подарки. Во втором – несметное количество распашонок, рубашечек, чепчиков, крошечных носочков, пеленок и даже две смешные погремушки. Аня с таким азартом ими тарахтела, когда укладывала детский скраб, что Чапайкину стало казаться, что он сделал ребенка ребенку.
– Ну что? У меня сроду таких не бывало. Красивенькие очень и гремят смешно, – и она продолжала звенеть бубенчиками, а Коля закатывал глаза и хмыкал.
– Мы доедем вместе до Воронежа. Я сойду с поезда, а ты проследуешь дальше.
– До станции Погар. Сколько раз ты мне будешь повторять? Нешто я Погар не знаю?
– Поезд стоит там всего минуту…
– Приготовиться заранее, попросить кого-нибудь помочь с мешками, не стесняться – копировала Аня интонацию Чапайкина.
– Анюта, ради Бога, не проспи, а то в Минск уедешь.
– Не волнуйся. Не просплю.
– Ага. Знаю я тебя. Из пушки не разбудишь.
На красавце-вокзале привычная толчея, пирожки, воды, провожающие, отъезжающие. Кутерьма вокруг отвлекала от тревожных мыслей.
– Ребенка в колхозе не регистрируй. Я приеду за вами, распишемся и пропишу вас у себя в Краснодаре.
– Угу
– Аня, маленькая моя, это очень важно. Паспорт свой никому в руки не давай, держи при себе. А лучше знаешь что? Не говори, что паспорт у тебя с собой. Дескать, в Краснодаре оставила.
– Зачем это?
– Анют, у колхозников паспортов на руках нету. Чтобы выехать из колхоза, нужно разрешение в сельсовете брать и действует оно тридцать дней.
– Как так? А если задержался, что? В тюрьму посадят? – шутила Аня.
– На первый раз – в колхоз отправят, а на второй – могут и в тюрьму. Ань, не до шуток. Паспорт никому не давай. Запомнила?
– Запомнила. А на уроках истории говорили, что крепостное право отменили в восемнадцатом веке.
– Во-первых, не в восемнадцатом, а в девятнадцатом, – сказал Чапайкин, озираясь по вагону, – А во-вторых, прикуси язык. Думай, что говоришь. Мешки с твоими вещами я положил под твою полку. Как я выйду, гляди в оба, чтоб не свистнули.
– Хорошо. Когда ты за нами приедешь?
– Не знаю, малышка. Но я точно приеду. Говори людям, что замужем. Муж приедет, заберет.
– Не хочу я врать про такое. Не замужем ведь, – в голосе звучала обида.
ЗА, – поцелуй в левую щеку, – МУ, – поцелуй в правую, – ЖЕМ! – в губы, еле касаясь, чтоб не привлекать внимания.
Аня и Коля взяли боковые места. Напротив ехала веселая компания станичников. Они балакали с сильным кубанским говором и хохотали на весь вагон, обращаясь друг к другу “кум”. Причина повышенного тонуса и благостного расположения сияла на столе. Дорога обещала быть нескучной.
– Деньги нигде в дороге не доставай. Кушать у тебя есть что. Вода – в начале вагона, рядом с проводником.
– Поняла. Не беспокойся, – Аня потрогала шнурок на шее, на котором висел за пазухой кошелек, – доставать не буду, незачем мне.
По вагону сновали пассажиры взад и вперед. Добротно одетые проходили с отсутствующим видом. Те, кто победнее, слегка озирались. Оборванцы бесстыже шарили глазами. Видно было, что обчистят под чистую, если зазеваешься.
В Воронеже Николай взял свой мешок, поцеловал Анюту и вышел на перрон. У Ани было чувство, что они прощаются навсегда и что он машет ей со станции последний раз. Слезы прорвались наружу, как только поезд тронулся с места. Переживания, бессонная ночь, расставание с любимым на неизвестный срок – ту мач (too much (англ.) – слишком много), как сказали бы в США. Аня провалилась в глубокий сон под размеренный стук колес.
Разбудил Анюту острый приступ голода. Вагон играл храпную мелодию какафонией спящих. Мерное посапывание, причмокивания и полусонные вздохи перемежались зычным горловым всхрапыванием. Стук колес задавал ритм странной музыке ночи. Аня, стараясь не шуметь, размяла занемевшие ноги. Кажется, они здорово отекли. Странно, но обуви на ногах не ощущалось. Должно быть, сняла во сне.
Наклоняться с увесистым животом – не простое занятие. Где же сандалии? Котомка с едой, как на зло, куда-то переместилась из-под Аниного места. Наверное, поезд резко останавливался и она уехала под сидение напротив. Ох-ох-ох! Шарить руками под полкой пришлось долго. Закончилось тем, что Аня стояла на коленях на полу вагон и исследовала пустоту под полкой. Поиски не увенчались успехом. Еда, собранная в дорогу, оба узла, запропастились в неизвестном месте. Может, кто-то переложил Анины пожитки наверх?
Аня долго вглядывалась в очертания вещей на третьей полке. Свернутые рулонами матрасы, большой куль и ничего, напоминающего Анины узелки с одеждой для малыша, одеждой и гостинцами родственникам. Живот сводило от голода. Голодный мозг никак не хотел принимать и обрабатывать информацию, что весь провиант и поклажу беременной спящей девушки бессовестно украли, не побрезговав снять с ног пыльную обувь. Анюта нащупала место на груди, где висел кошелек с деньгами. Расшитый бархатный мешочек исчез вместе со всеми пожитками.
Отчаяние и голод завладели Анютой. Она сидела на полке и беспомощно озиралась вокруг. Есть хотелось безумно. На столе станичников белели в ночи остатки дорожного пиршества. Аня смогла различить кусочек булки и вареное яйцо. Если их взять, то утром сразу подумают на нее. А кто еще, как не отягощенная животом девушка напротив? А может и не подумают. Аня же не думает, что это именно они ее обокрали. Меньше всех она подозревает их. Значит, и им не резон думать о ней плохо. Был бы день, она бы попросила, и наверное, ее бы угостили. Но разбудить и спросить корочку хлеба странно. Лучше не думать и гадать, а дождаться утра. Утро вечера мудренее. Заснуть никак не получалось. Резь в животе становилась нестерпимой.
В какой-то момент Аня резко поднялась и нетвердой качающейся походкой направилась к кусочку булочки. Пусть проснутся, пусть увидят, но ей и ребенку нужно есть. Один из станичников неожиданно перевернулся на другой бок. От страха Аня резво попятилась и спиной впрыгнула на свою плацкарту. Фух! Не проснулся. Второй раз она точно не пойдет. Малыш сильными толчками опротестовал данное решение. Через минуту Аня жадно поглощала украденное. Полночи ей мерещилась оброненная яичная скорлупа. Во сне ее брали с поличным и выгоняли из поезда с позором. Дошло до того, что Анюта оказалась сидящей на полу в тамбуре. Ехать дальше напротив места преступления она не могла.
– Гражданочка? Гражданочка? Вы с какого вагона?
Аня со сна ничего не понимала. Человек в форме смотрел на ее босые ноги, как ей казалось, с презрением.
– А? Что? Я с другого вагона, со второго, – зачем-то соврала она.
– Билет-то есть у вас?
– Есть
Проводник явно не верил в наличие билета.
– Ну если есть, то иди-ка ты в свой вагон. А здесь нечего располагаться.
– Хорошо, – пробуя встать на ноги в трясущемся тамбуре, – а Погар скоро?
Через час примерно. Минуту стоим. Иди за вещами, – в то, что у беременной побирушки где-то оставлены вещи он тоже не верил, но не хотел связываться, – пусть только выйдет с его вагона, – еще обворует кого.
Заплаканной девушке удалось наконец подняться и она, держась за поясницу, побрела в соседний вагон. Вот и славно. И никаких проводнику проблем. А что там в других вагонах его не касается.
Не чаяла Анюта оказаться на станции в Погаре и в Лобках так скоро. Все кто, вышли из поезда в Погаре, попрыгали в ожидающие их подводы. Аня искала знакомые лица и никого не встретила. Одиннадцать верст до Красных Лобков придется осилить пешком. Не впервой, сущий пустяк для сельской местности, если ты не на восьмом месяце ожидания ребенка. Через овраг наискосок будет чуток короче. Росистая трава изрезала ноги в кровь. Не страшно. Страшно, как батя встретит. Поди, не прогонит. А если прогонит. Что тогда?
Не доходя версты три до Лобков, Аня упала на колени в мокрую траву, уронила голову на руки и бессильно заплакала. Оставшийся путь мерещился ей бесконечным, а главное – бессмысленным. Отец выгонит ее, босую и беременную, точно выгонит. Куда ей? Минут пять Анюта выла по своей горемычной судьбе, как крестьянские бабы. Слезы перестали бежать так же резко, как и начались. Она брезгливо смахнула их остатки.
Жалость к себе сменилась решительностью и борьбой за существование потомства. Не выгонит отец. А выгонит, она пойдет к крестному – дядьке Петру из БаранОв. Она будет просить прощение, если нужно, будет жалобной или жесткой, если потребуется, но найдет кров себе и нерожденному ребенку. Анна Демьяновна из Коханков – не ее традиция выть в чистом поле, ропща на судьбу.
Глава 19 Красные Лобки
В село Анна Демьяновна Сипейко пришла ранним утром. Первым встретился Иван Гетунов. Он не сразу признал в шарообразной фигуре Анюту из Коханков. А когда узнал, то не поверил глазам и забыл поздороваться. Хотя в деревнях при встрече желали здоровья всем, даже с незнакомыми.
– Здравствуйте, – буднично выстрелила в него Аня, не замедляя шаг. Словно встретить ее с непомерным животом наперевес по утру не являлось чем-то удивительным.
Иван разве что креститься не начал, глядя на девушку вслед, как на привидение. “От женатого понесла, ховаться да батьки приехала, – сообразил Ванька, – ну дела.” Ему стало жалко справную фигурку Анюты, удаляющуюся слегка раскачивающейся утиной походкой, какой завсегда ходят бабы на сносях, хотелось догнать, поговорить. Анна нравилась ему еще по детству. Холодное “здравствуйте” и быстрый цепкий взгляд обожгли парня, так и стоял он при дороге, как соляной столб.
На встречу Анюте попалось много народа. История с ее обыденным “здравствуйте” и удивленным стоянием повторялась на первых кварталах деревни. Очень быстро мальчишки-смски раззвонили новость и далее чувствовалось, что люди выходят на нее посмотреть с заготовленной миной осуждения, любопытства или сострадания. Сельчане переводили взгляд с Аниной единственной поклажи в виде живота на верхний лобок-пригорок, туда, где по их понятиям с минуты на минуту разгорится скандал.
Поясница ныла нещадно, но Анюта продвигалась хоть и медленно, но без остановок. Про себя она подмечала перемены. У Крынкиных хату пристроили. У Цыганковых сараюшка совсем развалилась. Сныткова невестка раздалась, видать, тоже затяжелела. Самое отрадное, что почитай на всех окнах цвела нарядная герань.
Какое бы ни было выражение лица у выглядывающих хозяев дома, вид приветливых цветов умиротворял. Они словно говорили: “Все проходит, пройдет и это. Мы будем цвести тебе, чтобы с тобой за история ни случилась. Ничего не бойся. Иди домой, девочка.” Аня шла, напутственная алыми соцветиями, не опуская головы. Со стороны виделось, она с большой гордостью несет впереди себя шарик с новой жизнью, безразлично-снисходительная к частым неодобрительным взглядам.
Подъем на горку дался в особицу трудно. Последние метры ноги отказывались идти, сердце скакало галопом и пот катился по спине и лицу. Голод и жажда дали о себе знать с удвоенной силой. Одышка лишала воздуха.
Нет сомнений, отец знает о ее приближении. Детвора с визгами “брюхатая Анька, Анька брюхатая” несколько минут назад взбежала на их холм. Аня мысленно готовилась к справедливым скрещенным рукам на груди и тяжелому порицающему взгляду. Она знала, что выдержит, все выдержит. Не представляла только, откуда взять духу. Вспомнились украденные гостинцы и подарки. Главным образом, рушничок, который она скрупулезно несколько ночей вышивала специально для бати. Был бы рушник с собой, достало бы духу, а теперь как явиться с животом, без паспорта, мужа и даже рушника. Сердце пропускало удары от воображаемых картин встречи с домашними.
В действительности никто Анюту не встречал. Отец совершенно невозмутимо починял старый примус, сидя на высоких порожках избы. Аня сквозь бешеную одышку проглотила страх и непонимание, сглотнула робость и маленьким беременным танком пошла на родителя. Он не шевельнулся и не отпрянул, лишь наклонился поднять упавший винтик с земли. Дочь, которую он не видел почти три года, молча пошла в сенцы, оттуда в хату.
Та же герань на окнах, те же ходики, отмеряют бег времени, пылинки заигрывают друг с другом в солнечном свете. На столе крынка с молоком и краюха хлеба, накрытая белоснежным рушником с вышивкой по краям. Во всем ощущалась заботливая и хозяйственная женская рука. Аня почувствовала себя лишней. Даже если бы ее рушник не украли, все равно они здесь никому не нужны: ни полотенце ею расшитое, ни живот ее, ни она сама.
Ну и пусть! Пусть она не ко двору. Только никуда не пойдет она. Ни-ку-да! Потому как некуда. Извиняйте, люди добрые, но она у себя дома, как никак. Аня расположила живот на столе, грязными руками разломала каравай. Жадно проглатывала она кусок за куском, запивая молоком прямо из крынки, оправдывая самой себе и неведомым вопрошающим свое вторжение: “Тута меня родили, тута меня крестили, тута ростили, тута мой дом родной”.
В дверях появилась Ксения, белотелая, розовощекая, чуть набравшая вес, отчего стала еще сочнее и привлекательней. Секунду она смотрела на Анюту, на ее израненные ноги, на непомерный шарообразный гимн полной жизни, на вспухшие веки и покрасневшие глаза.
– Сама нашукала, чем подкрепиться. Вот и умница. Смачного, смачного. На печи оладушки. Мы то с Демьян Степанычем уже поутряли, – Ксения усадила Анюту за стол, на который быстро метала оладьи, сметану, простоквашу.
Аня живо вспомнила, как ненавидела эту женщину, как обращалась с ней свысока, как не принимала ее всем своим маленьким сердечком. Тогда, три года назад, когда мать была при смерти, а Ксения взяла бразды хозяйства в свои белые пухлые руки. Ей хотелось просить прощения. Но какие подобрать слова, что в таких случаях говорят, как то не складывалось в ее жующей голове. Поэтому она перешла к самому важному.
– У меня муж есть, он за мной приедет и заберет.
По лицу Ксении пробежало недоверие, которое она попыталась скрыть за хлопотами по столу.
– Я правду говорю, муж есть, есть, правда, Николаем Павловичем зовут.
– Вот и слава Богу, Нюрочка, есть муж и славно. Кушай, деточка. А потом в баньку пойдем, искупаемся, настой из тысячелистника заварим, ноги полечим. Ты с Погара через овраг шла? Кто ж такось робит?
– Шла. А муж у меня правда есть и приедет за мной, – приговорила Аня, теряя всякую уверенность в существование своего мужа. Глаза ее закрывались, неожиданно сумасшедше захотелось спать.
– Приедет – молодец. А не приедет – и Бог с ним, – Ксения укладывала Аню на лежанку, протирая мокрым полотенцем тело, – Дался нам энтот муж! Без него проживем, девочка моя.
– Как же без него, приедет он, – в полусне лепетала Аня.
– Приедет, приедет. Отчего ж ему не приехать. Ты отдыхай с дороги, а я баньку затоплю, и будем мужа твоего хором ожидать.
Аня понимала, что Ксения ни на секунду не сомневается в полном отсутствии Аниного мужа, но спорить не было сил. Проспала гостья без малого сутки.
– Доброго утра, как спалось? – звенела добротой Ксения.
– Хорошо, благодарю. За все благодарю, – перешагивая через гордость, ответила Аня.
– В сундуках я порылась, достала пару штук ткани. На пеленки – самое то будет.
– Я везла пеленки и рубашечки, и гостинцы везла, – Аня вздохнула, потому что для Ксении подарки не планировались, – да в поезде обокрали.
– Ироды! Что делается. Тяжелую обокрасть – совсем ничего святого у людей нема.
В горницу вошел Демьян.
– Анну то нашу Демьяновну обворовали в поезде, – выступила коммутатором Ксения, налегая голосом на отчество.
Отец невнятно хмыкнул. На Анюту он даже не взглянул. Вроде той и в комнате не было.
– Много ль украли? – властно обратился он к жене, садясь за стол.
Ксения вылупилась на его дочь.
– Гостинцы, подарки, деньги, вещи мои и для малыша, паспорт, – отрапортовала Аня, глядя на Ксению. Отец словно не слышал и продолжал смотреть на жену.
– Подарунки, кошель, куль с вещами да паспорт, – передала ему Ксения, – у ней муж есть, он все и куповал.
Демьян при словах о муже ударил по столу, так что дамы подлетели на местах, резко встал и вышел прочь.
Так у них и повелось. Коннект налажен между Ксенией и Аней, Ксенией и Демьяном. Про мужа больше никто не вспоминал. Анюте мечталось, что Коля сдержит обещание, вернется и они поедут на поезде в Краснодар. Но с течением времени и отсутствием новостей от него мечта становилась прозрачной и призрачной. Аня сквозь слезы и боль готовилась жить без него.
На девятом месяце младшая из рода Коханков округлилась несоразмерно своему росту. Пришлось смастерить самодельный бандаж. Что-то вроде портупеи с тканевой сумкой, как у кенгуру. Демьян сам сконструировал и сделал приспособление для дочери, видя как той тяжело передвигаться. Отдала поделку Ксения. Аня поблагодарила, через нее же. В прямую коммуникацию отец и дочь по-прежнему не вступали. Порода Коханков – упрямы да горделивы!
Плановая экономика СССР не предполагала выпускать причиндалы для беременных. Многое в Красных Лобках было на советский лад. Но кое-что осталось неизменным. На рукаве привычно гутарили бабы.
– Коханки-то высоко летали, да больно упали.
– Анька ихняя нагуляла от мужика женатого, тута дите бросит, да в город возвернется.
– А оно Демьяну надоть? Они с Ксюшкой еще своих наклепают.
– А я слыхала, муж у ней важный, по службе отлучился.
– Коли такой важный, хиба она сюда в одном сарафане пришкандыляла бы?
– Так обокрали цыгане в поезде.
– Ой, что я вам за цыган зараз расскажу.
– В прошлом годе Меланья из Балабков с хороводом цыганским приезжали, помните? Так ейный сын до бедовой Маришки бегал, пока Семен на колхозном хозяйстве хрептину надрывал. Сынок то уродился, кажуть, чернявый.
– И шо? У Семена отец и дед чернявые аки бусурмане. У них в роду – терские казаки, а у тех – сплошь горянки в женах.
– Да не шо, а сынок у Маринки – цыганчонок, заменяла Матрена Евтых соседям тест на отцовство.
– У Нюрки Коханковой? Цыганчонок?
– Да, тьфу на вас, баба Глаша, вы ото не суйтеся. Слышала звон, да не розумию, де он. Нюрка ще не народити. Судя шо живот наперед – пацана носит.
– Нее. С лица осунулась. Верное дело, девка красоту крадет.
– Коли б девка, так вся б Нюрка раздалась, а у ней живот огроменный, а сама ладненькая. Верное дело, шо хлопчик у ней, – Парламент Сплетен брал на себя обязанности УЗИ-специалиста.
– Что за фильму сегодня в Усадьбе крутят?
– Дом Культуры, баб Глаш, а не Усадьба. Последняя ночь сегодня.
– Як же так, уезжаете?
– Та куды там уезжаете, из колхоза нашего не больно то уедешь, ток вперед ногами. Фильма называется “Последняя ночь”
– Нечто про любовь?
– Держи карман шире, Матрена. Про любовь захотелось. Про революцию, про нее, родимую.
– Я и говорю – про любовь к Родине и революции. Аль это не любовь, ежели трудящиеся со всего свиту объединятся?
Присутствующие затихли, осмысляя суть любви.
Глава 20 Ваня Гетун и Галатея
– Куда собираешься, Нюр? – удивленно вскинула брови Ксения.
– В Дом Культуры пойду, кино хочу глядеть – Аня с трудом тягала непомерный живот.
– С кем же идти надумала?
– Сама, с малышом. У меня теперь завсегда компания имеется.
– Шо люди то кажуть? Нешто не боязно?
– Они и так кажуть. Слыхала я, что от женатого понесла и нос никуда со стыда не кажу. Зараз и покажу и нос, и все остальное, – укладывает пузико в бандаж – дюже гарный бандаж батька смастерил, зараз пусть посмотрят.
Ксения только вздохнула. Переубеждать коханковскую породу – зря время тратить, уж коли удумают чего, так слова поперек сказать не моги.
Фильм с романтическим названием собрал полный ДК народу. Председатель колхоза товарищ Апарцев вещал о выполнении и перевыполнении норм по сбору конопли и сигарного табака. И еще. Негоже, товарищи, жить тремя разными колхозами. Гораздо разумнее объединиться и, кто знает, стать когда-нибудь участником открывшейся в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В случае победы с