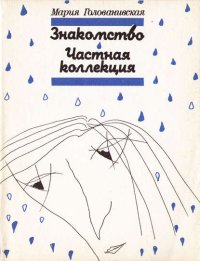
Читать онлайн Знакомство. Частная коллекция (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Мария Голованивская
Частная коллекция
Часть I
И ты, подобно бабочке, слегка касаешься крылом то одного, то другого цветка, раздвигаешь заскорузлые шторы, долго ищешь открытую форточку и в конце концов вылетаешь на воздух и успокаиваешься, попав в одну из теплых загазованных струй. Потом так же долго пытаешься найти хоть какую-нибудь щель, чтобы протиснуться и увидеть нечто ранее невиданное… Каждый раз рискуешь, потому что неизвестно, удастся ли выбраться наружу. Хочется, чтобы глаз поглощал как можно больше разного, но при этом нужно умудриться сохранить бережность касания, легкое прикосновение эфемерного крылышка, а не набрасываться, брызгая слюной и обламывая себе ногти.
Самое вредное – это надолго сосредоточиваться на чем-нибудь. Становишься похожим на птицу с длинным клювом и крошечными глазами-бисеринками. Этот тонкий и длинный клюв очень удобен, чтобы им орудовать в расщелинах коры и доставать насекомых из их крошечных гнездышек. Что ж, это, наверное, очень азартное занятие. Азартный человек похож на крота. Это такой черно-коричневый зверек с длинными неуклюжими коготками.
До чего же много в природе всяких рассеянных тварей, медленно поворачивающих голову и моргающих через раз. Среди них – и змеи, и птицы, и огромные животные вроде жирафов и слонов. Среди них – хищники и великаны, ленивые, наблюдательные, вглядывающиеся, а не моргающие без толку.
Грубый человек не умеет доставить себе удовольствие. Все, что он предпринимает, никогда окончательно не удовлетворяет его. Грубый человек зол, раздражителен и несчастен.
– Я всегда готов помочь вам, – говорит внимательный доктор с черной бородкой.
– Да, да, помогите мне, – кивает дама в расползающейся вязаной кофте и в смешной, с огромным помпоном неказистой вязаной шапке, на которой поблескивают капельки дождя.
И вот ты видишь, как она разевает огромную пасть, хватает стакан с водой и готовится проглотить все прописанные ей таблетки.
– Вот вам четыре рецепта, – говорит доктор мягким голосом, – принимайте регулярно, по схеме, и, я уверен, это поможет вам.
* * *
Что может сравниться с красотой лимона, лежащего на тонком фарфоровом блюдце? Что может быть прекрасней тонких, полупрозрачных его ломтиков? Что может быть изысканней лимона, с которого наполовину снята кожица, которая лежит здесь же, образуя божественную золотую спираль?
Весь мир любуется лимоном уже много веков подряд, и еще никто не сказал, что лимон – это некрасиво. Вот только вкус. Одним он ласкает нёбо, другим – нет. Хотя все согласны, что лимон кислый.
Стоит ли забывать, что безудержная, часто напрасно вспыхнувшая злоба быстро проходит, и от нее остается только зудящее чувство досады: а стоило ли так горячиться?! И все равно, каждый раз снова и снова. Мне показалось тогда, что лимон был самым красивым предметом в нашем доме, самым нежным, самым добрым, самым неагрессивным. Мы стали резать его маленьким зубчатым ножом, капли потекли по лезвию, потом побежали по руке и застыли где-то у локтя.
Раз и навсегда запомни, твержу я себе, нет смысла так раскочегариваться. Только идиоты так заводятся. А идиоты так часто бывают сентиментальны. Приторно сентиментальны. Так, что даже в горле пересыхает. Главное, чтобы идиот не начал рассказывать о себе: ничего так не боюсь, как глупых собеседников.
* * *
Бояться собак – глупо. Наша жизнь в наших руках. Каждый – сам кузнец своего счастья, и кует его огромным молотком, изо всей силы ударяя по наковальне. И что бы ни легло на эту наковальню – разлетится вдребезги, потому что кузнец знает, что кует, и ничто не сможет помешать ему.
Я должен был ухаживать за отцом. Он вот уже много лет жил самостоятельно в однокомнатной квартире неподалеку от меня. Это такой чистенький, подтянутый старичок, аккуратный в мелочах, и поэтому ему всегда было трудно уживаться с другими людьми, ведь они, как водится, нарушали царивший вокруг него порядок. Он много раз в жизни менял работу, был инженером на каком-то заводе, потом технологом, потом уже, перед самой пенсией, стал заведовать отделом кадров в никому не известной конторе. Мне он совершенно не нравился. Я уже увлекался театром, подумывал о собственной труппе, и вид и мысли имел соответственные.
И вот я сижу в прокуренном свитере в крошечной прихожей на каком-то сундуке, покрытом потертым покрывалом украинского происхождения, и жду врача. Отец заболел, ему плохо, и я должен за ним ухаживать. Он лежит в постели на двух подушках, покрыт одеялом, сверху которого лежит уютный клетчатый плед. Он спит. Разные мысли лезут в голову: как хорошо, что я не похож на него ни вообще, ни сейчас. Что еще нужно кузнецу, как не свободные руки? Главное, чтобы руки были свободны, все остальное приложится.
Попадая в этот подземный переход, невольно начинаешь оглядываться: страшно. Мало ли кто там идет за спиной. Переходы – это самое неуютное место во всем городе. Поднимаешь выше воротник, утыкаешься носом в шарф, пытаясь компенсировать отсутствие уюта в этом серо-желтом плиточном переходе.
Замечательно, когда день кончается так. Есть своя прелесть в преодолении этого перехода в последний раз. Выскакиваешь из него и радуешься, что сегодня ты туда больше уже не пойдешь. Только завтра утром. Кузнец – делу венец.
В столичном городе ты один в толпе, в провинциальном городе – ты один в пустыне. Темнеет рано, народу нет совсем, такси не поймать, кажется, что вот просто сгинешь сейчас и никто тебя здесь не найдет, не откопает. Но потом, смирившись, что в провинциальных городах совсем нет движения, ты отправляешься пешком по гулким пустым улицам, постепенно приходишь в себя и превращаешься в эдакого столичного странника, превозмогающего великие просторы. Но тут-то и оказывается, что пришел, потому что провинциальные города очень маленькие, спешить некуда, и вообще путешествовать надо любить.
Разговоры – тоже своеобразная форма путешествий. Иногда приходится путешествовать в скафандре, иногда в противогазе, иногда на костылях. Нужно быть большим любителем путешествий, обладать крепким здоровьем, а главное – мужеством, чтобы отправиться в такое путешествие. Есть, конечно, возможность поступить так, как поступают беглецы, влюбленные и деловые люди: выбежать на проезжую часть, поймать таксомотор и укатить куда подальше. Но часто цена такого бегства может быть намного более высокой, чем это будет показано на счетчике.
Красивая женщина – истинное украшение мира. Часто и мужчина бывает украшением, хотя высказать это прямо в глаза – рискованно. Всякая вещь может служить украшением мира, если в ней нет ничего безобразного, хотя и это не всегда так – все зависит от вкуса потребителя мира. Бывает, что и полуувядший срезанный цветок вдруг на несколько дней расцветает в стакане с водой.
Я только хочу сказать, что бывает по-разному, и в этом свобода мира, который является нашей средой обитания.
Ну и отлично!
* * *
Эти огромные, как пресноводные рыбы, желто-зеленые огурцы, иногда с какими-то загадочными бурыми пятнами, так, кажется, и норовят разорвать стеклянные бока трехлитровой банки и выброситься на замусоренный капустными листьями и комьями грязи прилавок овощного магазина.
Когда, внимательно рассмотрев их, все-таки не обнаруживаешь ни глаз, ни жабр, ни плавников, закрадывается подозрение, что это не линь и не лещ, а обычный овощ-переросток, появление которого в банке с прозрачной желтоватой жидкостью является доказательством того, что и в природе есть безобразное, которое иногда способно привлечь человека.
Вот так и развивается в человеке неуверенность в себе. Всегда как-то невольно пасуешь перед тем, что не в состоянии съесть: перед большими животными, перед деревьями и скалами. Правда, все это рассуждение сразу же рушится, если вспомнить, что многие боятся пауков и тараканов. Но не на все следует обращать внимание. Любовь человека к самому себе должна победить страх, который он испытывает по отношению к окружающему миру. Так учат мудрецы, которым, вероятно, никогда не приходилось видеть подобных агрессивных, подсоленных овощей.
Подопри челюсть рукой, помотай головой, оботри крошки у рта, и давай – жми! Подумай и поступи правильно.
* * *
Лучше бы удалось деться куда-нибудь, пойти, например, в кино. Сидишь в кино и в ус не дуешь. А так нужно участвовать в разговоре, хотя и нет никакого желания.
– Я так редко приезжаю, а тебя нет. Не стыдно?
Еще два года назад мне ничего не стоило бы сказать, что стыдно, а сейчас неохота. Мысленно я иду по улице, подхожу к кинотеатру, протягиваю тетеньке полтинник и покупаю билет в кино.
– Неужели ты не понимаешь, что, помимо твоих желаний, есть еще неумолимое, как жизнь, «надо»? «Надо», понимаешь?
«Неумолимое, как рок», – мысленно поправляю я и говорю вслух: – Извините, я, правда, виноват и больше не буду…
Два строгих глаза смягчаются, в них появляется снисходительность.
– Ну, расскажи, как дела?
«Как дела, как дела», – мысленно повторяю я, вообще все отлично, но сейчас сидеть здесь и отвечать на эти вопросы нет никакого желания. И говорю вслух:
– Все в порядке, тетя, я очень стараюсь не огорчать моих родителей.
– Ну и умница, – говорит она и целует меня в лобик. После чего берет салфетку и вытирает губы. На салфетке остается жирный розовый след от помады, и тут-то я и начинаю понимать, что мой лоб выглядит, наверное, еще живописнее.
– Простите, – говорю я, – мне нужно выйти.
– Как?! Выйти из-за стола, не окончив обеда? – настораживается тетя. – Разве тебе не говорили?
– Говорили, говорили, – киваю я, – но, вот, видите, – и показываю на лоб, посередине которого красуется розовое кольцо.
– Ну и что, – говорит она, – сначала закончи обедать, а потом выйдешь из-за стола.
С тех пор я не люблю ни тетей, ни тетенек, ни теть.
* * *
Когда попадаешь в старый город летом, да еще и в солнечный день, чувствуешь себя персонажем из какого-нибудь итальянского фильма, действие которого разворачивается среди желтых камней трех-четырехэтажных домов. Перебегаешь с одной стороны улицы на другую, ничуть не заботясь о машинах, потому что в старом городе совсем нет людей и почти нет машин. Жизнь сосредоточена не на улице, а внутри домов, и, когда начинаешь это понимать, сразу выпадаешь из кадра, потому что там, в фильме, если за столиком кафе и не сидит мафиози, то уж наверняка за углом дома происходит какой-нибудь важный разговор между худощавым парнем в потрепанных штанах и его девушкой или приятелем.
Но как бы то ни было, счастлив тот, кто тянется к солнцу и не смотрит себе под ноги, не роняя при этом вниз трескающуюся и облезающую кожу.
А если тебе не хватает витаминов, посмотри вокруг, и ты увидишь, что их не хватает всем.
Здесь с шумом проносятся поезда, и эскалаторы перевозят вверх и вниз огромные толпы людей. Все стоят в затылок, и, чтобы как-то развлечься, смотришь ничего не видящими глазами на плывущий в противоположном направлении эскалатор, где люди так же стоят в затылок друг другу, но уже к тебе лицом. Когда наблюдаешь, главное – правильно выбрать место, хотя к метро это совершенно не относится. Многие предпочитают назначать встречу в центре зала, потому что в этом случае трудно ошибиться – середина всегда одна. Но если станция устроена так, что середина чем-либо занята, например, лестницей или эскалатором, то встречи назначаются у первых или последних вагонов, так что на любой станции метро легко обнаруживается маленькая толпа вечно поглядывающих на часы невротизированных граждан. Ведь немногие умеют ждать спокойно! Вот о чем мне рассказал мой дед: оказывается, если спелый лимон не сорвать с ветки, то он потом как бы впадет в детство, позеленеет, а затем, вновь пройдя "все ступени созревания, станет прекрасным желтолицым цитрусовым, некогда считавшимся экзотическим в наших краях. Правда, мой дед не был уверен в том, что говорил. Он сам мне сказал: «Я не знаю, так ли это, хотя, может быть, и в самом деле так».
Рассказанная история в корне противоречит представлениям диалектики о мире, но это не большая беда, поскольку сама диалектика тоже, вероятно, является не более чем прекрасной сказкой. Ничто не стоит на месте, и нельзя два раза войти в одну и ту же реку. А иначе будешь эдаким зациклившимся лимоном, который по воле забывчивого хозяина никак не может попасть на наш праздничный стол. Но каждый, кто позавидовал бы ему, очень рискует, потому что никогда нет гарантии, что ты из породы лимонов, а не, скажем, из породы яблок или груш, которые, если не сорвать, превращаются в кашу размазанную у подножья прекрасной яблоньки, радостно перебирающей корнями в ожидании обильного притока удобрений.
Никогда нельзя быть ни в чем уверенным, и поэтому не стоит спешить, оставь такие материи тем, кто в этом понимает больше, чем ты.
А сам – будь осторожен! – к этому призывает тебя весь человеческий опыт, который почему-то в этом пункте удивительно совпадает с мещанской моралью.
* * *
Убивай страсть, расти душу.
А так, тащиться брюхом по асфальту и отхлебывать из каждой лужи – разве это приятно? Единственное спасение – внезапный прилив энергии, называемый вторым дыханием, которое открывается вдруг, в тот самый момент, когда кажется, что силы совсем оставляют тебя.
В розовом воздухе барахтаются какие-то людишки, кто головой вверх, кто головой вниз, некоторые хватаются руками за верхушки деревьев и успевают на лету сорвать листик. «Забавно», – думаешь ты и начинаешь с еще большим удовольствием шаркать ногами.
Так прошаркивается месяц-другой, так проползают длинные дни, похожие на нескончаемый рулон ткани с однообразным рисунком. Мне всегда нравился бархат, потому что в нем есть какая-то глубина. Только когда он вытирается, а это всегда случается на самых прозаических местах, видишь: вышла ошибка. Еще мне очень нравились легкие, полупрозрачные ткани нежных тонов, но не тогда, когда сквозь них видно тело, а когда смотришь на просвет.
Гуляешь между толстых стволов деревьев, ощупываешь кору руками и чувствуешь, как растет душа и умирает страсть. Тихо, незаметно, как будто теплый летний воздух наполняет легкие, и ты, как огромный воздушный шар, висишь среди этих грубых древесных кож.
– Послушай, Джек, – говорит она, – я приехала к тебе издалека, а ты и не смотришь на меня. Вот она, твоя любовь!
– Я так любил тебя, милая, но все прошло, и я спокоен, как буйвол.
– Что ж, мой мальчик, дело твое. Кто убил в себе страсть – убил быка и родил буйвола. Будь счастлив, Джек!
* * *
Мягкий клетчатый человек, завернутый во что-то мягкое по самые уши, лежит на диване и прихлюпывает носом.
За окном дождь, и снова началась эпидемия гриппа. Сухая и тонкая как жердь старуха скрипуче сморкается в белую проглаженную марлю и то и дело мажет нос кремом. Еще несколько дней назад в голове копошились какие-то мысли, но сегодня неведомая сила, именуемая эпидемией гриппа, перетащила меня в совершенно иное измерение.
Здесь проживают лишь вечно влажные носовые платки, градусники, таблетки, шарфы, обветренные губы, красные с лихорадкой носы, вечно немытые волосы, растянутая одежда пижамно-халатного типа и нескончаемые чашки чая с обильным содержанием сахара и лимона. Вот привалился к стене синеглазый толстяк с красными щеками. Сразу видно, что он очень вспотел. Наверно, у него высокая температура.
– Когда я не в форме, я не хочу, чтобы меня видели, – говорит она и стремительно переводит разговор на другую тему.
– Ну, дорогая, ты же не майор пехоты, не милиционер, чтобы все время быть в форме. Ты – человек штатский и смотри на вещи соответственно.
– Как скажешь, дорогой. Встретимся через две недели.
И вот твой пароход отправляется в плаванье, и вот твой парусник выходит в открытое море, напрягая паруса, сшитые из миллиона застиранных носовых платков.
Я очень люблю истории со счастливым концом. От них не остается ощущения потерянного времени. И, читая последнюю фразу, так приятно заложить руки за голову и с хрустом расправить затекшее от долгого лежания в одной и той же позе тело. Поэтому всегда хорошо иметь про запас пару книжек Джека Лондона, любовные романы Саган и еще что-нибудь из библиотеки приключений.
Какое чудное словосочетание – «Библиотека приключений»! От одних этих звуков начинается зуд во всем теле, и хочется поскорее приняться за чтение, а главное – иметь дома всю эту библиотеку и все эти приключения.
Тогда можно будет всякую эпидемию переплести и поставить на полку, будучи уверенным, что и финал не подкачает.
* * *
С тех пор как «Бог умер и остался человек», мы погрузились в царство полного субъективизма, и от субъекта зависит, темное это царство или светлое.
Мысли и люди наползают друг на друга, и уже часто невозможно отличить мысли от людей.
Когда прощаешься – не забывай улыбаться. В этом милом обычае кроется какая-то легкость простого расставания с не слишком дорогим для тебя человеком.
Но при том, что все критерии размыты и черное уже ничем не отличается от белого, как же на самом деле просто отличить одно от другого, – достаточно понюхать яблоко, насладиться цветом настоящего спелого апельсина, дотронуться рукой до гладкой, нежной шкурки котенка, и сразу станет ясно, что на свете существует множество прекрасных вещей, которые очевидным образом отличаются от вещей ужасных,' тягостных, безвкусных, уродливых, бесконечно пустых, чрезвычайно перегруженных, от всякого суетного нагромождения и чепухи.
Не любить плохое так же просто, как и любить хорошее. Но сама любовь часто решает этот вопрос иначе.
Во всяком случае, стоит подумать, как быть, когда истина скрывается в каких-то неведомых глубинах, а ответ нужен тут же, немедленно.
Я в таких случаях пытаюсь найти того, кто задал вопрос, и просто укусить его за задницу.
* * *
Ни скрипка, ни виолончель, ни тем более фортепиано не вызвали во мне такого отклика, такой внутренней дрожи, как флейта.
Стоит мне только услышать где-нибудь хотя бы отдельный короткий звук, как сразу же возникает желание подойти поближе и найти ее глазами.
Я смотрю на свои руки. Кожа стала более грубой, как это и бывает зимой. Ногти покрыты белыми пятнышками. Когда-то мне нравились мои руки. Но сейчас я стою, смотрю на длинноволосого парня, поигрывающего на флейте, и понимаю, что хотя и все в порядке, все хорошо, я все же чувствую недовольство собой.
Это был прозрачный, почти безветренный и бесснежный год, когда хиппи стали увлекаться флейтой. Почти у каждого из джинсовой сумки торчал ее деревянный кончик. Иногда они разговаривали друг с другом, вертя флейту в руках, или просто стояли, постукивая ею по коленке.
Мне было как-то не по себе, хотя и очень нравилось все то, что происходило вокруг, и голые деревья, и морозный воздух, и запотевшие стекла киосков.
Лучше бы уж мне не нравилось все вокруг, это было бы приятнее, это была бы почти победа.
Хотя какой смысл катать в голове это пустое, ничего не значащее слово «победитель»?
* * *
Я ношу очень короткую стрижку, гладко бреюсь и хожу в джинсах и спортивных свитерах. Поэтому в мои тридцать пять я вполне тяну на двадцать три – двадцать пять. Когда мне было тринадцать лет, выяснилось, что я болен и срок моей жизни ограничен. Это морально убило меня. Я страшно скис. Лет пятнадцать я не мог прийти в себя, пил и гулял, хотя и сохранил свою привязанность к чтению. Подолгу болтался без работы, повисая на шее у моей бедной и без того измученной мамы. Я долго не мог разобраться с женами, то я их бросал, то они меня. В какой-то момент я остался совсем один, да еще и без копейки в кармане. Этот период тянулся около двух лет. Но потом, внезапно, я нашел хорошее место, о котором раньше и мечтать-то было нельзя. Постепенно у меня появились и кое-какие деньги, а то раньше и за женщиной не поухаживаешь. И вдруг однажды на дне рождения у моей старой знакомой я заметил, что ее младшая сестра, которой только исполнилось шестнадцать лет, проявляет ко мне интерес. Поначалу, честно сказать, я удивился. Но потом это увлекло меня. Теперь мы разговариваем часами по телефону. Когда я с ней куда-нибудь иду, я вижу, что она гордится тем, что смогла привлечь такого взрослого мужчину, как я. «Ты, конечно, староват для меня», – небрежно говорит она. А я думаю про себя, что девушка, за которой приударяешь, никогда не бывает слишком молоденькой. Я тоже стал брать ее с собой и вижу, как завистливо переглядываются мои друзья, ведь ни у кого из них нет такой шестнадцатилетней пассии. Она рассказывает мне о своих конфликтах с учителями, и я с полной серьезностью советую ей не портить отношения, потому что незачем их портить, если нет в этом необходимости. Мы, ей-богу, славная пара и смотримся вместе просто великолепно!
* * *
Нужно ли тратить столько времени на описание глубокой, явно предназначенной для супа или, на худой конец, пельменей общепитовской тарелки, доверху наполненной серебряными и медными монетами вперемешку с бурыми хлопьями снега? Два красных пальца, бесстыдно показываясь из специально обрезанной шерстяной перчатки, быстро хватают твою монету, швыряют ее в только что упомянутую тарелку и достают тебе из лотка пирожок. Кушай, радость моя.
Попробуй достать жемчужину со дна моря, и ты увидишь, как это трудно. Видимо, по большому счету, все трудно, но к чему-то ты привык, а к чему-то нет. Самое трудное то, к чему нет никакой привычки. Каждый раз опускаешься на самое дно и кажется, что не хватит дыхания, чтобы вынырнуть обратно. Умудренные опытом и убеленные сединами утверждают, что человек привыкает ко всему, и дальше они начинают приводить такие примеры, о которых если вспомнить перед сном, то – можешь быть уверен! – тебя ожидает бессонная ночь. Но теперь я знаю точно: человек действительно ко всему привыкает.
Меня всегда шокировала мысль, что человек не видит своего внутреннего устройства. Ведь, если вдуматься, он по горло набит огромными, неуклюжими, пульсирующими органами, которые так мешают сосредоточиться, все время требуя внимания и уважения к своей работе. Никогда не чувствуешь, как по тебе переливаются литры жидкости, об этом, может быть, вспоминаешь только тогда, когда шумит в ушах, тогда на ум приходят морские приливы и отливы, огромные многометровые водопады, которые многие из нас так никогда и не увидят. Трудно, находясь в какой-нибудь глухомани, представить себе, что на земле существуют Нью-Йорк, Лондон, Афины, Париж, Неаполь. Среди этих лесов и этих бессмысленных просторов никакого воображения не хватит на то, чтобы представить себе насекомообразный готический собор, застывший в сутолоке копошащихся людишек и поблескивающих авто.
География, мой друг, география…
Люби книжки и чтение и не бойся засорить себе глаза. Это стоит того, то стоит этого. И вообще, будь счастлив, мой маленький друг!
* * *
«Порок» отличается от «пророка» ровно одной буквой, и эти два слова образуют прекрасную точную рифму. Поэтому, когда обращаешься к высоким материям, нужно быть точным в мелочах.
Солнечный свет – опасная штука. Он сразу же обнаруживает многие изъяны: на вымытом окне становятся видны разводы и пятна, женщина выглядит на десять лет старше, чем ей бы хотелось, тут же становится видна пыль, которая лежит на книгах, полках, люстре, видно малейшее расхождение цвета или оттенка различных элементов костюма, которые при обычном освещении кажутся bien assortis. Вот такое коварство, которое часто способно серьезно расстроить человека.
Нужно обладать по-настоящему утонченным вкусом, чтобы уметь обставить свою квартиру. Грубый человек иногда готов отвалить кучу денег, накупить дорогих вещей, среди которых, кстати сказать, всегда закрадется какая-нибудь копеечная подделка. Но как бы ни старался человек грубого ума, как бы ни тратился, все равно его жилище будет походить на пыльный кабак или на мещанский притон тихого благополучия.
Человек утонченный умеет, пользуясь своей фантазией и существующими в избытке милыми, нестандартными вещами, создать в своем доме микроскопический, но гармоничный, отзывчивый, напоминающий самого хозяина мир.
Будь то вечно взбудораженный еврей-технарь с жестковатой рыжей бородой и вращающимися глазами, или аккуратненький мещанин, или разочаровавшийся во всех мирских благах и обретший опору в Вечном гуманитарий, или писатель с черными ободками нестриженых ногтей, или просто вечно спешащий бодрячок – каждый имеет свой дом, похожий как две капли воды на него самого. Это общее место, банальность, трюизм.
«Разбитые чашки не склеивают», – говорят о некогда любивших друг друга и расставшихся людях.
Но иногда люди совсем не похожи на чашки, а напоминают скорее вилки, ложки, ножи, блюдца, иногда даже кастрюли и сковородки. Но дело не в этом. Просто каждый в мире ищет подобия.
Кто знает, как лучше? Может быть, никто, а может быть, и кто-нибудь.
* * *
Я начал писать, чтобы не ссориться с женой. Женился я рано, мне еще не было двадцати. Моя жена – Томочка, тихая, сероглазая, тоненькая девочка, создавала уют и ровное, теплое настроение, в котором поначалу я чувствовал себя превосходно.
Я учился и занимался комсомольской работой. Безусловно, это тешило мое самолюбие, я заставлял других делать абсолютно ненужные, часто абсурдные вещи, делал их и сам, и это была для меня своего рода игра, в которой я всегда старался одержать верх. Провинившихся я карал по всей строгости закона и затем, встречая в коридоре пострадавшего, даже не поворачивал головы в его сторону. Как же я был доволен! Мама мне покупала один новый костюм в год, вечерами я сидел в читалке и писал конспекты. До чего же приятно возвращаться домой в десять вечера, исписав мелким, аккуратным почерком несколько десятков больших тетрадных листов! Томочка ласково прижималась ко мне и кормила ужином.
Наши клетчатые занавески на окнах, клетчатая скатерть, баночки со специями вдоль стены внушали полный покой и ощущение тихого счастья.
Томочка тоже училась, но в отличие от меня скорее хорошистка, сдавала сессии в основном на тройки. В целом мы были довольны друг другом. Но вдруг, совершенно неожиданно, по вечерам я стал чувствовать какую-то тревогу и раздражение. Может быть, я просто устал? Хотя если быть до конца искренним, то я немного приврал и начал я писать именно для того, чтобы придумать всю эту гадость. Впрочем, а почему, собственно, гадость?
Через несколько дней придет телефонный счет, там будет обозначена довольно большая сумма, и совершенно непонятно, почему нужно отдать столько денег черт знает за что, за эти литры словесной воды, которые не принесли никакого облегчения. Хотя в общем-то и не было никакой тяжести, просто хотелось поболтать.
Во втором классе он вместе со всеми произнес «обязуюсь горячо любить свою Родину, жить, учиться и работать, как завещал…», что не помешало ему через двадцать лет сесть в самолет и улететь сначала в Рим, а потом в Нью-Йорк.
Лежишь в постели, читаешь книгу, нежно перелистывая страницы, и краем глаза любуешься натюрмортом, стихийно расположившимся на ночном столике: стакан с водой, градусник, салфетки, пластинка с голубоватыми таблетками, яблоко.
Куда ужаснее сидеть в салоне какого-нибудь милого и гостеприимного дома, медленно, подробно разглядывать сидящую напротив очаровашку и совершенно не находить ответа на вопрос: нравится ли мне она? В самом деле, нравится ли? Неизвестно.
Существуют вещи, которые попадают в глаз случайно, ненавязчиво, а существуют такие хищные и наглые зрелища, как милашка или очаровашка, которые не оставляют никакой возможности отступить: сиди и думай, до чего же хороша!
«Будем как дети», – говорят нам хиппи. А как поступают дети? Когда они не знают чем заняться или просто находятся в затруднении, то начинают громко плакать, раскрыв как можно шире свой маленький пушистый ротик! Так что заплачь, и тебе станет легче.
* * *
Как только мы поженились, а было это прошлой осенью, я начал вести наступление. Я все время говорил ей о том, что люблю и чего не люблю, и при каждом удобном случае давал выход своему дурному настроению.
Она очень расстраивалась и старалась изо всех сил. Я заставлял ее улыбаться, когда ей этого совсем не хотелось, заставлял ее быть серьезной, когда ей было весело, заставлял быть более ласковой, чем она была на это способна от природы. Я вел себя как ограниченный узколобый самец, который все время требует, требует, и чего он требует и зачем – по сути дела, не ясно. Я все больше и больше вхожу во вкус, хотя мои победы меня не радуют, а скорее утомляют. А главное, что я делаю это абсолютно бессознательно.
* * *
В начале любых дел находятся слова. Эта мысль стара как мир, и мне нравится, что я повторяю то, что говорили уже многие другие. Я люблю слова, и пытаюсь в каждом деле найти следы слов, породивших его. Слова – часто причина, и в этом простом ритме причины и следствия клокочет грубая музыка каждого дня.
Бывают районы, в которых никогда не встречаются знаменитости, ни в прачечной, ни в магазине, нигде не встретишь никого, кроме серых бабулек и мужчин в трениках. Но есть и другие, где из подъезда выпархивает знаменитая фигуристка, в сберкассе важно заполняет расходный ордер ведущий ежедневной телепрограммы, да и просто на улице можно встретить кого угодно и потом долго спорить, «он это или не он».
Я стою и жду лифта в сумрачном парадном дома, где живут интеллигенты, и только они. Этот дом знают многие из тех, кто имеет отношение к науке. В лифте чаще всего едешь вместе с аскетичным потрепанным профессором, с непременной пачкой книжек под мышкой. Верхняя пуговица пальто всегда болтается на одной нитке.
Уже в лифте начинаешь подозревать себя в том, что тебе скучно, потому что недостоин и непосвящен, хотя это есть последняя степень извращения человеческого сознания – подозревать себя.
У меня в папке исписанные листочки бумаги, которые прочтут и одобрят, и в следующий раз я буду уже с большим интересом разглядывать лысину попутчика в лифте.
Наступает момент, когда люди возвращаются домой, зажигается свет и наступает черед мусоропроводов. Они гремят на все лады, течет вода из кранов, кипят, попыхивая, чайники.
Ты окружаешь себя тем, что создал сам, а если хочешь увидеть что-нибудь другое, нужно сдвинуться с места. Можно, конечно, но, ей-богу, неохота.
Я открыл глаза и понял: завтрак не состоится. Они опять ссорились. Этот хмырь появился у нас дома два года назад, он был на десять лет моложе мамы и занимался организацией эстрадных программ. Высокий, стройный, с карими глазами, вьющимися волосами, которые доходили ему до плеч.
Вот я слышу, как мама кричит: «Мало того, что ты живешь у меня в доме, так ты еще такое себе позволяешь!» И хлопает крышкой от масленки по кухонному столику. Он, не обращая внимания, намазывает себе бутерброд. «Женщина не должна об этом разговаривать!» – с самоуверенным видом заявляет он. «Да что ты вообще смыслишь в женщинах!» – не унимается мама. И так далее и тому подобное. Через полчаса я должен уходить. За полчаса они там не успеют разобраться. Так что завтрак не состоится. И вообще вставать – лень. Я и спал-то всего четыре часа, а эти и не заметили, что я вернулся в половине четвертого. Я ночевал у нее. Точнее, не ночевал, а пробыл с десяти вечера до трех ночи. Она преподает у нас географию, ей сорок лет, то есть она на двадцать два года старше меня, и я сох по ней уже с октября прошлого года. До чего же я доволен! Все получилось так замечательно! Она с такой радостью, с таким самозабвением отдалась мне, что я этого даже и не ожидал от нее. У нее был муж, но сейчас они расстались. Я видел его фотографию – придурок с заячьей губой. И слава богу, что расстались: я не знаю ни одного великого человека, у которого была бы заячья губа.
* * *
Человек должен чувствовать, что его любят. В потоках любви и ласки таять, как кусок сахара в стакане горячего чая, по возможности даже помешивая себя ложечкой. В этом путь к Гармонии. И ничего, что не все любят сладкий чай, обязательно найдутся настоящие ценители, которые, смакуя и трепеща, будут поглощать глоточек за глоточком.
Только люди, обладающие утонченным вкусом, разбираются в напитках. Они сумеют оценить и цвет, и запах, безошибочно определяют, соблюдены ли дозировки, в том ли сосуде подано. Они на пути к Гармонии. Никогда никого ни о чем не расспрашивай – это делают только дураки, далекие от понимания того, что такое Гармония. Умение не задавать лишних вопросов так же ценно, как и умение не отвечать на лишние вопросы, в этом кроется вкус жизни – искусно приготовленного второго, состоящего из куска индюшки с разнообразными гарнирами. Мы близки к цели. Осталась лишь одна перемена блюд. Многие любят жизнь за то, что она им дана.
Замечательная тарелка дымящегося супа, в котором столько всякой всячины, что при одном его виде и запахе слюна начинает капать изо рта. И только человек, лишенный вкуса, станет начинать обед с селедки, хотя многие утверждают, что это совсем неплохо. Им не следует верить, они и не слышали о том, что такое Гармония. Разные бывают истории. И разные люди их рассказывают. И для кого-то важнее сама история, а для кого-то, кто ее рассказал. Но как же быть нам, если ни то и ни другое не сравнится для нас с самим удовольствием слушать, пусть даже ни слова не понимая. Просто слушать и постукивать в такт ладонью по коленке, дрыгать ногой и ритмично вбирать голову в плечи.
* * *
Старые люди бывают очень редко довольны. Нечасто встретишь на улице старого человека, на лице которого была бы улыбка. Все они в чем-то разочарованы, и вообще все в их жизни не здорово.
Но если повезет, то иногда, в необычное время суток, можно все-таки увидеть старика или старушку, улыбающихся своим мыслям. Многие это объясняют тем, что все хорошее постепенно идет на убыль и впереди только всякий ужас. Отсюда следует, что когда по улице идет старый человек и улыбается, то он что-нибудь вспоминает. Искусство молодости – радоваться будущему, искусство старости – радоваться прошлому, и только те редкие люди, которые умеют радоваться, радуются настоящему.
Но старые люди редко радуются, потому что это вообще-то не так легко, и их этому никто не научил. Особенно редко, чтобы старый человек громко смеялся.
Путь от многозначительности к простоте проходит все, что может меняться. Хотя сама эволюция, говорят, происходила в обратном направлении: от простого к сложному. Но до чего же бывает проста эта простота, как часто она бывает убогой и даже неряшливой, как половая тряпка, или же педантично-аккуратной, выглаженной и выбритой, как кремлевский полк. О многозначительности можно было бы сказать еще хуже.
Но иногда как-то вспоминается, что нам нечего здесь делить, и, если вдуматься, всякое рассуждение есть глупость или эйфория, которая, по меткому выражению какого-то иностранца, «расползается по нашему обществу, как кривая ухмылка по лицу идиота».
* * *
Зачем ты гробишь свое здоровье? Ну скажи мне, зачем? Сколько раз я просила тебя, перестань курить, есть столько сладкого. Неужели тебе не противно, что, когда ты летом надеваешь футболку, все видят складку жира на твоем животе?
Я соглашаюсь, но когда вижу в булочной мармелад «Балтика» или соевые батончики, устоять не могу. Ведь это так заманчиво, вечером, натянув любимые треники и рубашку с протертыми локтями, выпить чашку чая с мармеладом или конфетой. И ты даже не представляешь, что своими проповедями губишь чуть ли не самое большое удовольствие дня.
Что же касается моего брюшка, то мне решительно все равно, что ты об этом думаешь. Мне вообще наплевать, какое я на тебя произвожу впечатление, пусть я хоть весь жиром заплыву. Ведь что-нибудь изменить все равно не получится. Ты же знаешь, так что терпи, дорогая, потому что, когда некуда деться, надо терпеть. Пока все.
* * *
Ты видишь голову, которая ходит вверх – вниз, вверх – вниз. Видимо, хозяин этой головы, обнаженный по пояс, делает приседания, держась руками за
подоконник.
Бледная дама в сизом окне ровными, равнодушными движениями втирает крем в кожу лица, любуясь тем, как плавно, с некоторой осторожностью за окном падает снег.
От подъезда, порыкивая, отъезжает «скорая помощь», в салоне которой находится промучившийся всю ночь человек с серым лицом. Поскольку еще очень рано, то, кроме счастливых обладателей собак, вынужденных подниматься на час раньше и выскакивать в потрескивающий от мороза воздух, больше никого не встретишь. Встречи с знакомым человеком в такое время суток практически исключены.
Он не оценил ее. Ему не нравилось, что она носит чулки, а не колготки, он бросил в нее чашкой с бульоном, бульон угодил в цель, и они расстались. Так-то. Но до этого они провели несколько бурных месяцев, за которые успели рассказать друг другу всю свою жизнь в мельчайших подробностях. Не могу сказать точно, кто от этих рассказов получал большее удовольствие, тот, кто рассказывал, или тот, кто слушал, – ведь бывает по-разному.
Она не спит и тоскует. Он крепко спит, потому что провел ночь с другой и недавно заснул. Я тоже недавно уснул и, прижимая к груди подушку, досматриваю душещипательный сон, в котором я жарко обнимаю тебя, одетую в красное платье, на фоне переливающегося всеми цветами огромного супермаркета.
* * *
Любить надо уметь. Никто среди людей так не искушен в теории любви, как поэты. Они познали все: и радость встречи, и пресыщение страстью, и горечь разлук. Поэтому именно поэтам часто пишут письма разные девушки и женщины, откровенно излагая свои проблемы и советуясь. И в этом есть своя логика. Хотя вид у поэтов часто такой непривлекательный, что трудно поверить в то, что все, о чем они пишут, было ими пережито в действительности. Но поэтов и вправду часто любят женщины, и часто очень красивые женщины любят очень непривлекательных внешне поэтов. Ну а если в каком-либо случае это не так, то мир воображения, который, как известно, куда богаче мира реального, заменяет им все и дает познание сути любовного переживания.
Язык – самая прекрасная игрушка в мире. Ему можно придать любую форму, он отличается несравненным богатством красок, при помощи него можно показывать различные фокусы, выдвигая то один, то другой ящичек этого бесчисленного каталога.
Какая-то бабулька долго терла ногой круглое пятнышко на асфальте, полагая, что это монетка. Но потом она поняла, что это кто-то случайно капнул белой или желтой краской, и пошла прочь. Когда колешь грецкие орехи, всегда хочется ударить молотком так, чтобы не повредить содержимое и вынуть целиком неприкосновенный, с желтым отливом крошечный слепок человеческого мозга. За этим занятием можно провести множество времени, и только те, кто знают секрет, могут справиться с этой сложной задачей.
Временами наступает отчаянье и хочется швырнуть молотком об пол. Многие, вероятно, так и делают, потому что очень редкие люди могут справиться с собой в минуты стресса. Хотя все воспитание именно на это и направлено. Родители стараются до тех пор, пока бесконечный поток неудач не сломит их волю. Но бывают и совсем другие, послушные, умные, рассудительные дети, и вообще чего только не увидишь на этом, замусоренном разными суждениями, карликовом острове, со всех сторон омываемом морями и терзаемом зловещими ураганами.
Часть II
Изволь показать, что ты понимаешь всю сложность проблемы. Скажи: извините, мне нужно подумать, и сделай вид, что задумался. Потом минуты через две-три скажи: это очень сложный вопрос. Понять сложность проблемы. – это уже полдела, если человек понимает сложность, или, точнее, всю сложность проблемы, то он не дурак. Именно это и следует доказывать. Но абсолютно необходимо дать почувствовать, что у тебя где-то там внутри, за душой – богатый внутренний мир, поэтому не забудь покраснеть, потупить глаза и на один из вопросов ответить молчанием. Кто-нибудь потом обязательно скажет: это умный, глубокий человек. Но этого недостаточно.
Сейчас все больше и больше ценится тонкость вкуса. Так сказать, изысканный склад ума. Поэтому следует несколько раз подвергнуть сомнению собственные высказывания, говорить неопределенно, перемежая слова загадочной полуулыбкой.
Если перед тобой человек достойный – будь уверен, дело выиграно.
Теперь каждая школьница твердит, что гомосексуализм – это прекрасно.
При малейшей попытке к бегству – стреляю!
Поэтому совершенствуйся не сходя с места, играй в бадминтон или настольный теннис, волан вернется к тебе, если противник отбил, и останется там, по ту сторону сетки, если он дал маху. Не сходи с места, и ты обретешь уверенность. И я почти не сомневаюсь в том, что, когда уже все застынет, все остановится, явится тебе наконец квадрат голубого неба посреди желтой канцелярской стены.
* * *
Как часто мы судим о вещах по их внешнему виду и как часто мы оказываемся правы!
На рынке каждый норовит покрасивей разложить свой товар, до блеска отполировать яблоки и помидоры, смочить водой редиску и огурцы, окропить зелень, чтобы от всего веяло свежестью, чтобы все казалось только что срезанным, сорванным, собранным.
Крепкие мужички, одутловатые бабульки, могутные женщины средних лет – все без исключения превращаются в цветущих молодых мамаш, всячески ласкающих, умывающих, прихорашивающих своих питомцев.
Ленивое, белое, сонное утро раздвигает шторы, и в комнату бочком-бочком вливается такой же белый, хмурый и сонный день. В такие дни не хочется сопротивляться и громко разговаривать, не хочется быть «учителем жизни» и «властелином птиц и рыб», а хочется доползти, рухнуть и насладиться постельной прохладой или постельным теплом в зависимости от того, какое время года расположилось в оконной раме.
Вычурность – парадокс формы, парадокс – маленькое глазастое существо, вожделенно закусившее нижнюю губу.
Самое замечательное Слово на свете – «прогулка», самое скучное слово на свете – «хорошее», самое веселое слово на свете – «дятел», самое неудобное слово на свете – «сковорода», потому что человеку с явными признаками вырождения на лице никогда не поставить его во множественное число.
И неважно, приятное у тебя лицо или нет, какой у тебя характер, труслив ты или отважен. Все это совершенно неважно! Бог водит рукой твоей, и выбор его случаен.
Город окунается в сумерки, в окнах зажигается свет, и поэтому, особенно весной и летом, а также ранней осенью, создается на улицах некоторое подобие уюта. В переулках гуляют манящие ароматы, доносятся из открытых окон обрывки темпераментного диалога из идущего в это время очередного телесериала, по пустым улицам не спеша продвигаются в поисках друг друга бродячие коты и поэты – в общем самая что ни на есть благодушная, немного баюкающая картина угасания жизни. Еще два-три часа, и почти все займут горизонтальное положение и пробудут так до утра.
Ты будешь носить свою рожу до самой смерти, да к тому же со временем она будет только меняться к худшему. Хорошо, если рожа – ничего, а если нет?!
В общем, наплюй, потому что все равно, а если все равно – то какая разница, а если нет разницы, то и мыльный пузырь – полезная в хозяйстве вещь, потому что надолго не занимает места!
* * *
Они мне сказали: «Пойдем, мол, кофейку выпьем, посидим». Они почему-то оба ушли на кухню, хотя с кофе мог бы справиться и кто-нибудь один. Что-то там не заладилось – это ясно.
Я сижу в кресле и жду. Я понимаю, что надо бы потихоньку смыться, но неудобно как-то. Мне, наконец, удалось нащупать в кармане использованный троллейбусный билет, который через несколько минут превратится в моих пальцах в продолговатую твердую трубочку.
Когда-то было время – были дела. Зеленая трава, нежно-голубое небо, желтое солнце. В воздухе копошились насекомые, порхали бабочки, жужжали жуки, повсюду на ветвях сидели птицы и переговаривались.
Я сижу и жду. Листаю старый журнал, в котором от каждой фотографии веет чистотой, аккуратностью, хорошим вкусом, европейским чувством меры, призывающим к тому, что лишнего тратить не надо.
Реклама духов. Девица с жемчужными зубами, умело улыбаясь, держит в руках огромный флакон с надписью. Тарелка, наполненная дымящейся снедью, рядом с которой лежат сырые неочищенные овощи, из которых приготовлена эта вкуснятина. Реклама белья. Женского. Мужского. Детских вещей. На фоне лазурного моря целующаяся парочка, рядом с которой возвышается гигантский запотевший стакан, наполненный каким-то золотистым зельем. В кружочке надпись.
Все! Больше я ждать не могу!
Привет, камарады.
* * *
Повелевать талантами, дарить и отнимать у них надежду, когда нужно – тянуть время, вызывая ярость и бешенство, упиваться своей властью над ними, каждый раз ходя по лезвию бритвы, потому что каждый талант в душе – безумец. Что может доставить большее удовольствие человеку азартному, развращенному сознанием собственной немощи, лысеющему, стареющему, болеющему и никем не любимому, дотлевающему в старой, полуразвалившейся крепости своих дней?
Что может быть завлекательнее тараканьих бегов высоколобых маньяков? Что может опьянять больше, чем сознание, что ты устроитель бегов и каждый из соревнующихся привязан за лапку ниточкой, и твои пальцы держат сотни таких ниточек, и тебе ничего не стоит малейшим, ничтожнейшим движением загнать всех рысаков назад в спичечную коробку?!
Разводя руками, киваешь на судьбу. Ты киваешь на нее, она кивает на тебя, словно девушка и роза, кивающие друг на друга. Нет спора, «никто не хочет быть самим собой».
На свету хочется щуриться, моргать почаще. На свету, на солнце приходит в движение каждый сантиметр твоего тела, и можно безошибочно ткнуть в себя пальцем, с восторгом повторяя: «А вот это – Я!»
Другое дело, когда находишься в своем доме. Там ничто не выделяет тебя из среды, в которой ты полностью растворяешься. Там, чтобы ответить на вопрос: «Да где же ты?» – приходится бесконечно шарить по углам, забираться черт знает куда и все равно потом отвечать наугад.
Поэтому мне лень, я не люблю, я не понимаю, зачем, кому это нужно, и вообще я ничего не смыслю, и не хочу, и не буду, и пусть все остается как есть.
* * *
В каждом роду или, иначе говоря, в истории каждой семьи обязательно должны быть и король-ленивец, и философ-алкоголик, и недалекий ворчун-портняжка, и буйнопомешанный, безалаберный герой-любовник, и покорная, исполненная терпения и добродетелей тетушка, и застрелившийся подросток, и несостоявшийся гений, и отпетый мерзавец, и праведник, питавшийся желудями, и старая дева, пережившая всех своих близких, – нужно всего по капле, чтобы получилась эта гремучая смесь, этот филиал сумасшедшего дома, который катастрофы по счастливой случайности посещают не так уж часто.
– Откройте рот.
Свет, металлический инструмент с тончайшим заостренным кончиком. Омерзительные кровавые плевки. Вызывающие рвотный рефлекс ватные тампоны. Стакан слабого марганцевого раствора на подставочке. Страшно.
Считай, что половина уже позади. Сейчас засунут в зуб какое-то остропахнущее лекарство, от которого немного защиплет язык.
– Сплюньте.
Надежда. Аккуратные пальцы лопаточкой размешивают на стеклянной матовой пластинке белый порошок. Больше больно не будет.
– Закройте рот. Идите.
В свободное время я коллекционирую идеи. Для этого я читаю книги, смотрю телевизор, слушаю радио. Органы чувств помогают мне в моем деле. Каждый раз, когда я нахожу идею, я выписываю ее на карточку, а затем расставляю карточки в алфавитном порядке. Раньше мне помогала моя жена. В данный момент моя коллекция насчитывает приблизительно четыре коробки.
Я наконец-то понял: меня не любит моя жена. Ну и черт с ней, если она такая гадина. Сегодня же скажу ей, что я догадался. И пусть потом доказывает – я ей все равно не поверю.
* * *
Стоит только углубиться, пустить корни в какую-нибудь плодородную почву, как сразу же немеет язык, холодеют руки и вообще возникает какой-то дискомфорт, нежелание двигаться, сонливость.
Немыслимое счастье, когда вдруг кровь опять начинает кипеть – от этого как-то согреваешься и включаешь пропеллер. Тут-то самое время присоединиться.
В комнате, над головами почтенного собрания, висит сизое облако из перемолотых фраз, кивков, почесываний, посапываний, шумных медленных выдохов. Страшно, что весь этот духовой оркестр рухнет на голову собравшимся и придется потом выносить повизгивающих от боли и потирающих травмированные места граждан. Опасна также страшная, превышающая санитарные нормы концентрация крылатых выражений, дубовых клише и застиранных истин, хотя каждый в душе конечно же был в состоянии…
Извергнув из себя потоки дурной энергии почтеннейшие расходятся по домам. Опустошенные, измочаленные, по-хорошему вспотевшие, возбужденные и потухшие одновременно.
Я хочу признаться в своей нежности к благородному собранию, напоминающему своим способом существования, что жизнь – это процесс, а не результат, великая суета и шум, а не тишина и молчание. И ничего, что этот водоворот затягивает в глубину, лишенную кислорода.
Каждый может считать себя очаровательным Карлсоном с трансплантированным пропеллером. Ведь теперь даже можно срезать кожу с задницы, пришить ее на лицо – и результат будет восхитительный.
Да здравствуют губошлепы, которые, вместо того чтобы травиться колбаской, отдаются другой пламенной, вулканической страсти. Жаль только, что у них с прическами дело дрянь.
Вонючая, с желтым отливом, весенняя кровь наполняет все тело каким-то синим ознобом, а голову безумными, кишащими, расползающимися во все стороны мыслями.
Эта кровь почти что негодна, от нее болят руки и ноги, слепнут глаза, но в душе рождается Страсть.
Стоишь голый, синий, дрожащий на каменном полу, стыдливо прикрываясь руками, и испытываешь кромешный ужас перед семиголовой, огнедышащей страстью, рожденной гнилой кровью, отсутствием витаминов, воспаленным сознанием.
В душе или пустота, темнота и отчаяние, или свет, легкость и маниакальная веселость.
Лезут волосы, обламываются ногти, бросает то в жар, то в холод – это шалит гнилая кровь, пьяное, перебродившее зелье, настой из продремавших всю зиму корней и едва показавшихся из почвы молодых трав.
Мимо сонно проползают троллейбусы, автобусы, мелькают светофоры, и ты, раскачивая языком уже начавший шататься зуб, стоишь и ждешь, когда раскрасневшиеся витрины плюнут тебе в рожу все запасы морских камешков и облезлых пластмассовых надписей.
Все это восхитительный праздник гнилой крови, и куда тоскливее, просыпаясь утром, осознавать, что сегодня тебе исполняется семьдесят пять, и гнилая кровь уже никогда больше не подарит тебе безудержной разговорчивости, а только прокисшее дыхание, полиэтиленовые глаза и полное отсутствие аппетита.
* * *
Включи мотор и катись. Нажми на кнопку и заиграет. Дерни за веревочку и откроется.
Мы начали работу во вторник, продолжили в среду и окончательно покончили к середине дня в субботу.
Мне больше уже ничего не хотелось, ни есть, ни спать, ни гулять, вообще ничего. Перед глазами были сплошные огромные пульсирующие буквы О или нули, – зависит от системы координат.
Меня стал мучить вопрос: а была ли жизнь на Марсе? Точнее, была ли до нас жизнь на Марсе? Где-то щелкнул выключатель, послышался звук пощечины, и потом кто-то очень быстро заговорил.
Мне стало совершенно ясно, что я очень спешу. Я бегу, поглядывая на часы. Я опаздываю. А ты смотришь на меня и ничем не хочешь мне помочь.
Да и можно ли помочь человеку, который спешит?
Я призываю к себе в свидетели мух и бабочек, деревья, листья, пыль, которую нес мне навстречу ветер. Я призываю себе в свидетели тридцать пять градусов тепла и надетую в этот день одежду. Они подтвердят:
Я не нарочно.
* * *
Он крадется за ней, как страус. Неуклюже перебирает ногами, выставляя вперед круглый клетчатый животик. Один глаз прищурен, другой смотрит в крошечное окошко фотоаппарата. Он следит за юной, оснащенной всем необходимым красоткой, которая нежится в теплых лучах средиземноморского солнца. Красотка вертит головой во все стороны, меняет ширину улыбки, поднимает и опускает руки, выставляет вперед внезапно обнажившуюся ножку. Она снимает очки, потом надевает их снова, блестят пряжки, шуршит шелк, из-под маечки кокетливо показывается белое кружево. Фотоаппарат безостановочно щелкает, и карманы страуса набиваются отснятыми пленками. – Она очень талантлива, – говорит он. – И главное, какое желание работать! Она готова работать по двадцать четыре часа в сутки!
Работа продолжается, страус крадется, красотка улыбается. Никак не могу понять, кто это там, на той стороне улицы, машет мне рукой. Между нами огромный ревущий проспект, а бежать в подземный переход – неохота. Я тоже машу рукой. Проходит несколько минут. Мы расходимся.
Сегодня мне нужно зайти еще в два места, но очень хочется домой. Аргументов масса, и я иду домой. Захожу в прохладную квартиру и понимаю, что больше не завишу ни от автобуса, ни от троллейбуса, ни от такси. Можно принять душ, выпить чаю, почитать книгу, поваляться на диване.
Приходить в себя не всегда приятно. Это зависит от того, что там, в «себе», тебя ждет. Кого-то розовая долина, кого-то сеть навязчивых идей, кого-то – мир фантастических чудовищ, кого-то бездонное озеро ожиданий, а кого-то красный арбуз с зеленой кожурой и черными семечками.
* * *
Не дрейфь. Сумели разрыть, сумеем и засыпать. Вопрос только в том, что положить внутрь. Если не придумаем, могут и по рукам надавать. Мелко накрошим и запихаем, а потом засыпем и концы в воду.
Грузовой транспорт перевозит грузы. Пассажиры – не груз, они летают самолетами, ездят поездами, плавают на пароходах. Я и мои друзья – ходим пешком. Мы и транспорт, и грузы, и пассажиры. Мы даже почти самолеты.
Мне не нужен ни катер, ни пароход, ни яхта, ни вилла, ни дом в деревне, ни машина, ни самолет, ни меха, ни кожа, ни золото, ни бриллианты, ни деньги, ни бархат, ни дорогая посуда, ни кошки, ни собаки, ни женщины, ни мужчины. Мне не нужно оружие, не нужны советы и добрые пожелания, не нужны вопросы и ответы, а за все остальное, что у меня, к счастью, есть, я нижайше благодарю всех, кому я этим обязан. Аминь.
* * *
Что такое удовольствие? Результат грандиозной уборки, после которой не осталось ни одной пылинки, и каждый солнечный луч бесконечное количество раз отражается в натертых до блеска поверхностях?
Преданные глаза только что высеченного раба?
Утихшая боль, утоленные голод, жажда?
Идеально отрепетированное природой слияние разгоряченных тел? Преодоленное препятствие, прозрение, озарение?
Скука – это когда человек лишился удовольствий и смирился с этим. Все в прошлом великие, когда перестают быть великими, скучают. Они как слоны, млеющие на солнце и обсыпающие себя красной пылью.
Из чего лучше надираться – из фамильного бокала или из майонезной баночки?
А вселенская тоска, что такое вселенская тоска?
А непреодолимое противоречие, что такое? А воздаяние по заслугам?
В одной книжке написано, что, чтобы нравиться мужу, нужно реже мыть полы. В другой – сказано, что главное общность мировоззрения. А где правильно?..
Вопросы – враг удовольствия. Большинство ответов – тоже враг удовольствия.
Хотя о каком удовольствии можно думать, если кругом враги?
* * *
Нужно иметь терпение. Иногда взять себя в руки, иногда просто смириться.
Иногда нужно потерять терпение. Выпустить себя из рук, взбунтоваться. Но ни то, ни другое в конечном счете не доставит удовольствия. И то и другое мучительно.
Белок, желток, скорлупа, соль, хлеб, масло, солнце, искрящееся на лезвии хлебной пилочки, – завтрак – мое любимое пятое время года.
Никого ни в чем не убедишь, ведь у каждого свои резоны. Но достаточно иногда случайно, косвенно вызвать в памяти собеседника дорогой для него образ или напомнить значимую для него ситуацию, например, удар мокрым полотенцем за пролитый суп, полученный от издерганной мамы в возрасте пяти лет, как начинают твориться чудеса. Эти чудеса и называются неадекватным поведением.
Опускаешь три копейки – получаешь стакан газировки с лимонным сиропом.
Завтракать наспех – безумно вредно, а главное обидно. Полупрожеванная серая котлета не нужна ни тебе, ни твоему организму. Вот увидишь. Свободный человек всегда завтракает не спеша.
Ничто не вызывает такой ревности, как яростный хохот обожаемого существа, вызванный не твоим остроумием.
И вообще, что грустно, то досадно, что досадно, то обидно, а что обидно – забыть и выбросить.
* * *
За усталостью следует отчаяние, за радостью покой. Мои родители обиделись на меня еще в первый год моей жизни. Подойдет папа – плачу, подойдет мама – отворачиваюсь. Мне, вероятно, больше всех нравилась бабушка. Я думаю, потому, что ее сознание не было обременено всякими идеями о воспитании, и ей ничто не мешало бесконечно потакать моим прихотям. «Это ты во всем виновата!» – говорили бабушке хором папа и мама. Но на меня они затаили. Сейчас, задним числом, я их понимаю. Неприятно, конечно. Я ужасно сожалею, что так получилось, и я прошу у вас, дорогие родители, прощения за совершенные мною бестактности.
Цвести в горшке – удел комнатных растений. Мне очень не хочется цвести в горшке. Мне хочется цвести там, где запоет душа. А кто ее знает, где она запоет? Спускаешься по лестнице, хлопаешь дверью подъезда и попадаешь в затопленный солнцем, захламленный, крошечный дворик, и тут же расцветаешь. Человек расцветает и вянет всякий раз непредсказуемо, иногда абсолютно некстати вдруг возьмет да и зацветет, а иногда ни с того ни с сего, посреди всеобщего ликования, также внезапно расстроится и завянет.
Человек ведет себя иногда как тюльпан, иногда как нарцисс, иногда как роза, иногда как кактус, иногда как пальма, а иногда даже как Иудино дерево.
* * *
Выпиваешь вечером стакан кефира и чувствуешь, что ведешь правильный образ жизни. Похлопываешь себя для верности ладонью по животу, вытираешь кулаком губы.
До чего же приятно вести правильный образ жизни! Относиться к себе чутко, ухаживать за собой с любовью. Быть одновременно и слесарем и машиной, породистым рысаком и конюхом, иконой и реставратором. Как приятно смотреть в будущее, извлекать уроки из прошлого.
И вот награда: хорошее зрение, крепкие зубы, свежий вид, легкость в движениях. Не могу без боли смотреть, как многие достойнейшие люди гробят себя. Тащат в рот что попало, курят, пьют, а под глазами – синяки, кожа серая, зубы дырявые и желтые, изо рта болотом пахнет… Разве такой человек может служить примером?! Все так называемые удовольствия, если взглянуть на них трезво, таковыми не являются! Потакать своему неразумному организму – непростительная слабость. Следует с собой бороться и побеждать. Ставить себе же ногу на грудь. Это главное, что отличает человека от животных, и это отличие
спасительно.
А то потом будешь бежать за уходящим поездом, а силенок, чтобы догнать, – не хватит. Так он и укатит, а ты останешься здесь. Загудит на прощание, мигнет огнями, и даже не оглянется на горстку беззащитных, машущих ему вслед носовыми платками людишек.
Я промакиваю салфеткой слезы, которые катятся по моим щекам. Люди! Братья и сестры! Мне жаль вас! Жаль!!
Сейчас лето. Ко мне влетела муха. Черненькая, маленькая, глупенькая. Мне тебя тоже жаль, слышишь, муха?!
* * *
Последние несколько дней я тебя совершенно не узнаю. Что случилось?
Вошла молодая особа и долго что-то мне объясняла. Возразить в общем нечего. Все «за» и «против» давно известны. То разводишь руками, то беспомощно их складываешь. Расстегиваешь верхнюю пуговицу на рубашке.
Сколько же страниц в этой книге? Толстая, тяжелая, на каждой странице множество мелких плотных строчек.
Как раз в этот момент зазвонил телефон. Мы поговорили минуты две-три и договорились о встрече.
Я ставлю чайник.
Мне нравится размеренность жизни, ее едва уловимый ритм, без яростных взрывов большого барабана и резкой трескотни тарелок. Плавная, ненавязчивая мелодия не утомляет ни своим однообразием, ни своей претенциозностью. Она звучит, она создает мягкий однородный тон, окрашивает все в теплые, органично перетекающие друг в друга тона.
Обещали, что летом будет ужасная жара. А это значит: красные лица, острые запахи, рев автомобилей, раскаляющихся на солнце, мягкий асфальт. Это значит, что все будут стараться занять место в тени и ждать наступления вечера.
Очень приятно видеть гуляющих летними вечерами разряженных, загорелых людей. Их голоса и смех не раздражают, они звучат мягко, как будто кто-то рассказывает сказку засыпающему ребенку. Даже ленивый не устоит и тоже выйдет проветриться, искупаться в теплых летних сумерках. И хорошо, если никто не испортит ему настроения, потому что никто в этом смысле так не рискует, как ленивый.
* * *
Я любуюсь собой в своих словах, так же как Нарцисс любуется своим отражением в ручье. Я не ищу никакого отражения, не пытаюсь сложить свой мозаичный портрет из высказываний и оценок других. Мне не нужно ничего вне меня, чтобы себя увидеть. Мне нужны только мои собственные слова.
Горы, окружности, петли прилипают к бумаге, как легкое кружево, которое медленно образуется благодаря стараниям костяного крючка.
В солнечную теплую погоду хочется выглядеть шикарно, источать аромат, небрежно захлопывать дверцу кремового «мерседеса». В дождь же наоборот. В табачном киоске привлекает только «Дымок», в магазине «Одежда» – джинсы за семь шестьдесят, и так далее. В дождь чувствуешь себя бродячим непризнанным поэтом или живописцем, в солнечный день – кинозвездой с нескончаемым рядом безупречных фарфоровых зубов.
В этот самодеятельный театр одного актера не нужно покупать билета, а спектакли длятся почти столько же, сколько в древней Греции. Масса преимуществ. Приходите – посмотрите.
– Вот кончится дождь, и я пойду. Я не настолько спешу, чтобы промочить себе ноги. Поэтому можно еще посидеть, если хочешь, конечно.
Вся эта дымящаяся смесь ударяется о скорлупу блочного дома и расплескивается в разные стороны. Детский писк, рычание мотоцикла, хриплый басок, мягкое щебетание женских голосов, звук забиваемой сваи, ругань продавцов, музыка стиля кантри и хард рок – все эти звуки расщепляются, рассыпаются, разлетаются и потом застревают и засыпают каждый в своем
углу.
– На худой конец поедешь завтра утром. Запах жареной картошки и зелени смешивается с запахом дождя и вечера, и кажется, что от подвешенной в небе половинки голландского сыра исходит божественный аромат. Летом луна пахнет сыром, солнце – яблоком, дождь – укропом или петрушкой, небо – пирогом с вишнями, и над всем этим порхает чудесное испанское жаркое имя, от которого веет и прохладой, и прозрачным солнечным светом, и стрекотом цикад, это имя – Веранда, и я пою его, растягивая по очереди все гласные.
* * *
Крона деревьев смыкается над головой, и в светлом, кремовом полумраке поблескивают малахитовые квадратики неба. Шум веток и пение птиц укачивают, баюкают, но как-то все время просыпаешься, когда взгляд наталкивается на серую спину панельного дома с растерзанными балкончиками и одинаковым тюлем на окнах.
В личной жизни мне сразу же не повезло. Я не хочу вдаваться в подробности, перечислять до бесконечности несоответствия в характерах, разницу привычек, причины и поводы, я не выношу таких разговоров. Я вообще не люблю говорить о неприятном. Многие – любят. Можно подумать, что от разговоров легче!
Но я никому не хочу навязывать свое мнение, если кому нравится – пожалуйста, но меня увольте! Я говорю это так, без всякого умысла. Просто предупреждаю.
Мой почти двухметровый рост и пышная рыжая шевелюра привлекают внимание сидящих на скамейках. Аккуратность в одежде импонирует, поэтому у меня дважды попросили прикурить и дважды спросили, который час. Но я даже не помню тех, кто ко мне обращался. Они-то меня помнят, я уверен.
Я вдруг вспомнил один из знаменитых портретов Гойи, который видел на прошлой неделе в Пушкинском. Не мог Гойя нарисовать такие пошлые губы! Не мог, хоть убейте! Хотя чего расстраиваться? В этот раз не понравилось, понравится в следующий раз.
* * *
События, крупнее которых и быть не может. Глобальные, основные, незыблемые, объединяющие всех и делающие всех равными. Полное равенство установилось миллионы, а может быть, и миллиарды лет назад и не стоит цепляться к мелочам.
Я разбиваю яйца прямо на раскаленную сковородку. Через две-три минуты в белке, уже успевшем загустеть, образуются круглые отверстия, через которые видно, как кипит масло. В этот момент ты впервые чувствуешь, что глотаешь слюнки. Яичница – страшно аппетитное блюдо. Особенно, когда появляются эти масляные пузыри, а еще, когда она лежит на тарелке, разглядывает тебя своими желтыми глазами и испускает мутноватый пар, который, кажется, на протяжении всего завтрака, висит небольшой тучкой у потолка.
Человек, который читает неинтересные книги, безусловно, принадлежит к элите, но не к той, которая уже в почтенном возрасте упивается Толкиеном и Кэрроллом, а к совсем другой. Если у хозяина квартиры огромная пыльная и совершенно несуразная библиотека, это значит, что он с удовольствием с тобой поговорит и выложит все начистоту, хотя я понять не могу, почему вдруг об этом зашла речь.
Ужас охватывает ребенка, когда на остановке к нему подходит огромный, беззубый, едва держащийся на ногах пьяный и говорит, наклоняясь слишком низко: «Хочешь конфетку?» А потом добавляет: «Ты что, боишься дядю? Нехорошо!» – и делает вид, что твой нос – это дверной звонок и он в него звонит. Глаза со сгустками какого-то желе и умопомрачительное перегарное дыхание заставляют трепетать все крошечные органы невинной жертвы. В таких случаях не спасает даже огромная нога стоящего рядом родственника, за которую так хочется спрятаться. До чего же редко помогает стоящая рядом чужая нога!
* * *
Я ничего не хочу об этом знать! Понятно? Ничего! Я лучше буду разводить фиалки, убирать газон перед домом. Я буду каждый день выходить из дома без десяти восемь и приезжать к половине девятого на работу. В половине двенадцатого у меня будет второй завтрак – чай из выщербленной чашки и сделанный утром бутерброд с сыром.
Весной по дороге к остановке душа моя будет радоваться, поскольку на газоне появится нежно-зеленая поросль. Зимой, отогревая на окне троллейбуса маленькое круглое отверстие, я буду любоваться заснеженными деревьями. Осенью меня опьянит воздух, наполненный ароматами прелой травы.
Вчера у меня отвалилась подметка, и это причинило мне массу неудобств.
Позавчера у меня были гости. Они ели и пили, каждый старался показать себя. Как из рога изобилия сыпались разные истории и анекдоты. После их ухода осталось сизое облачко табачного дыма.
А вообще-то, если бы у меня был миллион, то есть один метр денег сторублевыми бумажками, я бы бросил работу, купил бы себе две виллы в райских уголках земного шара, обзавелся бы всем необходимым и стал бы гулять, читать или, на худой конец, творить. Но творить бы я стал, только если бы у меня был талант. Иначе не стал бы. Творить необязательно, даже если у тебя нет миллиона. Тем более, если он у тебя есть.
* * *
Мне даже не нужно проверять, даже глаза открывать не нужно, – я знаю, что за ночь все мое тело покрылось аллергической коркой: и руки, и ноги, и голова, и туловище. Что же могло возмутить спокойствие этой ровной розовой поверхности, что могло вызвать такой гнев и такое сопротивление? Прозрачный, едва распустившийся день? Сырая, подслеповатая ночь? Засыпанный мусором, пеплом, трескотней разговоров вечер? Вчерашний день, опустившийся на дно подобно ржавой, продырявленной лодке, весла которой до сих пор носятся по поверхности озера, бесхозные, никчемные, разбухшие от влаги.
Так что же вам не понравилось, ваше превосходительство раб мой, гавань для моих судов? Почему бунт на корабле? Почему допущены на борт пираты и корабль меняет курс?
Я с жадностью оголодавшего беженца копаюсь в контейнере, набитом пустыми банками, обертками, различными склянками и объедками, чтобы установить, в чем же заключался тот яд, который одним махом обратил грандиозное сооружение из стекла и бетона в погибающее от рефлексии, шелушащееся существо.
Нам известны одни лишь следствия, и только одному Богу известны причины.
Раб и хозяин, загнанные в одну скорлупу, могут разбить яйцо. И тогда не появится на свет очаровательный желтый цыпленок, из которого впоследствии мог бы получиться замечательный петушок или, на худой конец, курочка.
* * *
И одуванчик кивает своей пушистой головкой, и каждая травинка гнется пополам, и шмель покорно застывает над блаженно распахнувшимся цветком – каждый поддается завораживающим обещаниям, горячему шепоту ветерка-подростка, а ведь не останется на голове ни единой пушинки! Завянет зелень, шмель расстроится и улетит, разве так можно?!
Этот юнец сам не знает, чего хочет. Добьется своего и расхандрится, расплачется, станет кулачком глазик тереть. Назад, одуванчики! Руки прочь от одуванчиков!
Прямой пробор, волосы с сединой, аккуратный пучок с торчащими шпильками, мерно качаемый премиленькой головкой с премиленьким личиком. Эти восхищенные глаза подбадривают рыжую, тоже очкастенькую ученицу, пытающуюся одолеть спряжение французского неправильного глагола. Волшебное таинство, совершаемое этими двумя девами, старой и юной, производит магическое действие, и все остальные тоже начинают кивать и спрягать.
Ласковый теплый луч пробирается сквозь окно в класс. Он никому ни за что не проговорится о том, что он только что видел. Вырастешь и все узнаешь сам!
* * *
Они ищут не меня. Двое в фуражках вошли в заднюю дверь и, нагло копаясь в лицах пассажиров, начали медленно продвигаться вперед. Но они ищут не меня. Поэтому я вызывающе смотрю на обратившуюся ко мне сероглазую рожу и с нескрываемым удовольствием думаю, не отводя глаз в сторону: «Давай, вали отсюда!»
Самое пошлое, что можно придумать, – это подарить гладиолусы. Огромный букет, завернутый в прозрачную бумагу, с зеленой веточкой посредине. Протягиваешь букет и чувствуешь себя дебилом. «Это – вам». Главное – не подарок, главное – внимание. Знак внимания. Доказательство того, что знаешь, в какой ситуации как нужно поступать. Как приятно чувствовать, что ведешь себя безупречно.
Ты посмотри, как он ест! С какой жадностью терзает жесткий антрекот, с какой яростью накалывает на вилку картофелины, как смело откусывает, как быстро жует. Порыв, сосредоточенность, вспотевший лоб, ни одного взгляда на тебя. Только в кино иногда можно видеть, как герой медленно отрезает маленький кусочек, не спеша засовывает его в рот и долго жует, не сводя глаз с очаровательной собеседницы. Собеседница пьет маленькими глоточками и уходит из кафе, оставив наполовину недопитый стакан.
До чего бывает неприятно человеку, который просыпается ночью и понимает, что рядом с ним спит кто-то чужой, непривычный, со своим резким, неожиданным запахом. Этот расползающийся по всему телу холод еще больше усиливается от светлеющего, предрассветного неба.
Любовь моя! Все это ничего не значит. Время даровано нам, чтобы пережить бесконечное количество перемен, чтобы разнообразие успевало сменяться разнообразием и чтобы наконец-то, притомившись, можно было бы уснуть и перестать следить за развитием событий. Жаль только, что события часто засыпают вместе с нами.
Часть III
«Да это же была шутка! Я тебе чем хочешь поклянусь! Ей-богу!» Но все напрасно. Заспанное лицо, мутные глаза, все какое-то асимметричное, перекошенное. Забитый пылью и белесым мусором ковер, на котором лежит раскрытый, текстом вниз, толстый так называемый литературно-художественный журнал. Рядом – тапочки без задников из бледно-зеленого шелковистого материала.
«Твоя ложь унижает тебя! Как же можно было так пасть, точнее, так себя уронить». И я действительно выпускаю из рук большую металлическую сферу, которая, как выясняется, является моим неодушевленным воплощением. Я роняю ее, и она все падает и падает. Или, словно барон Мюнхгаузен, вытащивший себя за волосы из болота. Он поднимает себя над землей, над деревьями и домами, и вдруг рука его слабеет, и он роняет себя. Да, сравнение с Мюнхгаузеном во всех отношениях очень удачно.
За окном заревел мотор. Это наш сосед снизу, од пытается завести машину. Значит, сейчас двадцать минут девятого.
«Каждый раз ты говоришь, что это всего лишь шутка! Но твои шутки, по-моему, даже тебе не смешны, ты не находишь?»
Я наклоняюсь и нахожу выпавшую позавчера из моей записной книжки каталожную карточку, на которой моей рукой и моей ручкой нарисован большой синий кактус в синем глиняном горшке. Я бросаю бумажный комок в помойку.
Считаю до пяти, если ты не доешь кашу, знаешь, что будет? Раз, два, три, четыре…
Вот сейчас я закрою глаза, и, когда открою, ты уже все уберешь. Ну, я уже ничего не вижу…
Мне кажется, что носить черное уже не модно. Раньше это смотрелось, но теперь в черном ходит кто ни попадя. Это, как костюм и галстук, как джинсы и свитер, как Мальчик с пальчик и Крокодил Гена, как красные шнурки и одна серьга в ухе, как закопанный в землю, аккуратно завернутый в полиэтилен и старательно залитый воском клад, состоящий из трех новеньких пятачков, английской булавки и трех жевательных резинок с вкладышами.
* * *
Ну и что? Подумаешь! Ведь настанет такой момент, когда все неприятное кончится, и ты наконец-то сможешь расправить плечи. Я понимаю, конечно. Грустно, когда, не успев еще толком родиться, мучаешься то отрыжками, то болями в животе. Скучно или спать, или плакать. Ужасно, когда не можешь вымолвить ни слова, повернуться на бок. Видеть только потолок или большую мягкую грудь.
Черствая осень. Подслеповатое небо, ветер беспардонно сдирает с тебя одежду. Круглая фиолетовая печать, на которой поперек написано абсолютно ровными, не везде пропечатавшимися буквами «Картина мира». Ну и черт с ним! Я не вижу ничего плохого в том, чтобы мечтать, как все.
Вот ведь как получается. Складываешь сумку с вечера, а на следующий день не находишь в ней и половины нужных вещей.
Как бы не так. Я напишу ей письмо. Ведь приятно получать письма. Она прочтет его и подумает обо мне. Собственно, всем известно, о чем я там напишу.
Мы договорились созвониться, но никто никому не звонит. Проиграет тот, кто позвонит первым. Чтобы это понять, мне понадобилось значительно больше времени, чем остальным. Я сильно отстаю в развитии, и это замечают все.
На самом деле прошло всего несколько дней, но усталость растет с каждым часом, и голос, предлагающий: «Может, сдашься?» – звучит во мне все громче и громче. Я знаю, что потом буду жалеть.
В глаза бьет сильный, но нежный, канареечный, сливочный, пахнущий ванилином свет, все улыбаются, и я чувствую, как легкая рука опускается мне на плечо. Сначала я думаю оглянуться, но потом понимаю, что уже не успею, но мне приятно ощущение тепла на плече.
Свет ослепляет меня, и я глотаю в последний раз.
* * *
Моя медицинская карта где-то затерялась, поэтому я сижу, прислонившись к стене неопределенного цвета, и чего-то жду. Обо мне уже все забыли, но просто не хочется вставать, передвигать ногами, задавать вопросы, предварительно робко постучавшись в дверь и воровато втягивая голову в плечи.
– Извините, можно?
– А ваша фамилия как?
Руки, точнее ладони, взмывают вверх, затем замыкают концы воображаемого шара, один указательный палец показывает вниз, другой – вверх, ладони застывают в горизонтальном положении, как будто бы поддерживая тяжелый металлический поднос.
Карманы и воротник необходимы для того, чтобы вещь была любимой и ее можно было сносить до дыр. Я не говорю о карманах на спине, между лопатками, или о воротнике, который впивается своими краями в подбородок. Я говорю о настоящих, удобных карманах, в которые руки уходят почти по локоть и можно почесать себе ногу так, что этого никто не заметит. Это своего рода черепаший панцирь, такая куртка с карманами и воротником, и человек, который комфортно чувствует себя в своей одежде, почти так же неуязвим, как и эти Тортиллы, сумевшие продержаться, если вдуматься, намного дольше зубастых летающих чудовищ.
А вообще-то я совершенно не знаю, как поступать, когда чего-нибудь хочется. Разве можно предугадать, какая будет реакция на твои слова? Многие это делают безошибочно, но они не производят впечатление людей, довольных жизнью. Хотя нет, я вру, может, кто-нибудь и доволен.
Лепестки красного мяса, опадающие от движений острейшего лезвия, смятый бумажный пакетик из-под виноградного сока, пирожное, которое тает во рту, негритянка с невообразимо узкими бедрами, одетая в черные облегающие шорты, – все это наводит на мысль, что в твоей голове происходит что-то не то.
* * *
В городе сытых мужчин и гаденьких женщин, женщин жирных, с душком, мужчин мелких, испуганных, в городе, где среди грязно-зеленой стены висит на красном куске материи надпись, сложенная из пожелтевших картонных букв, в городе, где все облицовано серой выщербленной плиткой, и воздух, пропитанный спешкой, обдает тебя своей разжиженной суетой, и на масленых тарелках синие и коричневые надписи, мне приятно – и я не шучу – отвернуться к стене и ничего этого не видеть.
Ты приходишь ко мне, и время для тебя тянется медленно, а для меня ужасно быстро. Я нервничаю, когда ты поглядываешь на часы, потому что это значит, что вот-вот ты положишь на тумбочку апельсины, сушеный шиповник, который я завариваю в термосе, и безделушки для сестер.
Там, за границей, масса всяких красивых пакетиков с яркими разноцветными надписями. Приятно, когда кто-нибудь приходит к тебе с таким пакетом и потом оставляет его вместе с фруктами.
Я особенно люблю такие совсем маленькие пакеты, в которых можно держать расческу или носовые платки.
Когда человек с кокетством рассказывает о себе, думаешь – дурак, наверное. И быстро отвлекаешься, уходишь в свои мысли и только киваешь головой в такт и однообразно мычишь в ответ.
То ли меня расстроил кто-то, то ли оскорбил – не знаю, только поднимается внутри желтоватая, как на кружке пива, пена, которую, прости Господи, очень хочется сдуть кому-нибудь прямо в физиономию и посмотреть, что будет.
А кстати, что будет, если громко крикнуть в ухо кому-нибудь «Дурак!», а потом из укромного местечка наблюдать, как лицо его нальется краской, кулаки свинцом, и он от души передаст эстафету следующему. А ничего не будет. Что было, то и будет. Каждый, бегая по квадрату, обязательно отгружает кому-нибудь пакетик или сверточек дурной энергии, хотя я лично так не считаю. Я думаю, что совсем не обязательно как-то там злобствовать, выкручивать руки, бить под-дых или нос разбивать. Достаточно просто прокричать в ухо «Дурак!», а потом мирно посмотреть, что будет дальше.
* * *
Жены великих поэтов живут обычно намного дольше своих мужей, лет так до восьмидесяти – девяноста, принимая на плечи непосильное бремя их посмертной славы. Проходит сколько-нибудь времени, и им кажется, я имею в виду жен, что они являются воплощением своих безвременно ушедших, хрупких, ранимых, болезненных, капризных, но непременно великих духом спутников. И ничто, ни бирюза на пальцах, ни накрашенные розовой помадой губы, не расстраивают их игры. Я – это все, что осталось у вас после него. Я и его творения.
Шлепая босиком по полу, добираешься до ванной, щуришься от внезапно ударившего в глаза потока света и медленно, практически подсознательно выдавливаешь на зубную щетку аккуратную голубую трубочку или, точнее, колбаску зубной пасты. Мята шибает в нёбо, и ты впервые видишь свое отражение в зеркале. Чистишь зубы так, как будто бы их точишь, чтобы затем кинуться в гущу событий, в это хитросплетение разноцветных переходов и проводов. Нужно уметь обращаться со временем, выжидать и спешить, раскладывать бесконечные пасьянсы из дней, часов и минут, чтобы появиться в тот момент, когда яблоко поспеет и само запросится к тебе в рот.
Я хочу попросить тебя об одной вещи. Если сможешь, конечно. Приходи дня через два, а там видно будет.
В кино, когда герою приходит в голову какая-нибудь мысль, за кадром обычно начинает играть музыка, и по этой музыке понимаешь тревога это или подозрение, чувство любви или ощущение счастья. Когда в герое пробуждается чувство, обычно звучит скрипичный концерт, когда подозрение – солирует контрабас или еще, теперь уже довольно часто, вместо музыки, чтобы вызвать в зрителе напряжение, слышится биение сердца и звуки вдоха и выдоха, и действительно боишься: а вдруг эти громкие глухие удары прекратятся?
Если вдуматься, то все внутри нас устроено удивительно просто. Изящные искусства преподали нам науку расцвечивания переживаний, и мы теперь умеем примешивать к мыслям краски и запахи, но, по сути дела, если убрать косметику, то обнажится простой безмен с крючком, на который подвешиваешь разные грузы, и стрелочка скользит вверх и вниз по шкале с делениями.
– Окстись, матушка, мне и в голову не приходило за тобой ухаживать. Да ведь мы знакомы сто лет…
Не верит, думает кокетничаю. Да не кокетничаю я, нет здесь никакой беллетристики, все как в отчете, полном приписок и орфографических ошибок, там сказано все ясно, в том числе и про нас с тобой.
* * *
Страсти накаляются. Чешуйчатые, узкоголовые, длиннохвостые. Они расползутся в разные стороны, и скоро от их копошащейся кучи не останется совсем ничего.
Ты же знаешь, чтобы был толк, не нужно меня так кормить. К чему все эти бесконечные разносолы, эти соления, сладости, пряности, жир, масло, соус. Нужно делать совсем не так. Подай в красивых чашках по глотку кофе, поставь посреди накрытого чистой скатертью стола тарелку с несладким печеньем – и все будет так, как ты захочешь.
Когда что-нибудь разучиваешь или просто начинаешь развивать какую-нибудь тему, достаточно взять хоть одну неправильную ноту, чтобы потом пришлось все начинать сначала. До чего же это бывает мучительно для окружающих. Даже самого терпеливого человека могут вывести из себя каждодневные музицирования юного дарования, живущего этажом ниже или этажом выше.
Взрослые обычно умеют исправиться незаметно, изменить слово или даже тональность, полушутя, как бы играя на разнице смыслов. А если им приходится начинать сначала, то они стараются незаметно изменить или развить тему. Если перед тобой умелый собеседник, то можно не бояться, что он сфальшивит, поскольку сумеет выйти из положения достойно, а главное, незаметно.
* * *
Деньги пока что никого из нас не испортили. Все волнуются, предостерегают: «Смотри, испортишься!» – но мы как-то очень следим за собой, анализируем, не закралась ли порча в тайники души, в укромные закутки извилин, и нет, нигде ее не сыщешь, не закралась, везде искали. Главное – неустанно следить за собой, отругать себя как следует, если намек на нее назреет, и тогда можно, ничем не рискуя, дальше богатеть и богатеть.
Все-таки, что ни говори, а это серьезная проблема.
Как пройти, протиснуться и не поцарапаться, не облупиться?! Остаться таким же новеньким, лакированным, с большими ресницами и торчащим из кармашка треугольничком носового платка? От этого вопроса делается как-то страшно…
Ведь могут помять или уронить, могут слово неприличное ручкой написать, дрянью какой-нибудь испачкать. Я говорю это, и слезы текут по моим щекам. Сделают с тобой гнусность, и будешь ты так стоять на полочке рядом с парадным чайным сервизом и дорогими шоколадными конфетами в хрустальной вазочке.
* * *
Ты просто неправильно понимаешь. Я вовсе не хочу произвести впечатление или обратить на себя внимание. Черт с ним, с днем рождения, я не придаю значения каким-то датам, я отношусь к себе без особых сантиментов. Ведь в день рождения многие страдают от того, что окружающие заняты своими делами и отнюдь не готовы оказывать бесконечные знаки внимания.
Мне ужасно нравится песня с их последней пластинки. Такой какой-то особенный голос солистки, она настоящая звезда, и афиши с ее изображением украшают сейчас комнаты служащих в административных учреждениях. Так вот, у нее такой усталый голос, чуть хрипловатый, но в то же время сильный, особенно когда она дважды повторяет последнюю строку припева.
Я обожаю такие усталые голоса, которыми обычно поют ослепительные девицы или холеные юноши с великолепной белозубой улыбкой.
Бриллианты всегда бриллианты. Красиво все-таки, когда красное вино в хрустальном стакане стоит на белой скатерти. И, отойдя в сторонку, ты выплевываешь обиду, как океан выплевывает на берег дохлую рыбу, разбухшую, долго до этого плававшую кверху брюхом, чтобы ни у кого не возникло желания отвернуться.
Это труднопроизносимое слово накрепко засело в моей голове, и я все время повторяю его про себя. Не то чтобы это меня раздражало, просто как-то странно: талдычишь одно и то же неизвестно кому. Ведь себе я при этом ничего не говорю. Не веду с собой бесед, и, мне кажется, что у меня вообще нет внутреннего голоса.
Засело, застряло, зацепилось за какую-то извилину неуклюжее, прямоугольное слово и никак не хочет идти прочь. Ну и черт с тобой, сиди, если хочешь.
Уже половина одиннадцатого, но вставать неохота. Я лежу в постели, повернув голову, и в тысячный, в миллионный раз рассматриваю узор на обоях. Я рассматриваю его каждый раз, когда лежу, потому что моя кровать стоит у стены. Не то чтобы рассматриваю, а просто иногда замечаю, что обвожу пальцем контуры этой загадочной золотой лилии, уже наполовину стертой и мало выделяющейся на темно-бордовом фоне обоев.
Калька, копирка, бумага, линейка, ластики, розовый и белый, стаканчик с карандашами и ручками – вся эта божественная канцелярия гнездится на светлом полированном письменном столе, к верхнему ящику которого прилеплена использованная жевательная резинка.
Разве что еще разочек попробовать. А вдруг повезет. А то хвалится каждый раз, что выиграет, и обязательно выигрывает. Но ведь когда-нибудь должна же быть осечка. Эти хамы все время ходят тебе по ногам, и ничего им не возразишь. Только если вдруг случайно повезет, и твой обидчик наступит на собственный шнурок и ридикюльно шлепнется в лужу. Шлепнется в лужу и проваляется там до тех пор, пока лично ты великодушно не поможешь ему подняться.
* * *
Разве дело в том, чтобы ужасное сделать еще более ужасным, а прекрасное еще более прекрасным? Неужели так необходимо загнать гвозди в дерево по самую шляпку, исписать фломастеры, сломать карандаши? Для чего так стараться, выдавливать себя, как зубную пасту из тюбика, а затем с ожесточением тереть щеткой зубы?
Вот уж до чего разношерстная здесь публика! И никуда от нее не денешься! Стой, кури в темном углу под лестницей, туши бычки о подметку и не забудь, что белую рубашку можно носить только один день. И благородный гнев, и незапятнанная совесть, и абсолютно безупречная репутация, и усы, холеные, ароматные, послушные – спору нет, к нам пришел именно тот, кого мы ждали. Ни тебе разбитых коленок, ни расчесанных комариных укусов, ни сломанного ногтя на указательном пальце. Поэтому не падает, не снисходит до младших братьев наших, не роет ям и не лезет через заборы. Вот так.
Раз уж зашла речь о всяком таком, нужно, без сомнения, уточнить, что каждый, даже когда спит или в обмороке, совершает выбор, продиктованный ему совестью, а если так, значит, может и должен отвечать за свои поступки.
* * *
Запах потных рук, одиноких мальчишеских вечеров, забытый вид плодоносящих деревьев и примятой травы у дома, желтые серединки тюльпанов, залитые росою пестики, сосновая иголка, случайно попавшая под футболку, – я не могу произнести это слово, боясь взять слишком высокую ноту, не потому, что сфальшивлю, а просто потому, что не люблю петь высоко и изображать на лице то, что мне не свойственно.
День за днем смотришь на одно и то же, говоришь одни и те же слова одним и тем же людям, и это так же естественно, как вдох и выдох, ты расстраиваешься не потому. Просто тебе кажется, что в самом течении жизни появляется какая-то шероховатость, заусеница, которая за все цепляется и обращает твое внимание на то, что обычно проходит незаметно.
А теперь о многозначительности. Я не выношу многозначительности, глубокомысленных намеков, знаков, что «мол, об этом не будем, у меня в прошлом слишком многое». Я понимаю, что хочется, что так и подмывает. Само собой вздыхается и лезет изо рта лапша, которую послушно наматывают мои уши. Все это зря. Посмотри на себя со стороны, и тебе станет неловко.
* * *
Когда пластинка или кассета начинает плыть, такая тоска охватывает душу, такая безнадега и беспросветность, что впору уронить голову с плеч и горько плакать. Значит, сели батарейки или мотор барахлит. И когда вдумаешься, что прекрасная, стройная музыка, со сбалансированными низами и абсолютно чистыми верхними частотами, превратилась в эту какофонию, в этот мешок с железками, в эту свалку барахла, из которого торчат пружины и куски вылезшей, как из матраса, ваты, понимаешь, что дело дрянь, и хочется думать о жизни. Плывет пластинка, проходит жизнь.
Да тебя первый же Иисус Христос за руку схватит. Как, увидел друга, у которого несчастье, и не бросился ему на помощь? Ты посмел даже страшно сказать что?!
А может, ты и последнюю рубашку не готов отдать? Ты сам подумай, как это называется!
Все-таки удивительные бывают дни! Ноги утопают в лужах, а волосы качаются и шумят, как гигантская крона, цепляются за облака, и всякий спотыкается о тебя и шумит, угрожает, сам не понимает почему. Дело просто в том, что сегодня именно ты встал у него на дороге и никак тебя не объехать, не обойти.
* * *
Душа в экстазе, как бабочка над цветком.
Ноги пляшут сами собой, и руки пожимают друг друга без остановки. Троллейбус, как улитка, поигрывает рожками, а внутри весело подпрыгивают очкастые в ушанках пассажиры, сладостно прижимая портфели к груди. Мальчишки дерутся в снегу радостно, задорно, и звонко разносятся по округе их голоса. Мимо идет самый что ни на есть обаятельный милиционер, яркий такой, стройный, с красными от мороза щеками и веселыми голубыми глазками. Очаровательные серые восьмиэтажки глядят на тебя своими пятьюстами окошечками, в каждом из которых сияет обращенная к тебе улыбка. Мостовые стелются под ногами, как последние подхалимы, и на каждом углу из киоска выпрыгивает на тебя бесплатное обворожительное шоколадное эскимо. Что к этому добавишь?
Душа в экстазе, как бабочка над цветком.
* * *
Ты видишь, как на фоне испещренных мелкими коричневыми ветвями голубых небесных полей падает снег, медленно опускает свои кисейные покрывала, обнажая в памяти прямоугольные небоскребы четверостиший, написанных на эту тему. Вспоминаются только первые строки, ритм, отдельные слова, а все остальное – зияющие пустотой жесткие глазницы выбитых окон на теле этих огромных стальных рыб, плавающих среди несерьезной облачной зыби и старающихся, вероятно, всплыть на поверхность.
Ласковее, лукавее, легче. Нужно, чтобы от твоих слов не оставалось тяжести и хотелось бы улыбнуться, бесконечно проматывая в памяти наш последний телефонный разговор. Нечего накладывать мне за пазуху кирпичи, нечего обматывать меня колючей проволокой, я и так давно напоминаю не совсем удавшееся изваяние жертвам очередной сокрушительной кампании. Если хочешь чего-нибудь добиться, надень перчатки и иди на мягких лапах.
Взрыв, шок, позор. Чернильница с красными чернилами, запущенная в глухую железобетонную панель. Тухлое яйцо, брошенное в прохожего. Дым, гарь, топот, суета, каждый старается успеть и торопится, прижимая к груди громоздкую ношу. Кто-то дает сигнал, и начинается снег, который медленно опускает свои кисейные покрывала на топкие болота, разбитые мостовые, исхоженные тротуары.
Ночью будет мороз, а завтра – гололед на горе старикам, на радость мальчишкам, и девочка в красной вязаной шапке и коричневой школьной форме опять вряд ли решится подобрать юбку и съехать на портфеле вниз по накатанной, обледенелой горке перед домом.
* * *
Как нож в сало. Как падающий с третьего этажа горшок с цветком, который подобно бомбе разрывается, ударившись о жесткий сиреневый тротуар. Ее голос, хрупкий, ломкий, тонкий, прозрачный, вобравший в себя и хрусталь, и фарфор, и манящее позвякиванье не слишком увесистой связки ключей, ее голос, подобный фейерверку из красных, синих, желтых, зеленых, голубых капель, на мгновенье повисших в пропитанном солнцем воздухе, ее голос наполняет мою хорошо приспособленную для этого голову удивительным переливом звуков, и я готовлю сладкий стол, так как она должна прийти примерно через три четверти часа.
Я режу торт, стараясь сделать так, чтобы на каждом кусочке была целенькая розочка с зеленым листочком, аккуратно ломаю на квадраты шоколад, и меня несколько смущает, что на них остаются следы от моих, вероятно слишком теплых, пальцев, протираю полотенцем бутылки с напитками, мелю кофе и радуюсь, что вся квартира наполняется прекрасным, в высшей степени располагающим к приятной беседе ароматом, ставлю на стол подставку для кофейника.
Разница огромна. Меняется время года, меняется протяженность всасываемых организмом струек воздуха – от мелкой вермишели летом до итальянских спагетти зимой, изменилось все, абсолютно, неузнаваемо, и некоторые чувствительные натуры, наподобие бабочек, которые живут только один сезон, говорят: «Это неповторимо, этого не будет больше уже никогда!» Чтобы привлечь одну из них, я и готовлю этот сладкий стол. Она прилетит на раскинувшийся у меня на столе благоухающий цветник и вскружит мне голову, бесконечным мельканием своих нарядных крылышек. Я достаю из шкафа одежду и облачаюсь в костюм жука, или кузнечика, или еще кого-нибудь неприметного, неброского, чтобы еще больше подчеркнуть контраст, в котором, признаться, я нахожу столько удовольствия.
Повар в немного старомодном большом белом колпаке, с такой белой лепешечкой на конце, рубит небольшим топориком уткам головы и лапы и потом, медленно поворачивая тушки над высоким пламенем, опаляет оставшийся пушок. Его большие руки держат бережно, а круглые глаза на круглом, покрытом щетиной лице не отрываясь смотрят на то, что делают руки. И если бы не запах, от которого многих мутит, дядюшку вполне можно было бы принять за Санта-Клауса, который вот сейчас закончит дела и примется раздавать детишкам подарки. Наш повар – первосортный добряк. Он чистит морковки, режет лук, давит лимоны, взбивает сливки, потом принимается за яблоки – все от паштетов до кренделей проходит через его руки. Он упрекает выкипающие кастрюли, ругает упавшую под стол миску с очистками. Этот наш папа Карло, который из любого бревна сделает Буратино.
Я жду своей очереди. Каждый ждет по-своему, кто – суетится и все время уточняет, за кем он, а кто вроде и вовсе безразличен, так сидит, что-нибудь почитывает. Никуда не денешься, дойдет очередь и до тебя. Слушай, если ты не перестанешь изводить присутствующих своими вопросами, испытывать терпение бесконечным хныканьем, если ты не перестанешь греметь, скрипеть, хрустеть полиэтиленом, клянусь, прогоним, выставим вон, лишим места и прекрасно, слышишь, прекрасно обойдемся и без тебя.
В юности, когда все желания острые, бурные, непреодолимые, когда агрессивность и нежность равны друг другу по силе, когда тоска разъедает сердце, когда на вопрос хочется ответить вопросом и всякий ответ опротестовать, до чего же слепы глаза и глухи уши! Я каждый раз засматриваюсь, я глаз отвести не могу от этих красавцев, передвигающихся на ощупь, отвечающих невпопад, время от времени поднимающих на тебя глаза, в которых светится мука.
– Раз, и все! Был и нет. Это будет длиться одну секунду. Нерв уже убит, значит, и болеть нечему.
– Да мне уже делали, – отвечаю я, а в голове в это
время плавают красные рыбки, так, что их видно одновременно и сбоку и сверху, и все вокруг утопает в зелени. Рядом, взявшись за руки, танцуют красные бесполые существа, на которых стыдливо поглядывает полноватая обнаженная дама.
Просто невозможно заставить себя не смотреть, не разглядывать. Свежая белая рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами, аккуратно завернутые рукава. Чистые руки, ровные ногти. Нежная сильная шея. Чуть коротковатые джинсы, кокетничающие белые носки, кроссовки с безупречными бантиками шнурков. Розовые с пушком щеки, белесые брови, черный обворожительнейший взгляд.
– Ни в ком нет любви, одно самолюбие.
– Больное самолюбие.
Говорить собственно нечего: слушать скучно, говорить незачем. Слушать всегда скучно, а говорить всегда незачем. Но это необходимая приманка, червячок на крючке, мучающийся, извивающийся, скрывающий своей лишенной нервов плотью коварное металлическое жало, и охота на этих красноперок с желтыми круглыми глазами особенно интересна тем, кто, поддаваясь азарту охотника, не забывает умильнуться пейзажем, обрамляющим дышащее молодостью лицо.
* * *
Когда нет аппетита, жизнь теряет всякий смысл. Дома вдоль улиц и проспектов напоминают корки черного черствого хлеба. Улицы улыбаются кривыми улыбками, и регулировщики кажутся нарядными шоколадными зайчиками, завернутыми в разноцветную фольгу, которых съесть бы, слизнуть одним махом – а не хочется! По этой полосатой скатерти то и дело шныряют блестящие, такие же абсолютно ненастоящие автомобили, и пар от гигантского бассейна густой белесой стеной поднимается в небо.
Троллейбус, похожий на пятидесятипятикопеечную шоколадку, с шумом распахивает перед твоим носом двери, и нет ничего проще, чем прокомпостировать заранее приготовленный талон.
А кстати, почему бы не рискнуть, почему бы не использовать тот самый что ни на есть назойливый, привязчивый шанс, который по статистике один на миллион. И совсем не обязательно искать счастье на проторенных путях. А может, наоборот, стукнуть себя обухом по темечку и, поплевывая сверху вниз, витать среди взбитых сливок, которыми в театрах обычно забеливают синие с желтоватыми звездами небеса.
Сделай доброе дело и забудь о нем. Я имею в виду просто что-нибудь хорошее. Я абсолютно отчетливо представляю себе, как ты приходишь домой и начинаешь рассказывать восторженным слушателям о содеянных тобою добрых делах, а потом, наговорившись всласть, спишь здоровым сном до тех пор, пока вечно бодрый будильник не разбудит тебя.
* * *
От каждого человека остается потом в помещении его запах. Вот входишь в комнату, в которой долго кто-нибудь сидел, и сразу же чувствуешь, сразу же ударяет в нос либо терпкий, либо кислый, либо гнилостный запах. Все-таки это очень важно, как от человека пахнет. Иногда поздороваешься с кем-нибудь за руку, поцелуешь кого-нибудь на прощание, какую-нибудь ухоженную красотку например, и потом долго еще ласкает тебя составленный из прекрасно сочетающихся друг с другом запахов аромат. Или в лифте иногда пахнет духами.
Я просто стараюсь думать о приятном. Фиксирую что доставило удовольствие, и потом повторяю это до бесконечности, заставляю тысячу раз протекать перед глазами золотой осенний воздух, скатывающийся по ветвям немыслимых кленовых аллей, и всякое такое. «Мир ласкает тебя, – говорю я себе, – и только безумный, грубый, злой человек пройдет мимо наслаждения, которое доставляют эти ласки». Что ж… Я лично не против.
Плюхаешься в метро на еще теплое от предыдущего пассажира сиденье, подробно рассматриваешь окружающих, но так, неглубоко, автоматически, а на самом деле впиваешься мозгами абсолютно незаметно в какую-нибудь пакость, в какую-нибудь чепуху, в дрянь какую-нибудь, и отдаешь себе в этом отчет, когда уже мороз проходит по коже.
– Это все бред из исчерченного подростками учебника по психиатрии, – говорят мне мои друзья. Я не говорю им этого, но нет сомнения – все они ужасные пижоны.
За этим углом будет булочная, за булочной – овощной, а потом телефонный автомат. Оттуда-то я и позвоню. Кстати, часто бывает, что кто-нибудь забывает в автомате монетку. Тогда можно позвонить за чужой счет. И я покорно иду по следу.
* * *
Вот ты смотришь, и тебе нравится. А потом, эта восхитительная кожа на боках, бедрах, эта крошечная ножка, туфельки, стоящие у кровати. Эти розовые тени, эти бьющиеся жилки, прожилки, пульсирующие запястья! Мягкий бархатный живот, а, главное, запах! Понимаешь, от нее пахнет как-то по-особенному. Я ловлю этот запах то в волосах, то у запрокинутой головы, то вдоль позвоночника. Ты понимаешь, она классная, классная, классная!
Ты понимаешь, это совсем другие ощущения, запахи, вкус. Это не то же самое, что божественный юноша с молочной кожей и хорошо очерченными мускулами, безупречными ягодицами и сильными икрами. Я ничего не хочу сказать, я знаю все твои возражения. Я даже соглашаюсь с ними. В этой напряженной спине и сильной шее не меньше прелести, не меньше красоты, хорошо, пусть даже и больше. Пусть. Мне все равно, что ты скажешь, я дрожу как осиновый лист. Мы с тобой каждый раз вместе поднимаемся по лестнице и вместе спускаемся вниз, и твои пустые глаза для меня, это… я не знаю, как сказать, в этом есть какая-то мелкая морока, какая-то зудящая ерунда, которая, подобно первой царапине на новом ботинке, способна отравить самый что ни на есть восхитительный летний вечер.
Когда человек курит, то, хочет он этого или нет, невольно рисуется. Определенным образом держит сигарету, затягивается, выпускает дым либо тоненькой струйкой, либо бесформенным облаком, гримасничает, облизывает или покусывает губы, аккуратно или небрежно стряхивает пепел, тушит сигарету, раздавливая ее злобно, почти с ненавистью, решительно, или осторожно обезглавливает ее, а потом тупорылым окурком затаптывает уголек.
Ты думаешь, размышляешь, закрыв глаза и заткнув уши, и проблема предстает перед тобой бесцветной и немой, такой же высохшей и прозрачной, как висящий на кухне полиэтиленовый пакет из-под кислой капусты. Ты или вбиваешь гвоздь, или видишь, как в доме напротив постепенно, медленно из окна в окно перекочевывает ослепительный солнечный двойник, превращающийся под конец в пожарное зарево, охватывающее одну из квартир.
Забота не прощает рассеянности, рассеянность не мирится с заботой. Я думаю сейчас только об этом. И моя бедная голова томится и мечется, ведь ей никогда не найти отсеченной и укатившейся за горизонт своей второй половины, которой тоже не сладко где-то там, далеко, может быть, на другом конце света. Слова похожи друг на друга, и, разъезжая с бешеной скоростью по заколдованному кругу мысли, я мечтаю только о том, чтобы сумка не протекла и моя одежда не испачкалась бы отвратительным соком, который испускают размораживающиеся продукты.
* * *
Ничего не поделаешь – надо резать. И чем скорее, тем лучше. Не стоит оттягивать. Лучше перестраховаться – сами понимаете.
Спокоен, равнодушен, прав. Говоришь «спасибо» и не спеша уходишь.
А ведь слабо не заискивать, так?
Свет от фонарей рассыпается по мокрым тротуарам, и над канализационными люками висит пахнущий общепитом колеблющийся треугольник пара. Около киоска с мороженым кормятся голуби, которые до этого уже успели наесться остатками беляшей за углом. Нужно по дороге зайти в булочную. И как-то страшно опоздать домой.
Эти джинсы малы. Я не могу, когда давит. А потом, просто коротко!
Поскольку начался всемирный потоп мыслей, которые с жадностью перелетают из одной головы в другую и варятся там, пока на дне не останется одна лишь гуща, я отказываюсь покорно поднимать крышку и подставлять кастрюлю. Я понимаю, что можно добавить ложку сметаны и есть с черным хлебом, но нужно ли так спешить насытиться, набить себя до отказа?
Полноте! Ведь от этой суеты и толкотни все разъедутся, нарисовав на боку шашечки и маняще подмигивая зеленым глазком в правом верхнем углу.
Бредовые мысли сбиваются в стаи, которые в своем полете напоминают королевскую лилию на темно-голубом бархатистом фоне. Спокойствие, только спокойствие. Думай не спеша, жуй восемьдесят раз, и тебе улыбнется победа. Эта чудная девушка с соломенными волосами, карими глазами, немыслимой улыбкой и самыми красивыми ногтями на свете. Ты будешь наслаждаться ею, пока она не уйдет к другому, столь же достойному ее, как и ты. Не плачь, рыцарь. Вытри слезы своей железной перчаткой, поковыряй мечом в зубах и, отвесив на прощание пару ласковых, удались достойно, не ударив лицом в грязь.
А главное – молчи, понял?
* * *
На майке нарисована семерка и латинскими буквами написано «Опель». Именно к ней приковано внимание стадиона, именно от нее ждут открытия счета. Скорость, мяч с черными шестиугольниками, кровь на траве.
Разноцветные буквы Артюра Рембо украшают бортики. А – черное, Е – белое, И – красное, из них складываются слова, обозначающие то, на что необходимо срочно истратить деньги.
Сегодня – низкое давление. Для пожилых людей тяжелый день. Они с трудом поднимаются по лестнице, охают, держатся за поясницу или за сердце, сосут валидол. Теперь о тяжелых днях говорят все газеты.
Я люблю резать ножницами, обрезать краешек, медленно следовать за прочерченной карандашом линией.
Мы тогда шли по мосту, переходили темную реку, и наши шаги, как в фильме, звучали преувеличенно громко Мы шептались, но нам казалось, что все слышат наши слова, и ты то и дело оглядывалась. Было поздно, за полночь, и луна, редко пробиваясь сквозь стада облаков, делала небо похожим на шкуру зебры. Потом мы пошли по улице, которая вела прямо к дому. Там, на одном из домов, еще старой застройки, судя по всему, была вывеска «Ателье», слово – легкое, как бабочка, нежное, как твоя щека, легкомысленное, летнее, как твое ситцевое платье.
Продавец цветов с лицом убийцы изящно выдергивает из корзинки гвоздику и, кокетливо оттопырив мизинчик, расправляет складки на ее красной шапочке. В XXI веке, когда собаки станут говорящими, а кошки будут петь в опере, каждый день будет начинаться с улыбки.
Я люблю читать, потому что авторы книг говорят шепотом.
Ты хочешь сказать, что я напоминаю тебе картежника со срезанными подушечками пальцев, которым достаточно лишь беглого касания, чтобы определить масть карты? Мне есть что ответить тебе. И я не скрою от тебя своей ярости: ползать по шахматному полю метафор с торчащими во все стороны оголенными проводами нервов, ты считаешь, что это лучше?
Среди больших декольте, великолепных украшений, тихих голосов, умных, богатых и хорошо воспитанных мужчин, разговаривающих крайне мало, внезапно хлынувший на щеки румянец может означать два туза в прикупе, причем как при девятирной, так и при мизере. Внезапный румянец – признак новичка.
Знаешь, если тебе удастся оставить дома пачку готовых истин, если ты обещаешь мне не мерить все своей жестяной линейкой и брезгливо не отворачиваться при виде непривычного тебе существа, как йог, пожирающего искрящийся от страсти воздух, если ты обещаешь мне не проронить ни слова, то я один-единственный раз возьму тебя с собой, и второго раза, клянусь, не будет.
Спешишь все?! Ну, беги!
Не запыхаться бы, не поскользнуться! А то вот бежишь так, и на ходу выскальзывает из кармана любимая перчатка, и потом долго еще не решаешься выбросить оставшуюся.
Имя – кость, крючок, отмычка, деньги, страх, толпа, знамя. Паутина, украшающая каждый угол бумажного листа, который долго искал адресата.
Вот, к примеру, тебе чего-нибудь очень хочется, а я возьму да и не дам тебе этого сделать. Ведь ничего же не стоит доказать, что именно этого делать не надо. Ты подчинишься, только в конце концов в душе твоей родится злоба, а не смирение.
Смотришь иногда кино, и вдруг с экрана начинает такая тоска струиться, такое огорчение, что чувствуешь, не можешь больше смотреть. Или на кухне заревет холодильник, скрипнет от ветра форточка, радио заиграет, и поднимается в душе буря, и носит тебя, как комочек бумаги, по гигантским просторам воспоминаний. Как будто включили проектор, раздвинули занавес, и ты смотришь один на огромный экран, а вокруг темнота и нигде нет светящейся таблички «Выход».
Краснеет рябина, падает белый снег, и, рассекая черные мысли, летит красный радостный снегирек. Красный летит, а не синий.
* * *
Лень сладкая, тягучая, золотая, как мед, как уста, как каучуковая подметка. Лень ласковая и тихая, лень властная и непобедимая, своенравная, чудесная выдумщица, фантазерка-философ с квадратной лысиной, прозрачная, неуловимая, дремлющая где-то у сердца, растворенная во всех мыслях, вкрадчивая, намекающая. Намек понят. Хватит перечислять. А хочется!
Красивая, как цветок, румяная, как пышка, клюющая носом, как петушок золотой гребешок, лень – я пою тебя и провозглашаю хозяйкой моего сердца. Приди ко мне и соединим наконец наши судьбы!
Кнопки и клавиши, скрип и скрежет, это движется мысль, это ползет монотонное время, на котором, как на некрытой платформе, разместились голуби и угрюмые сторожа, и разноцветная улитка тихо передвигается по запотевшей стенке стакана.
Я хочу пожелать тебе проспать под пуховой периной всю эту сутолоку и суету, все разговоры и приготовления, звяканье посуды, шкворчание и урчание, закипание и охлаждение. Выйди к гостям, когда праздник уже будет готов, и если кто-нибудь будет тебе советовать иное – не слушай его!
* * *
Мыслить парадоксами – удел великих. Они смотрят с высоты птичьего полета на наши простенькие решения, на клеточки распаханных полей, на синеватый лоскут леса, видят, как, похожие на букашек, ползут по шоссе автомобили – легковушки и грузовики, а вместе с ними и наши мысли, с прицепами или без, груженные щебнем и сахарным песком, «фольксвагены» и «мерседесы». Но они, великие люди, пролетая над нашими заваленными хламом проторенными путями, только громко хмыкают среди зеркальных облаков, и мы, решив, что началась в мире гроза, покорно принимаем на голову молнии парадоксов,





