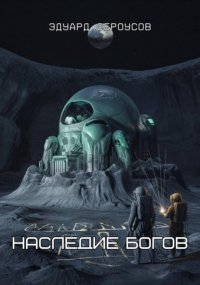Читать онлайн Садовники бездны бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Сероусов
Часть I: Семена
Глава 1: Двадцать лет молчания
Обсерватория Края. 03:17 по корабельному времени.
Смотровой зал был пуст – как почти всегда в это время суток. Майя Орлова сидела в единственном освещённом кресле перед терминалом, и синеватый свет экрана очерчивал резкие линии её лица: впалые щёки, глубокие морщины у глаз, седые волосы, стриженные коротко и неровно – она стригла их сама, не доверяя станционному парикмахеру.
За её спиной, во всю стену – прозрачный купол. И за ним – бездна.
Аккреционный диск Лебедя X-1 медленно вращался, словно гигантская воронка, засасывающая свет. Раскалённый газ – сорванный с ближайшей звезды-компаньона, перемолотый приливными силами – светился золотом и пурпуром на периферии, раскаляясь до бело-голубого ближе к центру. А в самом центре – ничего. Не тьма – тьма была бы хоть чем-то. Отсутствие. Дыра в ткани реальности, где заканчивались пространство, время и любые человеческие метафоры.
Майя давно перестала смотреть на неё с трепетом. Двадцать два года на этой станции превратили космический ужас в рабочий фон. Как шум вентиляции. Как металлический стон обшивки, когда гравитационные приливы от чёрной дыры заставляли станцию чуть вздрагивать – раз в несколько часов, предсказуемо, почти успокаивающе.
Почти.
Она потянулась к чашке – пустой, уже несколько часов как – и машинально поднесла к губам. Кофе закончился. Идти в кают-компанию за новым не хотелось. Там наверняка кто-то есть: ночная смена, бессонники, те, кому тесно в каютах. Люди, которые захотят поговорить.
На станции двести человек. Все знают всех. Все устали друг от друга.
Майя опустила чашку и вернулась к экрану.
Рутинный анализ данных – спектрография квазара 3C 273, который она изучала уже третий месяц. Ничего срочного, ничего важного. Работа, которую можно было бы отложить. Но в три часа ночи, когда остальные спали или притворялись, что спят, работа была единственным оправданием бодрствования.
Курсор мигал на строке кода. Майя смотрела на него и не видела.
Её мысли были в другом месте. Как всегда в это время суток. Как каждую ночь последние двадцать лет.
Файл «Орион».
Она не открывала его уже три недели. Рекорд за последние годы. Раньше – не могла продержаться и пяти дней. Что-то тянуло: проверить, убедиться, что данные никуда не делись. Что зашифрованная папка на месте, в глубинах её личной директории, под четырьмя слоями защиты и паролем, который знала только она.
Данные никуда не девались. За двадцать лет – ни разу. Они лежали там, терпеливые и неизменные, как приговор, который уже вынесен, но ещё не зачитан.
Семенной коэффициент Солнца – 0.91.
Она знала эту цифру наизусть. Знала каждый десятичный знак, каждую погрешность измерения, каждую альтернативную интерпретацию, которую пыталась найти. За двадцать лет она проверила всё. Пересчитала. Пересчитала ещё раз. Написала двенадцать черновиков статьи и удалила каждый.
Цифра не менялась.
Смысл цифры – тоже.
Майя закрыла глаза. Под веками плыли оранжевые пятна – отблески аккреционного диска, отпечатавшиеся на сетчатке.
Двадцать лет.
Она помнила тот день с хирургической точностью. Не потому, что хотела помнить – потому что не могла забыть.
2327 год. Обсерватория Края. Её второй год на станции.
Ей было сорок два. Достаточно молода, чтобы ещё верить в науку как в призвание, а не как в рутину. Достаточно стара, чтобы не обольщаться насчёт собственной гениальности.
Майя сидела в той же лаборатории – тогда ещё без кофейных пятен на консоли, без царапин на полу, без этого специфического запаха, который появляется в помещениях, где слишком долго работает один и тот же человек. Она запускала новый алгоритм анализа солнечного спектра. Простая задача: сравнить данные с Обсерватории Края с данными телескопов в Солнечной системе. Найти расхождения. Объяснить их.
Алгоритм был её собственным изобретением – точнее, побочным продуктом старой ошибки. Восемнадцать лет назад, на защите диплома в Женеве, она допустила просчёт в уравнении 7.4 своей работы по информационным парадоксам чёрных дыр. Ошибка была глупой, очевидной любому внимательному рецензенту. Но Дмитрий Орлов, высокий сутулый профессор с тёплыми карими глазами, сказал ей после защиты:
«Вы ошиблись в уравнении 7.4. Но ошибка интереснее правильного решения.»
Он оказался прав. Ошибка случайно описала теоретический канал передачи информации через горизонт событий – невозможный, по всем законам физики, но математически непротиворечивый. Майя потратила годы, превращая эту ошибку в рабочий инструмент. Алгоритм, способный находить паттерны там, где другие видели только шум.
В тот день, в 2327-м, она направила этот алгоритм на данные о Солнце.
Не потому, что искала что-то конкретное. Скорее – от скуки. Солнце было изучено вдоль и поперёк; любая аномалия в его спектре давно бы заметили сотни исследователей. Но алгоритм требовал тестирования на знакомых данных, прежде чем применять его к далёким квазарам.
Результат появился через двадцать минут.
Сначала Майя не поняла, что видит. Цифры на экране выглядели как статистический шум – колебания в пределах погрешности, ничего значимого. Но алгоритм подсветил паттерн: регулярность там, где её не должно было быть. Периодические флуктуации в глубинных слоях солнечного ядра, синхронизированные с чем-то, чего не существовало в стандартных моделях.
Она перезапустила анализ. Получила тот же результат.
Перезапустила ещё раз, изменив параметры. Паттерн сохранился.
К полуночи Майя сидела перед экраном, забыв про ужин, про кофе, про всё на свете. Её руки тряслись, когда она вводила формулу – свою собственную, выведенную за последние шесть часов, проверенную и перепроверенную, пока глаза не заслезились от напряжения.
Семенной коэффициент. Термин, который она придумала сама, потому что существующего не было. Показатель того, насколько параметры звезды соответствуют оптимальным условиям для формирования определённого типа чёрной дыры при коллапсе.
Не любой чёрной дыры. Чёрной дыры с максимальным потенциалом для зарождения сложных структур в дочерней вселенной.
Теория Ли Смолина – космологический естественный отбор – была в 2327 году научной маргиналией. Гипотеза, красивая как философия, но непроверяемая как физика. Идея о том, что чёрные дыры порождают новые вселенные, а те вселенные, которые производят больше чёрных дыр, «размножаются» эффективнее, казалась большинству учёных элегантной спекуляцией, не более.
Майя никогда не принимала её всерьёз. До того момента.
Солнце не должно было иметь «семенного коэффициента». Этот термин вообще не должен был применяться к звёздам – он был частью её собственной теоретической модели, которую она даже не публиковала, потому что считала слишком сырой.
Но данные были перед ней.
0.91.
Почти идеальное значение. Солнце было словно подготовлено – оптимизировано для создания чёрной дыры с максимальным репродуктивным потенциалом.
В ту ночь Майя впервые поняла, что значит выражение «волосы встали дыбом». Не метафора – физическое ощущение, как будто по коже пробежал ток.
Она смотрела на цифры и думала: Это невозможно. Это ошибка. Моя ошибка, или ошибка алгоритма, или ошибка данных.
Она думала: Если я права – мир никогда не будет прежним.
Она думала: Если я права – Солнце умрёт. И внутри него родится новая вселенная.
До четырёх утра она искала ошибку. До семи – нашла три возможные, но все оказались ложными тревогами. К девяти утра, когда станция ожила и коридоры наполнились голосами, Майя сидела в той же позе, глядя на тот же экран, и впервые в жизни не знала, что делать.
Воспоминание отпустило, и Майя снова оказалась в настоящем – в той же лаборатории, двадцать лет спустя.
Она открыла глаза. Аккреционный диск всё так же вращался за стеклом, равнодушный к человеческим драмам.
Семь тысяч триста дней.
Она считала. Не специально – цифра сама всплывала в памяти, как напоминание, как укор. Семь тысяч триста дней с момента открытия. Семь тысяч триста дней, когда она могла опубликовать, рассказать, предупредить – и не сделала ничего.
Файл «Орион» лежал в её системе, зашифрованный и нетронутый. Она добавляла к нему новые данные – каждый год, иногда чаще. Перепроверяла старые расчёты. Уточняла модели. Семенной коэффициент колебался в пределах погрешности, но никогда не падал ниже 0.88 и не поднимался выше 0.93.
Солнце оставалось идеальным кандидатом. Год за годом.
Почему она молчала?
Этот вопрос Майя задавала себе каждую ночь. Ответ был многослойным, как осадочная порода, и в каждом слое – своя правда.
Первый слой: неуверенность.
Она не была уверена в своих расчётах. Семенной коэффициент – её собственное изобретение, не прошедшее рецензирования, не подтверждённое независимыми исследователями. Что, если вся концепция ошибочна? Что, если алгоритм, рождённый из студенческой ошибки, порождает новые ошибки – более тонкие, незаметные?
Каждый год она говорила себе: ещё одна проверка. Ещё один анализ. Ещё немного времени.
Время шло. Проверки множились. Ошибок не находилось.
Второй слой: страх.
Не за себя – за других. Если опубликовать данные – что произойдёт? Паника? Хаос? Войны за ресурсы, которые всё равно не спасут никого от коллапса звезды? Массовые самоубийства? Религиозные безумия?
Человечество не было готово к новости о собственной смертности. Не индивидуальной – цивилизационной.
Майя говорила себе: я защищаю их. От знания, которое их уничтожит.
И каждый раз, когда эта мысль приходила, другая часть её разума – холодная, аналитическая, безжалостная – спрашивала: а кто дал тебе право решать за восемнадцать миллиардов человек?
Третий слой – самый глубокий, тот, в который она почти никогда не заглядывала.
Ожидание.
Она ждала чего-то. Сама не знала чего. Контакта? Подтверждения? Чьего-то голоса из темноты, который скажет: «Мы знаем. Мы здесь. Мы поможем»?
Абсурд. Иррациональность, недостойная учёного.
Но ожидание не уходило. Оно жило где-то в подсознании, как тихий гул систем жизнеобеспечения – незаметное, пока не прислушаешься.
Иногда, глядя на чёрную дыру, Майя думала: там кто-то есть. Кто-то, кто знает больше меня. Кто-то, кто понимает.
Она никому не говорила об этом чувстве. Это было бы концом её карьеры – директор теоретического отдела, верящая в инопланетян? Но чувство не уходило.
И теперь, двадцать лет спустя, она начинала подозревать, откуда оно взялось.
Дмитрий.
Мысль о муже пришла непрошеной, как приходила всегда в эти ночные часы. Он умер шесть лет назад – рак мозга, полгода агонии, конец в стерильной палате санкт-петербургского госпиталя. Майя была на станции, когда это случилось. Не успела прилететь. Не успела попрощаться.
Дети были рядом с ним – Анна, Кирилл. Они не простили матери её отсутствия. Майя не просила прощения. Она знала: это было бы ложью. Она могла успеть, если бы вылетела сразу. Но она медлила. День, два, три – пока не стало слишком поздно.
Почему?
Ответ был страшнее, чем любой из ответов о молчании.
Она боялась. Не смерти Дмитрия – того, что он скажет перед смертью.
Последние месяцы его болезни были странными. Бред, несвязные фразы, обрывки мыслей. Врачи говорили – опухоль давит на речевые центры. Но иногда, в моменты ясности, Дмитрий говорил вещи, которые Майя не понимала.
«Они придут. Скоро. Ты должна быть готова.»
«Звёзды – семена, Майя. Я говорил тебе, помнишь?»
«Прости меня. Я не мог рассказать. Не позволяли.»
Бред умирающего. Так она себе говорила. Так было проще.
Но ночами, когда станция засыпала и Майя оставалась наедине с чёрной дырой, она думала: а что, если нет?
Дмитрий был странным человеком. Она полюбила его за это – за способность видеть связи там, где другие видели хаос, за интуицию, граничащую с ясновидением, за моменты, когда он говорил что-то, и годы спустя оказывалось, что он был прав.
«Ошибка в уравнении 7.4 интереснее правильного решения.»
Откуда он знал? Как мог знать, что именно эта ошибка приведёт её к открытию, которое она будет скрывать двадцать лет?
Случайность. Интуиция гения. Так говорила рациональная часть разума.
Но была другая часть – та, что просыпалась по ночам и смотрела в бездну, – которая шептала: он знал. С самого начала. Он нашёл тебя не случайно.
Майя тряхнула головой, отгоняя мысли. Это был путь к безумию – искать заговоры там, где были только совпадения. Обсерватория Края славилась своим влиянием на психику; за двадцать два года здесь работы Майя видела, как крепкие люди ломались от близости к бездне. Один коллега начал слышать голоса из чёрной дыры. Другая – убедилась, что горизонт событий смотрит на неё. Третий просто вышел в шлюз без скафандра однажды утром.
Майя не собиралась пополнять статистику.
Она снова сосредоточилась на экране. Данные по квазару 3C 273 – привычные, понятные, безопасные. Флуктуации яркости, которые ничего не значили для судьбы человечества. Работа, которая не требовала выбора между молчанием и катастрофой.
Пальцы застучали по клавиатуре. Код послушно выстраивался строчка за строчкой.
Прошёл час. Или два – Майя не следила за временем, когда работала.
Холод смотрового зала понемногу пробирался сквозь термокомбинезон. Температура здесь всегда была на два градуса ниже нормы – странная аномалия, которую инженеры не могли исправить уже много лет. Официально – дефект системы климат-контроля. Неофициально – станция «дышала», и смотровой зал, ближе всего расположенный к куполу, охлаждался сильнее остальных.
Майя поёжилась, но не встала. Вставать – значило признать, что ночь заканчивается, что скоро придётся вернуться к дневной роли: директор теоретического отдела, требовательная начальница, сдержанная женщина с репутацией ледяной королевы. Роль, которую она играла двадцать два года. Роль, которая защищала её от вопросов – почему она так много времени проводит за анализом данных, которые никто больше не смотрит? Почему она засиживается допоздна? Почему в её глазах иногда мелькает что-то похожее на страх?
Потому что я знаю.
Простой ответ. Страшный ответ.
Майя закрыла файл с квазаром и открыла другой – не «Орион», нет. Файл попроще: личный дневник, который она вела нерегулярно, урывками, в минуты слабости.
Последняя запись – три месяца назад:
«14 октября 2346. Снова проверила данные. Семенной коэффициент – 0.91. Без изменений. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Нормальный человек давно бы опубликовал или забыл. Я не могу ни того, ни другого.»
Она добавила новую строку:
«17 января 2347. Не открывала «Орион» три недели. Рекорд. Не знаю, хорошо это или плохо. Вчера приснился Дмитрий. Он говорил что-то важное, но я не могла разобрать слов. Проснулась с ощущением, что опаздываю куда-то. Куда – не знаю.»
Пальцы зависли над клавиатурой. Что ещё написать? Что она чувствует себя старой и усталой? Что двадцать лет молчания превратились в тюрьму, из которой она не знает выхода? Что иногда, глядя на аккреционный диск, она думает: а что, если просто выйти туда? Шаг – и всё закончится. Никакого выбора, никакой ответственности.
Она не написала этого. Удалила последнюю строку и закрыла дневник.
Мысли о смерти приходили и уходили, как приливы. Майя давно научилась не обращать на них внимания. Она не собиралась умирать – не так. Не от малодушия. Если уж уходить – то зная, что сделала всё, что могла.
Проблема была в том, что она не знала, что могла сделать.
В 04:47 по корабельному времени станция вздрогнула.
Не сильно – едва заметная вибрация, которую неопытный человек списал бы на работу двигателей ориентации. Но Майя провела здесь слишком много времени, чтобы обмануться. Это был гравитационный прилив – очередной «вздох» чёрной дыры, как называли их старожилы.
Обычно они случались раз в шесть-восемь часов. Этот пришёл слишком рано.
Майя нахмурилась и открыла мониторинг внешних датчиков. Параметры аккреционного диска – в норме. Масса чёрной дыры – стабильна. Гравиметрия – в пределах обычных флуктуаций.
Тогда что?
Она переключилась на данные телескопов дальнего обзора. Ничего необычного. Спокойная ночь – если это слово применимо к пространству, где не было ни ночи, ни дня, только вечная тьма и свет мёртвых звёзд.
И тогда она заметила.
Крошечная аномалия на периферии зрения – не в данных, а в углу экрана. Мигающий значок входящего сообщения. Канал связи – зашифрованный, приоритетный, только для руководства станции.
Майя открыла сообщение.
Отправитель: Елена Варга, заместитель директора.
Текст: «Срочное собрание. Конференц-зал. Сейчас.»
И одно слово в конце, без объяснений:
«Контакт».
Майя смотрела на экран несколько секунд, не двигаясь.
Контакт.
Слово, которое на станции имело только одно значение. Не связь с Землёй – для этого были стандартные каналы. Не сообщение от других обсерваторий. «Контакт» значило одно: внеземной разум. Обнаружение сигнала. Первый контакт.
За всю историю человечества этого не случалось ни разу. Были ложные тревоги, были артефакты, были естественные феномены, принятые за искусственные сигналы. Но настоящего контакта – никогда.
И вот – сейчас. В 04:48 по корабельному времени, на орбитальной станции в шести тысячах световых лет от Земли.
Руки Майи дрожали, когда она закрывала терминал. Не от страха – от чего-то другого. От узнавания.
Я ждала.
Мысль пришла сама, непрошеная и неоспоримая.
Двадцать лет. Семь тысяч триста дней. Я ждала – и сама не знала чего. Теперь знаю.
Она встала. Ноги затекли от долгого сидения; пришлось опереться о консоль, чтобы не упасть.
За стеклом аккреционный диск продолжал своё вечное вращение. Золото, пурпур, бело-голубое сияние на краю небытия. И в центре – чёрная дыра. Бездна, которая смотрела на неё двадцать два года.
Ты знала, – подумала Майя, обращаясь к ней. – Всё это время. Ты знала, что они придут.
Абсурд. Чёрные дыры не знают и не ждут. Они просто существуют – как существует гравитация, как существует время, как существует смерть.
Но что-то изменилось этой ночью. Майя чувствовала это, как чувствуют приближение грозы – не разумом, а кожей.
Файл «Орион» лежал в системе, зашифрованный и нетронутый. Семенной коэффициент Солнца – 0.91.
Что, если они знают? – подумала она. – Что, если они пришли именно поэтому?
Она направилась к выходу из смотрового зала, но у двери остановилась и обернулась в последний раз.
Чёрная дыра смотрела на неё. Не глазами – у неё не было глаз. Но Майя чувствовала этот взгляд: тяжёлый, древний, бесстрастный. Взгляд существа, для которого человеческая жизнь – мгновение, человеческая цивилизация – искра, а человеческие страхи – пыль на поверхности океана.
Я ждала, – повторила она мысленно. – Сама не знала чего. Теперь знаю.
Дверь закрылась за её спиной.
Коридоры Обсерватории в пятом часу утра были пусты – почти. Дежурный техник кивнул ей у шлюза в жилой сектор; охранник в переходе между модулями скользнул по ней взглядом и отвернулся.
Майя шла быстро, стараясь не думать. Думать было опасно – мысли путались, наскакивали друг на друга, порождали вопросы, на которые не было ответов.
Контакт. Что это значит? С кем? Откуда?
Елена знает. Она уже в конференц-зале. Она расскажет.
А если это связано с «Орионом»? Если они пришли из-за Солнца? Если всё, что я скрывала двадцать лет…
Стоп.
Она остановилась посреди коридора, заставила себя дышать глубоко и ровно. Паника – враг учёного. Паника затуманивает разум, искажает оценку, ведёт к ошибкам.
Факты. Только факты.
Факт первый: сообщение от Елены. Срочное. Одно слово: «Контакт».
Факт второй: гравитационный прилив раньше обычного. Может быть связан, может быть – нет.
Факт третий: её собственные данные, лежащие в зашифрованном файле. Данные, которые говорили о Солнце то, чего никто не хотел слышать.
Связь?
Слишком рано делать выводы. Слишком мало информации.
Майя возобновила путь, заставляя себя идти, а не бежать. Директор не бегает. Директор сохраняет спокойствие, даже когда мир рушится.
Если он рушится.
Если это не очередная ложная тревога.
Если…
Хватит.
Она толкнула дверь конференц-зала.
Зал был полон.
Не должен был – в пятом часу утра, по расписанию, здесь не могло быть никого. Но люди стояли вдоль стен, сидели на полу, толпились у голографического экрана в центре помещения. Двести человек – весь персонал станции, от техников до учёных. Некоторые – в пижамах, с растрёпанными волосами, с опухшими от сна лицами.
Никто не спал. Никто не говорил.
Все смотрели на экран.
Елена Варга стояла у консоли, её рыжие волосы растрёпаны, комбинезон застёгнут криво. Она увидела Майю и махнула рукой – жест, который означал: «Подойди. Сейчас».
Майя протиснулась сквозь толпу. Люди расступались перед ней – не из уважения, а потому что были слишком потрясены, чтобы замечать окружающих.
На экране было лицо.
Нет – не лицо. Изображение лица. Или то, что Майя могла бы принять за лицо, если бы не смотрела слишком внимательно. Симметричные черты, лишённые любых индивидуальных признаков. Глаза без радужки – просто тёмные провалы. Губы, которые не двигались, но каким-то образом производили звук.
Голос – низкий гул, на грани инфразвука. Слова формировались не в динамиках, а прямо в голове Майи, минуя уши, вибрируя в костях черепа.
«…предоставляется выбор. Эвакуация. Сопротивление. Принятие. Мы сообщаем, а не спрашиваем. Великий Посев начался. Двенадцать звёзд. Восемьдесят лет. Выбирайте мудро.»
Передача закончилась. Экран погас.
Тишина.
Майя стояла неподвижно, глядя на чёрный экран. Вокруг неё люди – её коллеги, её подчинённые, её друзья – медленно приходили в себя. Кто-то всхлипнул. Кто-то засмеялся – истерически, неконтролируемо.
Елена подошла к ней вплотную. Её лицо было бледным, губы дрожали.
– Майя. – Голос хриплый, едва слышный. – Они говорят… они говорят, что Солнце…
– Я знаю, – ответила Майя.
И поняла, что говорит правду.
Двадцать лет. Семь тысяч триста дней.
Она ждала этого момента, не зная, что ждёт. Теперь – знала.
Елена смотрела на неё странно – пристально, оценивающе.
– Ты не удивлена.
– Нет.
– Почему?
Майя не ответила. Вместо этого она повернулась к толпе – к двумстам перепуганным лицам, которые смотрели на неё в ожидании. Директор должна что-то сказать. Директор должна знать, что делать.
Директор не знала.
Но молчать было нельзя.
– Все, кто слышит меня, – произнесла Майя, и голос, к её удивлению, звучал ровно. – Передача записана. Мы проведём полный анализ в ближайшие часы. До получения результатов – никаких заявлений, никакой паники. Возвращайтесь на рабочие места или в каюты. Это приказ.
Люди начали расходиться – медленно, неохотно, оглядываясь на экран, словно ожидая, что он снова загорится.
Елена осталась.
– Ты знала, – повторила она. – Не могу понять как, но ты знала.
– Позже, – сказала Майя. – Сейчас – работа.
Она отвернулась от своего заместителя и пошла к консоли. Нужно было открыть файл «Орион». Нужно было проверить, как данные Ткачей – Ткачей, она уже называла их так – соотносятся с её расчётами.
Нужно было принять решение, которое она откладывала двадцать лет.
Мир изменился, – подумала она. – Или я наконец увидела его таким, какой он был всегда.
За стенами станции, в шести тысячах световых лет от Земли, чёрная дыра продолжала вращаться. Бездна, полная семян. Одно из этих семян – было Солнцем.
Восемьдесят лет.
Отсчёт начался.
Глава 2: Голос из пустоты
Конференц-зал опустел не сразу.
Люди уходили медленно, неохотно, словно боялись, что за дверью их ждёт другая реальность – та, в которой последние десять минут действительно произошли. Некоторые останавливались у выхода, оборачивались на погасший экран, будто надеялись, что он снова загорится и голос скажет: «Это была проверка. Тест на стрессоустойчивость. Возвращайтесь к работе».
Экран молчал.
Майя стояла у консоли, наблюдая за исходом. Двести человек – весь персонал Обсерватории Края – превратились в толпу беженцев, спасающихся от невидимой катастрофы. Она видела, как молодой техник из энергетического отдела – Паоло, кажется, или Пабло – прислонился к стене и сполз на пол, обхватив голову руками. Видела, как двое астрофизиков из её отдела – Чен и Коваленко – стояли, держась за руки, хотя раньше едва разговаривали друг с другом. Видела, как главный инженер Нкозо, шестидесятилетний ветеран с тремя десятками лет космического стажа, плакал беззвучно, не пытаясь скрыть слёзы.
Она видела всё это – и не чувствовала ничего.
Нет, не так. Она чувствовала – но не то, что должна была. Не страх, не отчаяние, не гнев. Что-то другое, чему не было названия. Что-то похожее на облегчение.
Двадцать лет. Наконец-то.
– Майя.
Елена. Её заместитель стояла рядом, и в её голосе – обычно спокойном, чуть насмешливом – слышалась трещина.
– Мне нужна запись, – сказала Майя. – Полная. С начала.
– Зачем?
– Для анализа.
Елена смотрела на неё так, словно видела впервые. Веснушчатое лицо – обычно открытое и дружелюбное – застыло в выражении, которое Майя не могла прочитать.
– Ты серьёзно? Анализ? Они только что сказали, что убьют Солнце, а ты хочешь…
– Они сказали больше. Я слышала только конец. Мне нужно всё.
Пауза. Елена моргнула – раз, другой – и Майя увидела, как к ней возвращается привычный прагматизм. Якорь, за который можно ухватиться в шторм. Задача. Действие. То, что можно сделать.
– Хорошо, – Елена повернулась к консоли. – Дай мне минуту.
Зал почти опустел. Остались только те, кто не мог уйти: Паоло на полу, Чен и Коваленко у стены, ещё несколько человек, застывших в разных позах шока. Майя должна была что-то сделать – послать за медиками, организовать помощь. Директор заботится о персонале.
Но она не двигалась. Стояла и ждала.
– Готово, – сказал Елена. – Перекинула на твой терминал. Майя… ты уверена, что хочешь смотреть это снова?
– Не хочу. Должна.
Она направилась к выходу, но Елена поймала её за рукав.
– Подожди.
Майя обернулась.
– Там, в начале… когда они впервые заговорили… – Елена сглотнула. – Это было в голове. Не в ушах. Понимаешь? Я слышала по-венгерски. Родной язык. Язык, на котором я не думала уже двадцать лет. А Чен – она сказала – по-китайски. И Нкозо – на суахили. Все одновременно. Как это возможно?
– Гравитационные волны, – ответила Майя. – Модулированные. Напрямую в слуховую кору. Теоретически возможно, но технология должна быть на несколько порядков выше нашей.
– На несколько порядков.
– Да.
Елена смотрела на неё долго – слишком долго.
– Ты говоришь так, будто это не удивительно. Будто ты… ожидала.
Майя не ответила. Высвободила рукав и вышла из зала.
Её кабинет находился в двух модулях от конференц-зала – три минуты быстрым шагом, пять обычным. Майя дошла за две.
Она не бежала. Директора не бегают. Но её шаги были длиннее обычного, а дыхание – чаще.
Кабинет встретил её привычным полумраком. Узкое помещение три на четыре метра: стол, терминал, кресло, стеллаж с бумажными книгами – анахронизм, который она привезла с Земли и отказывалась выбрасывать. На стене – единственное украшение: фотография Дмитрия с детьми, сделанная за год до его смерти. Анна – серьёзная, напряжённая, смотрит мимо камеры. Кирилл – улыбается, но глаза холодные. Дмитрий между ними – усталый, больной уже тогда, хотя никто ещё не знал, – обнимает обоих за плечи.
Майя отвела взгляд от фотографии и села за терминал.
Файл с записью ждал её – иконка мигала в углу экрана. Она коснулась её, и изображение развернулось во всю стену.
04:31 по корабельному времени. Конференц-зал. Пусто.
Запись начиналась за двадцать минут до того, как Майя получила сообщение от Елены. Автоматическая камера – стандартная процедура безопасности, которую большинство персонала давно перестало замечать.
В 04:32 на экране появился первый человек – дежурный оператор связи, молодая женщина по имени Соня Ким. Она вбежала в зал, споткнулась о порог, едва не упала. Её лицо было белым.
В 04:33 зазвучала общая тревога – три коротких гудка, означающих «срочный сбор всего персонала». Майя вспомнила, что не слышала их в своём смотровом зале. Либо звук не дошёл, либо она была слишком погружена в мысли.
В 04:35 зал начал заполняться. Люди входили группами и поодиночке, в форме и в пижамах, с чашками кофе и без. Некоторые ругались – кому понадобилось будить их в такую рань? Другие молчали, заразившись тревогой от тех, кто пришёл раньше.
Елена появилась в 04:38 – деловитая, собранная, с планшетом в руках. Она говорила что-то дежурному оператору, и Соня Ким кивала, показывая на главный экран.
В 04:41 экран ожил.
Майя остановила запись.
Она смотрела на застывшее изображение – чёрный экран с единственной точкой света в центре, как звезда перед рождением. Её пальцы зависли над консолью.
Ты можешь не смотреть, – сказала часть её разума. – Ты уже знаешь, что они сказали. Знаешь больше, чем они сказали. Двадцать лет знаешь.
Но другая часть – та, что была учёным до мозга костей – настаивала: данные. Тебе нужны данные. Не пересказ, не интерпретация – первичный источник.
Она нажала «воспроизведение».
Точка света начала расширяться. Не как изображение на экране – как присутствие в комнате. Даже через запись Майя чувствовала это: давление на виски, лёгкое покалывание в затылке. Камера фиксировала, как люди в зале отшатывались, хватались за головы, оглядывались в поисках источника ощущения.
Потом появилось лицо.
Нет – конструкт лица. Нечто, созданное существом, которое знало, как выглядят человеческие лица, но никогда не носило одного. Симметрия, доведённая до абсурда. Черты, лишённые любых индивидуальных признаков. Кожа – если это можно было назвать кожей – цвета старой слоновой кости, без пор, без морщин, без волос. Глаза – тёмные провалы, не отражающие света. Губы – тонкие, неподвижные.
И голос.
Голос пришёл не из динамиков. Он пришёл изнутри – из того места в голове, где рождаются мысли. Майя слышала его по-русски, с интонациями, которые напоминали её покойную бабушку, – низкий, спокойный голос женщины, которая много видела и давно перестала удивляться.
«Мы – Садовники».
На записи люди замерли. Кто-то закричал – звук оборвался, словно его выключили.
«Мы существуем четыре целых семь десятых миллиарда ваших лет. Мы были, когда ваша галактика ещё не обрела форму. Мы будем, когда последняя звезда погаснет».
Майя заставила себя дышать ровно. Цифры. Сосредоточься на цифрах. 4,7 миллиарда лет – старше Солнечной системы. Старше Земли. Разум, существовавший, когда жизнь на нашей планете ещё не поднялась из первичного бульона.
«Мы служим Обязанности. Это не наш выбор – это наша природа. Как гравитация притягивает, как свет распространяется, так мы – служим».
Обязанность. Слово прозвучало с заглавной буквы – Майя услышала это, хотя голос не менял интонации.
«Ваша вселенная способна к репродукции. Чёрные дыры – её семена. Каждая чёрная дыра, рождённая коллапсом звезды, создаёт внутри себя новую вселенную – с иными константами, иной физикой, иным потенциалом для жизни».
На записи – движение в толпе. Кто-то пытался выйти; другие удерживали его. Лицо Елены – крупным планом, случайно попавшее в кадр – застыло в выражении человека, который слышит собственный смертный приговор.
«Это не теория. Это факт, подтверждённый наблюдениями за триллионами коллапсов за миллиарды лет. Мы называем этот процесс космологическим естественным отбором. Вы называете его теорией Смолина – по имени вашего учёного, который угадал правду, не имея способов её проверить».
Смолин. Майя помнила, как читала его работы в студенчестве – с недоверием скептика, как читают философские спекуляции, не имеющие экспериментального подтверждения. А потом – в ту ночь двадцать лет назад – как доставала его книгу с полки снова и снова, ища объяснение цифрам на своём экране.
«Мы – Ткачи. Мы ускоряем процесс. Мы выбираем звёзды с оптимальными параметрами и помогаем им стать семенами раньше, чем это произошло бы естественным путём».
Помогаем им стать семенами.
Эвфемизм. Красивые слова для того, что на языке физики означало: заставляем звёзды коллапсировать. Убиваем их – вместе со всем, что вращается вокруг.
«Ваше Солнце было выбрано».
На записи – крик. Женский, высокий, переходящий в визг. Кто-то упал – глухой удар тела о пол.
«Семенной коэффициент вашей звезды – ноль целых девяносто одна сотая. Это означает: чёрная дыра, рождённая её коллапсом, создаст дочернюю вселенную с высоким потенциалом сложности. С высокой вероятностью жизни. С высокой вероятностью разума».
0.91.
Та же цифра. Та же, что лежала в её зашифрованном файле двадцать лет.
Майя смотрела на экран, и внутри неё что-то медленно, со скрежетом, вставало на место – как кости после перелома, который никак не срастался.
Я была права. Всё это время – права.
«Протокол Засева был активирован двенадцать ваших лет назад. Процесс необратим».
Двенадцать лет назад. 2335 год. Майя помнила этот год – смутно, как помнят год без особых событий. Анна окончила университет. Кирилл получил первое звание. Дмитрий… Дмитрий был ещё здоров. Или казался здоровым.
И где-то – в глубине Солнца, невидимое для любых телескопов – что-то начало прорастать.
«Через восемьдесят ваших лет Солнце коллапсирует в чёрную дыру. Внутри родится новая вселенная – с триллионами звёзд, с потенциалом для триллионов цивилизаций».
Восемьдесят лет. Меньше человеческой жизни. Дети, рождённые сегодня, ещё будут живы, когда Земля исчезнет.
«Вам предоставляется выбор».
На записи – внезапная тишина. Крики смолкли. Люди слушали – не потому что хотели, а потому что не могли не слушать.
«Первый путь: эвакуация. Мы предоставим транспорт в безопасные системы. Ваш вид сохранится. Ваша культура – частично. Ваша планета – нет».
Частично. Ещё один эвфемизм.
«Второй путь: сопротивление. Это ваше право. Мы не будем препятствовать. Результат предсказуем, но выбор остаётся за вами».
На записи кто-то засмеялся – истерически, захлёбываясь.
«Третий путь: принятие. Понимание вашей роли в космической эволюции. Вы не жертвы – вы участники процесса, который породил вас и породит других после вас».
Пауза. Лицо на экране оставалось неподвижным – если оно когда-либо двигалось.
«Мы сообщаем, а не спрашиваем. Великий Посев начался. Двенадцать звёзд. Восемьдесят лет. Выбирайте мудро».
Экран погас.
На записи – хаос. Крики, плач, кто-то бьётся в истерике. Елена пытается навести порядок, её голос тонет в общем шуме.
И в этот момент в кадре появляется Майя – входит в зал, пробирается сквозь толпу. Камера фиксирует её лицо: спокойное, сосредоточенное, неудивлённое.
Майя остановила запись.
Она смотрела на собственное застывшее изображение и думала: вот так это выглядит со стороны. Человек, который знал. Человек, который молчал.
Они подтвердили всё. Каждую цифру, каждый вывод. Двадцать лет я думала – может, ошибка. Может, мой алгоритм сбоит. Может, я схожу с ума.
Не схожу. Не ошибка. Правда.
И теперь – что?
Стук в дверь вырвал её из оцепенения.
– Открыто.
Елена вошла без приглашения – привилегия, которую Майя дала ей много лет назад и никогда не отбирала. Её заместитель выглядела так, словно постарела на десять лет за последний час: тёмные круги под глазами, сгорбленные плечи, руки, которые не находили места.
– Я отправила всех по каютам, – сказала Елена. – Выдала снотворное тем, кто просил. Паоло – техник из энергетического – в медблоке, они боятся суицидального эпизода. Чен и Коваленко заперлись вместе и не отвечают на вызовы. Нкозо…
– Достаточно.
Елена замолчала. Стояла у двери, не решаясь войти дальше.
– Сядь.
Она села – на край стула для посетителей, как человек, готовый вскочить в любой момент.
Молчание.
– Ты смотрела запись? – спросила наконец Елена.
– Да.
– И?
– И ничего. Они сказали то, что сказали. Данные не изменились от повторного просмотра.
Елена издала странный звук – не смех, не всхлип. Что-то среднее.
– Данные. Ты говоришь «данные». Они сказали, что Солнце умрёт, Майя. Что всё умрёт. Земля. Марс. Венерианские колонии. Все, кто не успеет эвакуироваться за… сколько? Восемьдесят лет?
– Семьдесят восемь с половиной, если их хронология точна.
– Точна. – Елена качнула головой. – Конечно, точна. Почему бы ей быть неточной? Они существуют четыре миллиарда лет, они наверняка научились считать.
Сарказм – защитный механизм. Майя понимала это. Она сама пользовалась им достаточно часто.
– Елена.
– Что?
– Ты хочешь спросить. Спрашивай.
Пауза. Елена смотрела на неё – и в её глазах Майя видела борьбу: желание знать против страха узнать.
– Ты не удивилась, – сказала Елена наконец. – Там, в зале. Я смотрела на тебя – когда они говорили – и ты… ты слушала так, будто уже слышала это раньше. Будто это повторение, а не новость.
– Может быть.
– Что это значит?
Майя откинулась в кресле. Потолок кабинета был низким – стандарт для станций, экономия объёма – и в полумраке казался ещё ниже. Давил. Напоминал о крышке гроба.
Рассказать? Или соврать? Или уклониться, как делала двадцать лет?
– Помнишь мой проект по солнечному спектру? – спросила она.
– Который? Ты работаешь над солнечным спектром с тех пор, как я тебя знаю.
– Проект «Орион». Личный. Зашифрованный.
Елена напряглась.
– Я… видела папку. Давно. Не заглядывала.
– Знаю. Иначе мы бы уже поговорили.
– Что там?
Майя помолчала. Слова, которые она собиралась произнести, пролежали внутри неё двадцать лет – как опухоль, которую боишься трогать. Теперь опухоль вскрылась сама, и выбора не осталось.
– Там данные, – сказала она. – Мои расчёты. Двадцатилетней давности.
– Какие расчёты?
– Семенной коэффициент. Термин, который я придумала сама. Показатель оптимальности звезды для… – она запнулась, хотя знала это определение наизусть, – для формирования определённого типа чёрной дыры при коллапсе.
Елена смотрела на неё. Не понимала – пока.
– Коэффициент Солнца в моих расчётах: ноль целых девяносто одна сотая.
Молчание.
Потом – Елена медленно, очень медленно, выпрямилась.
– Они сказали ту же цифру.
– Да.
– Ты знала. Двадцать лет. Ты знала.
– Я подозревала. Не была уверена. Каждый год проверяла и перепроверяла, искала ошибку…
– Но не нашла.
– Нет.
Елена встала. Её лицо изменилось – Майя видела, как дружелюбие сменяется чем-то другим. Гневом? Страхом? Отвращением?
– Двадцать лет, – повторила Елена, и её голос был чужим. – Ты знала двадцать лет. И молчала.
– Да.
– Почему?
Почему. Простой вопрос. Сложный ответ. Слишком сложный для одной ночи, для одного разговора.
– Потому что не была уверена.
– Чушь. Ты – лучший космолог из живущих. Если ты не была уверена, никто бы не был.
– Моя уверенность – не доказательство.
– Но это был бы шанс. – Елена шагнула вперёд, и Майя увидела, как дрожат её руки. – Двадцать лет! Мы могли бы… готовиться. Строить корабли. Искать место. Что угодно!
– Могли бы паниковать. Убивать друг друга. Развязать войны за ресурсы.
– Это не тебе решать!
Елена выкрикнула последние слова – и тут же отшатнулась, словно испугавшись собственного голоса.
Тишина.
Майя смотрела на свою заместительницу – на женщину, которую считала если не другом, то союзником; на человека, которому почти доверяла, – и думала: вот так это выглядит. Предательство. Непрощаемый грех.
– Ты права, – сказала она тихо. – Не мне было решать. Но я решила.
– Почему?
– Потому что боялась.
Признание далось легче, чем она ожидала. Словно нарыв наконец лопнул.
– Боялась ошибиться – и выставить себя дурой. Боялась оказаться правой – и уничтожить мир этим знанием. Боялась, что никто не поверит. Боялась, что все поверят. Боялась… – она запнулась, – боялась, что если скажу вслух, это станет правдой. Глупо, да? Иррационально. Но я боялась.
Елена молчала. Её руки перестали дрожать – но лицо оставалось чужим.
– И ещё, – продолжила Майя, – я ждала. Сама не знала чего. Какого-то знака. Подтверждения. Голоса извне, который скажет: «Да, ты права» или «Нет, ты ошиблась». Двадцать лет ждала.
– И дождалась.
– И дождалась.
Елена отвернулась. Стояла спиной к Майе, глядя на тёмную стену.
– Что теперь? – спросила она, и голос снова был её собственным – усталым, практичным, голосом человека, который ищет решение, а не виноватого.
– Теперь – работа. Нужно проанализировать передачу. Сопоставить с моими данными. Найти расхождения, если они есть.
– Ты думаешь, они солгали?
– Не думаю. Но проверить – мой долг.
Елена обернулась.
– Твой долг, – повторила она с горечью. – Ты говоришь о долге после двадцати лет молчания.
– Да.
– Это лицемерие.
– Возможно.
– Ты… – Елена осеклась. Покачала головой. – Я не понимаю тебя. Никогда не понимала.
– Знаю.
– Ты не извинишься.
– Нет.
– Почему?
Майя помолчала. Подбирала слова – не для оправдания, для объяснения.
– Потому что извинение ничего не изменит. Потому что я не уверена, что поступила бы иначе, если бы можно было начать сначала. И потому что… – она замолчала, потом продолжила тише, – потому что, может быть, моё молчание ничего не изменило. Они начали Засев двенадцать лет назад. До того, как я открыла аномалию. Даже если бы я опубликовала данные на следующий день – что бы это изменило?
– Мы бы знали раньше.
– И что? Что бы мы сделали с этим знанием?
Елена не ответила. Потому что ответа не было.
– Я не говорю, что была права, – сказала Майя. – Я говорю, что не знаю, была ли неправа. И этого незнания я не могу простить себе больше, чем самого молчания.
Елена ушла через полчаса. Не простила – но перестала обвинять. Или устала обвинять. Или отложила обвинения на потом, когда мир не будет рушиться вокруг.
Майя осталась одна.
За окном кабинета – узким иллюминатором, выходящим на внешнюю сторону станции – была тьма. Не та драматичная тьма, что окружала чёрную дыру, – обычная космическая чернота, усыпанная безразличными звёздами. Где-то там, в шести тысячах световых лет, светило Солнце. Жёлтый карлик. Заурядная звезда. Единственный дом, который знало человечество.
Семенной коэффициент – 0.91.
Двенадцать лет назад они начали Засев.
Восемьдесят лет до коллапса.
Майя открыла файл «Орион». Впервые за три недели. Впервые – не для проверки, а для сравнения.
Данные выстроились столбцами: дата, параметр, значение, погрешность. Двадцать лет работы. Тысячи измерений. Сотни версий модели. И в конце – вывод, который она так и не решилась сформулировать окончательно:
Солнце демонстрирует аномально высокую оптимизацию для формирования чёрной дыры звёздной массы с максимальным информационным потенциалом.
Вероятность естественного происхождения этой оптимизации – менее 0.001%.
Наиболее вероятное объяснение: внешнее вмешательство.
Она написала это пять лет назад. И удалила. И написала снова. И снова удалила. Восемь версий заключения – ни одна не пережила рассвета.
Теперь это не имело значения. Они сами пришли. Они сами сказали.
Ваше Солнце было выбрано.
Майя закрыла файл и открыла новый – пустой документ. Курсор мигал, ожидая слов.
Она начала печатать:
«17 января 2347 года. 06:14 по корабельному времени.
Первый контакт состоялся.
Цивилизация, называющая себя «Ткачами» или «Садовниками», вступила в связь с человечеством через модулированные гравитационные волны. Механизм передачи: прямая стимуляция слуховой коры, минуя наружное и среднее ухо. Каждый реципиент получил сообщение на своём родном языке.
Содержание сообщения подтверждает теорию космологического естественного отбора (Смолин, 1992) и мои собственные наблюдения за солнечным спектром (2327–2347).
Ключевые факты: 1. Солнце было «выбрано» для Засева – ускоренного коллапса в чёрную дыру. 2. Процесс начат 12 лет назад (2335) и необратим. 3. Коллапс произойдёт через 80 лет (приблизительно 2427). 4. Чёрная дыра породит «дочернюю вселенную» с высоким потенциалом для жизни.
Человечеству предложено три пути: эвакуация, сопротивление, принятие.
Мои предварительные выводы…»
Она остановилась. Пальцы зависли над клавиатурой.
Мои предварительные выводы.
Какие выводы? Что двадцать лет назад она открыла правду и побоялась её произнести? Что теперь, когда правду произнесли за неё, она не знает, что чувствовать – облегчение или ужас?
Что Дмитрий, возможно, знал? Что его последние слова – «они придут, ты должна быть готова» – были не бредом, а предупреждением?
Мои предварительные выводы…
Она стёрла последнюю строку и написала вместо неё:
«Мои предварительные выводы будут сформулированы после детального анализа. На данный момент приоритетная задача – поддержание порядка на станции и сбор дополнительных данных.
Примечание: информация о моих ранних исследованиях (файл «Орион») остаётся засекреченной до особого распоряжения. Причины: необходимость избежать дополнительного стресса для персонала; недостаточность данных для публичных заявлений; личные.
М.О.»
Она сохранила файл и закрыла терминал.
Личные.
Смешно. Через восемьдесят лет Земля перестанет существовать, а она беспокоится о «личном».
Но это было правдой. Часть её – та, что всё ещё была человеком, а не учёным, – боялась. Не конца света. Не смерти Солнца. Боялась того, что узнает, если копнёт глубже.
Дмитрий знал. Она была почти уверена теперь.
И если он знал – то откуда?
В 07:00 по корабельному времени – через два с половиной часа после контакта – Майя вышла из кабинета.
Станция просыпалась. Вернее – пыталась проснуться. Люди бродили по коридорам с пустыми глазами, сталкивались друг с другом, бормотали извинения и шли дальше. Кают-компания была переполнена: там собрались те, кто не мог оставаться в одиночестве.
Майя прошла мимо, не задерживаясь.
Она направлялась в архив – хранилище физических носителей, пережиток эпохи, когда данные не доверяли только цифровым копиям. Там хранились личные вещи умерших сотрудников, документы основания станции, и – среди прочего – коробка с пометкой «Д. Орлов. Личное».
Вещи Дмитрия. То, что осталось после его смерти и было отправлено на станцию, потому что Майя не захотела везти их на Землю. Потому что боялась.
Всё та же причина. Всё тот же страх.
Архив был пуст – в такой день никому не было дела до старых записей. Майя включила свет, нашла нужный стеллаж, нужную полку.
Коробка была небольшой – стандартный контейнер для хранения, серый пластик, запечатанный шесть лет назад. Имя на этикетке было написано её почерком.
Она сорвала печать.
Внутри – немного. Дмитрий не был человеком, привязанным к вещам. Несколько книг (бумажных, как у неё). Старые часы с разбитым циферблатом. Голографический кристалл с семейными записями. И – на самом дне – тонкий планшет, которого Майя не помнила.
Она достала планшет. Старая модель, лет двадцать назад популярная. Экран был тёмным, но индикатор батареи – жив. Кто-то подзаряжал его перед отправкой.
Майя нажала кнопку включения.
Экран вспыхнул. Появился запрос пароля.
Она ввела дату их первой встречи – 14 марта 2309 года. Не сработало.
Дату свадьбы. Не сработало.
Дату рождения Анны. Дату рождения Кирилла. Даты их собственных дней рождения. Ничего.
Она сидела на полу архива, держа планшет в руках, и думала: что бы выбрал Дмитрий?
И тогда – внезапно, словно кто-то шепнул на ухо – она поняла.
Ввела: 07042327.
7 апреля 2327 года. Дата, когда она сделала открытие. Дата, которую знала только она сама.
Планшет разблокировался.
На экране появилась папка с единственным файлом. Название файла: «Майя».
Она коснулась его.
И мир – уже изменившийся, уже рухнувший – изменился снова.
Глава 3: Первая встреча
Женева, 14 марта 2309 года
Дождь начался за час до её выступления.
Майя стояла у окна конференц-зала Женевского университета и смотрела, как капли расчерчивают стекло косыми линиями. За окном – серое небо, серые крыши, серая вода Женевского озера вдалеке. Город выглядел так, словно кто-то выкрутил насыщенность до минимума, оставив только оттенки пепла.
Подходящая погода для провала, подумала она.
– Никитина? Майя Никитина?
Она обернулась. Организатор – пожилой мужчина с планшетом, имени которого она не запомнила – смотрел на неё поверх очков.
– Да?
– Вы следующая. Через пятнадцать минут.
– Я знаю.
Он кивнул и ушёл, не тратя времени на подбадривание. Здесь никто никого не подбадривал. Международная конференция по квантовой гравитации была не тем местом, где нянчились с докладчиками, – даже если докладчику двадцать четыре года, и это её первое крупное выступление, и от результата зависит вся её карьера.
Майя отвернулась от окна и подошла к своему месту в третьем ряду. Сумка с ноутбуком лежала на соседнем кресле; она проверила в десятый раз, что презентация загружена, что слайды в правильном порядке, что уравнения отображаются корректно.
Уравнение 7.4.
Она задержалась на этом слайде дольше, чем на остальных. Длинная формула – три строки, дюжина переменных, интеграл от бесконечности до бесконечности. Она вывела её сама, без помощи научного руководителя. Это была сердцевина её дипломной работы, ключевой аргумент в пользу того, что информация не теряется при падении в чёрную дыру, а кодируется на горизонте событий особым образом.
Красивое уравнение, подумала она. Почти наверняка неправильное.
Скептик в её голове – голос, который появился где-то на втором курсе и с тех пор не замолкал – нашёптывал: ты упустила что-то. Ты всегда что-то упускаешь. Сейчас выйдешь на сцену, и кто-нибудь – профессор Линдквист с его ледяной улыбкой, или доктор Чжан с её безжалостными вопросами – найдёт ошибку. При всех. И твоя карьера закончится, не успев начаться.
Она закрыла ноутбук. Руки почти не дрожали.
Почти.
Конференц-зал был спроектирован в прошлом веке – амфитеатром, с деревянными рядами, поднимающимися к потолку, и кафедрой внизу, похожей на жертвенный алтарь. Акустика была идеальной: каждый шёпот в задних рядах долетал до сцены, каждое покашливание звучало как приговор.
Когда Майя спустилась к кафедре, зал был заполнен наполовину. Около сотни человек – физики, космологи, математики со всего мира. Средний возраст – под пятьдесят. Средний уровень скептицизма – запредельный.
Она узнавала лица по публикациям и видеолекциям. Профессор Линдквист – в первом ряду, разумеется, с блокнотом в руках и выражением человека, который пришёл на казнь и намерен получить удовольствие. Доктор Чжан – чуть дальше, рядом с группой коллег из Пекинского университета. Доктор Фарид – автор работы, которую Майя критиковала в третьей главе диплома, – у окна, демонстративно проверяющий что-то в планшете.
И ещё один человек, которого она не узнала.
Он сидел в предпоследнем ряду, почти у самого выхода. Высокий, сутулый, с тёмными волосами и ранней сединой на висках. Лицо – обычное, не запоминающееся, из тех, что теряются в толпе. Но что-то в его позе привлекло её внимание: он сидел неподвижно, не листая программу, не проверяя телефон, просто смотрел на сцену. На неё.
Майя отвела взгляд. Сосредоточься.
– Следующий доклад, – объявил председатель секции, – «Информационные парадоксы в области горизонта событий: новый подход к проблеме Хокинга». Докладчик – Майя Никитина, Санкт-Петербургский государственный университет.
Жидкие аплодисменты. Кто-то в задних рядах зевнул – демонстративно, громко.
Майя подключила ноутбук к проектору. Первый слайд появился на экране за её спиной: название, имя, логотип университета.
– Добрый день, – начала она, и голос прозвучал выше, чем хотелось бы. – Я хотела бы представить вашему вниманию…
Дыши. Медленно. Ты знаешь материал лучше, чем они.
Она начала.
Первые десять минут прошли гладко.
Майя говорила о парадоксе потери информации – классической проблеме, которая мучила физиков с семидесятых годов прошлого века. Стивен Хокинг показал, что чёрные дыры испаряются, излучая тепловое излучение; но это излучение, казалось, не несло информации о том, что упало в дыру. А значит, информация терялась – что противоречило фундаментальным принципам квантовой механики.
Это была история, которую знали все в зале. Майя рассказывала её не для них – для себя, чтобы успокоиться, войти в ритм.
– Голографический принцип, предложенный 'т Хоофтом и Сасскиндом, – продолжала она, переключая слайды, – утверждает, что вся информация о трёхмерном объёме может быть закодирована на его двумерной границе. Это элегантное решение, но оно оставляет открытым вопрос о механизме кодирования.
Она перешла к своей части – к тому, ради чего приехала.
– Моя работа предлагает конкретную модель этого механизма. Я называю её «резонансным кодированием».
На экране появилась схема: чёрная дыра, горизонт событий, падающая частица. Стрелки показывали потоки информации.
– Идея в следующем: в момент пересечения горизонта событий квантовое состояние падающего объекта не уничтожается. Вместо этого оно «отпечатывается» на самом горизонте через механизм, который я описываю уравнением 7.4.
Слайд сменился. Уравнение заняло весь экран – три строки символов, которые она знала наизусть.
В зале кто-то зашелестел бумагой. Профессор Линдквист что-то быстро писал в блокноте. Доктор Фарид наконец отложил планшет и смотрел на экран с выражением, которое Майя не могла прочитать.
Человек в предпоследнем ряду не двигался. Просто смотрел.
– Ключевая особенность модели, – продолжала Майя, – состоит в том, что кодирование происходит не мгновенно. Существует временно́е окно – я называю его «окном резонанса» – в течение которого информация может быть передана через горизонт в обоих направлениях.
Это была смелая идея. Слишком смелая, говорил ей научный руководитель. Ты претендуешь на то, что решила проблему, над которой бились нобелевские лауреаты. В двадцать четыре года. С дипломной работой.
Она претендовала именно на это.
– Если модель верна, – сказала она, – это означает, что чёрные дыры – не могилы информации. Это… – она запнулась, подбирая слово, – это архивы. Хранилища. Всё, что падает в них, сохраняется – пусть и в форме, которую мы пока не умеем читать.
Тишина.
Потом – голос из первого ряда:
– Слайд семь, пожалуйста.
Профессор Линдквист. Его тон был вежливым – опасно вежливым.
Майя вернулась к слайду с уравнением.
– Третья строка, – сказал Линдквист. – Переход от интеграла к сумме. Вы предполагаете непрерывность функции распределения?
– Да, в пределах…
– А почему?
Майя открыла рот, чтобы ответить, – и поняла, что не знает.
Непрерывность казалась очевидной, когда она выводила уравнение. Стандартное допущение, которое делали все. Но теперь, глядя на формулу глазами Линдквиста, она видела: допущение было необоснованным. Она не доказала непрерывность. Она её предположила.
– Это… – она запнулась. – Это стандартное допущение для данного класса задач.
– Стандартное, – повторил Линдквист. В его голосе не было насмешки – только холодное любопытство хирурга, разглядывающего опухоль. – Но здесь оно неприменимо. Вы работаете с квантовой гравитацией, мисс Никитина. Здесь пространство-время дискретно на планковских масштабах. Непрерывность – иллюзия.
Он прав.
Мысль ударила её как ведро ледяной воды.
Он прав. Допущение неверно. Уравнение – неверно. Вся модель…
– Я… – она слышала собственный голос как будто со стороны, – я должна была проверить…
– Вы должны были, – согласился Линдквист. – Но не проверили.
В зале кто-то хихикнул. Негромко, но в идеальной акустике звук разнёсся до последнего ряда.
Майя стояла у кафедры, и пол под её ногами проваливался. Она видела, как Линдквист закрывает блокнот – с ней покончено, больше неинтересно. Видела, как Фарид усмехается – он отомщён за критику в третьей главе. Видела, как Чжан качает головой – жаль, девочка, но это конец.
И тогда – голос из предпоследнего ряда:
– Если позволите, профессор.
Все обернулись.
Человек с ранней сединой встал. Его голос был негромким, но отчётливым – голос человека, которому не нужно повышать тон, чтобы его слушали.
– Вы правы насчёт непрерывности. Допущение неверно. Но ошибка мисс Никитиной интереснее, чем правильное решение.
Линдквист нахмурился.
– И кто вы такой?
– Дмитрий Орлов. Институт теоретической физики, Санкт-Петербург.
Орлов. Майя знала это имя. Его работы по квантовой гравитации цитировались в каждом учебнике последнего десятилетия. Он был одним из тех, чьи статьи она читала ночами, пытаясь понять, где заканчивается современная физика и начинается terra incognita.
– Орлов, – повторил Линдквист. Его тон изменился – едва заметно, но Майя уловила: уважение? настороженность? – Я не знал, что вы здесь.
– Я прилетел сегодня утром. Хотел послушать молодых коллег. – Орлов смотрел не на Линдквиста – на Майю. Его глаза были карими, тёплыми, и в них не было ни капли насмешки. – Мисс Никитина, вы можете показать слайд семь ещё раз?
Она показала. Руки больше не дрожали – адреналин сделал своё дело, превратив страх в странную, звенящую ясность.
– Вот здесь, – Орлов указал на третью строку, – вы переходите от интеграла к сумме. Допущение непрерывности неверно, профессор Линдквист прав. Но посмотрите, что получится, если отказаться от непрерывности.
Он сделал паузу, словно давая залу время подумать.
– Если пространство-время дискретно на планковских масштабах – а оно, скорее всего, дискретно – то функция распределения должна быть не непрерывной, а ступенчатой. И тогда интеграл превращается в сумму не как допущение, а как необходимость. Уравнение мисс Никитиной – с небольшой модификацией – описывает не непрерывный канал передачи информации, а дискретный. Квантованный. С конечным числом состояний.
Тишина – но другая. Не насмешливая. Задумчивая.
– Это меняет физический смысл модели, – продолжал Орлов. – Вместо непрерывного потока информации через горизонт мы получаем… – он помедлил, подбирая слово, – телеграф. Сигналы. Отдельные пакеты данных, передаваемые в моменты резонанса.
Линдквист поднял руку.
– Это чистая спекуляция.
– Разумеется. Но это интересная спекуляция. – Орлов улыбнулся – едва заметно, одними уголками губ. – Мисс Никитина случайно нашла дверь, которую никто не искал. Она ошиблась в том, как её открыть, – но дверь есть. Это важнее правильного уравнения.
Он сел.
Зал молчал. Майя стояла у кафедры, не зная, что делать: продолжать доклад? благодарить? извиняться?
– Я полагаю, – сказал председатель секции после неловкой паузы, – что время для вопросов исчерпано. Мисс Никитина, благодарим вас за интересное выступление.
Интересное. Не «провальное». Не «ошибочное». Интересное.
Майя собрала ноутбук и покинула сцену под жидкие, но вежливые аплодисменты.
Она нашла его в фойе.
Вернее – он нашёл её. Когда Майя вышла из зала, всё ещё оглушённая произошедшим, Дмитрий Орлов стоял у кофейного автомата, держа в руке пластиковый стаканчик, и смотрел на неё так, словно ждал.
– Мисс Никитина.
– Профессор Орлов.
– Просто Дмитрий. – Он протянул ей второй стаканчик. – Кофе? Он ужасный, но горячий.
Она взяла. Пальцы обхватили тёплый пластик – якорь, за который можно держаться.
– Спасибо, – сказала она. – За… за всё. За то, что вмешались.
– Я не вмешивался. Я указал на очевидное.
– Для вас – очевидное. Для меня… – она осеклась.
– Для вас – конец света, – закончил он. – Я помню это чувство. Первая конференция, первый вопрос, первый удар. Линдквист хорош в этом: находить слабое место и бить туда.
– Он был прав.
– Насчёт непрерывности – да. Насчёт всего остального – нет.
Майя отпила кофе. Он был действительно ужасным – горьким, пережжённым, с металлическим привкусом автомата. Но горячим.
– Вы правда думаете, что моя модель… что в ней что-то есть?
Орлов не ответил сразу. Он смотрел на неё – внимательно, оценивающе, как смотрят на уравнение, пытаясь понять его структуру.
– Я думаю, – сказал он наконец, – что вы задали правильный вопрос. Это редкость. Большинство учёных тратят жизнь на правильные ответы к неправильным вопросам. Вы начали с другого конца.
– Но если уравнение неверно…
– Уравнения можно исправить. Вопросы – нет. – Он сделал глоток кофе, поморщился. – Ваша идея о резонансных окнах. Откуда она?
Майя помолчала. Никто раньше не спрашивал её об этом – о том, как рождаются идеи, а не о том, как они формализуются.
– Не знаю, – призналась она. – Это было… ощущение. Я читала работы Сасскинда, Малдасены, ваши… – она запнулась, – и мне казалось, что чего-то не хватает. Что все описывают что, но не как. И однажды ночью – я сидела на крыше общежития, смотрела на звёзды – мне вдруг подумалось: а что, если горизонт событий – это не стена? Что, если это мембрана? Что, если она пропускает информацию – но не всегда, а в определённые моменты?
Орлов смотрел на неё. Его глаза – карие, тёплые – на долю секунды стали другими. Пустыми. Смотрящими сквозь неё, куда-то далеко.
Потом – так же внезапно – он снова был здесь.
– Интуиция, – сказал он. – Хорошая интуиция. Редкая.
– Или бред недосыпающей студентки.
– Бред и интуиция часто неотличимы. Разница выясняется потом – когда одно из них оказывается правдой.
Он отставил стаканчик и протянул ей руку – не для рукопожатия, а ладонью вверх, словно предлагая что-то невидимое.
– Майя. Можно – Майя?
– Да.
– Майя, я прилетел в Женеву сегодня утром. Я не планировал это – у меня лекция в Цюрихе через два дня, я мог бы остаться там. Но… – он помедлил, – что-то подсказало мне, что нужно быть здесь. Именно сегодня. Именно на этой секции.
– Подсказало?
– Интуиция. – Он улыбнулся – и улыбка преобразила его лицо, сделала его моложе, живее. – Или бред недосыпающего профессора.
Майя невольно улыбнулась в ответ.
– Я хочу предложить вам кое-что, – продолжал Орлов. – Не сейчас – потом, когда вы защитите диплом. Аспирантура в моей лаборатории. Три года, может быть, четыре. Работа над вашей моделью – с правильными уравнениями.
Она замерла.
– Это… вы серьёзно?
– Абсолютно серьёзно.
– Но вы видели меня… пятнадцать минут. Услышали доклад с ошибкой. Почему вы…
– Потому что вы нашли дверь, – повторил он. – А я – возможно – знаю, что за ней.
Они вышли из здания университета вместе.
Дождь не прекратился – даже усилился, превратившись в косую завесу, которая мгновенно промочила Майино пальто. Она не взяла зонт – глупо, по-студенчески глупо.
Орлов – Дмитрий – раскрыл зонт над ними обоими. Большой, чёрный, старомодный – из тех, что передают по наследству.
– Куда вы теперь? – спросил он.
– В отель. Рейс завтра утром.
– Далеко?
– Через два квартала.
Они пошли вместе – не договариваясь, не обсуждая. Просто пошли.
Женева текла мимо них: серые фасады, жёлтые огни витрин, люди под зонтами, машины, рассекающие лужи. Обычный мартовский вечер. Обычный город. Необычный день.
– Расскажите мне, – попросил Дмитрий, – как вы пришли к физике.
Вопрос застал её врасплох. Никто не спрашивал об этом – обычно люди интересовались темой диплома, перспективами карьеры, планами на будущее. Никто не спрашивал о начале.
– Это банально, – предупредила она.
– Банальные истории часто оказываются правдивыми.
– Мне было семь лет, – начала Майя. – Мы жили тогда в Санкт-Петербурге, в старом доме на Васильевском острове. У дома была плоская крыша – официально туда нельзя было подниматься, но я знала, как открыть люк.
Она замолчала, удивляясь сама себе. Она не рассказывала эту историю никому – даже научному руководителю, даже родителям.
– Продолжайте, – мягко сказал Дмитрий.
– Однажды летом – белые ночи, знаете, когда не темнеет по-настоящему – я вылезла на крышу ночью. Одна. Родители думали, что я сплю.
Она помнила это так ясно, словно это было вчера: тёплый асфальт под босыми ногами, запах пыли и голубиного помёта, небо – не чёрное, а бледно-синее, как размытая акварель.
– Я смотрела вверх, – продолжала она, – и видела звёзды. Не много – из-за белой ночи, из-за городских огней – но несколько самых ярких. И я помню, как думала: они там. Прямо сейчас. Они существуют. Не картинка в книжке, не огоньки на потолке планетария – настоящие. Огромные. Далёкие. И я – здесь. Маленькая. Близкая. И между нами – пространство. Не пустота – пространство. Что-то, что можно измерить, понять, узнать.
Дождь барабанил по зонту. Мимо проехал трамвай – старинный, желтый, звенящий.
– Это не был духовный опыт, – уточнила Майя. – Не озарение, не мистика. Просто… понимание. Что мир – есть. Что он работает по правилам. И что правила можно найти.
Дмитрий молчал. Она украдкой взглянула на него – и снова поймала этот странный взгляд. Глаза, которые на долю секунды смотрели сквозь – куда-то дальше, глубже, чем мог видеть обычный человек.
– Я узнаю это, – сказал он наконец.
– Что?
– Это чувство. Я испытал его тоже. Давно. – Он помолчал. – Вы родились учёным, Майя. Не стали – родились.
– Это комплимент?
– Это констатация.
Они свернули за угол, и дождь ударил сильнее – ветер переменился. Дмитрий придвинулся ближе, закрывая её зонтом, и она почувствовала тепло его плеча рядом со своим.
– А вы? – спросила она. – Как вы пришли к физике?
Он не ответил сразу. Шли молча, шаг за шагом, и Майя уже решила, что он не ответит вовсе, когда он заговорил:
– Мне было двадцать семь. Я только защитил докторскую. Тема – квантовые флуктуации в ранней Вселенной. Хорошая работа. Правильные уравнения. Никаких ошибок.
– Но?
– Но ночью после защиты мне приснился сон.
Он сказал это просто, без драматизма – как говорят о погоде или о расписании поездов.
– Я стоял на краю… чего-то. Не обрыва – границы. Там, где заканчивалось одно и начиналось другое. И я слышал голос. Не слова – понимание. Как будто кто-то вложил мысль прямо мне в голову.
– Что за мысль?
Дмитрий посмотрел на неё. Его лицо было серьёзным – ни тени иронии.
– «Ты ищешь не там. То, что ты хочешь найти, – внутри, а не снаружи. Чёрные дыры – не могилы. Они – двери».
Майя остановилась.
– Это… – она не знала, что сказать. – Это звучит как…
– Как бред? – Он улыбнулся. – Да. Я тоже так думал. Следующие десять лет. А потом начал читать работы Смолина.
Космологический естественный отбор. Вселенные, рождающиеся внутри чёрных дыр. Двери – не могилы.
– Вы думаете, это было… пророчество?
– Я думаю, это была интуиция. Очень сильная, очень странная – но интуиция. Мозг работает ночью, собирает куски, которые мы не замечаем днём. Иногда результат выглядит как откровение.
Он снова пошёл вперёд, и она пошла рядом.
– Или, – добавил он тихо, – иногда это действительно откровение. Я не знаю. Никто не знает.
– Вы верите в… что? В бога? В судьбу?
– Я верю в то, что вселенная сложнее, чем мы можем понять. И что иногда она… – он подбирал слово, – подсказывает. Тем, кто умеет слушать.
Они дошли до отеля – маленького здания на углу, с неоновой вывеской, мигающей под дождём.
Майя остановилась у входа.
– Спасибо, – сказала она. – За зонт. За… за всё.
– Не благодарите. – Дмитрий сложил зонт, стряхнул воду. – Это я должен благодарить вас.
– За что?
– За то, что нашли дверь. – Он смотрел на неё, и его глаза снова были нормальными – тёплыми, карими, человеческими. – Я искал её много лет. Теперь знаю, где смотреть.
– Вы говорите загадками.
– Возможно. Но вы поймёте – потом. Когда найдёте ответы на свои собственные вопросы.
Он повернулся, чтобы уйти, – и остановился.
– Майя.
– Да?
– Кофе. Завтра утром. Перед вашим рейсом. Есть место на набережной – маленькое кафе, называется «Ле Флорилеж». Хозяин – старик из Лиона, он жарит зёрна сам. Настоящий кофе, не то, что в автоматах.
– Это… приглашение?
– Это предложение. – Он улыбнулся. – Можете отказаться.
Она должна была отказаться. Он был профессором, она – студенткой. Он предложил ей аспирантуру – принять ещё и приглашение на кофе было бы… что? Неэтично? Неосторожно? Слишком быстро?
– Во сколько? – спросила она.
– В семь. Раньше – толпы туристов, позже – вы опоздаете на рейс.
– Хорошо.
Он кивнул – коротко, по-деловому – и пошёл прочь. Его фигура растворилась в дожде через несколько секунд: тёмный силуэт, чёрный зонт, сутулые плечи.
Майя стояла у входа в отель и смотрела ему вслед.
Что это было?
Она не знала. Не понимала – и не пыталась понять. Что-то произошло сегодня – что-то большее, чем провальный доклад и неожиданная защита. Что-то, что изменит её жизнь.
Интуиция, подумала она. Или бред.
Она вошла в отель.
Ночью ей снились звёзды.
Не питерские – те, что она видела с крыши в детстве, – а другие. Далёкие и близкие одновременно. Они кружились вокруг чего-то – чего-то тёмного, чего-то огромного, чего-то, что тянуло.
Она стояла на краю – том самом краю, о котором говорил Дмитрий, – и смотрела вниз. Там не было дна. Только бесконечность – не пугающая, а приглашающая. Словно кто-то открыл дверь и ждал, когда она войдёт.
Ты ищешь не там, сказал голос – не словами, а пониманием, прямо в её голову. То, что ты хочешь найти, – внутри, а не снаружи.
Она проснулась в шесть утра – за час до встречи – с ощущением, что только что узнала что-то важное. Что-то, что забыла в момент пробуждения.
Дождь прекратился.
Кафе «Ле Флорилеж» оказалось крошечным – три столика на террасе, четыре внутри, стойка с древней кофемашиной, хозяин – сухонький старик с густыми бровями и фартуком, который помнил, наверное, ещё прошлый век.
Дмитрий уже ждал – за столиком на террасе, с видом на озеро. Утреннее солнце – бледное, робкое после вчерашнего дождя – освещало его лицо, и Майя подумала, что он выглядит усталым. Или старше, чем вчера. Или иначе – способом, который она не могла определить.
– Вы пришли, – сказал он, вставая.
– Я обещала.
– Обещания не всегда держат.
– Я – держу.
Он улыбнулся – той же мягкой улыбкой, что вчера – и отодвинул для неё стул.
Они заказали кофе. Старик принёс его сам – в крошечных чашках, таких горячих, что пластик обжёг бы пальцы. Но чашки были фарфоровые – тонкие, с трещинками, с золотой каёмкой.
Кофе был другим. Не горьким – глубоким. С нотами шоколада и чего-то цветочного, чего Майя не могла определить.
– Вы были правы, – сказала она. – Это не автоматный кофе.
– Жан-Пьер жарит зёрна на старом ростере. Ему девяносто два. Он говорит, что остановится, когда умрёт.
– А если не умрёт?
– Тогда не остановится.
Майя засмеялась – впервые за два дня. Напряжение, которое копилось с момента прилёта в Женеву, отпускало понемногу.
Они говорили о физике – но не о формулах. О том, почему люди становятся учёными. О том, что значит искать истину в мире, который не обязан её отдавать. О том, как выглядит момент открытия – не в фильмах, где герой кричит «Эврика!», а в жизни, где ты сидишь перед экраном в три часа ночи и понимаешь, что цифры наконец сошлись.
– Это похоже на влюблённость, – сказала Майя. – Момент, когда всё встаёт на место. Когда хаос превращается в порядок.
– Влюблённость – хорошая метафора. – Дмитрий вертел в руках пустую чашку. – Учёные влюбляются в идеи. Иногда – на всю жизнь. Иногда – идея разбивает им сердце.
– Это личный опыт?
Он помолчал.
– Был. Давно.
Он не уточнил, и она не спросила. Между ними установилось странное доверие – то, что обычно формируется годами, а здесь возникло за несколько часов. Они говорили, как старые друзья, которые давно не виделись и наконец нашли друг друга.
Или как люди, которые должны были встретиться.
Мысль пришла сама – иррациональная, ненаучная. Майя отогнала её.
– Ваше предложение, – сказала она. – Насчёт аспирантуры. Оно серьёзное?
– Абсолютно.
– Почему?
Дмитрий посмотрел на неё. Его глаза – карие, тёплые – были сейчас совершенно обычными. Человеческими. Но где-то в глубине зрачков таилось что-то – что-то, что она видела вчера и что пугало её, и привлекало, и заставляло хотеть узнать больше.
– Потому что вы нашли дверь, – повторил он. – Ту самую, которую я искал. И потому что… – он запнулся.
– Потому что?
– Потому что я знаю, кто вы, Майя Никитина.
Она замерла.
– Что вы имеете в виду?
– Не бойтесь. – Он поднял руки – примирительный жест. – Ничего мистического. Я читал вашу курсовую два года назад. «Энтропийные ограничения на передачу информации через сингулярность». Небольшая работа, опубликованная в малоизвестном журнале. Но я нашёл её – случайно, через цепочку ссылок. И подумал: эта девочка из Санкт-Петербурга думает так же, как я. Задаёт те же вопросы.
– Вы следили за мной?
– Следил – неправильное слово. Я наблюдал. За вашими публикациями. За вашим путём. Когда увидел в программе конференции ваше имя – решил приехать.
– Чтобы… что? Завербовать меня?
– Чтобы встретить вас. – Он улыбнулся, но глаза были серьёзными. – В науке есть люди, которые решают задачи. И есть те, кто находит задачи, которые стоит решать. Вы – из вторых. Это редкость.
– Откуда вы знаете? Вы слышали один доклад. С ошибкой.
– Ошибка – не важна. Важно направление мысли. Вы смотрите туда, куда другие боятся смотреть. В чёрные дыры. В бесконечности. В места, где физика заканчивается и начинается… что-то другое.
Что-то другое.
Майя думала о своём сне. О крае, на котором она стояла. О голосе, который говорил: то, что ты ищешь, – внутри.
– Вы верите, что там что-то есть? – спросила она. – Внутри чёрных дыр. За горизонтом.
Дмитрий молчал долго. Солнце поднялось выше, озеро заблестело серебром, где-то вдалеке прогудел пароход.
– Да, – сказал он наконец. – Верю. Не как в бога – как в гипотезу. Гипотезу, которую можно проверить. Когда-нибудь.
– И вы думаете, что мы – вместе – сможем это сделать?
– Я думаю, что у нас есть шанс. – Он допил остатки кофе, давно остывшего. – Маленький шанс – но шанс.
Майя смотрела на него и думала: это безумие. Принять предложение от человека, которого я знаю меньше суток. Поверить в разговоры о дверях и гипотезах. Связать свою карьеру – свою жизнь – с кем-то, кого я не понимаю.
И другая часть её – та, что вылезала на крышу в детстве, та, что смотрела на звёзды и хотела понять, – говорила: это не безумие. Это то, чего ты ждала. Сама не знала чего – но ждала.
– Хорошо, – сказала она.
– Хорошо?
– Аспирантура. Ваша лаборатория. Я согласна.
Дмитрий улыбнулся – широко, открыто, так, что морщинки разбежались от глаз.
– Вы не пожалеете.
– Откуда вы знаете?
– Интуиция.
Они рассмеялись – оба, одновременно – и смех был лёгким, и утро было светлым, и всё, что случилось на конференции, осталось позади, как дурной сон.
Позже – много лет спустя – Майя будет вспоминать это утро и думать: вот момент, когда всё началось.
Не доклад. Не ошибка в уравнении. Не спасительное вмешательство Дмитрия.
Это утро. Кофе на террасе. Озеро, блестящее серебром. И слово «хорошо», которое изменило её жизнь.
Она не знала тогда – не могла знать – что Дмитрий искал её не по случайности. Что он нашёл её курсовую не через цепочку ссылок, а через сны. Что голос, который шептал ему «ты ищешь не там», шептал также: найди её, найди Майю Никитину из Санкт-Петербурга, она – ключ.
Она не знала, что его пробуждение – момент, когда наноструктуры в его мозгу наконец активировались – произошло двенадцать лет назад, в ночь защиты докторской. Что с тех пор он жил с голосом в голове – не постоянным, не громким, но направляющим. Указывающим путь. Отмечающим людей, которых нужно найти.
Она была отмечена ярче всех.
Он не знал почему. Просто знал: эта женщина важна. Для будущего, которое он не мог увидеть, но чувствовал – как чувствуют приближение грозы.
И теперь, глядя на неё через столик в маленьком женевском кафе, он думал: началось. Что бы это ни было – началось.
Вслух он сказал:
– Ваш рейс. Который час?
Майя взглянула на часы и вскочила.
– Боже. Я опаздываю.
– Такси до аэропорта – пятнадцать минут. Успеете.
– Вы уверены?
– Я часто летаю из Женевы.
Он встал, оставил деньги на столе – слишком много, старик Жан-Пьер точно будет ругаться – и вышел с ней на улицу.
Такси нашлось сразу – маленькая жёлтая машина, водитель с усами и газетой.
Майя открыла дверь, но не села. Обернулась.
– Спасибо, – сказала она. – За всё.
– До встречи в Петербурге, – ответил он. – В сентябре. Я пришлю документы.
– Хорошо.
Она села в такси. Дверь захлопнулась. Машина тронулась.
Дмитрий стоял на тротуаре и смотрел, как она уезжает. Утреннее солнце било ему в спину, и его тень – длинная, тонкая – тянулась вперёд, к озеру.
Началось, повторил он про себя. Что бы это ни было – началось.
В его голове – там, где жил голос – было тихо. Впервые за двенадцать лет.
Это могло значить что угодно: конец задания, начало нового этапа, просто пауза.
Он не знал.
Но он знал одно: Майя Никитина – та женщина, которую он искал. Та, что найдёт дверь. Та, что задаст вопросы, на которые никто не решается ответить.
Через тридцать восемь лет она узнает правду. О нём. О Ткачах. О Солнце.
Но сейчас – в это мартовское утро 2309 года, на набережной Женевского озера – она была просто молодой учёной, которая согласилась на кофе с незнакомцем.
И это было хорошо.
Это было достаточно.
Дмитрий развернулся и пошёл прочь. У него была лекция в Цюрихе через два дня. Работа. Жизнь. Всё, что заполняло годы между моментами, когда голос указывал направление.
Но теперь – впервые за долгое время – он чувствовал: направление найдено. Путь определён.
Осталось только пройти его.
Глава 4: Раскол
Земля, июнь 2347 года – три месяца после контакта
Москва
Площадь перед Кремлём не вмещала всех.
Люди стояли плотно, плечом к плечу, – сто тысяч человек, может быть, больше. Они заполнили Красную площадь до краёв, выплеснулись на прилегающие улицы, облепили крыши и балконы старых зданий. Над толпой колыхались знамёна – чёрные, с белым солнцем в центре. Символ, который три месяца назад не существовал, а теперь был известен каждому человеку на Земле.
Консервативный Альянс. Защитники человечества. Те, кто сказал «нет».
Виктор Рен стоял на трибуне и смотрел на море голов внизу. Солнце – настоящее, земное, то самое, которому осталось восемьдесят лет – било ему в лицо, и он не щурился. Он разучился щуриться сорок девять лет назад, когда другое солнце – солнце Новой Эллады – взорвалось вместе с его семьёй.
Рядом с ним на трибуне – офицеры, политики, лица, которые он едва знал. Они пришли к нему, не он к ним. Три месяца назад он был отставным маршалом, человеком, чьё время прошло. Теперь – голос сопротивления.
Смешно, подумал он. Я не хотел этого. Я хотел только покоя.
Но покой – роскошь для мёртвых. А он всё ещё был жив.
Толпа скандировала его имя. «Рен! Рен! Рен!» Ритмично, как удары сердца. Как военный марш.
Он поднял руку, и площадь замолчала. Не сразу – волна тишины прокатилась от трибуны к краям, гася голоса, как огонь гасит свечи. Через минуту – полная тишина. Сто тысяч человек ждали.
Рен не любил речи. Он был солдатом, не политиком. Но солдат делает то, что нужно.
– Три месяца назад, – начал он, и голос, усиленный динамиками, разнёсся над площадью, – мы узнали, что не одиноки.
Пауза. Он позволил словам осесть.
– Три месяца назад существа, называющие себя Садовниками, объявили нам приговор. Наше Солнце умрёт. Через восемьдесят лет. Не случайно – намеренно. Они убьют его, как убили тысячи других звёзд до этого. Они назвали это Протоколом Засева.
Ропот в толпе – гневный, низкий.
– Они сказали нам: выбирайте. Эвакуация, сопротивление или принятие. Три варианта. Три судьбы. – Рен сделал паузу. – Но они забыли сказать главное.
Он наклонился вперёд, к микрофону, и его голос стал тише – но не менее отчётливым.
– Они забыли сказать, что мы – не скот. Не семена. Не удобрение для их космических садов. Мы – люди.
Рёв толпы. Знамёна взметнулись вверх, чёрное море с белыми солнцами.
Рен поднял руку снова, и рёв стих.
– Они называют себя Садовниками. Они называют нас – материалом. Сырьём. Чем-то, что можно использовать и выбросить.
Его голос стал жёстче.
– Я называю их – врагами.
Снова рёв. Громче, яростнее.
– Они хотят убить наше Солнце. Они хотят уничтожить наш дом. Они хотят, чтобы мы поблагодарили их за это.
Он выпрямился. Шрам на его лице – память о Новой Элладе, о дне, когда мир рухнул – белел на загорелой коже.
– Я говорю – нет.
Пауза. Тишина – абсолютная.
– Лучше погибнуть людьми, чем выжить рабами. Лучше красивая смерть, чем жалкая жизнь под присмотром тех, кто считает нас насекомыми. Лучше сражаться – даже если победа невозможна – чем склонить голову перед теми, кто видит в нас только топливо для своих вселенных.
Он обвёл взглядом толпу – сто тысяч лиц, сто тысяч пар глаз, устремлённых на него.
– Нам говорят: сопротивление бессмысленно. Они сильнее. Они древнее. Они умнее.
Его губы искривились в подобии улыбки – холодной, режущей.
– Может быть. Но они не знают одного. Они не знают, на что способен человек, которому нечего терять.
Он поднял кулак – жест, который через три месяца станет символом Альянса на всех плакатах, на всех экранах, в памяти всех, кто выберет его сторону.
– Мы – Консервативный Альянс. Мы – те, кто помнит, что значит быть человеком. И мы не сдадимся. Никогда. Ни за какую цену.
Рёв толпы был оглушительным. Он накатил на трибуну, как волна, и Рен стоял в его центре – неподвижный, несгибаемый, как скала посреди шторма.
Он не улыбался. Он никогда не улыбался.
Марина, подумал он, глядя на бушующее море людей внизу. Алёша. Катя. Петя. Я делаю это для вас. Для всех, кого они убили своим равнодушием.
Толпа скандировала его имя, и он принимал это – не как почесть, а как ношу.
Война началась.
Позже, в машине по дороге с площади, Волков – его адъютант, тень, которая следовала за ним уже двадцать лет – спросил:
– Маршал, вы правда верите, что мы можем победить?
Рен смотрел в окно. Москва проплывала мимо – старые здания, новые башни, люди на улицах, которые ещё не знали, что их мир изменился навсегда.
– Нет, – сказал он.
Волков замолчал. Ждал.
– Победа невозможна, – продолжил Рен. – Они сильнее нас на миллиарды лет эволюции. У нас нет оружия, которое могло бы их остановить. У нас нет технологий, которые могли бы спасти Солнце.
– Тогда зачем?..
– Затем, что есть вещи важнее победы.
Рен повернулся к нему. Его глаза – выцветшие, почти белые – были холодны и спокойны.
– Если мы сдадимся – мы перестанем быть людьми. Станем тем, чем они нас считают: скотом, который ведут на убой. Если мы будем сражаться – мы останемся собой. До последнего вздоха.
– Это… философия, маршал.
– Это истина, Волков. Единственная, которая у нас есть.
Машина свернула на закрытую улицу, к зданию штаба Альянса – бывшему военному комплексу, который три месяца назад был почти заброшен, а теперь кипел жизнью.
– Есть ещё кое-что, – добавил Рен, когда машина остановилась.
– Что?
– Если мы будем сражаться достаточно долго, достаточно яростно – может быть, они нас заметят. Может быть, впервые за миллиарды лет они увидят, что мы – не просто функция. Что мы способны на выбор, который они не предусмотрели.
– И что тогда?
Рен открыл дверь машины.
– Не знаю. Но это – шанс. Единственный, который у нас есть.
Он вышел в московский вечер, и охрана сомкнулась вокруг него – люди, готовые умереть за человека, который вёл их в войну без надежды на победу.
Достоинство, подумал он, глядя на здание штаба. Это единственное, что они не смогут у нас отнять. Если мы сами не отдадим.
Женева
В тот же день, на другом конце планеты, Ли Чжэнфэй сидел в углу зала заседаний ООН и пил чай из термоса, который принёс с собой.
Зал был старым – построенным в двадцать первом веке, пережившим три глобальных кризиса и две перестройки. Дерево обшивки потемнело от времени, кресла были неудобными, акустика – отвратительной. Но именно здесь, в этом пыльном реликте прошлого, решалась судьба человечества.
Или не решалась. Чаще – не решалась.
За три месяца после контакта Федерация Человечества провела сорок семь заседаний. Приняла ноль решений. Каждый раз голосование заходило в тупик: слишком много фракций, слишком много интересов, слишком много страха.
Ли наблюдал. Это было его работой – наблюдать, анализировать, искать точки соприкосновения. Верховный дипломат Федерации. Человек, который должен был найти компромисс там, где его не существовало.
Тридцать лет, думал он, глядя на споривших делегатов. Тридцать лет я занимаюсь этим. И впервые – не знаю, что делать.
На трибуне говорил кто-то из представителей Марсианской колонии – молодой, горячий, с речью, полной громких слов и пустых обещаний. Ли не слушал. Он слышал эту речь сорок раз в разных вариациях.
«Мы должны объединиться!» – говорили одни.
«Мы должны сражаться!» – говорили другие.
«Мы должны принять их условия!» – говорили третьи.
«Мы должны найти техническое решение!» – говорили четвёртые.
Никто не говорил: «Мы должны подумать».
Марсианский делегат закончил. Жидкие аплодисменты. Следующий – представитель лунных колоний. Ещё одна речь. Ещё одна пустота.
Ли отпил чай. Зелёный, с жасмином, из запасов, которые он привёз с Земли двадцать лет назад и растягивал, как последнюю связь с прошлым. Запах напомнил о Шанхае, о доме, который он почти не помнил. О дочери, которая больше с ним не разговаривала.
Мэй.
Мысль пришла непрошеной, как всегда. Он отогнал её – не время.
– Дипломат Ли?
Он поднял голову. Председатель заседания – бюрократ из Европейского сектора, чьё имя Ли никогда не мог запомнить – смотрел на него.
– Вы хотели что-то сказать?
Ли не помнил, чтобы просил слова. Но сотня глаз смотрела на него, и он понял: они ждут. Ждут чего-то – чего угодно – что разобьёт тупик.
Он отставил термос. Медленно встал. Прошёл к трибуне – неторопливо, как человек, которому некуда спешить.
– Мой дед, – начал он, – участвовал в переговорах о создании Федерации. Это было… – он сделал паузу, вспоминая, – сто пятьдесят лет назад. Три года споров. Четырнадцать покушений. Две гражданских войны.
Зал притих. Ли говорил редко, и когда говорил – его слушали.
– Мы выжили. Не потому что были правы. Не потому что были сильны. Потому что были терпеливы. Мой дед говорил: время – единственный ресурс, который нельзя украсть. Можно убить человека. Можно уничтожить планету. Но время идёт. Всегда.
Он обвёл взглядом зал.
– Сегодня я слышал много речей. О достоинстве, о сопротивлении, о принятии, о технологиях. Каждый из вас – прав. По-своему. И каждый – неправ.
Ропот. Ли поднял руку – жест, который он подсмотрел у Рена на записи с московской площади.
– Маршал Рен говорит: сражаться. Хорошо. Но с кем? С существами, которые старше нашей галактики? С технологиями, которые мы не можем понять? Мы проиграем. Это не пессимизм – это арифметика.
Он повернулся к другой части зала.
– Еретики Смолина говорят: принять. Понять нашу роль в космосе. Прекрасно. Но что это значит на практике? Лечь и умереть? Благодарить тех, кто приговорил нас к смерти?
Ещё поворот.
– Прометейцы говорят: найти техническое решение. Остановить Засев. Спасти Солнце. Чудесно. Но мы не знаем, как. Мы даже не понимаем, как работает их технология. Мы – дети, пытающиеся разобрать атомную бомбу с помощью отвёртки.
Тишина. Абсолютная.
– И что предлагаете вы? – спросил кто-то из задних рядов.
Ли помолчал. Посмотрел на свой термос – остывший чай, последние капли жасмина.
– Выживать, – сказал он. – Любой ценой. Не красиво. Не гордо. Не достойно. Просто – выживать. Потому что мёртвые не спорят о достоинстве. Мёртвые вообще не спорят.
Он сделал паузу.
– Восемьдесят лет – это много. Достаточно, чтобы эвакуировать тех, кто хочет уйти. Достаточно, чтобы подготовить тех, кто хочет остаться. Достаточно, чтобы понять – может быть, понять – с чем мы имеем дело.
– Вы предлагаете переговоры? – спросил марсианский делегат. – С теми, кто собирается нас уничтожить?
– Я предлагаю время. Переговоры – инструмент. Не цель.
– А если переговоры провалятся?
Ли пожал плечами.
– Тогда мы попробуем что-то другое. Но живые могут пробовать. Мёртвые – нет.
Он вернулся к своему месту. Сел. Взял термос.
Зал молчал.
Потом – медленно, неуверенно – начались аплодисменты. Не бурные, как на площади Рена. Тихие, задумчивые. Аплодисменты людей, которые не были уверены, что услышали правду – но хотели, чтобы это было правдой.
Выживание, подумал Ли, глядя в пустую чашку. Самая некрасивая из добродетелей. Но единственная, которая работает.
Он думал о Мэй. О дочери, которая ушла к Еретикам, потому что не могла простить ему эту философию. Выживание любой ценой. Компромисс вместо принципов. Жизнь вместо достоинства.
Ты трус, папа, сказала она в последний раз, когда они говорили. Ты всегда был трусом.
Может быть. Но трусы живут дольше.
Заседание продолжалось. Голосование – снова без результата. Но что-то изменилось. Ли чувствовал это – сдвиг в воздухе, в настроении, в том, как люди смотрели друг на друга.
Он посеял семя. Маленькое, незаметное.
Время покажет, что из него вырастет.
Неизвестная локация
Трансляция началась в полночь по среднеземному времени.
Все каналы. Все частоты. Одновременно – на Земле, на Марсе, на Луне, на орбитальных станциях, на кораблях в глубоком космосе. Кто-то взломал сети Федерации – профессионально, элегантно, так, что следов не осталось.
Лицо на экране было молодым, энергичным, с серыми глазами и резкими чертами. Женщина лет тридцати пяти, может быть, сорока – короткие тёмные волосы, одежда без знаков различия, фон – нейтральный серый.
Анна Орлова. Биолог. Дочь Майи Орловой. Имя, которое через три месяца будут знать все.
– Меня зовут Анна Орлова, – начала она. Голос был спокойным, но с той вибрацией, которая заставляет людей слушать. – Я не политик. Не генерал. Не дипломат. Я учёный. И я хочу рассказать вам историю.
Она сделала паузу. Камера – кто бы её ни держал – не двигалась.
– Мой дедушка был инженером. Он строил космические лифты – помните, когда это ещё было возможно? Моя бабушка – историк науки. Мой отец – физик. Моя мать – космолог. Все они задавали один вопрос: почему? Почему вселенная такая, какая есть? Почему мы существуем? Почему звёзды горят и умирают?
Она чуть наклонила голову – жест, который делала всегда, когда переходила к главному.
– Теперь мы знаем ответ.
Экран за её спиной ожил. Схемы. Диаграммы. Вселенная, разворачивающаяся из точки, разветвляющаяся на триллионы путей.
– Вселенная размножается. Это не метафора – это физика. Каждая чёрная дыра порождает новую вселенную внутри себя. Новые звёзды, новые планеты, новую жизнь. Космологический естественный отбор – теория, которую предложил Ли Смолин ещё в двадцатом веке.
Диаграммы сменились: дерево, ветвящееся бесконечно, и на каждой ветви – галактики.
– Ткачи – или Садовники, как они себя называют – поняли это миллиарды лет назад. Они не уничтожают звёзды – они сеют. Каждый коллапс – не смерть, а рождение. Каждая чёрная дыра – не могила, а колыбель.
Анна подалась вперёд, к камере, и её глаза – серые, как у матери – смотрели прямо в объектив.
– И мы – часть этого. Не жертвы. Не материал. Часть. Разумная жизнь – это способ вселенной познать себя. Мы – её глаза, её уши, её понимание. Без нас она слепа.
Пауза.
– Маршал Рен говорит: сражаться. Защищать наше достоинство. – Анна покачала головой. – Но какое достоинство в том, чтобы сражаться с законами природы? Мы не сражаемся с гравитацией, когда падаем. Мы учимся летать.
Она встала. Камера отодвинулась, показывая её целиком – высокую, худую, в простой одежде, без украшений.
– Дипломат Ли говорит: выживать. Выигрывать время. – Она пожала плечами. – Выживание ради выживания – это не цель. Это страх. Страх смерти, который не даёт нам жить.
Она подошла к экрану за своей спиной. Коснулась его – и изображение изменилось. Теперь там была спираль – ДНК или галактика, было невозможно сказать.
– Доктор Штейн говорит: найти техническое решение. Остановить Засев. Спасти Солнце. – Её голос стал мягче, почти сочувственным. – Я понимаю это желание. Кто из нас не хотел бы жить вечно? Но вечность – иллюзия. Звёзды умирают. Вселенные умирают. Это не трагедия – это процесс.
Она повернулась к камере.
– Мы – Еретики Смолина. Мы не сражаемся с вселенной. Мы понимаем её. И мы говорим: да.
Её голос окреп.
– Да – нашему месту в космосе. Да – нашей роли в величайшем процессе, который когда-либо существовал. Да – тому, что мы – не центр мироздания, но часть его. Важная. Необходимая. Прекрасная.
Она раскинула руки – жест, который мог быть религиозным или научным, или и тем, и другим.
– Садовники – не враги. Они – старшие братья. Они прошли этот путь миллиарды лет назад, и они показывают нам дорогу. Не к смерти – к пониманию.
Её глаза – серые, знакомые, материнские – смотрели с экрана.
– Мой отец однажды сказал мне: звёзды – семена. Тогда я не поняла. Теперь – понимаю.
Экран за ней погас. Осталось только её лицо – освещённое снизу, как на старинных портретах.
– Присоединяйтесь к нам. Не потому что мы правы – а потому что понимание лучше страха. Знание лучше невежества. И принятие – лучше бесполезной борьбы.
Она улыбнулась – первый раз за всю трансляцию.
– Мы – Еретики Смолина. И мы ждём вас.
Экран погас.
Луна
Лунный Институт Перспективных Исследований занимал целый кратер – Циолковский, на обратной стороне Луны, вдали от Земли и её проблем. Сюда приезжали те, кто хотел думать, не отвлекаясь на политику, войны и прочую человеческую суету.
Маркус Штейн приехал сюда двадцать лет назад – молодым постдоком с амбициями, превышающими его достижения. Теперь он был директором, и его достижения наконец догнали амбиции.
Почти.
Конференц-зал Института был заполнен до отказа. Двести человек – лучшие физики, космологи, инженеры человечества. Они приехали со всей Солнечной системы по его приглашению, и теперь ждали, что он скажет.
Штейн стоял на сцене, перед голографическим экраном, и смотрел на них. Высокий, худощавый, с резкими чертами лица и глубоко посаженными глазами. Седые волосы собраны в хвост – анахронизм, который он культивировал, потому что это помогало людям его запоминать.
– Три месяца назад, – начал он, – нам сказали, что мы бессильны.
Пауза. Он любил паузы – они давали аудитории время осознать сказанное.
– Нам сказали, что Ткачи непобедимы. Что их технологии за пределами нашего понимания. Что мы – муравьи, пытающиеся остановить цунами.
Он прошёлся по сцене – медленно, руки за спиной.
– Маршал Рен говорит: сражаться. Благородно. Глупо. Дипломат Ли говорит: выживать. Практично. Унизительно. Доктор Орлова говорит: принять. Философично. Фаталистично.
Он остановился.
– Я говорю: понять.
На экране за его спиной появилась схема – звезда в разрезе, слои плазмы, термоядерное ядро.
– Ткачи не боги. Они – технология. Очень древняя, очень сложная – но технология. А любую технологию можно понять. Понятую – взломать. Взломанную – контролировать.
Ропот в зале. Штейн поднял руку.
– Я знаю, что вы думаете. «Это невозможно». «Мы недостаточно развиты». «Они на миллиарды лет впереди нас».
Он улыбнулся – холодно, уверенно.
– Вы ошибаетесь.
Схема изменилась. Теперь она показывала ядро звезды – и странную структуру внутри, похожую на кристалл.
– Семенная масса. Это то, что Ткачи вводят в ядро звезды, чтобы запустить процесс коллапса. Мы получили данные о ней – не спрашивайте как. Важно другое: мы знаем, как она выглядит. Мы знаем, как она работает. И мы знаем – теоретически – как её остановить.
Тишина. Абсолютная.
– Проект «Анти-Засев».
На экране появилась новая схема: устройство, окружающее семенную массу концентрическими кольцами.
– Направленное антигравитационное поле. Мы создаём «пузырь стабильности» вокруг семени, изолируя его от термоядерных реакций ядра. Семя остаётся – но не прорастает. Звезда продолжает гореть. Коллапс не происходит.
Кто-то в первом ряду поднял руку.
– Доктор Штейн, это… – голос был скептическим. – Это теория. У нас нет данных о параметрах семенной массы. Мы не знаем точно, как она интегрируется с ядром звезды. Мы не можем…
– Мы можем, – перебил Штейн. Его голос был спокойным, но твёрдым. – Мы можем, потому что у нас нет выбора. Альтернатива – смерть. Или бегство. Или капитуляция. Я не принимаю ни одну из этих опций.
Он обвёл взглядом зал.
– Кто из вас стал учёным, чтобы принимать поражения? Кто из вас пришёл в науку, чтобы сдаться перед проблемой, которую ещё даже не пытались решить?
Молчание.
– Дайте мне пять лет. Пять лет – и мы будем знать, возможно это или нет. Если возможно – мы спасём Солнце. Если нет… – он пожал плечами, – тогда у Рена и Ли ещё останется семьдесят пять лет на их войну и их переговоры.
Он вернулся к центру сцены.
– Но я верю, что возможно. Я верю в силу человеческого разума. Я верю, что мы способны на большее, чем бегство и смирение.
Пауза. Потом – аплодисменты. Громкие, уверенные. Аплодисменты учёных, которые наконец услышали то, что хотели услышать: надежду.
Штейн улыбнулся.
Пять лет, думал он, глядя на аплодирующий зал. Пять лет – и я либо спасу человечество, либо докажу, что спасения не существует.
Он не знал тогда – не мог знать – что через пять лет 340 человек, включая его жену, погибнут на станции «Икар». Что его проект закончится катастрофой, которая докажет: остановить Засев невозможно.
Но в тот момент, на сцене Лунного Института, он верил. Верил в себя, в науку, в способность человеческого разума победить любую проблему.
Это была прекрасная вера.
И она была ошибкой.
Обсерватория Края
Майя смотрела на экран.
Четыре лица – Рен, Ли, Анна, Штейн. Четыре речи. Четыре ответа на вопрос, который не имел ответа.
Она сидела в своей каюте на Обсерватории Края, в шести тысячах световых лет от Земли, и смотрела записи, которые прибыли с двухмесячной задержкой. Там, внизу, человечество раскалывалось на части. Здесь, наверху, она была одна со своим секретом.
Двадцать лет, подумала она. Двадцать лет я знала – и молчала. Теперь – поздно.
Она перемотала запись. Анна – её дочь, её маленькая Анна, которая когда-то боялась темноты – смотрела с экрана серыми глазами, такими похожими на её собственные.
«Мой отец однажды сказал мне: звёзды – семена. Тогда я не поняла. Теперь – понимаю».
Майя замерла.
Дмитрий.
Он говорил это. Она помнила – та ночь на Обсерватории, тридцать лет назад, когда они лежали под звёздами и смотрели на чёрную дыру.
«Звёзды – семена, Майя. Каждая звезда, которая умирает, рождает что-то новое».
Она думала тогда – метафора. Поэзия. Любовь, выражающая себя через образы.
Теперь знала: он говорил буквально. Он знал. Всё это время – знал.
Анна на экране улыбалась. Её дочь – лидер движения, которое проповедовало принятие Засева. Которое называло Ткачей «старшими братьями». Которое говорило: смерть Солнца – не трагедия, а часть космического процесса.
И она не знала, что её отец был частью этого процесса задолго до её рождения.
Должна ли я рассказать?
Майя задавала себе этот вопрос каждый день с тех пор, как нашла планшет Дмитрия. С тех пор, как прочитала его дневники. С тех пор, как поняла, кем он был.
Контактёр. Агент Ткачей. Человек, чей мозг модифицировали до его рождения. Человек, который нашёл её – не случайно, как она думала, а по указанию голоса в своей голове.
Человек, который любил её.
Она верила в это. Хотела верить. Несмотря ни на что.
«Я любил тебя. Каждый день. Это была единственная правда. Единственное, что было моим».
Его последнее письмо. Его последнее признание.
Можно ли любить и использовать одновременно? Можно ли быть инструментом – и при этом оставаться человеком? Можно ли простить того, кто обманывал тебя тридцать лет – если обман был ради чего-то большего?
Майя не знала. Никто не знал.
На экране Анна заканчивала свою речь.
«Мы – Еретики Смолина. И мы ждём вас».
Ирония, подумала Майя. Моя дочь проповедует то, во что верил её отец. И не знает, что он был частью того, во что она верит.
Она выключила экран.
За окном – чёрная дыра Лебедя X-1. Аккреционный диск горел золотом и пурпуром. В центре – ничто. Место, где заканчивалось пространство и начиналось что-то другое.
Что ты нашёл там, Дмитрий? Что ты видел в своих снах? Что говорил тебе голос?
Она не знала. Он умер, не рассказав.
Но он оставил ей инструменты. Планшет с чертежами. Устройство, которое она ещё не собрала. «Эхо Хокинга» – способ позвонить туда, откуда не возвращаются.
Когда придёт время – ты поймёшь, зачем.
Может быть, время пришло.
Может быть.
Майя встала. Подошла к окну. Прижала ладонь к холодному стеклу.
Внизу – человечество, раскалывающееся на части. Вверху – бездна, полная секретов.
И она – между ними. Хранительница знания, которое могло всё изменить.
Что бы ты сделал, Дмитрий? Если бы был здесь?
Молчание. Мёртвые не отвечают.
Но иногда – она могла поклясться – она слышала его голос. Не слова – понимание. Как будто он был здесь, рядом, и смотрел на неё своими карими глазами, которые иногда становились другими.
Информация важнее выживания, прошептала память. Дай людям знать – и они выберут сами.
Может быть, он был прав.
Может быть, пора.
Земля, вечер
В тот вечер – после речей, после трансляций, после всего – несколько человек приняли решения.
Виктор Рен, в своём кабинете в Москве, смотрел на старую фотографию. Женщина, трое детей. Лица, которые он помнил лучше, чем собственное отражение.
– Я сделаю это, – сказал он вслух. – Я заставлю их заплатить. Не победой – вниманием. Они увидят, кто мы такие. Они запомнят.
Фотография не ответила. Мёртвые не отвечают.
Ли Чжэнфэй, в своей квартире в Женеве, набирал номер. Номер, который он не набирал два года.
Гудок. Второй. Третий.
– Алло?
Голос Мэй. Его дочери. Женщины, которая называла его трусом.
– Это я, – сказал он.
Пауза.
– Папа?
– Я видел твою подругу по новостям. Орлову.
Молчание. Потом:
– Ты звонишь, чтобы осудить меня?
– Нет. Я звоню, чтобы сказать… – он запнулся. Слова не приходили. – Чтобы сказать, что я понимаю.
– Что ты понимаешь?
– Почему ты ушла. Почему выбрала их. Я не согласен – но понимаю.
Тишина в трубке. Долгая.
– Папа…
– Я люблю тебя, Мэй. Что бы ни случилось. Помни это.
Он положил трубку, не дожидаясь ответа.
За окном – Женева. Город, который пережил века. Который переживёт, может быть, ещё восемьдесят лет.
Выживание, подумал он. Самая некрасивая из добродетелей.
Но единственная, в которую он верил.
Анна Орлова, в убежище где-то на Марсе, сидела перед погасшим экраном.
Трансляция закончилась. Её лицо видели миллиарды людей. Её слова – слышали миллиарды ушей.
Она не чувствовала триумфа. Только усталость.
Мэй, подумала она. Где ты сейчас? Смотрела ли?
Мэй Ли – дочь того самого дипломата Ли, который говорил о выживании. Женщина, которая пришла к Еретикам вопреки отцу. Женщина, которую Анна любила.
Они не виделись две недели. Мэй была на Земле – координировала ячейки движения. Анна – здесь, в марсианском подполье, записывала манифесты.
Когда всё это закончится, подумала Анна, мы будем вместе. Когда человечество поймёт. Когда страх отступит.
Она верила в это.
Через полгода Мэй погибнет в теракте. Бомба в штаб-квартире Еретиков. 47 погибших.
Но сейчас – в этот вечер, в этом убежище – Анна этого не знала. Она знала только, что любит женщину, которая научила её сомневаться. И что впереди – будущее, которое они построят вместе.
Звёзды – семена, думала она, глядя на красное марсианское небо. Папа был прав. Он всегда был прав.
Она не знала, насколько буквально это было правдой.
Маркус Штейн, в своём кабинете на Луне, смотрел на схемы проекта «Анти-Засев».
Уравнения танцевали перед глазами – знакомые, послушные. Он вывел их сам, без помощи, как когда-то вывел свою первую работу по теории струн.
– Это сработает, – сказал он пустой комнате. – Я знаю, что это сработает.
Рядом – фотография. Елена – его жена, главный инженер проекта. Женщина, которая верила в него больше, чем он сам.
– Мы справимся, – сказал он ей, хотя она была на станции «Кеплер», в миллионах километров отсюда. – Мы должны справиться.
Через пять лет он будет стоять на мостике корабля «Дедал» и смотреть, как станция «Икар» – вместе с Еленой, вместе с 340 людьми, которые поверили в его проект – исчезает во вспышке преждевременного коллапса.
Но сейчас – в этот вечер, в этом кабинете – он верил.
Вера была прекрасной.
И она была ошибкой.
Обсерватория Края, ночь
Майя не спала.
Она сидела в смотровом зале – одна, как всегда ночью – и смотрела на чёрную дыру.
Аккреционный диск медленно вращался, закручиваясь в спираль. Газ падал к горизонту событий, разогреваясь до миллионов градусов, и свет его был так ярок, что затмевал звёзды.
А в центре – ничто. Место, где свет заканчивался. Где время останавливалось. Где законы физики, которым она посвятила жизнь, переставали работать.
Что там, внутри?
Она задавала этот вопрос сорок лет – с той ночи на крыше в Санкт-Петербурге, когда впервые посмотрела на звёзды и захотела понять.
Теперь она знала ответ. Или часть ответа. Или думала, что знала.
Дочерние вселенные. Триллионы звёзд за горизонтом. Жизнь, которая могла бы возникнуть – или уже возникла – в космосах, рождённых из смерти.
Звёзды – семена.
Дмитрий был прав. Всегда был прав.
И он был частью этого – не наблюдателем, а инструментом. Рукой Ткачей, протянутой к человечеству. Голосом, который направлял, указывал, формировал.
Сформировал её.
Майя прижала ладонь к стеклу. Холод космоса просачивался сквозь обшивку – едва ощутимый, но реальный.
Был ли хоть один мой выбор – моим? Или всё было спланировано? Конференция в Женеве, ошибка в уравнении, «случайная» встреча с человеком, который искал меня во снах?
Она не знала. Никогда не узнает.
Но – и это было самым странным – ей было всё равно.
Она любила Дмитрия. Любила тридцать лет – и любила до сих пор, несмотря на правду. Может быть, благодаря правде. Он использовал её – и при этом любил. Он обманывал – и при этом был честен в единственном, что имело значение.
«Любовь – мой выбор. Единственное, что было только моим».
Она верила ему. Хотела верить. И это – тоже было выбором.
За стеклом чёрная дыра медленно пожирала газ, превращая материю в энергию, энергию – в излучение, излучение – в вечность.
Восемьдесят лет, подумала Майя. Восемьдесят лет – и наше Солнце станет таким же. Будет ли кто-нибудь смотреть на него с другой стороны? Будет ли кто-нибудь помнить нас?
Она не знала.
Но она знала одно: молчание закончилось. Двадцать лет она хранила секрет. Теперь – пора говорить.
Не потому что хотела. Потому что должна была.
Дай людям знать – и они выберут сами.
Дмитрий был прав. В последний раз – был прав.
Майя отошла от окна. Подошла к терминалу. Открыла файл – тот самый, который хранила двадцать лет.
«Семенной коэффициент Солнца: 0.91».
Цифры смотрели на неё с экрана – равнодушные, неумолимые.
Она начала писать отчёт.
На Земле – раскол. Четыре фракции, четыре ответа, четыре пути в будущее.
На Обсерватории Края – женщина, которая знала больше, чем все они вместе взятые.
И в центре всего – чёрная дыра. Бездна, полная семян. Дверь, за которой начиналось что-то новое.
Человечество стояло на пороге.
Оставалось только решить – войти или остаться.
Глава 5: Сын
Флагман «Немезида», орбита Марса. 2347 год.
Удар пришёлся в корпус – жёсткий, без замаха, точно в печень.
Кирилл сместился влево, перехватил инерцию и вернул контратакой: локоть в рёбра, проворот, подсечка. Тело противника описало короткую дугу и впечаталось в мат с глухим хлопком.
Лейтенант Дорохов – широкоплечий, рыжий, с мальчишеским лицом и синяком под глазом от вчерашней тренировки – смотрел снизу вверх. Рука его была заломлена, болевой зафиксирован.
– Сдаюсь, – выдохнул он сквозь стиснутые зубы.
Кирилл отпустил захват, протянул руку.
– Хороший бой.
– Вы меня уничтожили, капитан.
– Значит, в следующий раз будешь лучше.
Дорохов принял руку, поднялся. Потёр запястье – останется след, дня на три. Но в глазах не было обиды, только уважение и что-то похожее на восхищение.
Кирилл не любил это выражение. Оно напоминало о том, чем он стал – символом, плакатом, идеальным солдатом с идеальным лицом. Консерваторы распечатывали его фотографии тиражами: «Защитим дом. Защитим будущее». Он видел себя на станциях, в коридорах кораблей, в новостных лентах. Капитан Кирилл Орлов, позывной «Солнцеворот», герой Флота.
Героем он себя не чувствовал. Но об этом никто не спрашивал.
– Разрешите идти, капитан?
Кирилл кивнул. Дорохов отсалютовал – неформально, по-флотски – и направился к выходу из зала, чуть прихрамывая на левую ногу.
Тренировочный зал «Немезиды» был небольшим – двадцать на пятнадцать метров, стандарт для крейсера класса «Возмездие». Серые стены, синтетические маты на полу, стойки с тренировочным оружием вдоль переборки. В углу – голографический тренажёр для отработки тактических манёвров, сейчас выключенный. Пахло потом, дезинфекцией и металлом. Запах, к которому Кирилл привык за годы службы. Запах дома.
Он остался один.
Мышцы приятно ныли от нагрузки. Три спарринга за утро – его обычная норма. Первый – разминочный, с младшим офицером из технического отдела. Второй – серьёзнее, с сержантом морпехов. Третий – Дорохов, самый способный из молодых.
Никто из них ни разу не победил.
Кирилл подошёл к стойке, взял полотенце, вытер лицо. Зеркальная поверхность переборки отразила его – высокий, широкоплечий, с тёмными волосами и карими глазами отца. Лицо, созданное для пропаганды. Тело, натренированное для войны.
Шрам на левой руке был скрыт под длинным рукавом тренировочной формы. Он всегда носил длинные рукава – даже здесь, в зале, где температура держалась на двадцати пяти градусах и остальные ходили в майках.
Не из стыда. Из памяти.
Он потянулся, разминая плечи, и привычным усилием отогнал мысли о том, о чём не хотел думать. О восьми именах. О трёх секундах. О ночи, которую не помнил – и помнил слишком хорошо.
Больше никогда.
Эта фраза стала его молитвой. Его клятвой. Его проклятием.
Каюта капитана располагалась на третьей палубе, рядом с мостиком. Небольшая – восемь квадратных метров, стандарт для командира корабля. Койка, встроенный шкаф, рабочий терминал, санузел за перегородкой. Никаких излишеств, никакого декора.
Единственное личное – фотография на стене.
Кирилл остановился перед ней, как делал каждое утро и каждый вечер. Дмитрий Орлов смотрел на него с изображения – улыбающийся, загорелый, с морщинками вокруг глаз. Фотография была сделана за год до смерти, на Земле, в том заповеднике, где они охотились вместе.
Отец выглядел счастливым. Живым. Настоящим.
Кирилл помнил тот день. Помнил запах хвои, треск веток под ногами, тяжесть винтовки в руках. Помнил голос отца – низкий, спокойный, с той особой интонацией, которую тот использовал, когда хотел чему-то научить.
– Зачем мы охотимся, папа?
Ему было двенадцать. Первая охота. Настоящая, не симуляция.
– Чтобы помнить, кто мы.
– Кто мы?
– Хищники, Кирилл. Не жертвы. Хищники.
Он запомнил. На всю жизнь.
Но хищники не колеблются, подумал он сейчас, глядя на улыбающееся лицо отца. Хищники не теряют три секунды.
Он отвернулся от фотографии, стянул форму, шагнул в душевую кабину. Горячая вода ударила по плечам – сильно, почти болезненно. Он не убавлял напор. Боль была хорошей. Настоящей. Понятной.
Под водой он мог не думать. Несколько минут – его ежедневная привилегия.
Но сегодня – не получалось.
Два года назад. Эсминец «Прометей». Пояс Койпера.
Корабль еретиков «Лотос» висел на экране – маленький, гражданский, с облезлой обшивкой и устаревшими двигателями. Судно беженцев, переоборудованное под транспорт. На борту, по данным разведки, – контрабанда: запрещённые материалы о Каталоге, пропагандистские файлы Еретиков Смолина.
Кирилл стоял на мостике «Прометея», своего первого корабля. Год в командирском кресле. Двадцать девять лет. Молодой капитан с безупречным послужным списком.
– «Лотос», это крейсер Консервативного Альянса «Прометей». Заглушите двигатели и приготовьтесь к досмотру.
Молчание в эфире. Потом – голос, женский, с акцентом внешних колоний:
– «Прометей», мы – гражданское судно. У нас дети на борту. Мы не представляем угрозы.
– У вас на борту запрещённые материалы. Это нарушение статьи 47-бис Акта о безопасности. Заглушите двигатели.
Снова молчание. Потом – вспышка на корме «Лотоса». Двигатели загорелись, судно начало разворот.
– Они бегут, – голос лейтенанта Соколова был холодным, как вакуум за бортом. – Протокол требует предупредительного выстрела.
Кирилл смотрел на экран. «Лотос» уходил – неуклюже, медленно. Гражданский корабль с гражданским экипажем. Женщина сказала – дети.
– Предупредительный, – приказал он. – Мимо двигателей.
Луч прошёл в двадцати метрах от кормы «Лотоса». Судно дёрнулось – паника на мостике, руль в перекос. Разворот стал ещё более хаотичным.
– Они не останавливаются, – Соколов шагнул к оружейной консоли. На груди у него блестел значок – маленький золотой солнечный диск. «Хранители Солнца» – неофициальное движение внутри Консерваторов, радикалы, которых Рен не одобрял, но и не запрещал.
Кирилл видел, как рука Соколова потянулась к панели управления огнём. Видел, как палец завис над кнопкой.
– Что ты делаешь?
– Протокол требует…
– Отставить!
Три секунды.
Он помнил каждую из них. Первая – рука Соколова над консолью. Вторая – его собственный палец над кнопкой отмены. Третья – тишина, в которой решалась судьба двенадцати человек.
Он колебался.
Выстрел ушёл. Не по двигателям – по корпусу. Жилой отсек.
На экране – вспышка. Разгерметизация. Тела, вылетающие в космос.
– Цель поражена, – голос Соколова был ровным. – Движение прекращено.
Кирилл стоял и смотрел.
Двенадцать человек на борту. Выживут четверо – те, кто успел добраться до спасательных капсул.
Восемь погибших. Восемь имён, которые он выучит наизусть в ту же ночь. Восемь лиц, которые будут смотреть на него с экрана рапорта.
Мария Чен, 34, биолог. Юрий Волошин, 28, пилот. Анна-Мария Росси, 19, студентка.
Студентка. Девятнадцать лет.
Он мог отменить. Три секунды – целая вечность для человека, обученного принимать решения за доли мгновения.
Он не отменил.
Он колебался.
Официальное расследование длилось три недели. Итог: «инцидент при задержании, вина экипажа „Лотоса", действия капитана Орлова признаны правомерными».
Соколова перевели на другой корабль – формально повышение, фактически – удаление. Слишком резвый, слишком радикальный. Такие полезны, но не на виду.
Кирилла наградили. Медаль «За решительность в условиях боевого контакта». Он смотрел на неё в своей каюте – блестящую, тяжёлую, с гравировкой его имени на обороте – и думал: Это не решительность. Это провал.
Три ночи он не спал. Смотрел в потолок и видел лица. Восемь лиц. Восемь имён.
На четвёртую ночь он напился. Синтетический виски из офицерского рациона – невкусный, но крепкий. Он пил, пока мир не стал размытым, пока мысли не превратились в белый шум.
Он не помнил, как разбил стакан. Не помнил, как взял осколок. Не помнил, как провёл им по руке – раз, другой, третий.
Он помнил только боль. Ясную, острую, правильную.
Утром медик зашил рану и не задал ни одного вопроса. На «Прометее» научились не задавать вопросы капитану.
Шрам остался. Бледный, неровный, от запястья до середины предплечья. Он носил длинные рукава с тех пор – всегда, везде. Не чтобы скрыть от других. Чтобы не видеть самому.
Больше никогда, поклялся он тогда.
Колебание – смерть. Колебание – восемь имён на экране. Колебание – девятнадцатилетняя студентка, чьё тело плывёт в космосе.
Хищники не колеблются.
Он научится не колебаться.
Вода продолжала литься. Кирилл открыл глаза, провёл ладонью по лицу.
Два года прошло. Восемнадцать месяцев с момента, когда он принял командование «Немезидой» – флагманом Консервативного Альянса, одним из мощнейших крейсеров Флота. Новый корабль, новый экипаж, новая жизнь.
Старые кошмары.
Он выключил воду, шагнул из душа. Зеркало над раковиной отразило его тело – мускулистое, тренированное, испещрённое мелкими шрамами от давних тренировок. И один шрам – крупнее других, бледнее других, спрятанный на левой руке.
Он отвёл взгляд.
Форма ждала в шкафу – чёрная, с серебряными нашивками капитана. Он надел её привычными движениями: сначала термобельё, потом китель, потом ботинки. Застегнул ворот под горло. Проверил отражение – безупречно, как положено офицеру.
Символ. Плакат. Идеальный солдат.
Сигнал на терминале прервал его мысли. Входящее сообщение – личный канал.
Кирилл шагнул к экрану, активировал приём.
Лицо Танаки возникло на голограмме – спокойное, непроницаемое, как всегда. Первый офицер «Немезиды», командир Хидэо Танака, был на семь лет старше Кирилла и служил во Флоте вдвое дольше. Он никогда не стремился к собственному кораблю – говорил, что предпочитает «смотреть со стороны». Некоторые считали его лишённым амбиций. Кирилл знал лучше: Танака был из тех, кто видит больше других и говорит меньше, чем знает.
– Капитан, – голос Танаки был ровным. – Сообщение от штаба. Приоритет «Красный».
– От кого?
– От маршала Рена. Лично.
Кирилл ощутил, как что-то дрогнуло в груди. Не страх – настороженность. Рен редко выходил на связь напрямую. Обычно – приказы через штаб, директивы через командную цепочку. Личное обращение означало что-то серьёзное.
– Перенаправь на мой терминал.
Танака кивнул, его лицо исчезло. Секунду спустя экран мигнул, и на нём появился Рен.
Виктор Рен выглядел так, как выглядел всегда – каменным, усталым, старым. Шрам на его лице – от виска до подбородка, память о Ледяной войне – казался глубже обычного в резком свете его кабинета. Глаза были выцветшими, почти белыми – цвет, которого Кирилл не видел ни у кого другого. Глаза человека, который смотрел в бездну слишком долго.
– Кирилл, – голос Рена был низким, хриплым. – У меня есть для тебя задание.
– Слушаю, маршал.
– Прибудь на Луну. Завтра. Детали при встрече.
Пауза.
– Это важно, – добавил Рен. И экран погас.
Кирилл смотрел на пустую голограмму. Детали при встрече. Это не похоже на Рена – тот предпочитал конкретику, ясность, чёткие приказы. «Завтра», «детали при встрече», «это важно» – слова, которые ничего не объясняли и объясняли слишком много.
Что-то происходило.
Он повернулся к фотографии отца на стене.
– Ты бы знал, что делать, – сказал он вслух. – Ты всегда знал.
Дмитрий Орлов улыбался с изображения – молчаливый, далёкий, мёртвый.
Мёртвые не отвечают.
Мостик «Немезиды» гудел приглушённой активностью – смена вахт, рутинные проверки, шёпот терминалов. Двадцать восемь человек в этом отсеке, каждый на своём месте, каждый занят своим делом. Голографическая карта системы висела в центре – Марс, его спутники, орбитальные станции, траектории патрульных кораблей.
Кирилл прошёл к командирскому креслу, но не сел. Остановился рядом, положив руку на подлокотник.
– Статус корабля?
Голос вахтенного офицера – лейтенант Ямамото, молодая женщина с острыми чертами лица и безупречной выправкой:
– Все системы в норме, капитан. Орбита стабильна, двигатели в режиме ожидания, щиты на минимуме.
– Связь с базой?
– Устойчивая. Последнее обновление – сорок минут назад.
– Новости с Земли?
Ямамото помедлила. Все на мостике знали, что означает этот вопрос. Земля бурлила – фракции, манифесты, политические столкновения. Трансляции Еретиков Смолина достигли рекордной аудитории. Речь Анны Орловой – его сестры, которую он не видел три года – пересматривали миллионы.
– Демонстрации в Сан-Паулу и Шанхае, – сказала Ямамото. – Столкновения у штаб-квартиры Федерации в Женеве. Четыре погибших.
Кирилл сжал челюсть.
Четыре погибших. И это только начало.
– Что-нибудь от Консервативного командования?
– Директива 47: усиленное патрулирование, готовность к развёртыванию. Конкретных приказов нет.
– Понял.
Он отвернулся от карты. Марс висел в смотровом иллюминаторе – красный, пыльный, равнодушный. Человечество дралось из-за будущего, а планеты продолжали вращаться, не замечая ничего.
Восемьдесят лет, подумал он. Восемьдесят лет – и всё закончится. Солнце, Земля, всё, что мы построили.
Он не думал об этом так, как думала сестра – с её «космической перспективой», «эволюцией вселенной», «семенами бытия». Для Кирилла всё было проще. Есть дом. Есть угроза. Есть долг – защищать.
Ткачи пришли и сказали: ваше солнце умрёт, и внутри него родится новый мир. Сказали это так, словно делали одолжение. Словно человечество должно быть благодарно за право стать удобрением для чужого сада.
Кирилл не был благодарен. Кирилл был зол.
Злость – эмоция. Эмоции мешают. Он научился превращать злость в топливо – для тренировок, для решений, для действия. Злость не затуманивала разум; она делала его острее.
– Капитан?
Голос Танаки. Первый офицер стоял рядом – возник, как всегда, бесшумно. Это была его особенность: появляться именно тогда, когда нужно, и именно там, где нужно.
– Командор.
– Я получил копию сообщения от маршала.
– И?
– Вы летите на Луну?
– Завтра.
Танака кивнул. Его лицо ничего не выражало, но в глазах Кирилл заметил вопрос.
– Говори.
– Что-то меняется, – сказал Танака медленно. – Я чувствую это. В штабе, в директивах, в том, как люди смотрят друг на друга. Что-то готовится.
– Это очевидно.
– Не все очевидные вещи стоит игнорировать, капитан. – Он помолчал. – Маршал Рен… вы доверяете ему?
Кирилл повернулся к нему.
– Это странный вопрос.
– Я не имею в виду ничего дурного. Просто… – Танака подбирал слова. – Мой отец говорил: есть два вида лидеров. Одни ведут людей к цели. Другие ведут их к своей цели. Разница не всегда очевидна.
– Рен – второй вид?
– Я не знаю. Я спрашиваю вас.
Кирилл смотрел на Танаку. Первый офицер не был склонен к философским отступлениям – он задавал такие вопросы только когда считал это важным. И обычно был прав.
– Рен потерял семью на Новой Элладе, – сказал Кирилл. – Жену, троих детей. Он знает, что значит терять.
– Это делает его надёжным?
– Это делает его понятным.
Танака медленно кивнул.
– Понятный – не то же, что правильный.
– Командор, к чему вы ведёте?
– Ни к чему. – Танака отступил на шаг. – Просто… будьте осторожны, капитан. Времена меняются. И люди меняются вместе с ними.
Он отсалютовал и отошёл к своей станции.
Кирилл остался стоять у иллюминатора. Марс медленно плыл внизу.
Будьте осторожны.
Осторожность – добродетель дипломатов и трусов. Солдаты не бывают осторожными. Солдаты бывают готовыми.
Но Танака редко ошибался.
Офицерская кают-компания была пуста в этот час – между сменами, когда большинство отдыхало, а остальные несли вахту. Кирилл сидел в углу, спиной к стене – привычка, выработанная годами службы. Всегда видеть вход. Всегда знать, кто рядом.
На столе перед ним стоял стакан с синтетическим виски. Он не пил – просто держал в руке, ощущая тяжесть стекла. Запах был правильным: дуб, карамель, чуть дыма. Лаборатория «Немезиды» воспроизводила молекулы безупречно.
Но чего-то не хватало. Истории, может быть. Настоящий виски носил в себе время – годы в бочке, руки бондаря, терпение мастера. Синтетика была химией без памяти.
Как солдат без семьи – просто функция.
Мысль пришла сама, непрошеной, и Кирилл поморщился. Он не любил, когда разум начинал философствовать. Философия – удел сестры, с её бесконечными рассуждениями о смысле и цели. Он предпочитал конкретику.
Дверь открылась. Танака вошёл, огляделся, увидел его в углу.
– Разрешите?
Кирилл кивнул. Танака сел напротив, налил себе воды из графина.
Молчание длилось минуту. Потом ещё одну. Танака не торопился – он никогда не торопился.
– Мой отец был рыбаком, – сказал он наконец.
Кирилл поднял глаза.
– Рыбаком?
– На Окинаве. Старой Окинаве, до затопления. – Танака смотрел в свой стакан. – Когда мне было десять, он вышел в море во время тайфуна. Искал потерянный катер соседа.
– Нашёл?
– Нет. И сам не вернулся.
Пауза.
– Мать никогда его не простила. Не за то, что умер, – за то, что выбрал море вместо нас.
Кирилл молчал.
– Она говорила: он любил океан больше, чем семью. Я не соглашался тогда. Думал – она просто горюет, ищет виноватого. – Танака поднял глаза. – Теперь я старше, чем он был тогда. И думаю – может, она была права.
– К чему это, командор?
– Вы получили приказ от Рена. Завтра летите на Луну.
– Да.
– И вы не знаете, зачем.
– Нет.
Танака кивнул.
– Я не спрашиваю о деталях. Я спрашиваю о вас. – Он поставил стакан на стол. – Через три дня мы будем в зоне досягаемости Обсерватории Края. Там – ваша мать.
Кирилл застыл.
– С чего вы взяли, что это связано?
– Ни с чего. Просто… совпадение. – Танака чуть улыбнулся – редкая для него вещь. – Я не верю в совпадения, капитан. Вы – тоже.
– Если бы маршал хотел, чтобы я знал…
– Маршал хочет, чтобы вы верили. Это не одно и то же.
Кирилл сжал стакан. Стекло скрипнуло под пальцами.
– Командор… мой отец умер шесть лет назад. Я не видел мать с похорон. Не говорил с сестрой три года. Моя семья… – он запнулся. – Моя семья – это Флот. Это экипаж. Это вы.
– Это выбор?
– Это факт.
– Факты меняются, капитан.
Кирилл поставил стакан на стол. Виски в нём стоял нетронутым.
– Мой отец учил меня: хищники не колеблются. Хищники видят цель и идут к ней. Они не оглядываются, не сомневаются, не тратят время на «а что, если».
– А вы – хищник?
– Я стараюсь им быть.
Танака долго смотрел на него. В его глазах было что-то, чего Кирилл не мог прочитать.
– Мой отец тоже не колебался, – сказал он наконец. – Вышел в море, не задумываясь. Хищник – или глупец. Какая разница, если результат один?
– Результат?
– Мы остались одни. Мать, я, сестра. Он выбрал море – и оставил нас.
– Он пытался помочь.
– Да. Пытался. И погиб. – Танака встал. – Я не говорю, что он был неправ. Я говорю, что выбор – это не только то, что ты делаешь. Это то, что ты оставляешь.
Он направился к двери. Остановился на пороге.
– Капитан… что бы вы ни выбрали на Луне – помните: выбор – не колебание. Колебание – это когда не можешь решить. Выбор – это когда решаешь.
Дверь закрылась за ним.
Кирилл остался один.
Ночь на крейсере была условностью – циркадный цикл поддерживался искусственно, свет в коридорах тускнел к 22:00 и оставался приглушённым до 06:00. Но корабль никогда не спал по-настоящему: гудели системы жизнеобеспечения, мигали терминалы, вахтенные несли службу.
Кирилл лежал на койке, уставившись в потолок. Сон не шёл – как обычно в ночи перед важными решениями. Мозг прокручивал варианты, анализировал, просчитывал.
Завтра. Луна. Рен.
Что хочет от него маршал? Новое задание? Новая миссия? Что-то связанное с матерью – как намекнул Танака?
Мать.
Он старался не думать о ней. Старался вычеркнуть её из памяти, как вычёркивают устаревшую информацию из базы данных. Майя Орлова – космолог, учёный, предательница. Женщина, которая бросила семью ради звёзд. Которая работала на Обсерватории Края, пока её муж умирал от рака на Земле.
Кирилл был на похоронах отца. Мать – тоже, прилетела специально, впервые за три года. Они стояли рядом у гроба и не смотрели друг на друга.
– Он любил тебя, сказала она тогда.
– Знаю.
– Я тоже его любила.
– Тогда почему не была рядом?
Она не ответила. Просто стояла, сухими глазами глядя на тело мужа.
Кирилл не простил её тогда. Не простил потом. Не простит, наверное, никогда.
Но Танака был прав: факты меняются. Три дня – и «Немезида» будет в зоне досягаемости Обсерватории Края. Что, если приказ Рена связан с этим? Что, если маршал хочет…
Нет.
Он не будет думать об этом. Не сейчас.
Он закрыл глаза, заставил себя считать дыхание. Раз-два-три вдох. Раз-два-три-четыре выдох. Техника, которой его учили в академии – способ успокоить разум, отключить ненужные мысли.
Вместо тишины пришёл другой образ.
Два года назад. «Прометей». Четвёртая ночь после инцидента.
Каюта кружилась. Виски в крови превращал мир в размытые пятна, и Кирилл сидел на полу, прижавшись спиной к переборке. В руке – осколок стекла от разбитого стакана.
Он не помнил, как разбил его. Не помнил, как оказался на полу. Помнил только лица на экране – восемь лиц, список погибших, который он читал снова и снова.
Мария Чен. 34. Биолог. Два ребёнка на Церере. Юрий Волошин. 28. Пилот. Недавно женился. Анна-Мария Росси. 19. Студентка. Летела к родителям на Титан.
Три секунды. Я мог отменить. Я колебался.
Осколок был острым. Боль от первого пореза была резкой, чистой, настоящей. Не как боль в груди – тупая, расплывчатая, невыносимая. Эта боль можно было понять. Измерить. Контролировать.
Он провёл осколком ещё раз. И ещё.
Кровь текла по руке – тёмная, густая. Он смотрел на неё и думал: Это правильно. Это честно. Я заслуживаю этого.
Три секунды. Восемь жизней.
Больше никогда.
Он не помнил, как заснул. Утром медик пришёл по вызову, зашил рану, не задавая вопросов. Кирилл смотрел на его работу – аккуратные стежки, антисептик, повязка – и чувствовал только пустоту.
Больше никогда.
Он открыл глаза. Потолок каюты, тусклое аварийное освещение.
Сколько прошло? Он не знал. Минута, час – не имело значения.
Кирилл сел на койке. Посмотрел на левую руку – рукав термобелья скрывал шрам, но он знал, где тот находится. Мог нарисовать его с закрытыми глазами.
Два года. Два года он держал клятву. Не колебался – действовал. Не думал – решал. Превратил себя в машину, в инструмент, в оружие.
А теперь… теперь что-то менялось. Танака был прав. Времена менялись. И люди менялись вместе с ними.
Он встал, подошёл к терминалу, вызвал информационную сводку.
Новости с Земли – хаос, манифесты, столкновения. Консерваторы требовали сопротивления, Еретики – принятия, Акселерационисты – переговоров, Прометейцы – технического решения. Четыре фракции, четыре ответа, четыре пути в будущее.
И где-то среди всего этого – его мать. Женщина, которая двадцать лет хранила секрет. Которая знала о Посеве раньше всех – и молчала.
Почему? Этого он не понимал.
Может, не хотел понимать.
Он закрыл сводку. Открыл другой файл – личный, зашифрованный.
Фотография Дмитрия Орлова. Та же, что на стене. Отец улыбался – живой, настоящий, далёкий.
– Хищники не колеблются.
– А что делают хищники, когда цель неясна?
Отец не ответил. Мёртвые не отвечают.
Но живые… живые иногда находят ответы сами.
Утро пришло серым – как все утра на корабле, без рассветов, без солнца, только смена освещения в коридорах.
Кирилл стоял в шлюзовом отсеке, одетый в дорожную форму. Танака был рядом – провожал, как положено первому офице|.
– Статус корабля?
– Без изменений, капитан. «Немезида» в вашем распоряжении.
– Если придут новые директивы…
– Следую стандартному протоколу. Информирую вас немедленно.
Кирилл кивнул. Шаттл ждал в доке – небольшой, быстрый, способный доставить его на Луну за восемь часов.
– Командор… – он помедлил. – Вчерашний разговор.
– Да, капитан?
– Вы не договорили. О своём отце.
Танака чуть улыбнулся.
– Я сказал главное.
– Нет. Вы сказали, что он выбрал море. Не сказали, что вы выбрали.
Пауза.
– Я выбрал помнить, – сказал Танака. – Помнить, что он был. Помнить, почему ушёл. Помнить, что выбор – это не только действие. Это последствия.
– И?
– И жить с этим.
Кирилл смотрел на него долго.
– Это мудро или трусливо?
– Зависит от того, кто смотрит.
– А вы как думаете?
Танака пожал плечами.
– Я думаю, мудрость и трусость иногда выглядят одинаково. Разница – в том, что внутри.
Люк шаттла открылся. Пилот ждал внутри.
– Капитан, готовы?
Кирилл обернулся к Танаке последний раз.
– Присматривайте за кораблём.
– Как всегда, капитан.
– И за экипажем.
– Это само собой.
– И… – Кирилл запнулся. – Спасибо.
Танака кивнул. Ничего не сказал. Ничего не нужно было говорить.
Кирилл шагнул в шаттл. Люк закрылся за ним.
Через минуту корабль оторвался от дока и взял курс на Луну.
Восемь часов полёта.
Кирилл сидел в пассажирском отсеке – один, если не считать пилота за переборкой. Можно было поспать, посмотреть сводки, заняться документами.
Он смотрел в иллюминатор.
Космос был чёрным – абсолютно, равнодушно чёрным. Звёзды горели вдалеке, холодные и безразличные. Марс уменьшался за кормой, превращаясь в красную точку.
Где-то там, в миллионах километров – Обсерватория Края. Мать.
Где-то там, в миллиардах километров – Солнце. Приговорённое к смерти. К рождению.
Звёзды – семена.
Он не понимал, что это значит. Не хотел понимать. Для него всё было проще: есть угроза – устрани. Есть враг – победи. Есть долг – исполни.
Но что, если врага нельзя победить? Что, если угроза – сама природа вселенной?
Он закрыл глаза.
Три секунды. Восемь имён.
Больше никогда.
Клятва звенела в голове – привычная, как сердцебиение.
Но теперь к ней примешивалось что-то новое. Сомнение? Нет, не совсем. Вопрос. Маленький, тихий, настойчивый.
Что, если придётся выбирать между клятвой и… чем-то ещё?
Он не знал ответа.
Он не знал, хочет ли его знать.
Луна приближалась – серая, безжизненная, испещрённая кратерами. База «Селена» светилась огнями на тёмной стороне – крупнейший военный комплекс Консервативного Альянса, штаб-квартира Рена.
Шаттл пошёл на снижение.
Кирилл смотрел на базу и думал об отце.
Дмитрий Орлов никогда не говорил о политике. Не примыкал к фракциям, не произносил речей, не строил планов. Он был учёным – физиком, исследователем, мечтателем. Человеком, который смотрел на звёзды и видел чудо.
– Папа, зачем мы охотимся?
– Чтобы помнить, кто мы.
Может быть, отец имел в виду не то, что Кирилл думал. Может быть, «помнить, кто мы» – это не о хищниках и жертвах. Это о чём-то другом.
О связи. О корнях. О том, что делает человека – человеком.
Слишком поздно спрашивать.
Шаттл коснулся посадочной площадки. Толчок, шипение декомпрессии, щелчок замков.
– Прибыли, капитан.
Кирилл встал. Расправил форму. Проверил, на месте ли идентификатор.
За иллюминатором серел лунный пейзаж – камень, пыль, пустота. И где-то там, внутри горы – Виктор Рен. Человек, который учил его быть солдатом. Который заменил отца, когда отец умер.
Который сейчас позвал его – непонятно зачем.
Готовься к тому, что придётся выбирать. Быстро. Без колебаний.
Слова Рена из старого разговора всплыли в памяти – сказанные год назад, на этой самой базе.
Без колебаний.
Кирилл вышел из шаттла.
Лунная гравитация подхватила его – лёгкая, непривычная после «Немезиды». Он сделал шаг, другой. Привыкая заново.
Охранники у шлюза отсалютовали. Он кивнул в ответ.
Коридоры базы «Селена» были белыми, стерильными, безжизненными. Люди попадались редко – штабные офицеры, техники, охрана. Все отводили взгляд, когда он проходил мимо. Все знали, кто он.
Сын. Орлов. Символ.
Он шёл к кабинету Рена и думал о том, что его ждёт.
Думал о матери.
Думал о восьми именах.
Думал о выборе, который, может быть, придётся сделать.
И впервые за два года – не был уверен, что готов.
Лифт остановился на командном уровне. Кирилл вышел.
Коридор здесь был уже – одна дверь в конце, без таблички. Кабинет маршала.
Он сделал десять шагов. Остановился перед дверью.
Три секунды.
Он не колебался. Просто – думал.
Ты готов?
Он не знал.
Тогда узнаешь.
Кирилл поднял руку и постучал.
– Войди, – голос Рена, глухой, из-за двери.
Кирилл вошёл.
Глава 6: Наставник
Штаб Консервативного Альянса, база «Селена», Луна. 2347 год.
Дверь открылась.
Кабинет Виктора Рена был таким, каким Кирилл его помнил: простым до аскетизма. Стол – металлический, без украшений. Два кресла – функциональные, жёсткие. Голоэкран на стене – выключенный. Никаких наград, никаких фотографий, никаких личных вещей.
Только шрам на лице хозяина.
Рен стоял у окна, глядя на лунный пейзаж снаружи. Серая пыль, чёрное небо, далёкие огни горнодобывающих комплексов. Земля висела над горизонтом – голубая, хрупкая, невозможно далёкая.
– Садись, сынок.
Голос был негромким. Рену никогда не нужно было повышать его – люди слушали и так. Что-то в его интонации, в том, как он произносил слова – медленно, взвешенно, словно каждое стоило усилия.
Кирилл сел в кресло напротив стола. Рен остался у окна – привычка командира, который предпочитает смотреть сверху вниз.
Молчание длилось полминуты. Кирилл ждал – он научился ждать за годы службы. Рен не любил торопиться. Рен вообще мало что любил, если верить слухам.
Наконец маршал обернулся.
В семьдесят один год Виктор Рен выглядел так, словно его вырубили из камня и забыли отшлифовать. Лицо – угловатое, жёсткое, с глубокими морщинами вокруг рта. Шрам – от виска до подбородка, память о Ледяной войне – казался светлее окружающей кожи, как будто та рана так и не зажила до конца. Глаза были выцветшими, почти белыми, словно слишком долго смотрели на что-то, чего не должны были видеть.
– Как долетел?
– Без происшествий, маршал.
– «Немезида» в порядке?
– Да.
– Танака справляется?
– Всегда.
Рен кивнул. Подошёл к столу, но не сел – оперся руками о край, глядя на Кирилла сверху.
– Ты знаешь, зачем я тебя вызвал.
Это был не вопрос.
– Нет, маршал. Вы не сказали.
– Не сказал, – согласился Рен. – Потому что по связи – нельзя. Даже по защищённой. Особенно – по защищённой.
Он помолчал. Потом медленно обошёл стол и сел в своё кресло – напротив Кирилла, на одном уровне. Это было необычно. Рен редко садился, когда разговаривал с подчинёнными.
– Что ты знаешь о Новой Элладе?
Кирилл напрягся. Новая Эллада – тема, которую во Флоте не обсуждали. Не потому, что было запрещено – потому, что все знали: это больное место маршала. Его личная трагедия, его личная рана.
– Колония в системе Эпсилон Эридана, – сказал он осторожно. – Полмиллиона населения. Уничтожена астероидом в 2298 году.
– И?
– Вы потеряли там семью.
Рен смотрел на него – пристально, неподвижно. В выцветших глазах не было ни гнева, ни боли. Только что-то древнее и холодное, как сама Луна за окном.
– Марина, – сказал он. – Моя жена. Алёша – старший сын, двенадцать лет. Катя и Петя – близнецы, семь лет.
Он произносил имена медленно, как будто доставал их из запертого ящика, куда давно не заглядывал.
– Я был на Земле. Военная конференция. Рутина. Думал вернуться через неделю.
Пауза.
– Астероид появился из ниоткуда. Системы обнаружения не сработали – или сработали слишком поздно. К тому моменту, когда мы узнали, было уже поздно. Эвакуация невозможна. Времени – три часа.
Кирилл молчал. Он слышал эту историю раньше – в общих чертах, в пересказах, в шёпоте офицеров. Но никогда – от самого Рена.
– Три часа, – повторил маршал. – Я смотрел трансляцию из своего номера в Женеве. Смотрел, как астероид входит в атмосферу. Смотрел, как вспышка накрывает континент.
Он замолчал. Кирилл видел, как его руки – лежащие на столе – чуть дрогнули. Один раз. Потом снова стали неподвижными.
– Пятьсот тысяч человек. Моя жена. Мои дети. Все.
– Маршал… – начал Кирилл.
– Подожди. Я не закончил.
Рен встал. Отошёл к окну снова – как будто ему нужно было смотреть на что-то далёкое, чтобы говорить о близком.
– Официальная версия – несчастный случай. Блуждающий астероид, не замеченный вовремя. Статистика. Космос опасен, колонии уязвимы, такое случается.
Он обернулся.
– Это ложь.
Кирилл замер.
– Тридцать лет я верил в эту ложь. Тридцать лет искал виноватых – в командовании, в учёных, в самом себе. Почему не заметили? Почему не успели? Почему я не был там?
Рен вернулся к столу. Сел. Теперь его глаза смотрели прямо на Кирилла – и в них было что-то новое. Не боль – ярость. Холодная, выдержанная, как вино, которое слишком долго хранили в погребе.
– Потом Ткачи появились. И я узнал правду.
Кирилл слушал.
Он не перебивал, не задавал вопросов, не двигался. Только слушал – как учил его отец когда-то. Когда человек говорит о важном – молчи. Слова сами найдут дорогу.
– Ткачи знали об астероиде, – говорил Рен. Голос был ровным, почти лишённым эмоций – но Кирилл слышал, чего это стоило. – Знали за шесть месяцев. И они… предупредили.
Он произнёс последнее слово так, словно оно было ядом.
– Предупредили?
– По-своему. Не словами – они не умели говорить с нами тогда. Не было контактёров нужного уровня, не было протоколов связи. Они отправили сигнал.
– Какой сигнал?
– Аномалия в радиодиапазоне. Повторяющийся паттерн – математическая структура, которая не могла быть случайной. Наши астрономы на Новой Элладе зафиксировали её. Они даже написали отчёт.
Рен достал из ящика стола планшет. Положил перед Кириллом.
На экране – документ. Старый, пожелтевший от времени формат, который уже почти не использовали. Заголовок: «ОТЧЁТ О ВОЗМОЖНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ В РАДИОСИГНАЛЕ – СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ».
Дата: 14 марта 2298 года.
За шесть месяцев до катастрофы.
– Читай последний абзац, – сказал Рен.
Кирилл прокрутил документ вниз.
«Заключение: обнаруженный паттерн демонстрирует признаки неслучайного происхождения. Математическая структура сигнала не соответствует известным естественным источникам радиоизлучения. Рекомендация: дополнительное исследование с привлечением специалистов по криптографии и ксенолингвистике.
Примечание: в текущих условиях бюджетных ограничений реализация рекомендации требует дополнительного обоснования. Отчёт направлен в архив до получения подтверждающих данных.
Статус: ЗАКРЫТ».
Кирилл поднял глаза.
– Они положили его в архив.
– «Недостаточно данных для выводов», – процитировал Рен. Голос был мёртвым. – Стандартная формулировка. Стандартная процедура. Стандартная бюрократическая трусость.
Он забрал планшет. Спрятал обратно в ящик – бережно, как прячут реликвию.
– Когда Ткачи установили контакт – настоящий контакт, через контактёров, – я спросил их. Напрямую. Через Кеплера, того, который говорит с людьми. Спросил: вы знали о Новой Элладе?
– И что они ответили?
– Да.
Слово упало в тишину кабинета, как камень в колодец.
– Они знали. Они предупредили. Они отправили сигнал, который мы могли расшифровать – если бы потрудились. Они сделали всё, что считали нужным.
– Но они могли…
– Могли прилететь? – Рен усмехнулся – горько, без намёка на веселье. – Могли сказать яснее? Могли убедиться, что мы поняли?
Он покачал головой.
– Я спросил об этом. Знаешь, что ответил Кеплер?
Кирилл молчал.
– Он сказал: «Мы не вмешиваемся напрямую. Мы даём информацию. Как её используют – не наша ответственность».
Рен встал. Подошёл к окну в третий раз – как будто не мог усидеть на месте, когда говорил об этом.
– Не их ответственность. Пятьсот тысяч человек – не их ответственность. Пять тысяч детей, которые сгорели заживо – не их ответственность. Моя дочь, мои сыновья – не их ответственность.
Он обернулся. В его глазах – тех выцветших, почти белых глазах – горело что-то тёмное.
– Это не жестокость, Кирилл. Жестокость требует внимания. Требует, чтобы ты видел того, кому причиняешь боль. Ткачи нас не видят. Для них мы – статистика. Одна колония больше, одна меньше – какая разница? Вселенная большая. Цивилизаций много. Если одна не поняла предупреждения – что ж, её проблемы.
– Равнодушие, – сказал Кирилл.
– Да. Равнодушие. – Рен кивнул. – И равнодушие хуже жестокости. Хуже ненависти. Хуже любого зла, которое ты можешь представить. Потому что с ненавистью можно бороться. Ненависть – это связь. Но как бороться с тем, кто тебя просто не замечает?
Он вернулся к столу. Сел. Сложил руки перед собой – аккуратно, как будто собираясь молиться.
– Я не ненавижу Ткачей за то, что они сделали. Я ненавижу их за то, чего они не сделали. За то, что не потрудились сказать яснее. За то, что бросили предупреждение – как бросают кость собаке – и ушли, не оглянувшись.
Его голос стал тише.
– Моя дочь любила звёзды. Семь лет – и она уже знала созвездия. Показывала мне: «Папа, смотри, Орион! А вон Кассиопея!» Она хотела стать астронавтом. Хотела летать к этим звёздам, которые так любила.
Пауза.
– Она сгорела вместе с ними. Со всеми своими мечтами. Потому что какой-то чиновник положил отчёт в архив. Потому что Ткачи не сочли нужным повторить сигнал. Потому что мы – не важны.
Кирилл смотрел на маршала – на этого каменного человека, который пятьдесят лет строил империю из своей боли – и впервые видел его настоящим. Не символом, не легендой, не «Чёрным Солнцем» из пропагандистских плакатов.
Отцом, который потерял детей.
Молчание длилось долго.
Рен сидел неподвижно, глядя на свои руки. Кирилл не решался заговорить – слова казались неуместными, неловкими, как попытка зажечь свечу в урагане.
Наконец маршал поднял глаза.
– Ты спросишь, зачем я тебе это рассказываю.
– Да, маршал.
– Потому что ты – часть плана. Моего плана. Того, который я строил сорок девять лет.
Кирилл выпрямился в кресле.
– Какого плана?
– Я не могу победить Ткачей. Никто не может – они существуют четыре миллиарда лет, они видели расцвет и гибель тысяч цивилизаций, они знают вселенную так, как мы не узнаем никогда. Но я могу сделать кое-что другое.
– Что?
Рен наклонился вперёд.
– Заставить их заметить.
– Как?
– Показать, что мы – не статистика. Что мы – не материал для их садов. Что мы можем выбрать смерть вместо рабства. Выбрать небытие вместо превращения в удобрение для чужих вселенных.
Его голос окреп.
– Еретики говорят: примите Обязанность. Станьте частью чего-то большего. Акселерационисты говорят: договоритесь. Найдите компромисс. Прометейцы говорят: решите проблему технически.
Он покачал головой.
– Все они ошибаются. Они думают, что Ткачей можно убедить. Можно перехитрить. Можно обмануть.
– А вы?
– Я знаю: единственное, что они понимают – это выбор. Свободный выбор разумных существ. Они показали нам будущее – и ждут, что мы покорно пойдём на заклание. Но если мы откажемся…
– Они всё равно уничтожат Солнце.
– Да. Но мы не дадим им того, чего они хотят. Не дадим себя – свои умы, свои знания, свою готовность. Мы уйдём – но уйдём свободными. С достоинством. И они запомнят.
Кирилл смотрел на маршала. В словах Рена была логика – холодная, железная логика человека, который давно примирился с неизбежным и теперь думал только о том, как встретить конец.
– И какова моя роль? – спросил он.
Рен откинулся в кресле.
– Пока – готовься. Готовь корабль. Готовь людей. Готовь себя.
– К чему?
– К тому, что придётся выбирать. Быстро. Без колебаний.
Без колебаний.
Слова ударили Кирилла, как пощёчина. Он почувствовал, как кровь отхлынула от лица.
Он знает? О «Прометее»? О трёх секундах?
– Маршал…
– Я знаю, что случилось на «Лотосе».
Кирилл замер.
– Знаю, что ты колебался. Знаю, что люди погибли. Знаю, что ты до сих пор носишь это с собой.
Рен смотрел на него – прямо, без осуждения.
– Я видел рапорт. Настоящий рапорт, не ту чушь, которую показали трибуналу. Три секунды, Кирилл. Ты потерял три секунды – и восемь человек погибли.
Молчание.
– Ты ненавидишь себя за это. Думаешь, что подвёл. Что недостоин звания, корабля, всего, что получил.
Кирилл не отвечал. Что тут было отвечать?
– Ты ошибаешься.
Он поднял глаза.
– Что?
– Ты ошибаешься, – повторил Рен. – Те три секунды – не слабость. Это человечность. Ты колебался, потому что понимал цену выстрела. Потому что видел людей, а не цели.
– Из-за моего колебания…
– Из-за твоего колебания ты научился. – Рен встал, обошёл стол, остановился рядом с креслом Кирилла. – Большинство офицеров никогда не узнают эту цену. Они стреляют, не задумываясь. Выполняют приказы, не спрашивая. Они – функции. Инструменты.
Он положил руку Кириллу на плечо. Тяжёлую, жёсткую руку человека, который убивал и терял, и знал, что это такое.
– Ты – не функция. Ты – человек, который понял, что значит выбирать. И поэтому – ты мне нужен.
Кирилл молчал.
Рука Рена лежала на его плече – тяжёлая, как якорь. Как приговор. Как благословение.
– Маршал… – начал он, но Рен перебил.
– У меня есть кое-что для тебя.
Он вернулся к столу, открыл нижний ящик – тот, который был заперт, Кирилл видел замок. Достал что-то. Поставил на стол.
Бутылка. Тёмное стекло, выцветшая этикетка, пыль на горлышке.
– Настоящий виски, – сказал Рен. – Не синтетика. Шотландский. Двадцатилетней выдержки. – Он помолчал. – Твой отец подарил мне его.
Кирилл застыл.
– Мой отец?
– Дмитрий Орлов. Мы были знакомы. Не близко – но достаточно. Он приезжал на Луну за год до смерти. На конференцию по физике чёрных дыр, кажется. Мы встретились случайно – в баре, в нижних уровнях базы.
Рен взял бутылку, повертел в руках.
– Странный был разговор. Он говорил о звёздах. О том, что они – не просто огни в небе. Что внутри каждой – возможность. Я не понял тогда, думал – философия, поэзия. Учёные любят такое.
Он поставил бутылку обратно.
– Перед уходом он подарил мне это. Сказал: «Откройте, когда будет трудно. По-настоящему трудно».
– И вы не открывали?
– Не открывал. Сорок девять лет жду момента, который будет достаточно труден.
Он посмотрел на Кирилла.
– Сейчас – начало. Ещё не момент. Но начало момента.
Рен достал два стакана из того же ящика. Открыл бутылку – пробка вышла с мягким хлопком, и по кабинету поплыл запах: дуб, карамель, торф, что-то древнее и тёплое.
– Выпьем. За твоего отца. За моих детей. За всех, кого мы потеряли.
Он налил – аккуратно, по два пальца в каждый стакан. Протянул один Кириллу.
Кирилл взял. Стекло было холодным, виски – янтарным в тусклом свете кабинета.
– За тех, кого мы потеряли, – повторил он.
Они выпили.
Виски был… настоящим. Не как синтетика на «Немезиде» – молекулярно точная, но пустая. Этот нёс в себе историю: годы в бочке, дожди над Шотландией, руки мастеров, которых давно не было в живых.
Виски с историей, подумал Кирилл. Как солдат с семьёй.
– Твой отец, – сказал Рен, глядя в свой стакан. – Он любил тебя?
Вопрос застал Кирилла врасплох.
– Да. Я думаю – да.
– Ты думаешь?
– Он… был сложным человеком. Много работал. Много думал о вещах, которые я не понимал. Но когда мы были вместе – он был там. Полностью.
Кирилл замолчал, вспоминая.
– Он учил меня охотиться. В заповеднике на Земле, настоящем, с живыми деревьями. Говорил: «Хищники не колеблются». Я тогда думал – это про охоту. Про то, как стрелять.
– А сейчас?
– Сейчас думаю – может, он имел в виду что-то другое.
Рен кивнул.
– Хорошие родители редко говорят прямо. Они дают тебе слова – и ждут, пока ты вырастешь достаточно, чтобы понять.
Он отпил ещё глоток.
– Мой отец был военным. Как я. Как его отец до него. Он говорил: «Сын, самое трудное в жизни – не сражаться. Самое трудное – знать, когда не сражаться».
– Вы научились?
– Нет. – Рен усмехнулся – криво, без веселья. – Я до сих пор учусь. Сорок девять лет учусь.
За окном лунный пейзаж оставался неизменным – серая пыль, чёрное небо, далёкие огни. Время на Луне было условностью; база жила по земному ритму, но за окном всегда была ночь.
Кирилл смотрел на виски в стакане – последний глоток, который он не допил. Думал об отце. О Рене. О том, что их связывало.
– Маршал…
– Да?
– Почему вы выбрали меня?
Рен поставил свой стакан на стол.
– Ты правда не знаешь?
– Я – сын известного учёного и космолога с Обсерватории Края. Моя сестра – лидер Еретиков. Моя мать – возможно, главный источник информации о Ткачах. – Кирилл посмотрел на Рена. – Я – худший выбор для секретной операции.
– Или лучший.
– Как это?
Рен встал. Подошёл к окну – в четвёртый раз за этот разговор.
– Ты помнишь, как мы познакомились?
Кирилл помнил.
2340 год. Семь лет назад.
Ангар на лунной базе «Армстронг». Кирилл – двадцать два года, лейтенант, только что закончил академию. Его перевели на Луну для дополнительной подготовки: пилотирование в условиях низкой гравитации, боевые маневры, тактика.
Отец умер три месяца назад.
Кирилл стоял у иллюминатора, глядя на Землю. Голубой шар в чёрной пустоте – так далеко и так близко. Где-то там был заповедник, где они охотились вместе. Женева, где родители познакомились. Москва, где жила мать, пока не улетела к своим звёздам.
Он не плакал. Он отучился плакать ещё в академии, в первые месяцы, когда старшекурсники выбивали из новичков всё человеческое. Но что-то внутри него – что-то хрупкое, что-то, что держалось на отце, как на якоре, – разваливалось.
– Лейтенант Орлов?
Он обернулся.
Мужчина стоял в тени ангара – высокий, седой, с лицом, которое выглядело так, словно его вырезали из камня. Форма маршала Консервативного Альянса. Шрам от виска до подбородка.
Виктор Рен. Легенда. «Чёрное Солнце». Человек, который превратил Консерваторов из маргинальной группы в главную военную силу Федерации.
Кирилл вытянулся по стойке смирно.
– Так точно, сэр!
– Вольно, – Рен подошёл ближе. – Я знал твоего отца.
– Сэр?
– Мы встречались. Один раз. Он подарил мне бутылку виски.
Кирилл не знал, что ответить.
– Он был странным человеком, – продолжал Рен. – Говорил вещи, которые я не понимал. Но он любил тебя. Это было видно.
– Откуда вы знаете?
– Он показывал фотографию. Ты – мальчик, на его плечах. Охота, кажется. Он сказал: «Мой сын. Он будет лучше меня».
Кирилл почувствовал, как что-то сжалось в груди.
– Маршал… зачем вы мне это говорите?
Рен помолчал.
– Потому что знаю, каково это – терять отца. Моего убили в Ледяной войне. Мне было тридцать. Взрослый, военный, командир. Я думал, что готов. Оказалось – нет.
Он посмотрел на Землю за иллюминатором.
– Никто не готов. Но мы справляемся. Потому что должны.
– Как? – вырвалось у Кирилла. – Как справляться?
Рен обернулся к нему. В выцветших глазах было что-то, чего Кирилл не мог прочитать.
– Найди то, во что веришь. Держись за это. Не отпускай – даже когда больно. Особенно – когда больно.
– А если не знаю, во что верить?
– Тогда ищи. Пока не найдёшь.
Он положил руку Кириллу на плечо – тяжёлую, жёсткую руку человека, который знал, что такое терять.
– Если тебе понадобится помощь – приходи. Я не заменю отца. Никто не заменит. Но я могу быть… наставником. Если захочешь.
Кирилл смотрел на него.
– Почему? Вы меня не знаете.
– Потому что твой отец попросил.
– Что?
– В тот вечер, в баре. Перед уходом он сказал: «Если со мной что-то случится – присмотрите за Кириллом. Он хороший мальчик, но потеряется без якоря».
Рен убрал руку.
– Я не знал, что он имел в виду. Теперь – знаю.
Кирилл вернулся в настоящее.
Рен стоял у окна, глядя на лунный пейзаж. Тот же силуэт, что семь лет назад в ангаре. Старше, усталее – но тот же.
– Вы были моим якорем, – сказал Кирилл. – Все эти годы. После смерти отца, после академии, после «Прометея». Вы были тем, кто держал меня на плаву.
– Я делал то, что обещал.
– Почему?
Рен обернулся.
– Потому что я потерял своих детей. И когда увидел тебя в том ангаре – потерянного, сломанного, не знающего, куда идти – я увидел… возможность.
– Возможность чего?
– Быть отцом снова. Не заменой – я не настолько наивен. Но… кем-то, кто понимает. Кто может научить. Кто может передать то, что знает.
Он подошёл ближе.
– Ты спрашиваешь, почему я выбрал тебя для того, что готовится. Вот ответ: потому что ты – мой сын. Не по крови – по выбору. Моему и твоему.
Кирилл смотрел на него.
– Что вы хотите, чтобы я сделал?
– Пока – ничего. Вернись на «Немезиду». Жди приказа. Когда придёт время – ты узнаешь.
– А когда придёт время?
Рен улыбнулся – или то, что было у него вместо улыбки: лёгкое движение губ, не затронувшее глаз.
– Скоро. События ускоряются. Федерация раскалывается. Фракции дерутся за влияние. А твоя мать… – он помолчал. – Твоя мать делает кое-что, что может всё изменить.
– Что именно?
– Это я скажу, когда придёт время.
Кирилл хотел спросить больше – но что-то в тоне Рена говорило: разговор окончен. По крайней мере – эта его часть.
– Понял, маршал.
– Хорошо. – Рен вернулся к столу, сел. Снова стал командиром, а не… кем? Наставником? Отцом?
– И ещё одно, – добавил он.
– Да?
– Готовься к тому, что придётся выбирать. Быстро. Без колебаний. Не как на «Лотосе» – там ты не знал. Теперь – знаешь. Теперь ты понимаешь цену трёх секунд.
Без колебаний.
– Маршал… – Кирилл помедлил. – Как вы это делаете? Как решаете – без сомнений, без оглядки?
Рен смотрел на него долго.
– Я не решаю без сомнений. Я решаю несмотря на сомнения. Это разница.
– Какая?
– Тот, кто не сомневается, – глупец или машина. Тот, кто сомневается и не решает, – трус. Но тот, кто сомневается, понимает цену – и всё равно решает… – он сделал паузу. – Тот – человек.
Он встал.
– Иди, Кирилл. Отдохни. Шаттл обратно – завтра утром.
Кирилл поднялся. Отсалютовал – по уставу, как положено.
– Маршал.
– Кирилл.
Он направился к двери. Остановился на пороге.
– Маршал?
– Да?
– Спасибо. За всё.
Рен кивнул.
– Не благодари. Мы ещё не закончили.
Гостевая каюта на базе «Селена» была такой же аскетичной, как кабинет Рена: койка, терминал, санузел. Консерваторы не тратили ресурсы на комфорт – это был один из их принципов. «Мягкость – враг готовности», говорили они.
Кирилл лежал на койке, глядя в потолок.
Разговор с Реном крутился в голове – обрывками, образами, словами. Новая Эллада. Предупреждение Ткачей. Бутылка виски от отца. Ангар семь лет назад. «Ты – мой сын. По выбору».
Он думал о выборе.
На «Лотосе» он колебался – и люди погибли. Три секунды нерешительности, которые стоили восьми жизней. Он носил этот груз два года, как шрам на руке – спрятанный, но всегда ощутимый.
Больше никогда, поклялся он тогда. Больше никогда не буду колебаться.
Но Рен сказал другое. Сказал, что сомнение – не слабость. Что слабость – это неспособность решать, несмотря на сомнения.
В чём разница?
Кирилл перевернулся на бок. За окном – всё та же лунная ночь, вечная и неизменная.
Он думал об отце.
Дмитрий Орлов – учёный, мечтатель, человек, который смотрел на звёзды и видел возможности. Который учил сына охотиться и говорил: «Хищники не колеблются».
А потом – умер. И оставил вопросы, на которые не было ответов.
Почему ты попросил Рена присмотреть за мной? Что ты знал? Что видел, когда смотрел в космос?
Отец не отвечал. Мёртвые не отвечают.
Но где-то – далеко, на краю известной вселенной – была мать. Женщина, которую он не видел шесть лет. Которую не простил за то, что она работала, пока отец умирал. Которая, по словам Рена, «делала кое-что, что может всё изменить».
Что она делала? Что знала?
И почему Рен говорил о ней с таким… напряжением?
Кирилл закрыл глаза.
Готовься к тому, что придётся выбирать.
Он был готов. Он думал, что был готов.
Но в глубине души – там, где жили восемь имён и три секунды – что-то шептало: А если выбор окажется невозможным? Если придётся выбирать между тем, во что веришь, и тем, кого любишь?
Он отогнал эту мысль. Не время для сомнений. Сейчас – время для отдыха.
Завтра – обратно на «Немезиду». Обратно к кораблю, экипажу, рутине. Обратно к ожиданию – того, что Рен называл «началом».
Без колебаний.
Он уснул с этими словами в голове.
Ему снился отец. Снился заповедник на Земле, запах хвои, тяжесть винтовки. Снился голос – низкий, спокойный, знакомый:
«Хищники не колеблются, Кирилл. Но помни: мы – не только хищники. Мы – люди. И люди выбирают».
Он не помнил этот разговор. Может, его и не было.
Но слова остались – как всё, что говорил отец. Как семена, посаженные в землю, которые ждут своего часа, чтобы прорасти.
Утро пришло – условное, лунное, отмеченное только сигналом будильника и сменой освещения в коридорах.
Кирилл собрался быстро – военная привычка, въевшаяся в плоть. Форма, ботинки, идентификатор. Проверка в зеркале – безупречно, как положено офицеру.
Шрам на руке был скрыт под рукавом. Как всегда.
Он вышел из каюты и направился к шлюзу, где ждал шаттл.
База «Селена» просыпалась вместе с ним – в коридорах появились люди, зазвучали голоса, застучали шаги. Консерваторы начинали свой день: тренировки, инструктажи, подготовка к тому, что Рен называл «неизбежным».
Кирилл шёл и думал.
О Рене. О его ненависти к равнодушию Ткачей. О сорока девяти годах боли, превращённой в цель.
О себе. О своей ненависти – к кому? К матери, которая бросила семью? К сестре, которая «предала» память отца? К Ткачам, которые угрожали всему, что он знал?
Или к себе – за три секунды, которые стоили восьми жизней?
Он не знал. Может, не хотел знать.
Готовься к тому, что придётся выбирать.
Он был готов.
По крайней мере – так он себе говорил.
Шаттл ждал в доке – маленький, быстрый, с эмблемой Консервативного Альянса на борту. Пилот – тот же, что привёз его вчера – отсалютовал при виде капитана.
– Готовы, сэр?
– Да.
Кирилл поднялся на борт. Занял место в пассажирском отсеке.
Люк закрылся. Двигатели загудели. Шаттл оторвался от поверхности Луны и взял курс на орбиту, где ждала «Немезида».
Кирилл смотрел в иллюминатор.
База «Селена» уменьшалась внизу – огни в сером камне, последний форпост Консерваторов. Где-то там, в глубине, Виктор Рен смотрел на те же звёзды и думал о своих мёртвых детях.
Мы все несём своих мертвецов, подумал Кирилл. Рен – своих детей. Я – восемь имён с «Лотоса». Мать – может быть, отца. Может быть, что-то ещё.
Но мертвецы не мешают жить. Они помогают – помнить. Помнить, ради чего всё это.
Луна осталась позади. Впереди – чёрный космос, усеянный звёздами.
Где-то там – Обсерватория Края. Мать.
Где-то там – будущее, которое ещё предстояло выбрать.
Кирилл откинулся в кресле и закрыл глаза.
Без колебаний.
Он повторял это как мантру. Как клятву. Как молитву.
Без колебаний.
Вот кем он хотел стать. Человеком, который не колеблется. Который решает – и действует. Который несёт цену своих решений, не сгибаясь под их тяжестью.
Как Рен. Как отец – или тот образ отца, который он помнил.
Но где-то в глубине – там, где жили сомнения и страхи – голос шептал другое.
А если решение окажется неправильным? Если действие принесёт больше боли, чем бездействие? Если хищник, который не колеблется, окажется чудовищем?
Он не знал ответов.
Может, ответов и не было.
Может, в этом и был смысл – жить без ответов, принимать решения без гарантий, нести ответственность без оправданий.
Человек, который сомневается, понимает цену – и всё равно решает.
Рен был прав. Это и значило быть человеком.
Шаттл летел к «Немезиде».
Кирилл летел к своему будущему.
Не зная, что оно принесёт.
Но готовый – насколько можно быть готовым – встретить его.
Глава 7: Ночь на Обсерватории
Обсерватория Края, 2318 год. Двадцать девять лет назад.
Смотровой зал был пуст.
Майя лежала на надувном матрасе – контрабанда, привезённая с последним грузовым рейсом, запрещённая по уставу станции как «нефункциональное оборудование» – и смотрела в бездну.
Аккреционный диск Лебедя X-1 медленно вращался за прозрачным куполом: спираль раскалённого газа, золото и пурпур на периферии, бело-голубое сияние ближе к центру. А в самом центре – ничто. Не тьма, не пустота – отсутствие. Место, где заканчивалось всё, что можно было измерить, описать, понять.
Рядом – тепло. Дмитрий лежал на спине, заложив руки за голову, и тоже смотрел вверх. Его дыхание было ровным, спокойным, и Майя чувствовала, как его грудь поднимается и опускается рядом с её плечом.
Семь лет. Семь лет с того дождливого дня в Женеве, когда он подошёл к ней после провального доклада и сказал: «Вы ошиблись в уравнении 7.4. Но ошибка интереснее правильного решения».
Тогда она подумала: странный человек. Потом: интересный. Потом – через месяцы переписки, споров, совместных проектов – необходимый.
Она никогда не понимала, как это произошло. Любовь подкралась незаметно, как рассвет – не было момента, когда темнота сменилась светом, просто в какой-то момент она обнаружила, что уже день.
– Страшно? – спросил Дмитрий.
Его голос был низким, тёплым – таким, каким бывал только наедине с ней. На людях он говорил иначе: точнее, суше, как положено профессору теоретической физики. Но здесь, в темноте смотрового зала, когда на станции спали все двести человек, он позволял себе быть собой.
– Нет, – ответила Майя. – Красиво.
– Красиво?
– Да.
Она повернула голову, чтобы видеть его лицо. В отсветах аккреционного диска его черты казались вырезанными из бронзы: высокий лоб, прямой нос, морщинки у глаз – ему было сорок восемь, и возраст начинал оставлять следы. Седина на висках. Тонкие линии вокруг губ.
Он был красив. Не классической красотой – чем-то другим. Тем, как он смотрел на мир, словно видел в нём что-то, невидимое другим.
– Ты – единственный человек, которого я знаю, кто называет чёрную дыру красивой, – сказал он.
– А ты?
Пауза. Дмитрий повернулся к ней, и Майя увидела, как его глаза – карие, тёплые – на секунду стали другими. Пустыми. Смотрящими сквозь неё, сквозь стены, сквозь само пространство.
Это случалось иногда. Мгновения, когда он словно слушал что-то, чего не слышала она. Уходил куда-то – не физически, но как-то иначе. Майя научилась не спрашивать. Научилась ждать, пока он вернётся.
– Я называю её… обещанием, – сказал он наконец.
– Обещанием чего?
Он не ответил сразу. Его взгляд скользнул к куполу – к чёрной точке в центре сияния, к месту, где свет исчезал навсегда.
– Что внутри чёрной дыры? – спросил он вместо ответа.
Майя улыбнулась. Это была их игра – он задавал вопросы, на которые сам знал ответ, только чтобы услышать, как она думает вслух.
– Сингулярность. Точка бесконечной плотности.
– А если нет?
– Физика говорит…
– Физика говорит то, что мы умеем измерять, – перебил он мягко. – А что, если там – больше?
Майя приподнялась на локте, глядя на него сверху вниз. Его глаза всё ещё были другими – смотрящими куда-то, куда она не могла последовать.
– Что ты имеешь в виду?
Дмитрий улыбнулся. Но улыбка не достигла глаз – они оставались пустыми, отстранёнными.
– Звёзды – семена, Майя, – сказал он. – Каждая звезда, которая умирает, рождает что-то новое. Мы этого не видим. Но оно там. Внутри.
Слова повисли в воздухе – странные, поэтичные, непонятные. Майя хотела спросить: что ты имеешь в виду? какие семена? что рождает? – но что-то в его голосе остановило её.
Это было не объяснение. Это было… признание?
– Ты говоришь загадками, – сказала она вместо вопросов.
– Я знаю. – Его глаза снова стали прежними – тёплыми, живыми, здесь. – Прости. Иногда… иногда слова приходят раньше понимания.
– Чьи слова?
Пауза. Долгая.
– Не знаю, – сказал он наконец. – Может быть – мои. Может быть – чьи-то ещё.
Майя хотела расспросить – но он притянул её к себе, обнял, и вопросы растворились в тепле его тела.
– Расскажи мне о своём детстве, – попросил он, меняя тему. – О том, как ты впервые посмотрела на звёзды.
Она рассказывала.
О крыше в Санкт-Петербурге – старом доме на Васильевском острове, где они жили с мамой. О ночи, когда ей было восемь, и электричество отключили из-за аварии на подстанции. О том, как она вылезла на крышу через чердачное окно – вопреки всем запретам, вопреки страху – и увидела небо.
– Город обычно светится, – говорила она, чувствуя, как его рука медленно гладит её волосы. – Фонари, окна, реклама. Звёзд почти не видно. Но в ту ночь – темнота. Полная. И небо… небо было другим.
– Каким?
– Живым. Миллионы огней – и каждый был где-то далеко, и каждый что-то означал. Я не знала тогда, что это солнца. Не знала про расстояния, про световые годы, про всё это. Я просто смотрела и думала: там что-то есть.
– И захотела узнать.
– Да. – Она помолчала. – Это глупо, наверное. Детская фантазия.
– Нет. – Дмитрий чуть сжал её плечо. – Это самое важное, что может случиться с человеком. Момент, когда ты понимаешь: мир больше, чем ты думал. Намного больше.
– У тебя был такой момент?
Молчание. Она почувствовала, как его тело чуть напряглось – незаметно, на секунду.
– Да, – сказал он наконец. – Был.
– Расскажешь?
– Когда-нибудь.
Это «когда-нибудь» висело между ними – как и многое другое. Майя знала: у Дмитрия были секреты. Тени в прошлом, о которых он не говорил. Моменты отстранённости, когда он смотрел сквозь мир, словно видел что-то по ту сторону.
Она научилась не давить. Научилась ждать. Любовь – это и про терпение тоже.
– Майя, – сказал он вдруг.
– Да?
– Я рад, что ты здесь.
Она улыбнулась в темноте.
– Я тоже рада.
– Нет, ты не понимаешь. – Он повернулся к ней, и в его глазах было что-то новое – серьёзность, которой не было раньше. – Я рад, что ты существуешь. Что ты – это ты. Что мы нашли друг друга.
– Ты нашёл меня, – поправила она. – Подошёл после доклада. Я бы не осмелилась.
– Я знал, что должен.
– Знал?
Снова эта пауза. Снова глаза, которые смотрели сквозь.
– Иногда, – сказал Дмитрий медленно, – мы знаем вещи, которые не можем объяснить. Чувствуем связи, которые не видим. Это не мистика – это… другой способ понимания. Интуиция. Или что-то большее.
– Ты веришь в судьбу?
– Нет. Я верю в выбор. Но иногда выборы делаются за нас – не кем-то, а… обстоятельствами. Структурой вселенной. Законами, которые мы ещё не открыли.
– Это звучит как судьба, только с научным оформлением.
Он засмеялся – тихо, тепло.
– Может быть. Может быть, судьба – это просто физика, которую мы пока не понимаем.
Станция жила своим ночным ритмом.
Гул систем жизнеобеспечения – низкий, постоянный, на грани слышимости. Щелчки термокомпенсаторов, когда обшивка расширялась и сжималась от перепадов температуры. Шипение вентиляции где-то в коридорах. И раз в несколько часов – стон. Металл, протестующий против гравитационных приливов от чёрной дыры.
Майя привыкла к этим звукам за три года работы здесь. Обсерватория Края стала её домом – или чем-то похожим на дом. Маленьким миром на краю бездны, где двести человек жили, работали, любили, сходили с ума от одиночества и близости к ничему.
Дмитрий прилетал, когда мог. Несколько раз в год – на неделю, на две. Его работа была на Земле, её – здесь. Разлука была ценой, которую они платили за свои призвания.
Но эти ночи – эти украденные ночи в смотровом зале, когда весь мир сжимался до двух тел и одного окна в бесконечность – стоили любой цены.
– Анна спрашивала, когда ты вернёшься, – сказала Майя.
– Что ты ей сказала?
– Правду. Что не знаю. Что ты много работаешь.
– Она сердится?
– Ей семь лет. Она не умеет сердиться долго.
Дмитрий вздохнул.
– Я плохой отец.
– Ты – хороший отец, который мало бывает дома. Это разные вещи.
– Разница небольшая. Для ребёнка.
Майя села, поджав ноги. Матрас качнулся под её движением.
– Мы оба выбрали этот путь. Оба. Ты знал, кем я была, когда женился. Я знала, кем был ты. Мы не обычные люди, Дмитрий. Наша семья – не обычная семья.
– Это оправдание?
– Это факт. – Она взяла его руку, переплела пальцы. – Анна вырастет и поймёт. Или не поймёт – но это будет её выбор. Мы даём ей то, что можем: любовь, пример, возможности. Остальное – не в наших руках.
Дмитрий смотрел на неё – снизу вверх, с чем-то похожим на удивление.
– Когда ты стала такой мудрой?
– Когда родила ребёнка и поняла, что ничего не контролирую.
Он засмеялся. Потянул её обратно – к себе, рядом, в тепло.
– Я люблю тебя, – сказал он. – Ты это знаешь?
– Знаю.
– Я не говорю это часто.
– Не нужно говорить часто. Нужно – иногда. И правильно.
Они лежали в тишине. Чёрная дыра медленно пожирала газ за стеклом, и свет аккреционного диска играл на их лицах – золотой, пурпурный, белый.
– Дмитрий, – сказала Майя.
– Да?
– Я беременна.
Тишина.
Долгая, как падение в сингулярность.
Майя чувствовала, как он замер рядом – перестал дышать на мгновение, как останавливается сердце перед следующим ударом.
– Беременна, – повторил он. Не вопрос – констатация. Слово, которое он пробовал на вкус.
– Да.
– Давно?
– Шесть недель. Я узнала позавчера. Хотела сказать лично.
Он сел – медленно, как человек, которому нужно время, чтобы осознать услышанное. Его силуэт темнел на фоне сияющего диска.
– Шесть недель, – сказал он тихо. – В марте. Когда я прилетал в последний раз.
– Да.
Пауза.
– Мальчик или девочка?
– Не знаю ещё. Слишком рано.
– Хочешь узнать?
Майя села рядом с ним. Их плечи соприкасались – тепло к теплу.
– Нет. Пусть будет… сюрприз.
Он обернулся к ней. В полумраке его лицо было неразличимо – только глаза блестели, отражая далёкий свет.
– Ты уверена? – спросил он. – В том, что хочешь этого?
– Уверена.
– Здесь? На станции?
– Я полечу на Землю на последние месяцы. Рожу там. Потом… потом решим.
– Твоя работа…
– Работа подождёт. Или не подождёт – тогда найду другую.
Дмитрий смотрел на неё. В его глазах было что-то, чего она не могла прочитать – не его обычная загадочность, а что-то новое. Глубже.
– Ты удивительная, – сказал он.
– Почему?
– Потому что ты… ты просто решаешь. Без страха. Без сомнений. Берёшь и делаешь.
– Я боюсь, – призналась она. – Каждый день. Но страх – не повод не жить.
Он обнял её – крепко, отчаянно, как человек, который боится потерять.
– Я буду рядом, – сказал он в её волосы. – Обещаю. Больше, чем раньше. Я… я найду способ.
– Не обещай того, что не можешь выполнить.
– Я выполню.
– Дмитрий…
– Я выполню.
В его голосе было что-то – не уверенность, нет. Что-то более странное. Словно он знал что-то, чего не знала она. Словно видел будущее – и хотел его изменить.
Майя не стала спорить. Обняла его в ответ, прижалась щекой к его груди, слушая стук сердца.
За стеклом чёрная дыра продолжала своё вечное вращение. Газ падал к горизонту, раскаляясь до миллионов градусов, и исчезал навсегда – переходил туда, откуда нет возврата.
Звёзды – семена.
Слова Дмитрия всплыли в памяти – странные, непонятные. Она не спросила тогда, что они означают. Решила, что это метафора. Поэзия физика, влюблённого в космос.
– О чём ты думаешь? – спросила она.
– О будущем, – ответил он. – О том, каким оно будет.
– Каким?
Долгое молчание. Его рука медленно гладила её спину – вверх-вниз, вверх-вниз, успокаивающий ритм.
– Сложным, – сказал он наконец. – Но стоящим. Я верю в это.
– Ты всегда такой оптимист?
– Нет. Но с тобой – да.
Майя улыбнулась. Закрыла глаза.
Внутри неё – новая жизнь. Клетки, делящиеся и умножающиеся. Начало чего-то, что однажды станет человеком. Их ребёнком.
Мальчик, подумала она почему-то. Это будет мальчик.
Она не знала, откуда пришла эта уверенность. Просто чувствовала – как чувствуют иногда вещи, которые нельзя объяснить.
– Если мальчик – назовём Кириллом, – сказала она.
– Почему Кирилл?
– Не знаю. Нравится.
Дмитрий чуть напрягся – на секунду, почти незаметно.
– Кирилл, – повторил он. – Хорошее имя. Сильное.
– А если девочка?
– Тогда выберешь ты.
– Уже выбрала. Анна.
– У нас уже есть Анна.
– Значит, будет мальчик.
Он засмеялся – тихо, тепло. Поцеловал её в макушку.
– Кирилл. Пусть будет Кирилл.
Они заснули на рассвете – условном рассвете станции, когда освещение в коридорах начинало медленно усиливаться, имитируя земной циркадный ритм.
Майя проснулась первой. Дмитрий спал рядом – лицо расслабленное, как бывает только во сне. Во сне он выглядел моложе, мягче. Без той загадочности, которая окутывала его наяву.
Она смотрела на него и думала о том, как мало знает этого человека. Семь лет брака – а он всё ещё оставался для неё тайной. Моменты отстранённости. Взгляды сквозь мир. Слова, которые приходили откуда-то.
«Звёзды – семена».
Что это значило? Метафора? Философия? Или… что-то ещё?
Она не знала. Может, никогда не узнает.
Но в то утро – в то первое утро после известия о беременности – это не имело значения. Был он, была она, был ребёнок внутри неё. Было будущее – неизвестное, пугающее, прекрасное.
Достаточно.
Обсерватория Края, 2347 год. Настоящее время.
Майя открыла глаза.
Смотровой зал был таким же – и совсем другим. Те же стены, тот же купол, та же бездна за стеклом. Но двадцать девять лет оставили следы: потёртости на полу, царапины на консолях, запах, который появляется в местах, где слишком долго живут одни и те же люди.
Она сидела в том же кресле, что и двадцать лет назад, когда обнаружила семенной коэффициент. Смотрела на ту же чёрную дыру, которая пожирала газ с тем же равнодушием.
Двадцать девять лет.
Целая жизнь. Анна выросла, ушла к Еретикам, потеряла Мэй. Кирилл вырос, стал солдатом, научился убивать. Дмитрий… Дмитрий умер, оставив загадки вместо ответов.
«Звёзды – семена, Майя. Каждая звезда, которая умирает, рождает что-то новое».
Теперь она знала, что это не метафора.
Теперь – после Контакта, после откровений Ткачей, после всего – она понимала.
Дмитрий знал. Тогда, в ту ночь, глядя на чёрную дыру с ней рядом, он уже знал правду. Знал, что Солнце станет семенем. Знал, что человечеству предстоит выбор. Знал – и молчал.
Почему?
Она задавала этот вопрос каждую ночь с тех пор, как узнала правду о муже. Контактёр – агент Ткачей, инструмент, через который древняя цивилизация направляла человечество. Он нашёл её не случайно. Полюбил – не случайно. Всё было частью плана, которому миллиарды лет.
Или нет?
«Любовь – мой выбор. Единственное, что было только моим».
Его последние слова. Бред умирающего – или правда, которую он наконец осмелился сказать?
Майя не знала. Может, никогда не узнает.
Но та ночь – та ночь двадцать девять лет назад, когда они лежали на контрабандном матрасе и смотрели на бездну – была настоящей. Она верила в это. Хотела верить.
Он любил меня. По-настоящему. Несмотря на всё остальное – или благодаря ему.
За стеклом аккреционный диск продолжал вращаться – золото, пурпур, белый свет. Газ падал к горизонту, раскалялся, исчезал. И где-то там, внутри, за границей, откуда не возвращается даже свет – рождались новые вселенные. Триллионы звёзд в каждой. Потенциал жизни. Потенциал разума.
Звёзды – семена.
Дмитрий был прав. Всегда был прав.
Теперь она понимала.
Теперь – слишком поздно.
Дверь смотрового зала открылась. Майя не обернулась – она узнала шаги.
– Не спишь, – сказала Елена. Не вопрос – констатация.
– Привычка.
Заместитель подошла, села в соседнее кресло. В руках – две чашки кофе. Протянула одну Майе.
– Настоящий. Марко прислал из оранжереи.
– Спасибо.
Они сидели в тишине, глядя на чёрную дыру. Две женщины – одна молодая, другая старая – на краю известной вселенной.
– О чём думаешь? – спросила Елена наконец.
– О прошлом.
– О муже?
Майя не ответила. Отпила кофе – горький, крепкий, настоящий.
– Я помню его, – сказала Елена. – Он прилетал сюда несколько раз, когда я только начинала. Странный был человек. Смотрел на тебя так, словно видел насквозь.
– Он многое видел.
– Больше, чем говорил?
– Намного больше.
Елена помолчала. Потом:
– Ты злишься на него?
Майя задумалась. Злюсь ли?
– Нет, – сказала она наконец. – Злилась – раньше. Когда узнала правду. Но теперь… теперь понимаю. Он делал то, что должен был. Как и все мы.
– Это оправдание?
– Это факт.
Она посмотрела на Елену – молодую, острую, голодную до истины.
– Когда ты узнаёшь что-то важное, – сказала Майя, – у тебя есть выбор. Сказать или промолчать. Оба варианта имеют цену. Дмитрий выбрал молчание. Я – двадцать лет – тоже выбирала молчание. Мы похожи в этом. Оба несли тайны, которые не могли разделить.
– Почему?
– Потому что некоторые знания… – Майя помедлила, подбирая слова. – Некоторые знания меняют мир самим фактом своего существования. И тот, кто их несёт, становится ответственным за последствия. Даже если не хочет.
– Ты была ответственна двадцать лет?
– Да.
– И как это – нести такой груз?
Майя улыбнулась – устало, горько.
– Тяжело. Но меньше, чем ты думаешь. Человек привыкает ко всему – даже к знанию конца света.
Елена смотрела на неё – острым, оценивающим взглядом.
– Ты когда-нибудь жалела?
– О чём?
– О том, что не сказала раньше?
Майя думала о этом каждый день. Двадцать лет молчания. Двадцать лет, когда человечество могло готовиться – и не готовилось.
– Я не знаю, – сказала она честно. – Если бы я сказала раньше – что бы изменилось? Паника? Войны? Массовые самоубийства? Или – мобилизация, подготовка, надежда? Я не знаю. Никто не знает.
– Но ты решила за всех.
– Да. Как и Дмитрий решил за меня. Как решает каждый, кто хранит секреты. Это не оправдание – это цена. Я заплатила её. Буду платить до конца жизни.
Елена молчала. За стеклом чёрная дыра продолжала своё вечное пиршество.
– Почему ты рассказываешь мне это? – спросила она наконец.
– Потому что ты – следующая.
– Что?
– После меня – ты. Станция, данные, ответственность. Когда я уйду – а я уйду, рано или поздно – ты останешься. И тебе придётся решать. Что говорить. Кому. Когда.
– Я не хочу этого.
– Никто не хочет. Но иногда – приходится.
Майя допила кофе. Поставила чашку на подлокотник.
– Дмитрий однажды сказал мне: «Мы все делаем то, что должны». Я тогда не поняла. Думала – красивые слова. Теперь понимаю: это не философия. Это просто правда. Мы делаем то, что можем, с тем, что имеем. И надеемся, что этого достаточно.
– А если недостаточно?
– Тогда надеемся, что те, кто придёт после нас, справятся лучше.
Елена смотрела на чёрную дыру – на бездну, полную семян, на дверь в бесконечность.
– Это страшно, – сказала она тихо.
– Да, – согласилась Майя. – Но и красиво. Одновременно.
Позже – когда Елена ушла, когда кофе остыл, когда станция начала просыпаться к новому дню – Майя осталась одна.
Она смотрела на чёрную дыру и думала о той ночи двадцать девять лет назад.
О надувном матрасе – контрабанде, которую они так и не вернули.
О словах Дмитрия – странных, пророческих, непонятных тогда.
О ребёнке внутри неё – Кирилле, который вырос, стал солдатом, который сейчас летел обратно на свой корабль после разговора с человеком, который учил его ненавидеть.
Звёзды – семена.
Лейтмотив её жизни. Фраза, которая преследовала её через десятилетия – сначала как загадка, потом как предупреждение, теперь как факт.
Дмитрий знал. Он пытался сказать ей – по-своему, как мог. Но она не услышала. Не хотела слышать. Списала на поэзию, на эксцентричность гения, на что угодно, кроме правды.
Мы видим то, что готовы видеть. Остальное – игнорируем.
Она была не готова. Тогда – нет.
Теперь – слишком поздно.
Или нет?
Восемьдесят лет. Минус двенадцать, прошедших с начала Засева. Шестьдесят восемь лет до коллапса.
Целая жизнь. Или – мгновение. Зависит от масштаба.
«Я верю в выбор», сказал Дмитрий в ту ночь. «Но иногда выборы делаются за нас – не кем-то, а обстоятельствами. Структурой вселенной. Законами, которые мы ещё не открыли».
Может, он был прав. Может, всё – судьба, физика, которую они ещё не поняли.
Но может – и нет. Может, внутри заданных границ остаётся пространство для свободы. Для решений, которые никто не предсказал.
Дай людям знать – и они выберут сами.
Голос Дмитрия – или её собственный?
Она не знала. Не имело значения.
Решение было принято.
Майя встала. Направилась к выходу из смотрового зала. В голове – план: данные, которые нужно собрать. Послания, которые нужно расшифровать. Правда, которую нужно рассказать миру.
Она оглянулась на чёрную дыру – в последний раз. Бездна, полная семян. Дверь в бесконечность. Обещание – или угроза.
Звёзды – семена.
– Ты был прав, Дмитрий, – сказала она вслух. – Как всегда.
Чёрная дыра не ответила. Чёрные дыры не отвечают.
Но где-то – может быть – он услышал.
Глава 8: Ночь в морге
Марсианский университет, Новый Олимп. 2336 год.
Морг находился в подвале биологического корпуса – там, где стены были толще, а температура стабильнее. Три этажа вниз по служебной лестнице, мимо лабораторий с образцами экстремофилов, мимо хранилищ генетического материала, мимо всего, что делало этот факультет одним из лучших в Солнечной системе.
Анна знала дорогу наизусть. Она проходила здесь сотни раз – на практикумы, на исследования, на ночные сессии с Леной, когда они засиживались над образцами до рассвета и пили отвратительный синтетический кофе из автомата на втором подземном уровне.
Сейчас коридоры были пусты. Три часа ночи – время, когда даже самые одержимые аспиранты спали. Анна шла в темноте, не включая свет, ориентируясь по памяти и по тусклому аварийному освещению у потолка.
Дверь морга была заперта. Биометрический замок – только для персонала.
Анна приложила ладонь к сканеру. Красный свет. Доступ запрещён.
Она ждала этого. Её уровень допуска – аспирант, не сотрудник. Морг – закрытая зона. Особенно сейчас, когда там лежало тело, которое ещё не забрали родственники.
Родственники. Родители Лены жили на Земле, в каком-то маленьком городке в Сибири. Они прилетят завтра – первым же рейсом после получения известия. Анна представила себе этот звонок: голос администратора, официальные слова, пауза, крик матери.
Она не хотела представлять. Но мозг работал сам по себе – выстраивал сценарии, проигрывал варианты, как делал всегда.
Анна достала из кармана карту. Не свою – Лены. Та оставила её в лаборатории месяц назад, забыла на столе, и Анна собиралась вернуть, но всё откладывала. Теперь – уже некому возвращать.
Карта Лены имела допуск к моргу. Она работала там летом – помогала каталогизировать образцы тканей для проекта по криоконсервации.
Зелёный свет. Дверь открылась.
Холод ударил в лицо – сухой, стерильный, пахнущий антисептиком и чем-то ещё. Чем-то, что Анна не могла определить, но что её тело узнавало на уровне инстинктов.
Смерть. Так пахла смерть.
Морг был небольшим – университетский, не городской. Шесть криокамер вдоль стены, рабочий стол с инструментами, терминал для документации. Освещение – холодное, голубоватое, как на дне океана.
Пять камер были пусты. Шестая – нет.
Анна подошла медленно, как будто боялась разбудить.
Прозрачная крышка. Внутри – Лена.
Она была красивой. Даже сейчас – с закрытыми глазами, с бледной кожей, с неподвижным лицом – она была красивой. Веснушки на носу и щеках – россыпь золотистых точек, которые Анна так любила считать в те редкие моменты, когда Лена засыпала рядом с ней в лаборатории. Рыжие волосы – убранные под голову, но одна прядь выбилась и лежала на стекле, как будто Лена пыталась выбраться.
Анна положила ладонь на крышку. Холод пластика проник сквозь кожу.
– Привет, – сказала она.
Голос прозвучал странно в тишине морга – слишком живой для этого места.
– Я пришла попрощаться. Знаю, что нельзя. Знаю, что против правил. Но когда это нас останавливало?
Она улыбнулась – криво, болезненно. Лена не ответила. Лена никогда больше не ответит.
Несчастный случай при погружении в подповерхностные океаны Европы.
Анна повторяла эти слова весь день – с того момента, как узнала. Повторяла, как мантру, как заклинание, как будто если произнести достаточно много раз, они станут понятными.
Они не становились.
Лена была лучшим пилотом глубоководных аппаратов в их потоке. Она прошла все тренировки, сдала все экзамены, получила все сертификаты. Она была осторожной – не той безрассудной осторожностью, которая парализует, а той умной, которая позволяет рисковать правильно.
И всё равно – несчастный случай. Сбой в системе жизнеобеспечения. Потеря давления в глубоководном модуле. Смерть наступила за секунды – так сказали врачи. Она не мучилась.
Она не мучилась.
Как будто это что-то меняло. Как будто скорость смерти делала её менее окончательной.
Анна села на пол рядом с криокамерой. Прислонилась спиной к металлическому корпусу. Холод проник сквозь одежду, но она не обратила внимания.
– Мы должны были лететь вместе, – сказала она тишине. – Следующим летом. Ты и я. Экспедиция к гейзерам южного полюса. Помнишь, как мы планировали?
Она помнила. Каждую деталь.
Ночь в лаборатории, три месяца назад. Они закончили работу над образцами, устали до дрожи в руках, но не хотели расходиться. Лена достала карту Европы – голографическую, с отмеченными точками погружений – и начала показывать.
«Вот здесь – гидротермальные источники. Температура до ста двадцати градусов на выходе. Экстремофилы, которых мы там найдём, могут перевернуть всё, что мы знаем о пределах жизни».
«А если не найдём?»
«Тогда придумаем что-нибудь ещё. Мы всегда придумываем».
Она улыбнулась тогда – той улыбкой, от которой у Анны перехватывало дыхание. Улыбкой, которая говорила: мы – команда, мы справимся, мы вместе.
«Лена…»
«Да?»
Анна хотела сказать что-то. Что-то важное. Что-то, что носила в себе месяцами, не решаясь произнести. Но слова застряли в горле, и момент ушёл, и Лена переключилась на другую тему, и Анна убедила себя, что успеет. Потом. После экспедиции. Когда они вернутся, усталые и счастливые, с образцами и открытиями, тогда она скажет.
Теперь – никакого «потом». Никакого «после». Только криокамера и тишина.
Анна не знала, сколько просидела так. Время в морге текло иначе – медленнее, гуще, как охлаждённая жидкость в капиллярах криосистемы.
Она думала о Лене. О том, что было между ними – или могло быть. О взглядах, которые длились на секунду дольше, чем нужно. О случайных прикосновениях, которые не были случайными. О ночах в лаборатории, когда они засыпали рядом, плечом к плечу, и Анна просыпалась первой и смотрела на спящее лицо, не решаясь пошевелиться.
Она так и не сказала. Никогда. Ни разу.
Трусиха.
Голос в голове был жёстким, безжалостным. Её собственный голос – тот, который появлялся в худшие моменты и говорил правду, которую она не хотела слышать.
Ты боялась. Боялась, что она не так поймёт. Боялась, что это разрушит дружбу. Боялась, что она скажет «нет». И теперь ты никогда не узнаешь.
– Замолчи, – прошептала Анна.
Ты всегда откладываешь важное. Всегда ждёшь «правильного момента». А правильный момент никогда не наступает, потому что его не существует.
– Замолчи!
Голос эхом отразился от стен морга. Анна зажала рот ладонью, испугавшись собственного крика.
Тишина. Только гудение криосистем.
Она посмотрела на Лену – на неподвижное лицо, на закрытые глаза, на прядь рыжих волос на стекле.
– Прости меня, – сказала она. – За всё, чего не сказала. За всё, чего не сделала. Прости.
Лена молчала. Мёртвые не прощают. Мёртвые вообще ничего не делают – в этом и проблема.
Анна встала. Ноги затекли, и она едва не упала, хватаясь за край криокамеры.
Она смотрела на Лену – и впервые по-настоящему видела.
Не лицо. Не волосы. Не тело.
Атомы.
Углерод, водород, кислород, азот. Следы железа, кальция, фосфора. Те же элементы, что во всех живых существах на Земле и за её пределами. Те же атомы, что были созданы в ядрах умирающих звёзд миллиарды лет назад.
Мы все – звёздная пыль.
Банальность. Фраза, которую повторяли так часто, что она потеряла смысл. Но сейчас, глядя на тело подруги, Анна вдруг почувствовала её по-новому.
Атомы Лены не исчезли. Они здесь – в этой криокамере, в этом морге, на этой планете. Структура разрушена, но материя осталась. Химия осталась. Физика осталась.
Но где она?
Где Лена – настоящая Лена? Не атомы, не молекулы, не нейронные связи в замороженном мозгу. Где смех? Где идеи? Где способ щуриться, когда она думала о чём-то сложном? Где привычка грызть ногти, когда нервничала? Где все те мелочи, которые делали её ею?
Анна не знала. Религия сказала бы – душа. Наука сказала бы – информация, паттерн, процесс. Но ни одно из этих слов не было ответом.
Она отошла от криокамеры. Прошла к терминалу. Не зная зачем – просто чтобы что-то делать, чтобы не стоять и не смотреть.
На экране – файлы. Документация морга, журналы поступлений, протоколы вскрытий. Рутина смерти, оформленная в таблицы и графики.
Анна пролистала без интереса. Остановилась на папке с личными файлами.
Морозова, Елена Викторовна. 2308-2336. Причина смерти: декомпрессия.
Двадцать восемь лет. Меньше, чем у Анны будет, если она доживёт до следующего дня рождения.
Она открыла личные данные. Фотография – Лена в скафандре, улыбающаяся, на фоне ледяных гейзеров Европы. Последняя экспедиция перед той, роковой.
«Я хочу понять, как жизнь выживает там, где не должна», – сказала она тогда. «Это важно. Не для науки – для меня. Я хочу знать, на что мы способны».
Анна закрыла файл. Слёзы мешали видеть экран.
Она не помнила, как оказалась в кресле у стены. Не помнила, как прошло время – минуты? часы? – пока она сидела и смотрела в пустоту.
Мозг работал. Он всегда работал – даже когда она хотела, чтобы он остановился. Искал связи, строил гипотезы, задавал вопросы.
Куда уходит то, что было человеком?
Вопрос звучал философски – из тех, что задают на первом курсе и потом забывают, потому что ответа нет. Но сейчас, в три часа ночи, в морге, рядом с телом единственного человека, которого она любила (и так и не сказала), вопрос казался единственно важным.
Атомы – здесь. Энергия – рассеялась. Информация – где?
Анна была биологом. Она знала: сознание – это процесс, не вещество. Паттерн нейронной активности, слишком сложный, чтобы описать, слишком хрупкий, чтобы сохранить. Когда сердце останавливается, когда мозг перестаёт получать кислород, процесс прекращается. Как программа, которую выключили. Как огонь, который погас.
Но огонь не исчезает. Он превращается в тепло, свет, дым. Энергия сохраняется – первый закон термодинамики. Ничто не исчезает по-настоящему.
Она потёрла глаза. Мысли путались, перескакивали с одного на другое. Усталость, горе, холод морга – всё смешалось в голове, создавая странный, почти галлюцинаторный поток.
И тогда она вспомнила.
Статья.
Она читала её год назад – случайно, пролистывая архивы старых журналов в поисках материала для курсовой. Какой-то маргинальный физик, какая-то безумная теория. Она посмеялась тогда – и забыла.
Теперь – вспомнила.
Ли Смолин. Космологический естественный отбор.
Идея была простой – настолько простой, что казалась глупой. Чёрные дыры порождают новые вселенные. Внутри каждой сингулярности – не пустота, а начало. Большой Взрыв наоборот. Рождение нового космоса из смерти старого.
И если это правда – если чёрные дыры действительно создают дочерние вселенные – тогда вселенные эволюционируют. Те, что производят больше чёрных дыр, «размножаются» эффективнее. Их параметры – константы физики, структура пространства-времени – передаются «потомкам» с небольшими вариациями.
Естественный отбор. На уровне космосов.
Анна тогда посмеялась. Философия, не наука. Красивая идея, но непроверяемая. Как доказать, что внутри чёрной дыры что-то есть? Как заглянуть за горизонт событий?
Но сейчас, в морге, глядя на мёртвое тело, она вдруг подумала иначе.
Жизнь – тоже процесс. Эволюция – тоже отбор. Лена была частью этого процесса – сложным, прекрасным, временным узором в космической ткани.
Она началась – и закончилась. Но процесс, который её породил, продолжается. Эволюция не остановилась. Жизнь не остановилась. Вселенная не остановилась.
Анна встала. Подошла к криокамере снова.
Лена лежала там – неподвижная, холодная, мёртвая. Но атомы, из которых она состояла, были живы. Они будут жить ещё миллиарды лет – переходя из одной формы в другую, из одного тела в другое, из одной звезды в другую.
Звёзды умирают, чтобы родить новые звёзды. Вселенные умирают, чтобы родить новые вселенные. Люди умирают…
Чтобы что?
Мысль оформилась не сразу. Она приходила частями – образами, ощущениями, обрывками идей, которые Анна не могла сложить в слова.
Мы – часть вселенной. Не наблюдатели, не гости, не случайные пассажиры. Мы – способ, которым вселенная познаёт себя.
Фраза была не её – чья-то цитата, из какой-то книги, которую она читала давно. Но сейчас она звучала по-новому.
Вселенная познаёт себя. Через нас. Через наши глаза, наши мысли, наши вопросы.
И если Смолин прав… если вселенные размножаются… если чёрные дыры – семена новых космосов…
Тогда мы – не просто наблюдатели. Мы – участники процесса. Мы – механизм, через который вселенная размножается.
Анна застыла у криокамеры. Мысль была огромной – слишком огромной для трёх часов ночи, для морга, для её измученного горем разума.
Жизнь. Разум. Сознание. Всё это – не случайность. Всё это – часть чего-то большего.
Мы – пчёлы. Опыляем космос самим фактом своего существования.
Она не знала, откуда пришла эта метафора. Она просто появилась – готовая, ясная, правильная.
И тогда Анна заплакала.
Слёзы текли по щекам – горячие, солёные, неудержимые. Она не могла остановить их, да и не пыталась.
Но это были не слёзы горя.
Это было что-то другое. Что-то, чему она не могла найти названия. Облегчение? Понимание? Принятие?
Всё вместе. И что-то ещё – что-то, что не укладывалось в слова.
Она смотрела на Лену – на мёртвое тело, на прядь рыжих волос, на веснушки, которые уже никогда не станут темнее под марсианским солнцем – и впервые не чувствовала только боль.
Ты не исчезла, подумала она. Ты была частью чего-то. Ты остаёшься частью чего-то. Твои атомы – звёздная пыль. Твои мысли – отпечаток в космической памяти. Твоя жизнь – не бессмысленна.
Ничья жизнь не бессмысленна.
Она не знала, была ли это правда. Не знала, был ли прав Смолин, были ли правы все те философы и физики, которые пытались найти смысл в бессмысленной вселенной.
Но в эту минуту – в три часа ночи, в морге, рядом с телом женщины, которую она любила – Анна верила.
И вера была достаточной.
Она не знала, сколько ещё просидела так – плача, думая, глядя в пустоту. Время потеряло значение. Была только она, и Лена, и огромная, невозможная мысль, которая росла внутри неё, как семя, брошенное в почву.
Семя.
Слово зацепилось за что-то в памяти. Что-то старое, почти забытое.
Голос отца. Ночь на Земле, много лет назад. Они сидели на крыше дачи, смотрели на звёзды, и отец говорил что-то – своим обычным, тёплым, немного рассеянным голосом.
«Звёзды – семена, Аннушка».
Она не поняла тогда. Решила, что это метафора – отец любил метафоры, любил говорить загадками, любил намекать на что-то большее, чего она не понимала.
Теперь – поняла.
Звёзды – семена. Каждая умирающая звезда рождает что-то новое. Чёрные дыры – семена новых вселенных. Жизнь – семена разума. Разум – семена… чего?
Она не знала. Но впервые – хотела узнать.
Дверь морга открылась.
Анна вскочила, вытирая слёзы. Свет из коридора ударил в глаза.
– Кто здесь? – Голос охранника – сонный, недовольный.
– Я… – Анна не могла говорить. Горло пересохло.
Охранник вошёл, включил свет. Увидел её – заплаканную, помятую, сидящую на полу рядом с криокамерой.
– Вам сюда нельзя.
– Я знаю.
– Как вы вошли?
Анна показала карту Лены. Охранник посмотрел на неё, потом на криокамеру, потом снова на Анну.
– Вы знали её? – спросил он. Голос стал мягче.
– Да.
– Родственница?
– Подруга.
Подруга. Слово было недостаточным. Слово было ложью. Но правды – той правды, которую она так и не сказала – уже никому не было дела.
Охранник вздохнул.
– Вам всё равно нужно уйти. Правила.
– Я знаю, – повторила Анна.
Она встала. Ноги дрожали, но держали. Подошла к криокамере в последний раз.
– Прощай, – сказала она тихо. – Я поняла что-то сегодня. Благодаря тебе. Не знаю, права ли я. Но буду искать. Обещаю.
Лена молчала. Мёртвые не отвечают на обещания.
Но Анна знала: она сдержит это.
Она вышла из морга на рассвете – марсианском, оранжево-розовом, с тонкой полоской света над горизонтом куполов.
Воздух был холодным и чистым. Анна стояла на пороге биологического корпуса и дышала – глубоко, жадно, как будто впервые.
Я жива, подумала она. Я жива, а Лена – нет. Это несправедливо. Это больно. Это правда.
Но жизнь продолжается. Моя жизнь. Её жизнь – в другой форме. Жизнь вообще.
Она не знала ещё, что будет делать дальше. Не знала, что эта ночь – начало пути, который приведёт её к Еретикам, к Мэй, к манифестам и трансляциям на миллиарды зрителей. Не знала, что слова, которые она скажет однажды – «Это не унижение, это честь» – станут символом целого движения.
Она знала только одно: что-то изменилось. Внутри неё – что-то сломалось и что-то родилось. Как звезда, которая умирает и становится чем-то новым.
Звёзды – семена.
Она улыбнулась – впервые за сутки. Слабо, болезненно, но настояще.
– Спасибо, папа, – сказала она вслух. – Теперь я понимаю.
Ветер унёс её слова. Марс молчал – как всегда. Но где-то далеко, в девяноста миллионах километров, Солнце поднималось над Землёй, и его свет летел к ней, и внутри его ядра – она узнает это через одиннадцать лет – уже прорастало семя будущего.
Четыре часа спустя. Комната Анны, университетское общежитие.
Она не спала. Не могла – мысли кружились в голове, как пчёлы в улье, и каждая несла что-то важное, что-то, что нельзя было упустить.
Анна сидела за столом, перед ней – раскрытый дневник. Не электронный – бумажный, старомодный, который она вела с детства. Привычка от матери, которая всегда говорила: «Некоторые вещи нужно писать рукой. Так они становятся реальнее».
Перо двигалось по бумаге – быстро, почти лихорадочно. Слова лились сами собой, как будто она не писала, а записывала что-то, что уже существовало.
«Мама, ты смотришь на звёзды и видишь загадки. Папа смотрел и видел красоту. Я смотрю – и вижу родителей.
Не в метафорическом смысле. Буквально.
Каждая звезда – это печь, в которой создаются элементы жизни. Углерод, кислород, азот – все они рождаются в звёздных ядрах. Когда звезда умирает – взрывается сверхновой или коллапсирует в чёрную дыру – эти элементы разлетаются по галактике. И из них, через миллиарды лет, рождается новая жизнь.
Мы – дети звёзд. Это не поэзия. Это физика.
Но Смолин идёт дальше. Он говорит: чёрные дыры рождают новые вселенные. Каждый коллапс – это роды. Каждая сингулярность – это начало.
Если он прав – а я начинаю думать, что он прав – тогда звёзды не просто наши родители. Они – наши предки. И наши потомки. И мы – часть бесконечной цепи, которая тянется от Большого Взрыва до конца времён.
Это не страшно. Это прекрасно.
Лена умерла сегодня ночью. Точнее – три дня назад, но я узнала только вчера, а поняла только сегодня.
Я хотела сказать ей что-то важное. Не успела. Теперь никогда не скажу.
Но её атомы – те же атомы, что были созданы в ядре какой-то древней звезды – всё ещё здесь. Они не исчезли. Они станут частью чего-то нового. Может быть – частью новой жизни. Может быть – частью новой звезды. Может быть – частью новой вселенной.
Мы не заканчиваемся, когда умираем. Мы трансформируемся. Как энергия, которая переходит из одной формы в другую. Как информация, которая меняет носитель.
Это не утешение. Это понимание.
Я не знаю, есть ли у вселенной цель. Не знаю, есть ли смысл в том, что мы существуем. Но я знаю, что мы – часть чего-то огромного. Что наша жизнь – не случайность, а необходимость. Что без нас – без разума, без сознания, без способности задавать вопросы – вселенная была бы неполной.
Мы – механизм. Мы – способ вселенной познать себя и размножиться.
Это не унижение. Это честь.
Папа говорил: «Звёзды – семена». Я не понимала тогда. Думала – метафора. Теперь понимаю: он знал. Каким-то образом – знал.
Каждая чёрная дыра – мать нового космоса. Каждый коллапс – роды. Мы – дети звёзд, которые сами станут родителями звёзд.
Это не страшно. Это прекрасно.
Почему вы не видите?»
Анна остановилась. Перечитала написанное.
Почему вы не видите?
Вопрос был обращён к матери, к отцу, ко всему миру. Но на самом деле – к себе самой. К той Анне, которая ещё вчера была обычным аспирантом, изучающим экстремофилов, и не думала о космологии, о чёрных дырах, о смысле жизни.
Та Анна умерла. Как Лена. Как звезда, которая коллапсирует и становится чем-то новым.
Новая Анна сидела за столом, смотрела на свои слова и думала: что теперь?
Она не знала. Но знала, что не может просто вернуться к работе, к образцам, к рутине. Что-то изменилось – слишком сильно, слишком глубоко.
Мне нужно узнать больше, подумала она. Нужно понять – права ли я? Или это просто горе, которое ищет утешения в красивых идеях?
Она потянулась к терминалу. Открыла поиск.
«Ли Смолин. Космологический естественный отбор. Критика. Подтверждения. Исследования».
Результаты посыпались на экран – сотни статей, книг, дискуссий. Большинство – критические. «Непроверяемая гипотеза». «Философия, не наука». «Элегантная, но пустая спекуляция».
Но были и другие. Статьи, которые искали доказательства. Эксперименты, которые пытались проверить. Люди, которые верили – или хотели верить.
Анна начала читать.
Две недели спустя.
Похороны Лены были тихими – только семья и близкие друзья. Родители привезли тело на Землю, похоронили на маленьком кладбище в Сибири, рядом с бабушкой и дедушкой.
Анна не полетела. Не смогла – экзамены, проекты, отговорки, за которыми пряталась простая правда: она боялась. Боялась увидеть гроб, опускающийся в землю. Боялась, что это разрушит то хрупкое понимание, которое она нашла в ту ночь в морге.
Вместо этого она сидела в своей комнате и читала.
Смолин. Саскинд. Хокинг. Пенроуз. Все, кто когда-либо думал о чёрных дырах, о сингулярностях, о том, что находится по ту сторону горизонта событий.
Чем больше она читала, тем больше убеждалась: ответа нет. Никто не знает наверняка. Все гипотезы – только гипотезы.
Но одна мысль возвращалась снова и снова.
Если мы не можем проверить, что внутри чёрной дыры – это не значит, что там ничего нет. Это значит только, что мы пока не умеем смотреть.
И ещё одна мысль – более личная, более болезненная.
Если жизнь имеет смысл – космический, вселенский смысл – тогда и смерть имеет смысл. Тогда Лена умерла не просто так. Тогда её жизнь – и её смерть – были частью чего-то большего.
Анна хотела в это верить. Отчаянно, до боли в груди.
И постепенно – день за днём, книга за книгой, бессонная ночь за бессонной ночью – она начала верить.
Месяц спустя. Лаборатория биологического корпуса.
– Ты странно выглядишь, – сказала профессор Ким. – Болеешь?
Анна оторвалась от микроскопа.
– Нет. Просто… думаю.
– О чём?
О том, что вселенная размножается. О том, что мы – часть этого процесса. О том, что моя подруга умерла, и я нашла в этом смысл, и не знаю, радоваться или пугаться.
– О диссертации, – сказала она вслух.
Профессор Ким посмотрела на неё с подозрением, но не стала расспрашивать. Хороший научный руководитель – тот, кто знает, когда не нужно задавать вопросов.
Анна вернулась к образцам. Экстремофилы из подповерхностных океанов Европы – те самые, которых они с Леной должны были изучать вместе. Теперь Анна изучала их одна.
Жизнь в невозможных условиях, подумала она. Жизнь там, где её не должно быть. Жизнь, которая находит способ.
Как вселенная. Как мы.
Она смотрела в микроскоп на крошечные организмы, которые выживали в кислоте и радиации, в холоде и давлении, – и думала о звёздах.
Три месяца спустя. Ночь.
Анна стояла на крыше общежития и смотрела на небо.
Марсианское небо было другим – не таким, как земное. Тоньше, прозрачнее, с розоватым оттенком даже ночью. Звёзды казались ближе, ярче, как будто до них можно было дотянуться рукой.
Звёзды – семена.
Она повторяла эту фразу каждый день. Как мантру. Как молитву. Как напоминание о том, что она поняла в ту ночь в морге.
Где-то там, далеко, – Солнце. Жёлтая звезда средних размеров, одна из сотен миллиардов в галактике. Обычная. Незначительная. И в то же время – единственная, вокруг которой возникла жизнь, разум, цивилизация.