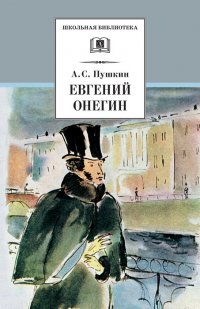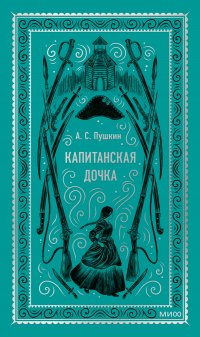Читать онлайн Душа музыканта: рассказы русских писателей о музыке бесплатно
© Паустовский К.Г., наследник, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
* * *
Михаил Загоскин
Концерт бесов
– Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве, – начал так рассказывать Черемухин, положа к стороне свою трубку, – то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку-Москву белокаменную начинаются по большей части перед Рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины Благородного собрания пожимали плечами, когда на их балax не насчитывали более двух тысяч посетителей, и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и Ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин – так звали этого молодого человека – только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италиянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италиянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! – говорили мы ему, – что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний.
Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе Великого поста, и, чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в Чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем – блины, катанья, званые обеды, вечером – театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до Ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят во что бы ни стало веселиться, – все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечка, где бы мог присесть и немного пооглядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу – высокий мужчина, в красном домино и маске, манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.
– Садись подле меня, – сказал он, – насилу-то мы с тобою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? – продолжал замаскированный, – неужели ты не узнал меня по голосу?
«Да, – подумал я, – в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен…»
– Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! – сказал человек в красном домино, приподымая свою маску. Я невольно отскочил назад – сердце мое замерло от ужаса… Боже мой! так точно, это Зорин! это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точно он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его… Но теперь… Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!
– Что ты? – спросил он с какою-то странною улыбкою, – уж не находишь ли ты, что я переменился?
– О! чрезвычайно!
– Так зачем же говорят, что печаль меняет человека… Неправда! не печаль, а разве радость.
– Радость?
– Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай, – продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя, – только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!
– Она?.. Кто она?
– Лауретта.
– Неужели?
– Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно голубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза; а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все, – живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством, – и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною!
– Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг! – прервал я моего приятеля. – У нас не так тепло, как в Италии, но так же бывает и весна и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая италиянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт…
– Да! один и последний! Я согласился на это; пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.
– Так она хочет навсегда здесь остаться?
– Да, навсегда. Ну, видишь ли, как она меня любит? Но зато и я… О! любовь моя не чувство, не страсть… нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь… Она просила меня… да! она хотела этого… – Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо: – Я отдал ей мою душу – теперь я весь ее… Понимаешь ли, мой друг? – весь.
Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..
– Эх, братец! – сказал я с досадою, – как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно. Люби свою италиянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем…
– Сердцем! – повторил насмешливым голосом мой приятель. – Да что такое сердце? разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня, и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг, дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце – ее не закопают в могилу.
– Да сделай милость – прервал я, – покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня к ней.
– Я не знаю сам, где она живет.
– Нет, шутишь?
– Да, мой друг, я видаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.
– А когда будет ее концерт?
– На будущей неделе в пятницу.
– На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе Великого поста не дают никаких концертов.
– Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой Ротонде.
– Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?
– Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.
– Ровно в полночь! – сказал я, взглянув на мои часы, – то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.
Если вам не случалось самим, господа, встречать Великий пост в маскараде, то по крайней мере вы слыхали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил Великий пост и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головою раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! как они испугали меня!» – проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венецияне. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в Ротонде: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоядение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая – капустою. Длинное пугало поздравляло всех с Великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками, и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю Ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецияна. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.
Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи.
«Лауретта! – повторил я невольно, – примадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой! Да это та самая италиянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе Великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в Ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.
«Ты, верно, не забыл, – сказал он мне, – что я последний раз виделся с тобою накануне Великого поста, в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой, – сказала она мне, когда я взял ее за руку, – я требую также, чтобы ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь, в Ротонде, будет репетиция концерта, который я даю в субботу». – «Но к чему так поздно? – спросил я, – и пустят ли меня?» – «Не беспокойся! – отвечала Лауретта, – для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не послушаешься, а особливо когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, – промолвила она тихим голосом, – но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».
В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем – и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась Бога. По временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви.
Ты можешь себе представить, – продолжал Зорин, – с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью, – о мой друг! таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного рада. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или от чего другого, только я приметным образом стал спокойнее, и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в Ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстых свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи – одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.
В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с напудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.
– Позвольте вас спросить, – сказал я моему соседу, – ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?
– Точно так.
– Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономиею, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?
– Это Моцарт.
– Моцарт! – повторил я, – какой Моцарт?
– Какой? вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»…
– Что вы, что вы! – прервал я, – да он года четыре как умер.
– Извините! он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидят Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глук.
– Рамо и Глук?..
– А вот налево от нас стоит капельмейстер Арая, которого опера «Беллерофонт» была дана в Петербурге…
– В 1750 году, при императрице Елисавете Петровне?
– Точно так! с ним разговаривает теперь Люлли.
– Капельмейстер Людовика Четырнадцатого?
– Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда: это сидит Жан-Жак Руссо. Он приглашен сюда не так как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами…
– Да что ж это значит? – прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак. – Ба, ба, ба! – вскричал я, – так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли! вы ли это, Степан Алексеевич?
– Да, это я! – отвечал он очень хладнокровно.
– Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?
Сосед мой кивнул головою.
– Однако ж позвольте! – продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом, – что ж это значит?.. Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?
– Извините! – отвечал мой сосед, – не шесть, а ровно семь.
– Да мне помнится, я был у вас и на похоронах.
– Статься может. А вы когда изволили скончаться?
– Кто? я?.. Помилуйте! да я жив.
– Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! – сказал покойник, пожимая плечами.
Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венецияне появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов – и каких, мой друг!.. Господи боже мой! что за фигуры! Журавлиные шеи с собачьими мордами; туловища быков с воробьиными ногами; петухи с козлиными ногами; козлы с человеческими руками, – одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что, кроме главных признаков человеческого лица, все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраиванье инструментов; большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом.
– Что это за лубочный сундук! – ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны. – Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?
Лауретта молча указала на моего соседа; контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост; потом поставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом Ротонды. Вот наконец сладили меж собой все инструменты; капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из «Волшебной флейты». Надобно сказать правду: были местами нескладные и дикие выходки, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были престранные: умирающая богоотступница прощалась с своим любовником; она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою, станет увеличиваться расстояние, их разделяющее; как вечность будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах; а музыка!.. О, мой друг! где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного; но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленной страданиями. Когда посреди гремящего крещендо, составленного из самых диких и противоположных звуков, Лауретта вдруг остановилась, общее громогласное браво раздалось по зале, и несколько голосов закричали: «Синьора Бальдуси, синьора Бальдуси! Покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась; маска упала к ее ногам… и что ж я увидел?.. Милосердый боже!.. Вместо юного, цветущего лица моей Лауретты – иссохшую мертвую голову!!! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. «Ах, какие прелести! – кричали они с восторгом, – посмотрите, какой череп – точно из слоновой кости!.. А ротик, ротик! чудо! до самых ушей!.. Какое совершенство!.. Ах, как мило она оскалила на нас свои зубы!.. Какие кругленькие ямочки вместо глаз!.. Ну, красавица!»
– Синьора Бальдуси, – сказал Моцарт, вставая с своего места, – потешьте нас: спойте нам «Biondina in gondoletta».
– Да это невозможно, синьор Моцарт, – прервал капельмейстер. – Каватину «Biondina in gondoletta» синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента.
– Вы ошибаетесь, maestro di capella, – прошептала Лауретта, указывая на меня, – гитара перед вами.
Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах.
– А что, в самом деле, – сказал он, – подайте-ка мне его сюда! Кажется… да, точно так!.. Из него выйдет порядочная гитара.
Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту как злодей капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела вполголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия: мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя: восторг ее доходил до какого-то исступления; каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо-приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки: она попеременно то с важностию кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд… Ах, мой друг! вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал! Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом… Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра; впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное; в Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти: она умерла в Неаполе; а я, как видишь, мой друг, я жив еще», – примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.
– Какова история? – спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя. – Ай да батюшка Александр Иваныч, исполать тебе! Мастер сказки рассказывать!
– Помилуйте, Иван Алексеич! какие сказки? это настоящая истина.
– В самом деле?
– Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение.
– Полно, братец! да это курам на смех! Воля твоя, какой черт не хитер, а, верно, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого – гитару.
– Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он, благодаря бога, еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, подле Обухова моста.
– В желтом доме? – прервал исправник.
– Вот этого не могу вам сказать! – продолжал спокойно Черемухин. – Может быть, его давно уже и перекрасили.
– Ах ты проказник! – подхватил хозяин. – Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?
– От сумасшедшего?.. Ну, это я еще не знаю! Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума; а, напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.
– Смотри, пожалуй! – вскричал хозяин, – какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит – не улыбнется! Впрочем, и то сказать, – прибавил он, помолчав несколько времени, – приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума! Ну, если в самом деле эта басурманка приходила с того света, чтоб его помучить?..
– А что вы думаете? – сказал я. – Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле.
– И, полно, братец, – прервал с улыбкою Заруцкий, – да этак бы и числа не было выходцам с того света!
– Напротив, – продолжал я, – эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ…
– Сродству душ? – прервал Заруцкий. – А что ты разумеешь под этим?
– Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай! всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же как тело наше – способность жить и действовать; и точно так же, как тело без души, всякий инструмент без содействия художника, который влагает в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепьяно какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее – небольшой клочок бумаги; потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой: бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары; но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой; следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление, тогда, быть может, и я растолкую тебе, что понимаю под словами: симпатия и сродство душ.
– Ба, ба, ба! любезный друг! – сказал Заруцкий, улыбаясь, – да ты ужасный метафизик и психолог; я этого не знал за тобою. Вот что! Теперь понимаю: душа умершего человека с душой живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону.
– Ты шутишь, Заруцкий, – прервал исправник, – а мне кажется, что Михаила Николаич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки; и так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честью, что это правда.
1834
Александр Пушкин
Моцарт и Сальери
Сцена I
Комната.
Сальери
- Все говорят: нет правды на земле.
- Но правды нет – и выше. Для меня
- Так это ясно, как простая гамма.
- Родился я с любовию к искусству;
- Ребенком будучи, когда высоко
- Звучал орган в старинной церкви нашей,
- Я слушал и заслушивался – слезы
- Невольные и сладкие текли.
- Отверг я рано праздные забавы;
- Науки, чуждые музыке, были
- Постылы мне; упрямо и надменно
- От них отрекся я и предался
- Одной музыке. Труден первый шаг
- И скучен первый путь. Преодолел
- Я ранние невзгоды. Ремесло
- Поставил я подножием искусству;
- Я сделался ремесленник: перстам
- Придал послушную, сухую беглость
- И верность уху. Звуки умертвив,
- Музыку я разъял, как труп. Поверил
- Я алгеброй гармонию. Тогда
- Уже дерзнул, в науке искушенный,
- Предаться неге творческой мечты.
- Я стал творить; но в тишине, но втайне,
- Не смея помышлять еще о славе.
- Нередко, просидев в безмолвной келье
- Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
- Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
- Я жег мой труд и холодно смотрел,
- Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
- Пылая, с легким дымом исчезали.
- Что говорю? Когда великий Глюк
- Явился и открыл нам новы тайны
- (Глубокие, пленительные тайны),
- Не бросил ли я все, что прежде знал,
- Что так любил, чему так жарко верил,
- И не пошел ли бодро вслед за ним
- Безропотно, как тот, кто заблуждался
- И встречным послан в сторону иную?
- Усильным, напряженным постоянством
- Я наконец в искусстве безграничном
- Достигнул степени высокой. Слава
- Мне улыбнулась; я в сердцах людей
- Нашел созвучия своим созданьям.
- Я счастлив был: я наслаждался мирно
- Своим трудом, успехом, славой; также
- Трудами и успехами друзей,
- Товарищей моих в искусстве дивном.
- Нет! никогда я зависти не знал,
- О, никогда! – ниже́, когда Пиччини
- Пленить умел слух диких парижан,
- Ниже́, когда услышал в первый раз
- Я Ифигении начальны звуки.
- Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
- Когда-нибудь завистником презренным,
- Змеей, людьми растоптанною, вживе
- Песок и пыль грызущею бессильно?
- Никто!.. А ныне – сам скажу – я ныне
- Завистник. Я завидую; глубоко,
- Мучительно завидую. – О небо!
- Где ж правота, когда священный дар,
- Когда бессмертный гений – не в награду
- Любви горящей, самоотверженья,
- Трудов, усердия, молений послан —
- А озаряет голову безумца,
- Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
Входит Моцарт.
Моцарт
- Ага! увидел ты! а мне хотелось
- Тебя нежданной шуткой угостить.
Сальери
- Ты здесь! – Давно ль?
Моцарт
- Сейчас. Я шел к тебе,
- Нес кое-что тебе я показать;
- Но, проходя перед трактиром, вдруг
- Услышал скрыпку… Нет, мой друг, Сальери!
- Смешнее отроду ты ничего
- Не слыхивал… Слепой скрыпач в трактире
- Разыгрывал voi che sapete[1]. Чудо!
- Не вытерпел, привел я скрыпача,
- Чтоб угостить тебя его искусством.
- Войди!
Входит слепой старик со скрыпкой.
- Из Моцарта нам что-нибудь!
Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.
Сальери
- И ты смеяться можешь?
Моцарт
- Ах, Сальери!
- Ужель и сам ты не смеешься?
Сальери
- Нет.
- Мне не смешно, когда маляр негодный
- Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
- Мне не смешно, когда фигляр презренный
- Пародией бесчестит Алигьери.
- Пошел, старик.
Моцарт
- Постой же: вот тебе,
- Пей за мое здоровье.
Старик уходит.
- Ты, Сальери,
- Не в духе нынче. Я приду к тебе
- В другое время.
Сальери
- Что ты мне принес?
Моцарт
- Нет – так; безделицу. Намедни ночью
- Бессонница моя меня томила,
- И в голову пришли мне две, три мысли.
- Сегодня их я набросал. Хотелось
- Твое мне слышать мненье; но теперь
- Тебе не до меня.
Сальери
- Ах, Моцарт, Моцарт!
- Когда же мне не до тебя? Садись;
- Я слушаю.
Моцарт
(за фортепиано)
- Представь себе… кого бы?
- Ну, хоть меня – немного помоложе;
- Влюбленного – не слишком, а слегка —
- С красоткой, или с другом – хоть с тобой,
- Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
- Незапный мрак иль что-нибудь такое…
- Ну, слушай же.
(Играет.)
Сальери
- Ты с этим шел ко мне
- И мог остановиться у трактира
- И слушать скрыпача слепого! – Боже!
- Ты, Моцарт, недостоин сам себя.
Моцарт
- Что ж, хорошо?
Сальери
- Какая глубина!
- Какая смелость и какая стройность!
- Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
- Я знаю, я.
Моцарт
- Ба! право? может быть…
- Но божество мое проголодалось.
Сальери
- Послушай: отобедаем мы вместе
- В трактире Золотого Льва.
Моцарт
- Пожалуй;
- Я рад. Но дай, схожу домой, сказать
- Жене, чтобы меня она к обеду
- Не дожидалась.
(Уходит.)
Сальери
- Жду тебя; смотри ж.Нет! не могу противиться я доле
- Судьбе моей: я избран, чтоб его
- Остановить – не то мы все погибли,
- Мы все, жрецы, служители музыки,
- Не я один с моей глухою славой…
- Что пользы, если Моцарт будет жив
- И новой высоты еще достигнет?
- Подымет ли он тем искусство? Нет;
- Оно падет опять, как он исчезнет:
- Наследника нам не оставит он.
- Что пользы в нем? Как некий херувим,
- Он несколько занес нам песен райских,
- Чтоб возмутив бескрылое желанье
- В нас, чадах праха, после улететь!
- Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
- Вот яд, последний дар моей Изоры.
- Осьмнадцать лет ношу его с собою —
- И часто жизнь казалась мне с тех пор
- Несносной раной, и сидел я часто
- С врагом беспечным за одной трапезой
- И никогда на шепот искушенья
- Не преклонился я, хоть я не трус,
- Хотя обиду чувствую глубоко,
- Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
- Как жажда смерти мучила меня,
- Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
- Мне принесет незапные дары;
- Быть может, посетит меня восторг
- И творческая ночь и вдохновенье;
- Быть может, новый Гайден сотворит
- Великое – и наслажуся им…
- Как пировал я с гостем ненавистным,
- Быть может, мнил я, злейшего врага
- Найду; быть может, злейшая обида
- В меня с надменной грянет высоты —
- Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
- И я был прав! и наконец нашел
- Я моего врага, и новый Гайден
- Меня восторгом дивно упоил!
- Теперь – пора! заветный дар любви,
- Переходи сегодня в чашу дружбы.
Сцена II
Особая комната в трактире; фортепиано. Моцарт и Сальери за столом.
Сальери
- Что ты сегодня пасмурен?
Моцарт
- Я? Нет!
Сальери
- Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
- Обед хороший, славное вино,
- А ты молчишь и хмуришься.
Моцарт
- Признаться,
- Мой Requiem[2] меня тревожит.
Сальери
- А!
- Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?
Моцарт
- Давно, недели три. Но странный случай…
- Не сказывал тебе я?
Сальери
- Нет.
Моцарт
- Так слушай.
- Недели три тому пришел я поздно
- Домой. Сказали мне, что заходил
- За мною кто-то. Отчего – не знаю,
- Всю ночь я думал: кто бы это был?
- И что ему во мне? Назавтра тот же
- Зашел и не застал опять меня.
- На третий день играл я на полу
- С моим мальчишкой. Кликнули меня;
- Я вышел. Человек, одетый в черном,
- Учтиво поклонившись, заказал
- Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
- И стал писать – и с той поры за мною
- Не приходил мой черный человек;
- А я и рад; мне было б жаль расстаться
- С моей работой, хоть совсем готов
- Уж Requiem. Но между тем я…
Сальери
- Что?
Моцарт
- Мне совестно признаться в этом…
Сальери
- В чем же?
Моцарт
- Мне день и ночь покоя не дает
- Мой черный человек. За мною всюду
- Как тень он гонится. Вот и теперь
- Мне кажется, он с нами сам-третей
- Сидит.
Сальери
- И, полно! что за страх ребячий?
- Рассей пустую думу. Бомарше
- Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
- Как мысли черные к тебе придут,
- Откупори шампанского бутылку
- Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
Моцарт
- Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
- Ты для него «Тарара» сочинил,
- Вещь славную. Там есть один мотив…
- Я все твержу его, когда я счастлив…
- Ла-ла-ла-ла… Ах, правда ли, Сальери,
- Что Бомарше кого-то отравил?
Сальери
- Не думаю: он слишком был смешон
- Для ремесла такого.
Моцарт
- Он же гений,
- Как ты да я. А гений и злодейство —
- Две вещи несовместные. Не правда ль?
Сальери
- Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта.)
- Ну, пей же.
Моцарт
- За твое
- Здоровье, друг, за искренний союз,
- Связующий Моцарта и Сальери,
- Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)
Сальери
- Постой,
- Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?
Моцарт
(бросает салфетку на стол)
- Довольно, сыт я.
(Идет к фортепиано.)
- Слушай же, Сальери,
- Мой Requiem.
(Играет.)
- Ты плачешь?
Сальери
- Эти слезы
- Впервые лью; и больно и приятно,
- Как будто тяжкий совершил я долг,
- Как будто нож целебный мне отсек
- Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы…
- Не замечай их. Продолжай, спеши
- Еще наполнить звуками мне душу…
Моцарт
- Когда бы все так чувствовали силу
- Гармонии! но нет: тогда б не мог
- И мир существовать; никто б не стал
- Заботиться о нуждах низкой жизни;
- Все предались бы вольному искусству.
- Нас мало избранных, счастливцев праздных,
- Пренебрегающих презренной пользой,
- Единого прекрасного жрецов.
- Не правда ль? Но я нынче нездоров,
- Мне что-то тяжело; пойду, засну.
- Прощай же!
Сальери
- До свиданья.
(Один.)
- Ты заснешь
- Надолго, Моцарт! но ужель он прав,
- И я не гений? Гений и злодейство
- Две вещи несовместные. Неправда:
- А Бонаротти? или это сказка
- Тупой, бессмысленной толпы – и не был
- Убийцею создатель Ватикана?
Владимир Одоевский
Городок в табакерке
Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», – сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
– Что это за городок? – спросил Миша.
– Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку…
И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
– Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
– Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…
– Право, мой друг, там и без тебя тесно.
– Да кто же там живет?
– Кто там живет? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса… Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками?» – спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается».
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?
Между тем музыка играет да играет; вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».
– Извольте, с величайшею радостью!
С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?
– Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие своды – чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
– Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал ему Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, – там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
– Динь-динь-динь! – отвечал мальчик. – Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной.
Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.
– Отчего это? – спросил он своего проводника.
– Динь-динь-динь! – отвечал проводник смеясь, – издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое.
– Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не подумал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
– Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?
– Уж у нас поговорка такая, – отвечал мальчик-колокольчик.
– Поговорка? – заметил Миша. – А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.
Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдет, вокруг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкой сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много, и все мал мала меньше.
– Нет, теперь уж меня не обманут, – сказал Миша. – Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинаковые.
– Ан вот и неправда, – отвечал провожатый, – колокольчики не одинаковые. Если бы все были одинаковые, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.
Миша, в свою очередь, закусил язычок.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
– Весело вы живете, – сказал им Миша, – век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.
– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело; из городка мы – ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.
– Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – все не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.
– Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
– Какие же дядьки? – спросил Миша.
– Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие злые! То и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достается.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «Тук-тук-тук! тук-тук-тук! Поднимай! Задевай! Тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо[3] бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
– Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Bcе ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
– Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.
– А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша – к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо; только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:
– Шуры-муры! кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шуры-муры! шуры-муры!
– Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша…
– А что тебе надобно? – спросил надзиратель.
– Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…
– А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь на́больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…
– Ну, многому же я научился в этом городке! – сказал про себя Миша. – Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! – думаю я. – Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.
Между тем Миша пошел далее – и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужною бахромою: наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
– Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.
Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком – и что же?
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и… проснулся.
– Что во сне видел, Миша? – спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
– Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша. – Так это был сон?
– Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось!
– Да видите, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, – мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерке растворилась… – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
– Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.
1834
Иван Тургенев
Записки охотника
Певцы
Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, – через реку можно по крайней мере навести мост, – разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, – а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.
У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка – кабак, прозванный «Притынным»[4]. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.
Николай Иваныч – некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, – уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей – и то любимых им посетителей – на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает все, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним – нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.
Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда… Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.
Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет наконец этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках – негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, – как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.
– Иди, иди же! – залепетал он, с усилием поднимая густые брови, – иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь… Иди.
– Ну, иду, иду, – раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. – Иду, любезный, – продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья, – зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?
– Зачем я тебя зову? – сказал с укоризной человек во фризовой шинели. – Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили – кто кого одолеет, лучше споет то есть… понимаешь?
– Яшка петь будет? – с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. – И ты не врешь, Обалдуй?
– Я не вру, – с достоинством отвечал Обалдуй, – а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!
– Ну, пойдем, простота, – возразил Моргач.
– Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, – залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.
– Вишь, Езоп изнеженный, – презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.
Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.
Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.
Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.
За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы – все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, – да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки – рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.
Мой приход – я это мог заметить – сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.
– Ну, что ж! – возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. – Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..
– Начинать, начинать, – одобрительно подхватил Николай Иваныч.
– Начнем, пожалуй, – хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, – я готов.
– И я готов, – с волнением произнес Яков.
– Ну, начинайте, ребятки, начинайте, – пропищал Моргач.
Но несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, – все словно ждали чего-то.
– Начинай! – угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.
Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.
– А кому начать? – спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.
– Тебе, тебе, рядчик, – залепетал Обалдуй, – тебе, братец.
Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.
– Жеребий кинуть, – с расстановкой произнес Дикий-Барин, – да осьмуху на стойку.
Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.
Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»
Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик – свой.
– Тебе выбирать, – проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.
Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.
Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.
– Ведь я же говорил, что тебе, – воскликнул Обалдуй, – я ведь говорил.
– Ну, ну, не «циркай»![5] – презрительно заметил Дикий-Барин. – Начинай, – продолжал он, качнув головой на рядчика.
– Какую же мне песню петь? – спросил рядчик, приходя в волненье.
– Какую хочешь, – отвечал Моргач. – Какую вздумается, ту и пой.
– Конечно, какую хочешь, – прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. – В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.
– Разумеется, по совести, – подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.
– Дайте, братцы, откашляться маленько, – заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.
– Ну, ну, не прохлаждайся – начинай! – решил Дикий-Барин и потупился.
Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами…
Но прежде, чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.
Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало – прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, – так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.
Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло названье Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня – и, вероятно, для многих других – темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив свое преступленье, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»[6]. Они никогда не смотрят просто – всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить… смотришь – все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», – уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.
Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе – художник во всех смыслах этого слова, а по званию – черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.
Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и – странное дело – его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина – псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, – не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, – в нем вообще не было ничего скромного, – но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил – ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что, раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства, – смесь, которой я не встречал ни в ком другом.
Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, ténor léger[7]. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:
- Распашу я молода-молоденька,
- Землицы маленько;
- Я посею, молода-молоденька,
- Цветика аленька.
Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, – общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков как сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» – и с решительностью плюнул в сторону.
– Ну, брат, потешил! – кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, – потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю – осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко… Уж я тебе говорю: далеко… А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)
– Да пусти же его; пусти, неотвязная… – с досадой заговорил Моргач, – дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал… Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?
– Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, – сказал Обалдуй и подошел к стойке. – На твой счет, брат, – прибавил он, обращаясь к рядчику.
Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.
– Хорошо поешь, брат, хорошо, – ласково заметил Николай Иваныч. – А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим… А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.
– Очинна хорошо, – заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.
– Хорошо-га! – повторил вполголоса мой сосед.
– А, заворотень-полеха![8] – завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. – Полеха! полеха! Га, баде паняй[9], заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? – кричал он сквозь смех.
Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:
– Да что ж это за несносное животное такое? – произнес он, скрипнув зубами.
– Я ничего, – забормотал Обалдуй, – я ничего… я так…
– Ну, хорошо, молчать же! – возразил Дикий-Барин. – Яков, начинай!
Яков взялся рукой за горло.
– Что, брат, того… что-то… Гм… Не знаю, право, что-то того…
– Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.
И Дикий-Барин потупился, выжидая.
Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл свое лицо – оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым – третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», – пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… Я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился… Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке – словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его…
– Яша, – проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и – смолк.
Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты… твоя… ты выиграл», – произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.
Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», – твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.
Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться – я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова… Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, – все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно – все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.
Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Аптропка-а-а!..» – кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.
Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:
– Чего-о-о-о-о?
Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:
– Иди сюда, черт леши-и-и-ий!
– Заче-е-е-ем? – ответил тот спустя долгое время.