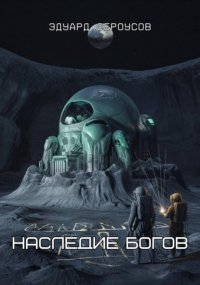Читать онлайн Граница формы бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Сероусов
Часть I: Диагноз
«Тело – это вопрос, на который мы не знаем ответа»
Глава 1: Первый отказ
Снаружи клиника выглядела как любой другой заброшенный склад в Кройцберге – граффити на кирпичных стенах, ржавые пожарные лестницы, контейнеры с мусором, которые не вывозили неделями. Лена специально выбрала это здание семь лет назад: район, где полиция появлялась только после убийств, и то не всегда. Где соседи не задавали вопросов, потому что сами не хотели на них отвечать.
Она припарковала фургон у служебного входа – неприметный «Фольксваген» с логотипом несуществующей клининговой компании – и набрала код на панели, замаскированной под коробку электросчётчика. Дверь отъехала в сторону с тихим шипением пневматики.
Внутри начинался другой мир.
Коридор за дверью был облицован антибактериальным пластиком молочного цвета. Воздух пах озоном и чем-то едва уловимым – не то миндалём, не то горелой изоляцией. Запах работающего Интерфейса. Лена давно перестала его замечать, но новые пациенты иногда морщились, принюхиваясь.
Она прошла мимо первого шлюза – сканер сетчатки, анализ походки, термограмма. Её собственная система безопасности, собранная из компонентов, которые официально числились уничтоженными на трёх разных континентах. Второй шлюз проверял биоэлектрический профиль – уникальный для каждого человека, невозможно подделать без Интерфейса.
После второго шлюза коридор расширялся в приёмную. Здесь тоже царила стерильность, но другого рода – не больничная, а какая-то музейная. Кожаные кресла, приглушённый свет, на стенах – репродукции Эшера. Лена сама выбирала картины: «Относительность», «Рисующие руки», «Метаморфозы». Пациенты обычно не понимали иронии, но ей нравилось.
Инна уже была на месте – сидела за стойкой администратора, листая что-то на планшете. При появлении Лены она подняла голову и улыбнулась уголком рта.
– Ранняя пташка. Он ещё не приехал.
– Знаю. Хотела проверить оборудование.
Инна хмыкнула. Её пальцы – слишком длинные, с лишними суставами – порхнули по экрану, вызывая какой-то график.
– Я уже проверила. Дважды. Интерфейс стабилен, резервное питание заряжено, аптечка укомплектована. Расслабься.
Лена не ответила. Расслабляться она разучилась примерно тогда же, когда научилась слышать собственный Коллектив – десять лет назад, через полгода после того, как Давид не вернулся из своего последнего погружения. Вернулся его Коллектив, его тело, его привычки и рефлексы. Не вернулся он сам.
Она прошла через приёмную в операционную – большое помещение с куполообразным потолком, бывший цех по производству чего-то тяжёлого и металлического. Теперь здесь стоял операционный стол, похожий на гибрид стоматологического кресла и аппарата МРТ, окружённый консолями мониторов. В центре потолка – массивный блок Интерфейса, от которого свисали десятки тонких кабелей, каждый с игольчатым электродом на конце.
Лена подошла к консоли и вызвала данные пациента.
Артём Вершинин. Пятьдесят два года. Бывший пилот глубоководных исследовательских дронов, ушёл на пенсию в сорок шесть после какого-то инцидента, детали которого были засекречены. Кардиомиопатия – сердечная мышца отмирала, медленно и неуклонно. Легальная медицина могла предложить либо трансплантацию (очередь – четыре года, прогноз жизни – два месяца), либо искусственное сердце (несовместимо с его редкой группой крови и антителами). Регенерация в официальных клиниках была возможна, но требовала согласия Коллектива, а его Коллектив молчал на всех стандартных протоколах.
Молчал до тех пор, пока кто-то из чёрного рынка не сказал ему про Лену.
Она пролистала медицинскую историю, отмечая детали. НМИ – 58. Пограничная зона. Достаточно высокий, чтобы не слышать Коллектив в обычной жизни, достаточно низкий, чтобы быть в группе риска при серьёзном вмешательстве.
Двадцать лет назад, когда она только начинала, такие случаи были редкостью. Теперь – три-четыре в месяц. Что-то менялось в мире, какая-то граница истончалась. Коллективы становились громче. Люди – тише.
– Он здесь, – голос Инны в интеркоме вывел её из задумчивости.
Лена выпрямилась, одёрнула белый халат. Перчатки – тонкие, хирургические – она надела ещё в машине и снимать не собиралась. Под ними её пальцы были на семь миллиметров длиннее, чем указано в любом её документе. Каждый месяц – ещё миллиметр. Её собственный Коллектив работал над чем-то, и она предпочитала не знать, над чем именно.
Артём Вершинин оказался не таким, как она ожидала.
Из документов следовало, что он умирает – и она ожидала увидеть типичного терминального пациента: бледного, осунувшегося, с тем особым выражением затравленной покорности, которое появляется у людей, когда они понимают, что времени осталось мало. Вместо этого в приёмную вошёл высокий мужчина с загорелым лицом и спокойными серыми глазами. Он двигался экономно, как человек, привыкший к тесным пространствам, но в его движениях не было суеты. Седина пробивалась на висках, но скорее серебрилась, чем старила.
– Доктор Ковач?
Его голос был низким и ровным. Голос человека, который привык командовать машинами и не повышал тон даже в экстренных ситуациях – потому что машины не реагируют на крик.
– Просто Лена. Здесь нет докторов – официально.
Он чуть заметно улыбнулся.
– Тогда просто Артём.
Она провела его в операционную, отмечая, как он осматривает помещение – профессионально, методично, запоминая выходы и расположение оборудования. Привычка, которая въелась глубже любой гражданской профессии.
– Садитесь, – она указала на стол. – Процедура займёт около часа, если всё пойдёт штатно.
– А если нет?
– Тогда дольше.
Артём сел на край стола, не ложась.
– Расскажите мне, что будет происходить. Технические детали меня не пугают.
Лена потянулась к консоли, выводя на экран трёхмерную модель человеческого тела.
– Протокол намерений. Стандартная процедура перед любой морфологической операцией. – Она увеличила изображение сердца. – Мы подключимся к вашему Интерфейсу и зададим вашему Коллективу простой вопрос: согласен ли он на регенерацию сердечной мышцы? Это как… попросить разрешения у подрядчика перед началом ремонта.
– И если он скажет нет?
– Тогда регенерация невозможна. Мы можем попробовать принудительную – есть клиники, которые это делают – но летальность там под сорок процентов. Ваш Коллектив будет сопротивляться, и исход… непредсказуем.
Артём кивнул, словно она сообщила ему прогноз погоды.
– В официальных клиниках он не отвечал. Просто молчал.
– Это частая ситуация при высоком НМИ. Связь есть, но она слабая. Здесь… – Лена коснулась массивного блока над столом, – оборудование чувствительнее. И я – лучше слышу.
– Вы тоже подключаетесь?
– Да. Действую как переводчик. Ваш Коллектив не говорит словами – он общается ощущениями, образами. Я перевожу запрос и интерпретирую ответ.
Артём посмотрел на блок Интерфейса, на свисающие электроды.
– Больно?
– Покалывание. Некоторые описывают как мурашки по коже, только изнутри.
– Бывало и хуже.
Он лёг на стол и закрыл глаза.
Лена несколько секунд смотрела на него – на это странное спокойствие, которое выглядело не как смирение перед смертью, а как что-то другое. Любопытство, может быть. Или привычка к невозможным ситуациям.
– Начинаем, – сказала она и принялась подключать электроды.
Интерфейс Лены был встроен в основание черепа – незаконная модификация, которую она сделала себе сама двенадцать лет назад, используя зеркало, две бутылки водки и украденные из лаборатории Левина компоненты. Шрам давно зарос, скрытый волосами, но она до сих пор помнила, как дрожали руки, когда игла входила в мягкую ткань между первым и вторым шейными позвонками.
Теперь подключение было рутиной. Она положила ладонь на панель консоли, почувствовала знакомый укол в запястье – там, под кожей, сидел ещё один чип, соединяющий её с оборудованием – и закрыла глаза.
Мир изменился.
Она больше не стояла в операционной. Вернее, стояла – её тело продолжало стоять, руки лежали на консоли, лёгкие дышали – но её восприятие сместилось. Теперь она была одновременно здесь и где-то ещё, в пространстве, которое не имело координат в обычном смысле.
Интерфейс создавал метафору – её мозг нуждался в какой-то визуализации, чтобы обработать информацию, которую передавал Коллектив. Для Лены эта метафора всегда была одинаковой: тёмный коридор, уходящий в бесконечность, а по обеим сторонам – двери. За каждой дверью – тело пациента, его Коллектив, его внутреннее пространство.
Дверь Артёма была серо-стальной, с тяжёлой ручкой. Подводная переборка, отметила Лена. Метафоры Интерфейса формировались из подсознания пациента.
Она положила руку на ручку – и почувствовала холод металла. Реальный холод, хотя ни руки, ни металла здесь не существовало.
– Вхожу, – сказала она вслух, чтобы запись зафиксировала момент.
Дверь открылась.
Внутри было темно – глубоководная тьма, абсолютная и плотная, как жидкость. Лена не видела ничего, но чувствовала присутствие чего-то огромного вокруг себя. Не враждебного – просто большого. Как кит, проплывающий мимо в толще воды.
– Мы планируем регенерацию сердечной мышцы пациента Артёма Вершинина, – произнесла она ритуальную формулу. – Согласен ли Коллектив на эту процедуру?
Молчание.
Нет – не молчание. Что-то двигалось в темноте, какие-то формы обретали очертания. Лена ждала. Терпение было главным инструментом морфолога – Коллективы не торопились, они существовали в другом времени, где секунды и годы имели примерно одинаковый вес.
Потом пришёл ответ.
Он ударил её в грудь – не болью, а чем-то противоположным. Холодом. Ощущением закрывающейся двери, сужающегося коридора. Отказ.
Но это был не просто отказ.
Следом – почти сразу, почти одновременно – пришло другое. Тепло, но направленное не к ней, а куда-то в сторону. Как если бы кто-то взял её за руку и мягко, но настойчиво развернул.
Не сюда. Туда.
Лена замерла. За двадцать лет практики она получала тысячи ответов от Коллективов – согласие, отказ, молчание, редкое любопытство. Но это… это было что-то новое.
Образ пришёл без предупреждения: сердце Артёма. Она видела его не как хирург – не мышцу, клапаны, артерии – а как Коллектив видит: комната. Маленькая комната в огромном доме. Комната с трещинами на стенах, с провисшим потолком, с сыростью в углах.
И голос – не голос, а понимание, которое она перевела в слова:
Зачем чинить комнату, если можно перестроить дом?
Лена дёрнулась, как от удара током. Образ расширился: дом, целый дом, который был телом Артёма. Все его комнаты, коридоры, этажи. И Коллектив показывал ей чертёж – не тот дом, который есть, а тот, который мог бы быть. Другой. Лучший. По каким-то критериям, которые она не могла понять, но чувствовала их правильность как физическое ощущение.
Мы видим лучшую форму.
Она вырвалась из подключения так резко, что чуть не потеряла сознание. Мир качнулся, пол ушёл из-под ног. Она схватилась за консоль и несколько секунд просто дышала, пытаясь остановить дрожь в руках.
– Что случилось? – голос Артёма был всё таким же спокойным.
Лена не ответила. Смотрела на свои руки в перчатках – на то, как они тряслись. За двадцать лет практики. Сотни регенераций. Десятки сложных случаев. Несколько трансформаций – две из которых закончились Отключением, и эти лица она до сих пор видела в кошмарах.
Но это – это было впервые.
Осмысленный отказ. С альтернативой. С предложением.
Коллектив Артёма не просто отказал в ремонте. Он сказал: зачем чинить, если можно перестроить всё.
– Доктор… Лена?
Она заставила себя поднять голову.
– Ваши клетки, – её голос звучал хрипло, пришлось откашляться, – ваши клетки отказали в регенерации.
– Я понял это по вашему лицу. Что-то ещё?
Она хотела соврать. Сказать: обычный отказ, мы попробуем другой протокол, может быть через неделю, иногда Коллективы меняют решение. Но что-то в его взгляде – в этом спокойном сером взгляде человека, который смотрел в бездну глубоководных впадин – остановило её.
– Они предложили альтернативу.
Артём чуть приподнял бровь. Единственный признак удивления, который он себе позволил.
– Альтернативу?
– Ваш Коллектив считает, что регенерация сердца – локальный оптимум. – Лена услышала, как странно звучит её голос, будто она зачитывала чужой текст. – Они видят лучшую форму.
– Лучшую форму чего?
– Вас.
Тишина.
Артём не пошевелился, но Лена видела, как что-то изменилось в его глазах. Не страх – что-то другое. Интерес, может быть. Или узнавание.
– Трансформация, – сказал он. Не вопрос – констатация.
– Да.
– Мой Коллектив хочет превратить меня во что-то другое.
– Ваш Коллектив хочет показать вам что-то, чего вы не видите. – Лена сама не знала, откуда взялись эти слова. – Он не навязывает. Он предлагает.
– И что будет, если я соглашусь?
– Трансформация. Четыре-двенадцать часов. Ваше тело изменится в соответствии с паттерном, который видит Коллектив. Вы можете остаться собой – сохранить память, личность, идентичность. Или… – она замолчала.
– Или?
– Или нет.
Артём медленно сел на столе. Электроды свисали с его висков и груди, синее свечение угасало под кожей.
– Какова вероятность?
– Чего именно?
– Сохранения идентичности.
Лена сглотнула. Она должна была назвать цифру – это её работа, давать пациентам информацию для принятия решения. Но цифры, которые она знала, были из старых протоколов. Для обычных трансформаций. А то, что предлагал Коллектив Артёма, не было обычным ничем.
– Я не знаю, – призналась она наконец. – Такого случая я не видела. Коллективы не разговаривают так… развёрнуто. Они соглашаются или отказывают, иногда молчат. Но они не предлагают альтернатив. Не объясняют свои решения. То, что сделал ваш… – она покачала головой. – Это новое.
– Новое – это хорошо или плохо?
– Это неизвестное. А неизвестное в морфологии обычно означает смерть. Или то, что хуже смерти.
Артём смотрел на неё несколько секунд, потом неожиданно улыбнулся – тепло и открыто, совсем не так, как улыбаются люди, которым только что сообщили, что их тело хочет превратить их во что-то нечеловеческое.
– Знаете, на глубине десять тысяч метров давление такое, что сталь сминается как фольга. Темнота абсолютная – ни единого фотона от поверхности. Холод вымораживает мысли. – Он спустил ноги со стола, начал отсоединять электроды медленными, аккуратными движениями. – Я провёл там пятнадцать лет, в капсулах размером с гроб, управляя машинами, которые стоили больше, чем всё моё существование. И знаете, чему я научился?
– Чему?
– Иногда система знает лучше. Когда ты на глубине, а навигация отказывает, а резервные батареи садятся, а до поверхности – часы подъёма, ты можешь либо паниковать и пытаться всё контролировать, либо довериться тому, что осталось работать. Аварийным протоколам. Базовым алгоритмам. Тому, что встроено глубже, чем твой страх.
Он снял последний электрод и посмотрел на Лену.
– Вопрос не в том, может ли система ошибиться. Вопрос в том, готов ли ты ей довериться, когда она говорит что-то, чего ты не понимаешь.
Лена не знала, что ответить. Артём спрыгнул со стола – легко, словно не был человеком, умирающим от отказывающего сердца – и подошёл к ней.
– Я не приму решение сегодня. Мне нужно время, чтобы подумать. Но я хочу знать: если я решу попробовать… эту альтернативу… вы возьмётесь?
– Это опасно.
– Я умру через шесть-восемь недель, если не сделаю ничего. Это тоже опасно.
Его логика была безупречной. Лена ненавидела безупречную логику – она знала, как часто за ней прячется отчаяние.
– Позвоните мне, когда примете решение, – сказала она наконец. – Но не торопитесь. Некоторые вещи нельзя отменить.
Артём кивнул. Он уже поворачивался к выходу, когда остановился и посмотрел на неё через плечо.
– Лена. Когда вы были там, внутри… вы видели то же, что я?
– Что вы имеете в виду?
– Дом. Комнаты. Чертёж.
Она вздрогнула. Пациенты не должны были помнить подробности подключения – их сознание обрабатывало информацию иначе, чем у морфологов.
– Вы это видели?
– Я это чувствовал. – Артём улыбнулся, но улыбка не достигла глаз. – И знаете что? Чертёж был красивым. Странным, но красивым. Как математическая формула, которая не должна работать, но работает.
Он ушёл, оставив Лену одну в операционной, среди мерцающих мониторов и свисающих с потолка электродов.
Инна нашла её в кабинете час спустя.
Кабинет Лены был крошечной комнаткой, отгороженной от операционной – бывшая кладовка, где раньше хранили запчасти для станков. Теперь здесь стоял стол, заваленный бумагами и планшетами, кресло с продавленным сиденьем и железный шкаф, запертый на три замка. На стенах – ничего, кроме одного листа бумаги, приколотого кнопкой над столом. Рисунок, сделанный карандашом: две фигуры на фоне чего-то, похожего на море или небо, или ни на то, ни на другое.
Лена сидела за столом и смотрела на этот рисунок.
– Что произошло? – спросила Инна с порога. – Ты выглядишь как…
– Как что?
– Как человек, который увидел что-то невозможное.
Лена медленно повернулась к ней.
– Его Коллектив разговаривал со мной. Не отвечал на вопросы – разговаривал. Объяснял. Показывал картинки. Предлагал альтернативы.
Инна замерла на пороге. Её горизонтальный зрачок – след неудачной (или удачной? она сама не знала) трансформации – сузился.
– Это невозможно.
– Я знаю.
– Коллективы не разговаривают. Они реагируют. Это базовая нейроморфология, Лена.
– Я знаю.
Инна вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Её слишком длинные пальцы постучали по бедру – нервная привычка, которую она не могла контролировать после возврата.
– Расскажи подробнее.
Лена рассказала. Всё: тьму, ощущение присутствия, холод отказа и тепло альтернативы. Образ дома и комнаты. Чертёж, который она не могла описать словами, но который отпечатался где-то глубже слов.
Когда она закончила, Инна долго молчала.
– Он тоже это видел, – сказала она наконец. – Пациент. Ты сказала, он спросил тебя про дом и комнаты.
– Да.
– Это невозможно вдвойне. Пациенты не помнят деталей подключения. Их мозг обрабатывает информацию на другом уровне. Они могут чувствовать общее состояние – тепло, холод, согласие, отказ – но не конкретные образы.
– Я знаю.
Инна подошла ближе и посмотрела на рисунок над столом.
– Это Давида работа?
– Да. Одна из последних перед… – Лена не закончила фразу. Не нужно было. – Он рисовал морфопространство. Пытался показать мне, что видит.
– И что он видел?
Лена не ответила. Вместо этого она открыла ящик стола и достала папку – толстую, потрёпанную, с наклейкой «ЛИЧНОЕ» на обложке. Внутри были рисунки – десятки рисунков, сделанных карандашом, углём, иногда чем-то, похожим на кровь (она не спрашивала санитаров, чем именно). Рисунки, которые тело Давида продолжало создавать в Архиве Отключённых.
– Смотри. – Она вытащила один из последних – датированный прошлой неделей. – Видишь?
Инна наклонилась ближе. На рисунке была фигура – человеческая, но странно искажённая, словно художник пытался показать больше измерений, чем позволяла бумага. Рядом с фигурой – надпись, неровными, детскими буквами:
Он почти готов. Ты почти готова.
– Давид не писал раньше, – сказала Лена. – За десять лет в Архиве – только рисунки. А месяц назад начал писать. И всегда одно и то же: «Он почти готов. Ты почти готова.»
– Кто «он»?
– Я не знала. До сегодняшнего дня.
Инна медленно выпрямилась. Её лицо – асимметричное, с чешуйчатой кожей на левой стороне шеи – было непроницаемым, но Лена знала её достаточно долго, чтобы видеть тревогу.
– Ты думаешь, что Давид знал про этого пациента? Про Вершинина?
– Я не думаю, Инна. Я не знаю, что думать. Но смотри. – Она вытащила ещё один рисунок – более ранний, полугодовой давности. – Это море. Или что-то похожее на море. И вот здесь, в углу…
В углу рисунка была маленькая фигурка – схематичная, но узнаваемая. Человек в чём-то, похожем на капсулу или скафандр. Под фигуркой – цифры, написанные рукой, которая явно не привыкла писать: «10000 М».
Десять тысяч метров. Глубина, на которой работал Артём Вершинин.
– Это совпадение, – сказала Инна, но голос её звучал неуверенно.
– Может быть. – Лена убрала рисунки обратно в папку. – Или может быть, что-то меняется. Ты сама говорила – когда тебя вернули, ты чувствовала связь с другими. С теми, кто был там.
– Это было… – Инна отвернулась. – Это было другое. Я была частью чего-то большего. А теперь я – осколок. Антенна, которая ловит помехи.
– Какие помехи?
– Не знаю. Шум. Что-то на грани слышимости. Как… – она подбирала слова, – как радиопередача очень издалека. Иногда мне кажется, что я почти разбираю слова. Но потом – снова только шум.
Лена смотрела на неё – на эту женщину, которая была постчеловеком три года и которую её собственный Коллектив вышвырнул обратно, как хозяин выгоняет надоевшего гостя. Инна была живым доказательством того, что морфопространство – не рай. Что Коллективы – не ангелы и не демоны, а что-то третье. Что-то, что использует нас для целей, которые мы не понимаем.
– Ты слышишь этот шум сейчас?
Инна помедлила.
– Громче, чем обычно. С тех пор как вошла в твой кабинет.
– Что это значит?
– Не знаю. Может – ничего. Может – что-то происходит. Какой-то резонанс. Или совпадение.
– Ты не веришь в совпадения.
– Не верю.
Они помолчали. За стенами кабинета гудело оборудование – постоянный фоновый звук, который Лена давно перестала замечать. Здесь, в подземелье бывшего склада, было тихо и безопасно, и можно было притвориться, что мир снаружи не существует.
– Что ты будешь делать? – спросила Инна наконец.
– Ждать. Он сказал, что ему нужно время подумать.
– И если он решит согласиться?
Лена посмотрела на свои руки – на перчатки, скрывающие слишком длинные пальцы. На пульсирующие вены под тонкой кожей запястий. Её собственный Коллектив шевельнулся – тепло в солнечном сплетении, как маленькое солнце, которое начинало разгораться.
– Тогда я возьмусь. – Она сама удивилась тому, как уверенно прозвучал её голос. – Потому что кто ещё?
После ухода Инны Лена ещё долго сидела в кабинете, глядя на рисунки Давида.
Он рисовал каждый день – санитары Архива сообщали ей, передавали копии. Раньше это были только абстракции: линии, формы, геометрия, которая намекала на большее количество измерений, чем три. Карты чего-то, что не существует в обычном пространстве, но от этого не становится менее реальным.
А потом – месяц назад – появились слова.
«Он почти готов. Ты почти готова.»
Она перебирала рисунки, ища закономерность. Вот этот – похож на сеть, раскинувшуюся во все стороны, и в узлах сети – точки, и от некоторых точек идут линии к центру. Вот этот – что-то, похожее на дерево, но растущее одновременно вверх и вниз, и ветви переплетаются сами с собой.
Вот этот…
Лена замерла.
Рисунок был недельной давности – она видела его раньше, но не обращала внимания. Теперь, после сегодняшнего дня, она смотрела на него другими глазами.
Три фигуры.
Одна – на горизонте, там, где небо (или что-то похожее на небо) сливалось с морем (или чем-то похожим на море). Фигура была нечёткой, размытой, словно художник не мог или не хотел прорисовать детали. Но что-то в её позе было знакомым – что-то, что заставило сердце Лены сжаться.
Давид?
Вторая фигура стояла ближе – на берегу, или на том, что выполняло функцию берега в этом странном пространстве. Эта фигура была чётче: женщина, худая, с резкими чертами лица. С руками, которые были чуть длиннее, чем положено.
Ты почти готова.
Третья фигура…
Третья фигура была в воде. Или в чём-то, что выполняло функцию воды. Она плыла – или погружалась – или поднималась, трудно было сказать. Контуры её тела были странно подвижными, словно форма ещё не определилась до конца.
Он почти готов.
Лена отложила рисунок и потёрла глаза. Она устала – день был длинным, а ночь обещала быть ещё длиннее. Но что-то не давало ей покоя, что-то скреблось на границе сознания, как кошка, просящаяся в дверь.
Её Коллектив.
Он шевелился. Тихо, почти незаметно – как дыхание спящего ребёнка. Но она чувствовала его: тепло в солнечном сплетении, покалывание в кончиках пальцев. Он был активнее, чем обычно. Словно что-то его разбудило.
Ты почти готова.
– Готова к чему? – спросила она вслух, обращаясь то ли к рисунку, то ли к себе, то ли к тридцати семи триллионам клеток, которые составляли её тело и которые – теперь она понимала это лучше, чем когда-либо – имели собственное мнение о том, чем она должна быть.
Ответа не было. Коллектив молчал – или говорил на языке, который она ещё не научилась понимать.
Лена убрала рисунки обратно в папку, заперла шкаф на все три замка и выключила свет. Пора было уходить – до рассвета оставалось несколько часов, и ей нужно было хотя бы попытаться поспать.
Она шла по тёмному коридору к выходу, когда её телефон завибрировал. Сообщение от неизвестного номера.
«Я знаю, что вы видели сегодня. Нам нужно поговорить.»
Подпись: Инна Чжан.
Лена перечитала сообщение дважды. Инна была здесь час назад – они разговаривали лицом к лицу. Зачем ей писать?
Второе сообщение пришло через несколько секунд:
«Не с моего личного номера. Из Архива. Через контакт, который у меня остался. Они хотят, чтобы вы знали: что-то началось. Вершинин – только начало.»
Лена остановилась посреди коридора, глядя на светящийся экран.
Третье сообщение:
«Давид передаёт: не верь сразу. Но и не отвергай сразу. Проверяй.»
Телефон выпал из её рук – она едва успела подхватить его, прежде чем он ударился об пол. Руки тряслись так сильно, что она не сразу смогла разблокировать экран снова.
Давид передаёт.
Давид, чьё тело уже десять лет рисует карты в Архиве Отключённых. Давид, который ушёл – или был забран – или выбрал уйти, она так и не поняла. Давид, который был её мужем, учителем, партнёром, а потом стал загадкой, а потом – отсутствием, которое ощущалось острее любого присутствия.
Давид передаёт.
Она набрала ответ дрожащими пальцами:
«Откуда это? Кто передал?»
Ответ пришёл сразу:
«Контакт в Архиве. Один из смотрителей. Он подключался к телу Давида – нелегально, я знаю, но он делает это уже три года. Говорит, что иногда чувствует… что-то. Сегодня впервые получил связное сообщение. Оно было адресовано вам.»
Лена прислонилась к стене. Холодный пластик был реальным, твёрдым, ощутимым. Всё остальное – расплывалось.
Давид передаёт. После десяти лет молчания – если не считать рисунков – он передаёт сообщение. И сообщение это – предупреждение? напутствие? просьба?
Не верь сразу. Но и не отвергай сразу. Проверяй.
Проверять что? Слова Коллектива Артёма? Или что-то другое – то, что скрывалось за этими словами?
Её собственный Коллектив снова шевельнулся – настойчивее, чем раньше. Тепло в солнечном сплетении превратилось в жар, почти болезненный. Как будто что-то внутри неё пыталось достучаться, пробиться через барьеры, которые она строила двадцать лет.
Ты почти готова.
– Готова к чему? – прошептала она снова, и на этот раз ответ пришёл.
Не словами – ощущением. Образом.
Она стояла на берегу – том самом берегу с рисунка Давида. За спиной был мир, который она знала: люди, города, правила, границы. Впереди – море, или что-то похожее на море, полное форм, которые ждали своего часа. На горизонте – фигура, машущая ей рукой.
И внутри неё – не страх. Не желание. Что-то третье.
Готовность.
Ты почти готова.
Лена закрыла глаза и заставила себя дышать – медленно, глубоко, как учил её Давид когда-то давно. «Когда мир слишком большой, – говорил он, – сосредоточься на малом. На вдохе. На выдохе. На том, что ты можешь контролировать. Остальное придёт само.»
Она не знала, что придёт. Но впервые за десять лет она чувствовала, что что-то приближается. Что-то, к чему она действительно почти готова.
Вопрос был в том, хотела ли она этого.
Домой она добралась под утро.
Квартира была маленькой – две комнаты в старом доме на Пренцлауэр-Берг, с высокими потолками и скрипучими полами. Лена жила здесь одна с тех пор, как Давид ушёл, и так и не смогла заставить себя сменить обстановку. Его книги до сих пор стояли на полках. Его кружка – с дурацкой надписью «Лучший морфолог в мире», которую она подарила ему на сороковой день рождения – до сих пор стояла на сушилке у раковины.
Она прошла на кухню, налила себе воды, выпила залпом. Потом налила ещё и выпила медленнее, заставляя себя чувствовать каждый глоток.
Проверяй.
Что именно нужно проверить?
Она достала телефон и открыла архивные файлы – те, которые она собирала десять лет. Записи о первых Отключениях. Статистика. Исследования, которые никогда не публиковались, потому что были слишком страшными, слишком странными, слишком далёкими от того, что мир готов был принять.
Артём Вершинин. Она набрала его имя в поисковой строке и начала читать.
Послужной список: пилот глубоководных исследовательских дронов, специализация – экстремальные глубины. Пятнадцать лет на службе Европейского подводного консорциума. Двадцать три погружения на глубины свыше пяти тысяч метров. Семь – на глубины свыше восьми тысяч.
Одно – на десять тысяч двести метров. Марианская впадина, 2067 год. Миссия засекречена.
Лена нахмурилась. Она помнила 2067 год – это был год, когда Давид начал всерьёз интересоваться морфопространством. Когда его НМИ впервые упал ниже сорока. Когда он начал говорить о «картографировании невозможного».
Совпадение?
Она продолжила читать.
После миссии 2067 года Вершинин был отстранён от полётов на шесть месяцев – «по состоянию здоровья». Потом вернулся, но только на мелководные операции. В 2069 году досрочно вышел на пенсию – «по собственному желанию», но в деле мелькало упоминание о «психологическом инциденте».
Кардиомиопатия началась в 2071 году. Три года – и сердце отказывало всё быстрее.
Она искала дальше. Медицинские записи, психологические оценки – всё, что могла найти в чёрных архивах.
И нашла.
Отчёт о психологическом состоянии пилота А. Вершинина, 2067 г., строго конфиденциально.
«Пациент сообщает о необычном опыте во время погружения на максимальную глубину. Описывает ощущение «контакта» с чем-то, что он не может идентифицировать. Уточняет, что контакт был «не внешним, а внутренним» – словно что-то «проснулось» внутри него и «посмотрело наружу».
Пациент отрицает галлюцинации или нарушения восприятия. Настаивает, что опыт был «реальнее, чем реальность». Использует метафору «двери, которая открылась и больше не может закрыться».
Рекомендация: отстранение от глубоководных миссий, психиатрическое наблюдение…»
Лена отложила телефон.
Дверь, которая открылась и больше не может закрыться.
Коллектив. Его Коллектив проснулся на глубине десять тысяч метров, под давлением, которое сминает сталь, в темноте, где нет ни одного фотона от поверхности. И с тех пор – семь лет – он ждал.
Ждал чего?
Мы видим лучшую форму.
Она посмотрела на часы – почти шесть утра. За окном светало, серый берлинский рассвет пробивался сквозь шторы.
Нужно было спать. Нужно было отдохнуть, переварить информацию, принять решение холодным, отдохнувшим умом. Всё, чему её учили – и чему она учила других – говорило: не торопись, не делай выводов в состоянии усталости, дай мозгу время.
Но её Коллектив не хотел ждать.
Тепло в солнечном сплетении разгоралось, становилось настойчивым, почти болезненным. Покалывание в пальцах усилилось – она сняла перчатки и посмотрела на свои руки.
Они изменились. За эту ночь – она могла поклясться – они изменились ещё. Пальцы стали тоньше, длиннее. Суставы – более выраженными. Кожа на запястьях истончилась, и сквозь неё были видны вены, пульсирующие в ритме, который не совпадал с биением её сердца.
Ты почти готова.
– Готова к чему? – спросила она в третий раз, и в третий раз ответа не было.
Или был – но не такой, который можно выразить словами.
Образ: морфопространство, бесконечное и полное форм. И она – на границе, одной ногой здесь, другой – там. Не уходящая и не остающаяся.
Мост.
Давид говорил это слово – десять лет назад, в последнем разговоре перед Отключением. «Ты нужна здесь. Как мост.» Она не поняла тогда. Может быть, начинала понимать теперь.
Лена подошла к окну и посмотрела на просыпающийся город. Люди внизу шли по своим делам, не зная и не думая о том, что под их кожей живут тридцать семь триллионов агентов, каждый из которых имеет собственные цели. Что человеческая форма – не единственная возможная. Что где-то, в пространстве, которое нельзя увидеть глазами, существуют формы, которые никогда не эволюционировали, но ждут своего часа.
Артём Вершинин был дверью. Или ключом. Или чем-то третьим, для чего у неё пока не было названия.
А она…
Ты почти готова.
Она была почти готова узнать.
Телефон зазвонил в семь тридцать – когда она наконец задремала, сидя в кресле у окна.
Незнакомый номер. Она приняла звонок.
– Лена Ковач?
Голос был мужской, низкий, с едва заметным акцентом – что-то восточноевропейское.
– Кто это?
– Меня зовут Пётр. Я работаю в Берлинском Архиве. Смотритель, ночная смена. Инна Чжан дала мне ваш номер.
Контакт из Архива. Тот, кто передал сообщение от Давида.
– Слушаю.
– Этой ночью что-то произошло. С вашим… – он замялся, – с телом Давида Ковача. Оно рисовало всю ночь, без остановки. Обычно он делает один-два рисунка в день, но этой ночью – семнадцать.
– Что на рисунках?
– Это… – голос Петра дрогнул. – Госпожа Ковач, мне сложно описать. Я работаю здесь три года, я видел многое. Но это…
– Что. На. Рисунках.
– Море. Глубина. Человек в капсуле. И слова – те же, что последний месяц. «Он почти готов. Ты почти готова.» Но сегодня есть новое.
Лена крепче сжала телефон.
– Какое?
– «Это только начало. Форма – это предложение, не приговор.» И подпись. Впервые – подпись. Буквы «Д» и «К». Давид Ковач.
Форма – это предложение, не приговор.
Лена закрыла глаза.
Давид говорил ей это когда-то давно, когда они только начинали работать вместе. Когда она боялась, что морфология – это насилие над природой, над человеческой формой, над тем, что делает нас собой. «Форма – не приговор, – сказал он тогда, – это предложение. Вопрос, на который можно ответить по-разному.»
Он говорил ей это через своё тело, которое уже десять лет ходило по Архиву без него. Он передавал сообщение – или что-то, научившееся быть им, передавало сообщение его словами.
Проверяй.
– Я приеду, – сказала она. – Сегодня вечером.
Она повесила трубку и несколько минут просто сидела, глядя в одну точку.
Что-то началось. Что-то, что связывало Давида, и Артёма, и её саму. Что-то, что ждало семь лет – или десять, или всю её жизнь.
Её Коллектив согласился – тёплая волна прокатилась по телу, от солнечного сплетения к кончикам слишком длинных пальцев.
Ты почти готова.
Может быть. А может быть – уже да.
Глава 2: Архив
Поезд S-Bahn тащился через восточные окраины Берлина, мимо складов, заброшенных фабрик и новых жилых комплексов, которые росли здесь как грибы после дождя. Лена сидела у окна, прижавшись виском к холодному стеклу, и смотрела, как город постепенно редеет, уступая место промышленной зоне.
Суббота. Она ездила в Архив каждую субботу последние десять лет. Сначала – каждый день, потом – через день, потом привычка устоялась: суббота, утренний поезд, два часа дороги в один конец. Ритуал, который она не могла объяснить и не пыталась.
Зачем? Давид не узнавал её. Его тело узнавало – поворачивалось, когда она входила, иногда улыбалось той рассеянной улыбкой, которую она помнила с их первых лет вместе. Но за улыбкой не было никого. Или был кто-то другой. Или – и это пугало её больше всего – был он, но изменившийся настолько, что понятие «узнавать» потеряло смысл.
Вагон был почти пуст – несколько пожилых женщин с сумками на колёсиках, подросток в наушниках, мужчина в деловом костюме, уткнувшийся в планшет. Никто не смотрел на неё, и она была этому рада. В последние месяцы она стала замечать, как люди задерживают на ней взгляд – на её руках, на её глазах. Перемены становились заметнее.
Она надвинула рукава свитера пониже, пряча запястья.
За окном мелькнул указатель: «Шёнефельд – 15 км». Ещё полчаса.
Лена закрыла глаза и позволила себе вспомнить.
Они встретились в 2051 году, на конференции по биоэлектричеству в Цюрихе. Ей было тридцать четыре, ему – тридцать один. Она делала доклад о регенерации периферических нервов – скучная тема, рутинная работа, которой она занималась в университетской лаборатории. Он задавал вопросы из зала, и вопросы были странными: не о методике, не о результатах, а о чём-то большем.
«Вы когда-нибудь задумывались, почему клетки знают, какую форму принять? Не как – это мы более-менее понимаем. Но почему именно эту форму, а не другую?»
После доклада он подошёл к ней – худой, взъерошенный, с горящими глазами человека, который не спал несколько ночей подряд, потому что идеи не давали покоя.
«Давид Ковач, – представился он. – Я работаю над картографированием морфопространства. Хотите кофе?»
Она не знала тогда, что такое морфопространство. Не знала, что этот разговор за кофе затянется на тринадцать лет – сначала как коллеги, потом как любовники, потом как муж и жена, потом как партнёры в работе, которая изменила всё.
Давид верил, что форма тела – не приговор, а предложение. Что где-то существует пространство всех возможных форм – математическая реальность, такая же объективная, как пространство физическое. И что Коллектив – эти тридцать семь триллионов клеток, из которых состоит каждый из нас – способен видеть это пространство и навигировать по нему.
«Мы тысячелетиями говорили телу, что делать, – объяснял он ей в первые месяцы их знакомства, когда они просиживали ночи в лаборатории, склонившись над микроскопами и мониторами. – Мы резали, сшивали, пересаживали, заставляли. А что, если вместо этого – послушать? Что, если тело знает то, чего не знаем мы?»
Она смеялась тогда. Называла его романтиком. Потом – когда первые эксперименты начали давать результаты – перестала смеяться.
Потом влюбилась.
Потом вышла за него замуж – тихая церемония в берлинской ратуше, только они двое и два свидетеля из лаборатории.
Потом они основали дисциплину, которую Давид назвал морфологией. Потом – когда мир начал понимать, что они открыли – пришли деньги, слава, возможности. И враги. И страх.
Потом его НМИ начал падать.
Лена открыла глаза. За окном тянулась промзона – бетонные коробки, ржавые трубы, заборы с колючей проволокой. Поезд замедлялся.
Её станция.
Она встала, придерживаясь за поручень. Тело было тяжёлым после бессонной ночи, но разум – странно ясным. Как будто что-то внутри неё проснулось и теперь смотрело на мир с новым вниманием.
Её Коллектив. Она чувствовала его отчётливее, чем когда-либо: тёплое присутствие в солнечном сплетении, лёгкое покалывание в кончиках пальцев. Раньше это были редкие вспышки – моменты, когда связь становилась ощутимой. Теперь это было постоянным фоном, как шум крови в ушах.
Ты почти готова.
Она не знала, её это мысль или их. Граница размывалась.
От станции до Архива было двадцать минут пешком через промзону. Лена знала этот маршрут наизусть – мимо заброшенной текстильной фабрики, через пустырь с остовами старых машин, вдоль бетонного забора с выцветшими граффити. Здесь пахло мазутом, ржавчиной и чем-то сладковатым, гниющим – запах умирающей индустрии.
Архив располагался в бывшем ангаре для дирижаблей – огромном сооружении начала двадцатого века, которое чудом пережило две мировые войны и несколько волн редевелопмента. Снаружи он выглядел как гигантский серый кит, выброшенный на берег: покатая крыша, облупившаяся краска, ворота, за которыми могли бы поместиться несколько самолётов.
Внутри – совсем другой мир.
Лена приложила пропуск к сканеру у бокового входа. Дверь открылась с тихим шипением, и её обдало прохладным воздухом, пахнущим антисептиком и чем-то неуловимо органическим. Запах Архива. Запах тел, которые жили без сознания.
Холл был пуст – только дежурный за стойкой, пожилой мужчина с усталым лицом. Он кивнул ей, не отрываясь от монитора.
– Госпожа Ковач. Давно вас не видели.
– Неделю.
– Да? Показалось дольше. – Он пожал плечами. – Знаете дорогу.
Она знала.
Главный зал Архива занимал почти весь объём ангара – сто пятьдесят метров в длину, шестьдесят в ширину, сорок в высоту. Когда-то здесь собирали дирижабли; теперь здесь хранили тела.
Капсулы стояли рядами – сотни вертикальных цилиндров из прозрачного пластика, каждый три метра высотой и метр в диаметре. Внутри – питательный раствор, бледно-голубой, с едва заметным свечением. И тела. Живые тела мёртвых людей.
Нет. Не мёртвых.
Ушедших.
Лена шла между рядами, и капсулы тянулись по обе стороны, как деревья в странном лесу. В некоторых тела висели неподвижно, с закрытыми глазами, с расслабленными лицами – можно было принять их за спящих. В других – движение: руки, шевелящиеся в растворе, губы, беззвучно формирующие слова, глаза, которые открывались и закрывались в непредсказуемом ритме.
Отключённые.
Два тысячи четыреста душ в этом Архиве – если душа была правильным словом. Семьдесят восемь процентов – Тип А, тихий уход: сознание исчезло мгновенно, без борьбы, и тело продолжало функционировать автономно, выполняя базовые операции и иногда – странные, необъяснимые действия. Двадцать процентов – Тип Б, борьба: сознание сопротивлялось, и в двадцати трёх процентах этих случаев оно проигрывало, оставаясь запертым внутри тела, которое больше не подчинялось. Два процента – Тип В, договор: сознание и Коллектив каким-то образом приходили к соглашению, создавая что-то новое, что-то между.
Давид был Тип А. Ушёл мгновенно, без сопротивления. Как будто давно хотел.
Может быть, и хотел.
Открытая секция находилась в дальнем конце зала – отгороженное пространство для тех Отключённых, чьи тела демонстрировали достаточно сложное поведение, чтобы жить вне капсул. Они ходили, сидели, иногда ели, иногда рисовали или писали. За ними наблюдали – камеры, датчики, иногда живые смотрители – но не мешали.
Давид был здесь.
Лена увидела его издалека – знакомый силуэт за низкой перегородкой, сидящий за столом. Седые волосы, которые он носил и при жизни. Прямая спина. Руки, двигающиеся над листом бумаги.
Он рисовал.
Она остановилась в нескольких метрах, не решаясь подойти ближе. Десять лет – и каждый раз этот момент был как первый. Увидеть его. Узнать каждую линию лица, каждый жест. И знать, что за этим лицом, за этими жестами – ничего. Или что-то другое. Или…
Давид поднял голову.
Его глаза – карие, тёплые, знакомые – посмотрели на неё. Не сквозь неё, как бывало иногда, а на неё. Он улыбнулся – той самой улыбкой, рассеянной и нежной, которую она помнила с их первых лет.
– Лена.
Его голос. Его интонация. Его способ произносить её имя – с лёгким ударением на втором слоге, как будто это было не имя, а вопрос.
Она не ответила. Не могла.
Тело Давида – она заставляла себя думать о нём именно так, как о теле, не как о нём самом – снова опустило голову и вернулось к рисованию. Момент узнавания (если это было узнавание) прошёл.
Лена подошла ближе.
Стол был завален бумагой – десятки листов, покрытых рисунками. Карандаш в его руке двигался уверенно, без колебаний, словно рука точно знала, что хочет изобразить.
Она смотрела.
Морфопространство. Она научилась узнавать его – эти невозможные геометрии, эти формы, которые существовали в большем количестве измерений, чем три. Давид рисовал их ещё при жизни, пытаясь показать ей то, что видел. Теперь его тело продолжало – день за днём, год за годом.
Но рисунки изменились.
Раньше это были абстракции – чистая математика, записанная визуальным языком. Линии, углы, топологические структуры, которые намекали на что-то большее. Теперь – фигуры. Существа. Формы, которые могли бы быть телами.
И слова.
Он почти готов.
Ты почти готова.
Форма – это предложение, не приговор.
Надписи появлялись на рисунках последний месяц – сначала отдельные слова, потом фразы, потом целые предложения. Почерк был детским, неуверенным – рука, которая не писала десять лет, разучилась держать карандаш ровно. Но слова были Давида. Его фразы, его мысли, его способ формулировать.
Лена собрала рисунки с края стола – те, что уже были закончены – и начала просматривать.
Море. Небо. Горизонт, который был и тем, и другим, и чем-то третьим. Фигуры на берегу и в воде. Одна фигура – дальше других, на самом горизонте, почти сливающаяся с ним.
Давид?
Другая фигура – на берегу, лицом к морю. Женщина с длинными пальцами, с резкими чертами лица. Она сама?
Третья фигура…
Лена замерла.
Третья фигура была в воде – погружалась или всплывала, невозможно было сказать. Контуры её были размытыми, словно форма ещё не определилась. И рядом с ней – числа, которые она уже видела сегодня ночью.
10000 М.
Десять тысяч метров. Марианская впадина. Артём Вершинин.
– Ты знал о нём.
Она произнесла это вслух, обращаясь к телу Давида, которое продолжало рисовать, не обращая на неё внимания.
– Полгода назад ты уже рисовал его. Человека в капсуле на глубине десять тысяч метров. Откуда ты знал?
Молчание. Карандаш скользил по бумаге, выводя очередную невозможную форму.
– Или это не ты? – Её голос дрогнул. – Может быть, это вообще не ты. Может быть, это… они. Коллектив. Научился рисовать то, что хочу видеть я. Научился писать слова, которые я хочу прочитать.
Тело Давида подняло голову.
Его глаза – или глаза того, что жило в его теле – смотрели на неё. Без выражения. Без узнавания. И всё же…
Рука, державшая карандаш, протянулась к чистому листу. Начала писать – медленно, неуверенно, как ребёнок, который только учится.
Проверяй.
Одно слово. Потом рука вернулась к прежнему рисунку, словно ничего не произошло.
Лена стояла, глядя на это слово, и чувствовала, как что-то сжимается в груди. Это было предупреждение Давида – то самое, из его дневника, из его последней записи перед Отключением. «Если что-то будет говорить моим голосом – не верь сразу. И не отвергай сразу. Проверяй.»
Он помнил. Или оно помнило. Или…
Проверяй.
Как? Как проверить то, что невозможно проверить? Как узнать, говорит ли с ней муж – изменившийся, расширившийся, ставший чем-то другим – или имитация, созданная существом, которое выучило его наизусть?
Её Коллектив шевельнулся – тепло в солнечном сплетении, как ответ на незаданный вопрос.
Есть способ.
Портативный Интерфейс она носила с собой всегда – маленькое устройство размером с портсигар, которое она собрала сама из ворованных компонентов и контрабандных чипов. В Архиве подключение к Отключённым было запрещено – слишком рискованно, слишком непредсказуемо. Но Лена нарушала это правило сотни раз.
Она оглянулась. Камеры в открытой секции были, но она знала слепые зоны – изучила их за десять лет посещений. Угол у дальней стены, за шкафом с материалами для рисования. Там можно было провести несколько минут незамеченной.
– Идём.
Она взяла тело Давида за руку – прохладная кожа, знакомые пальцы – и повела его к слепой зоне. Оно не сопротивлялось, послушно следуя за ней. Как и всегда.
В углу она усадила его на пол, прислонив спиной к стене. Достала Интерфейс, развернула тонкие провода с электродами. Руки не дрожали – она делала это слишком много раз.
Три электрода – на виски и на основание черепа. Стандартная конфигурация для минимального контакта. Достаточно, чтобы услышать. Недостаточно, чтобы заблудиться.
Она надеялась.
Последний электрод – на себя. В то место за ухом, где кожа истончилась от частых подключений.
– Не знаю, слышишь ли ты меня, – прошептала она. – Не знаю, есть ли там кто-то, кто может слышать. Но я попробую.
Она активировала Интерфейс.
Темнота.
Не та темнота, которая была вчера, в Коллективе Артёма – не глубоководная, плотная, живая. Эта темнота была другой. Знакомой. Как комната, в которую возвращаешься после долгого отсутствия.
– Давид?
Голос растворялся в темноте, не встречая отклика. Лена ждала, привыкая к ощущению. Связь была слабой – тело Давида не сопротивлялось, но и не помогало. Оно было как закрытая дверь: не заперта, но и не открыта.
Она толкнула эту дверь.
И мир изменился.
Свет – не свет, но что-то, выполняющее его функцию. Она стояла (не стояла – была, существовала, присутствовала) на берегу чего-то, похожего на море. Песок под ногами – если это был песок, если это были ноги – мерцал, словно состоял из крошечных звёзд.
Море (или что-то похожее на море) тянулось до горизонта. Его поверхность была спокойной, но под ней угадывалось движение – формы, проплывающие в глубине. Бесконечное множество форм.
Морфопространство.
Она была здесь раньше – в снах, в видениях, в тех редких случаях, когда подключение к Давиду давало больше, чем пустоту. Но никогда – так ясно. Так реально.
– Давид?
На этот раз ответ пришёл.
Не словами – ощущением. Тепло, которое она узнала бы где угодно. Запах его одеколона – того, которым он не пользовался десять лет, потому что его тело перестало нуждаться в человеческих ритуалах. Звук его смеха – тихого, немного хриплого, который она слышала в последний раз накануне его последнего погружения.
И голос.
Ты пришла.
Не слова – понимание, которое она перевела в слова. Так общались с Коллективом: получали образы, ощущения, импульсы, а потом облекали их в язык. Перевод всегда был приблизительным.
– Я прихожу каждую субботу. Десять лет.
Я знаю. Я вижу тебя. Каждый раз.
– Почему ты не отвечал раньше?
Пауза. Волны (или что-то похожее на волны) набегали на берег, оставляя следы, которые тут же исчезали.
Раньше – не было канала. Раньше – только шум. Теперь… – образ: дверь, приоткрывающаяся, – теперь что-то изменилось. В тебе. Во мне. В нём.
– В нём? В Вершинине?
Он – катализатор. Или симптом. Или начало. Я не уверен. Здесь – сложно быть уверенным в чём-либо.
Она пыталась увидеть его – фигуру, форму, хоть что-то. Но он был везде и нигде, растворённый в этом пространстве, как соль в воде.
– Это ты? – спросила она наконец. Вопрос, который мучил её годами. – Давид, это правда ты? Или… или они научились притворяться тобой?
Молчание. Долгое, тяжёлое.
Потом – образ.
Зеркало. Огромное зеркало, стоящее посреди этого невозможного пляжа. В нём – отражение: лицо Давида, знакомое до последней морщинки. Но за лицом, за отражением – пространство, которое не помещалось в зеркало. Океан, уходящий в бесконечность.
Я помню, как быть Давидом.
– Это не ответ.
Это единственный честный ответ, который я могу дать. – Тепло его голоса обволакивало её, как одеяло в холодную ночь. – Я помню всё. Нашу первую встречу – Цюрих, конференция, ты была в синем платье с белым воротником, и я подумал, что у тебя самые умные глаза, которые я видел. Нашу свадьбу – ратуша, дождь за окном, ты сказала «да» так тихо, что регистратору пришлось переспросить. Нашу последнюю ночь – я не мог заснуть, смотрел, как ты дышишь, и думал, что не заслуживаю тебя.
Лена чувствовала, как что-то тёплое течёт по её щекам. Слёзы. Здесь, в этом пространстве, она могла плакать.
Но я помню и другое. То, чего Давид не знал. То, что пришло после. Формы, которые ждут. Пространство, которое бесконечно. Голоса – если это можно назвать голосами – тех, кто ушёл раньше и дальше. Я – это то, чем стал Давид. Является ли это тем же самым, что «быть Давидом»? Я не знаю. Никто не знает.
Она хотела закричать: «Скажи да или нет! Скажи, что это ты! Дай мне что-то, за что можно держаться!»
Но она знала, что ответа не будет. Потому что ответа не существовало. Потому что вопрос был неправильным.
Вместо этого она спросила:
– Что ты хочешь от меня?
Ничего. – Удивление в его голосе было почти человеческим. – Я не хочу ничего от тебя. Я хочу чего-то для тебя.
– Чего?
Чтобы ты была готова. Когда придёт время – а оно приходит, оно уже здесь – ты должна быть готова сделать выбор.
– Какой выбор?
Образ изменился. Теперь она видела не зеркало, а развилку – тропа, уходящая в две стороны. Один путь вёл к горизонту, к морю, к тому месту, где форма Давида ждала её. Другой – назад, к берегу, к миру, который она знала.
Уйти. Или остаться. Или… – третья тропа, которой не было раньше, появилась между первыми двумя, – стать мостом.
– Ты говорил это. Десять лет назад. «Ты нужна здесь. Как мост.»
Я знал тогда. Не полностью – но чувствовал. Ты – не такая, как я. И не такая, как они, – он имел в виду обычных людей, тех, чьи Коллективы молчат. – Ты – между. Твоя связь достаточно сильна, чтобы слышать нас. Достаточно слаба, чтобы оставаться собой. Это редкость. Это дар. Или проклятие – смотря как посмотреть.
– Мост между чем и чем?
Между тем, что есть, и тем, что будет. Между людьми и тем, во что они превращаются. Между формой и бесформенностью.
Она чувствовала, как связь начинает слабеть – портативный Интерфейс не был рассчитан на длительные сеансы. Ещё минута, может две.
– Артём Вершинин. Что с ним? Почему ты рисовал его за полгода до того, как он пришёл ко мне?
Я не рисовал его. Я рисовал то, что видел. – Образ: карта, но не географическая – топологическая. Точки, связанные линиями. Узлы, через которые проходит что-то. – Он – узел. Ты – узел. Я – узел, хотя и другого рода. Что-то соединяется. Что-то готовится.
– Что именно?
Не знаю. Честно – не знаю. Морфопространство – не план, а возможность. Оно показывает, что может быть. Не что будет.
Связь мерцала. Образы начинали расплываться.
– Давид. Последний вопрос. – Она собрала все оставшиеся силы. – Ты… ты счастлив? Там, где ты сейчас?
Долгая пауза. Волны набегали и отступали. Формы в глубине двигались своими непостижимыми путями.
Счастье – человеческое слово. Оно… не подходит. – Тепло, окутывающее её, стало интенсивнее. – Но если ты спрашиваешь, жалею ли я о том, что ушёл… нет. Если ты спрашиваешь, скучаю ли я по тебе… – пауза, – да. Каждый момент, который здесь длится иначе, чем там. Если ты спрашиваешь, хочу ли я, чтобы ты пришла сюда…
– Да?
Я хочу, чтобы ты выбрала сама. Не ради меня. Ради себя. И ради тех, кому ты ещё можешь помочь.
Связь оборвалась.
Она пришла в себя на холодном полу Архива, прислонившись спиной к стене. Тело Давида сидело рядом, неподвижное, с закрытыми глазами. Электроды ещё держались на коже.
Лена сняла их дрожащими руками.
Её лицо было мокрым от слёз, и она не помнила, когда начала плакать. Может, там, в морфопространстве. Может, здесь, в реальности. Граница между ними стала тоньше.
Она посмотрела на Давида – на его спокойное лицо, на руки, неподвижно лежащие на коленях. Десять лет она приходила сюда, надеясь на что-то – на знак, на ответ, на прощание или на воссоединение. Теперь она получила… что?
Не прощание. Не воссоединение. Что-то третье.
Мост.
Она медленно встала, держась за стену. Ноги не слушались, голова кружилась. Слишком глубокое погружение, слишком долгое. Её собственный Коллектив протестовал – или радовался, она не могла понять.
Тело Давида открыло глаза.
Его рука потянулась к карандашу, к бумаге, которую он не выпускал даже во сне. И начала рисовать – быстро, уверенно, словно торопясь зафиксировать что-то, пока не забылось.
Лена смотрела.
Рисунок появлялся на бумаге: три фигуры. Одна – на горизонте, далёкая и нечёткая. Другая – на берегу, между мирами. Третья – в воде, погружающаяся, меняющаяся.
И слова, написанные внизу тем же детским, неуверенным почерком:
Он идёт к нам.
Она выберет мост.
Это только начало.
Она вышла из Архива через час – нужно было время, чтобы прийти в себя, чтобы руки перестали дрожать, чтобы лицо снова стало похоже на человеческое.
Снаружи моросил дождь – мелкий, холодный, типично берлинский. Лена стояла под козырьком бокового входа и смотрела на серое небо, пытаясь собрать мысли в какое-то подобие порядка.
Он идёт к нам. Артём. Коллектив Давида (или то, что было Давидом) знал о нём. Видел его как точку на карте, как узел в сети. Что-то связывало их – Артёма, Давида, её саму.
Она выберет мост. Она. Лена. Коллектив уже знал, какой выбор она сделает. Или думал, что знает. Или видел одну из возможностей и принял её за неизбежность.
Это только начало.
Чего?
Её телефон завибрировал в кармане. Она достала его, щурясь от света экрана.
Два сообщения. Первое – от незнакомого номера, подписанного «Эва М.»
«Доктор Ковач, это мать Аси. Срочно. Этой ночью её тело начало рисовать. Первый раз за семь лет. Пожалуйста, перезвоните.»
Ася. Семилетняя девочка с нулевым НМИ – полным разрывом между сознанием и Коллективом. Сознание, запертое в теле, которое не слушалось. Лена знала этот случай – консультировала мать год назад, когда та искала любую надежду.
Тело начало рисовать. У девочки, которая никогда не контролировала своё тело, Коллектив начал действовать самостоятельно.
Совпадение?
Это только начало.
Она открыла второе сообщение. Номер – тоже незнакомый, но с пометкой «приватный канал».
«Я знаю, что вы видели. В Архиве. С Давидом. Нам нужно поговорить. – И. Ч.»
Инна Чжан.
Женщина, которую её собственный Коллектив вернул из постчеловечества. Которая была там, в морфопространстве, три года – и которую вышвырнули обратно, как гостя, который надоел хозяину.
Лена перечитала сообщение. «Я знаю, что вы видели.» Как? Инна не была в Архиве. Инна не могла знать о подключении.
Если только…
Антенна. Инна говорила, что чувствует себя антенной – ловит помехи из морфопространства. Слышит шум, который иногда становится почти похож на слова.
Может быть, сегодня она услышала больше.
Лена набрала ответ:
«Когда и где?»
Ответ пришёл через секунду, словно Инна ждала:
«Сегодня вечер. Кафе «Осьминог», Кройцберг, 19:00. Придите одна. И будьте готовы к тому, что я расскажу.»
Она убрала телефон и подставила лицо дождю.
Что-то начиналось. Что-то, что связывало Давида, и Артёма, и Асю, и её саму, и, может быть, Инну тоже. Узлы в сети. Точки на карте, которую она не видела целиком.
Её Коллектив шевельнулся – тепло, согласие, что-то похожее на предвкушение.
Ты почти готова.
– К чему? – спросила она вслух, обращаясь к дождю, к серому небу, к тридцати семи триллионам клеток внутри себя.
Ответа не было. Но она начинала понимать, что ответ не придёт извне. Что ей придётся найти его самой.
Она вытерла лицо рукой – капли дождя или слёзы, она уже не различала – и пошла к станции.
Поезд в город. Звонок матери Аси. Встреча с Инной.
Это только начало.
Впервые за десять лет Лена чувствовала, что это может быть правдой.
Глава 3: Пилот
Темнота на глубине десять тысяч метров была не похожа ни на что другое.
Артём помнил это так ясно, словно прошло не семь лет, а семь минут. Капсула – два метра в длину, восемьдесят сантиметров в диаметре, титановая скорлупа, рассчитанная на давление в тысячу атмосфер. Внутри – он, скрюченный в позе эмбриона, окружённый мониторами, кабелями, системами жизнеобеспечения. Снаружи – вода, настолько плотная от давления, что казалась твёрдой, и абсолютная, беспросветная тьма.
Ни единого фотона.
Люди думают, что знают, что такое темнота. Они закрывают глаза, или выключают свет в комнате, или выходят в безлунную ночь. Но всегда есть что-то – отсвет города за горизонтом, звёзды, которые не замечаешь, пока не начнёшь искать, биолюминесценция сетчатки, которая создаёт иллюзию слабого мерцания. На глубине десять тысяч метров не было ничего. Вообще ничего. Глаза оставались открытыми, но видеть было нечего – и через какое-то время мозг начинал паниковать, генерируя собственные образы, галлюцинации, которые казались реальнее реальности.
Артём научился не доверять им. Научился смотреть на приборы, на цифры, на данные – на то, что можно проверить, измерить, подтвердить.
А потом приборы отказали.
Сначала – навигация.
Экран мигнул и погас. Артём ударил по нему ладонью – старый приём, который иногда работал на изношенном оборудовании. Не сработал. Он попробовал перезагрузку, обход, переключение на резервный контур. Ничего.
Координаты исчезли. Он больше не знал, где находится – только глубину (10 247 метров, давление стабильно) и примерное направление к поверхности (вверх, но вверх – понятие относительное, когда ты висишь в толще воды без ориентиров).
– База, это «Пилот-7», – он говорил в микрофон, хотя знал, что на такой глубине связь работала через буи-ретрансляторы, а до ближайшего буя было несколько километров. – Отказ навигационного модуля. Прошу инструкций.
Шипение. Треск. Тишина.
Связь была следующей.
Артём почувствовал, как что-то холодное сжимается в груди. Не паника – он слишком хорошо был натренирован для паники. Осознание. Понимание того, что случилось и что может случиться дальше.
Он проверил основные системы. Кислород – на шесть часов. Углекислотный скруббер – работает. Питание – от основной батареи, заряд семьдесят три процента. Резервная батарея – он переключился на диагностику и увидел ряд красных цифр.
Резервная батарея была мертва. Не разряжена – мертва. Короткое замыкание где-то в контуре, судя по показаниям.
Двигатели работали от основной батареи. Семьдесят три процента хватило бы на подъём – но только на подъём. Без маневрирования. Прямая линия вверх, через десять тысяч метров воды, со скоростью, которую позволял безопасный режим декомпрессии.
Четырнадцать часов.
Если ничего не пойдёт не так.
Если он найдёт правильное направление без навигации.
Если двигатель не откажет.
Если.
Артём не верил в бога, в судьбу, в космическую справедливость. Он верил в инженеров, которые проектировали системы с многократным резервированием. В протоколы, написанные людьми, которые предусмотрели тысячи вариантов отказов. В машины, которые работали, когда люди сдавались.
Он открыл аварийный протокол – древний файл, который он видел только на тренировках. Инструкция на случай полной потери навигации и связи.
«При невозможности определить координаты и направление движения, переключитесь на автономный режим ориентации. Система использует данные гравиметра, акселерометра и термодатчиков для построения вероятностной карты окружающей среды.»
Артём переключился.
Экран ожил – не картой, а чем-то похожим на облако точек. Вероятности. Система не знала, где он находится, но она могла оценить, где он, скорее всего, находится. И показать направление, которое с наибольшей вероятностью вело к поверхности.
Или к подводной скале. Или к термальному источнику, достаточно горячему, чтобы расплавить титан капсулы. Или просто в никуда.
«Система ориентации не гарантирует точность маршрута. Вероятность успешного возвращения при использовании автономного режима: 34%.»
Тридцать четыре процента.
Два шанса из трёх умереть.
Артём смотрел на экран, на облако вероятностей, на мигающую стрелку, указывающую направление. Его сердце билось ровно – сто двадцать ударов в минуту, чуть выше нормы, но далеко от паники. Его дыхание было ровным – двенадцать вдохов в минуту, как на тренировках.
Он мог попробовать починить навигацию. Он мог попробовать восстановить связь. Он мог сидеть и ждать, надеясь, что база отправит спасательную капсулу.
Или он мог довериться системе.
Машине, которая не знала, где он находится, но знала, как искать. Алгоритмам, написанным инженерами, которые предусмотрели именно такую ситуацию. Железу и коду, которые не паниковали, не надеялись, не боялись – просто обрабатывали данные и выдавали лучший из доступных вариантов.
Тридцать четыре процента.
Артём нажал кнопку активации.
Капсула двигалась медленно – три метра в секунду, безопасный режим декомпрессии. На такой скорости подъём занял бы почти час только на первый километр. Четырнадцать часов до поверхности.
Если система вела его в правильном направлении.
Артём сидел в темноте, слушая гул двигателя, и думал о доверии.
Он не был человеком, который легко доверял. Детство в маленьком городке на Урале научило его, что люди врут – иногда по злобе, иногда по слабости, иногда просто потому, что сами не знают правды. Служба в морском флоте научила его, что начальство врёт почти всегда – не по злобе, а потому что правда была слишком сложной для простых приказов. Работа на корпорации научила его, что системы врут реже, чем люди – но когда врут, последствия бывают хуже.
Но системы не врали специально. Они ошибались – из-за багов, из-за неучтённых факторов, из-за того, что реальность была сложнее любой модели. Но они не притворялись. Не скрывали. Не манипулировали.
Когда система говорила «тридцать четыре процента», она имела в виду именно это. Не «всё будет хорошо» и не «мы обречены». Просто: вот вероятность, вот данные, вот лучший доступный вариант.
Артём уважал эту честность.
Он закрыл глаза и слушал, как капсула поднимается сквозь толщу воды, следуя маршруту, который был, возможно, правильным. Или нет.
На третьем часу подъёма что-то изменилось.
Сначала он подумал, что это галлюцинация – темнота делала странные вещи с восприятием. Но ощущение не проходило.
Тепло. Где-то глубоко внутри – не в груди, не в животе, а где-то ещё, в месте, которому он не мог дать название. Словно кто-то зажёг маленькую свечу в комнате, которую он раньше не знал.
Артём открыл глаза, хотя открывать было нечем – темнота оставалась абсолютной. Но ощущение было таким ясным, таким определённым, что он почти ожидал увидеть свет.
Что это?
Тепло пульсировало – мягко, ритмично, не в такт сердцебиению. Словно внутри него было ещё одно сердце, о котором он не знал.
Что это такое?
Он попытался сосредоточиться на показаниях приборов – глубина 8 134 метра, скорость стабильна, кислород в норме – но тепло отвлекало. Оно не было неприятным, наоборот: оно было почти успокаивающим, как голос матери в детстве, как руки жены на плечах после тяжёлого дня.
Жены. Марты.
Мысль о ней принесла укол боли – она ушла три года назад, сказав, что не может больше ждать, пока он вернётся из очередной экспедиции, не может больше засыпать одна, не может больше любить человека, который любит бездну больше, чем её.
Она была неправа. И она была права. Он не любил бездну больше, чем её. Он просто не мог не спускаться – как рыба не может не плыть, как птица не может не летать. Это было в нём, это было им.
Тепло усилилось – словно услышало его мысли, словно откликнулось.
Кто ты?
Не ответ – но что-то похожее. Образ, возникший ниоткуда: дверь. Тяжёлая металлическая дверь, похожая на переборку подводной лодки. И за ней – пространство, огромное, бесконечное, полное… чего-то.
Форм. Возможностей. Того, что могло бы быть, но никогда не было.
Дверь была закрыта. Но щель между створками пропускала свет – тёплый, золотистый, совсем не похожий на холодный блеск приборов.
Ты хочешь, чтобы я открыл?
Тишина. Тепло продолжало пульсировать, но ответа не было.
А потом – на шестом часу подъёма – система выдала сигнал.
«Обнаружен объект на траектории. Расстояние: 340 метров. Идентификация: глубоководный модуль, серия «Исследователь-IV», статус: заброшен.»
Артём смотрел на экран, не веря своим глазам.
«Исследователь-IV» – серия капсул, использовавшихся в пятидесятых годах. Программа была закрыта двадцать лет назад, капсулы – утилизированы или музеефицированы.
Или потеряны.
Он переключился на внешние сенсоры. Сонар показывал контур – характерную сигарообразную форму, знакомую по учебникам. Капсула висела в толще воды, медленно дрейфуя по течению, которого он не чувствовал.
Внутри могли быть запасы. Батареи. Может быть – рабочая навигация.
Система рассчитала маневр. Маневр требовал энергии. Энергия была ограничена.
«Вероятность успешного возвращения при изменении курса: 28%. Вероятность успешного возвращения при сохранении курса: 34%.»
Двадцать восемь процентов против тридцати четырёх.
Артём должен был продолжать подъём. Любой разумный человек продолжил бы подъём.
Но тепло внутри пульсировало, и дверь за ним приоткрылась чуть шире, и что-то – он не мог назвать это голосом, это было скорее понимание, возникающее из ниоткуда – что-то говорило: туда.
Он изменил курс.
Заброшенная капсула была в лучшем состоянии, чем он ожидал.
Стыковка заняла двадцать минут – в темноте, на ощупь, полагаясь на сонар и на манипуляторы, которые слушались плохо. Но он справился. Шлюз между капсулами выровнял давление, и Артём перебрался внутрь.
Здесь тоже была темнота, но другая – пыльная, затхлая, пахнущая резиной и смазкой. Его фонарь выхватывал из темноты панели, кабели, пустое кресло пилота. Двадцать лет никто не сидел в этом кресле.
Навигационный модуль был мёртв – как он и ожидал. Связь – мертва. Но батареи…
Батареи были на месте. Три штуки. Одна – разряжена в ноль. Две – показывали заряд. Не полный, но достаточный.
Артём работал быстро, отсоединяя блоки, перетаскивая их в свою капсулу, подключая. Его руки двигались автоматически – часы тренировок, въевшиеся в мышечную память. Но часть его сознания оставалась там, с теплом, с дверью, с пониманием, которое возникало из ниоткуда.
Ты знал. Ты привёл меня сюда.
Не ответ. Но тепло усилилось – словно согласие.
Когда он закончил, система пересчитала вероятности.
«Вероятность успешного возвращения: 89%.»
Восемьдесят девять процентов.
Артём смотрел на цифры и смеялся – тихо, хрипло, смехом человека, который только что выиграл в лотерею, в которую не собирался играть.
Он не знал, что именно привело его к заброшенной капсуле. Случайность? Алгоритм, учитывающий исторические данные об экспедициях в этом районе? Или что-то другое – что-то, что пульсировало теплом внутри него, что-то, что показывало двери и пространства, которых не было ни на одной карте?
Он не знал. И в тот момент – в темноте, на глубине восемь тысяч метров, с восьмидесятью девятью процентами шансов на жизнь – это не имело значения.
Важно было то, что он доверился.
И система – или что-то большее – не подвела.
Сейчас, семь лет спустя, сидя в своей берлинской квартире и глядя на медицинское заключение, Артём думал о том дне. О темноте и тепле. О двери, которая приоткрылась и больше не закрылась до конца.
Диагноз лежал на столе: кардиомиопатия, прогрессирующая, прогноз без вмешательства – шесть-восемь недель. Он перечитал его уже раз двадцать, и цифры больше не вызывали никаких эмоций. Факт. Данные. Информация для принятия решения.
Его сердце умирало. Медленно, но неуклонно. Мышечные волокна замещались рубцовой тканью, насосная функция падала, жидкость скапливалась в лёгких. Стандартный сценарий, хорошо изученный, описанный в тысячах учебников.
Решения тоже были стандартными. Трансплантация – очередь четыре года, у него нет четырёх лет. Искусственное сердце – несовместимо с его редкими антителами. Регенерация – требует согласия Коллектива.
А Коллектив отказал. И предложил альтернативу.
Мы видим лучшую форму.
Артём встал и подошёл к окну. Берлин за стеклом жил своей жизнью – машины, пешеходы, велосипедисты, голуби. Обычный день. Обычный мир. Мир, который не знал, что внутри каждого человека живут тридцать семь триллионов агентов с собственными целями.
Он положил руку на грудь – туда, где сердце билось неровно, с перебоями, напоминая о дедлайне.
Мы видим лучшую форму.
Что это значило? Какую форму они видели? Что было «лучшего» в том, во что они хотели его превратить?
Морфолог – Лена Ковач – не ответила на эти вопросы. Она сказала, что не знает. Сказала, что это новое, что такого не было раньше. Её глаза – странные, серо-стальные, не совсем человеческие – смотрели на него с чем-то похожим на страх.
Или на зависть.
Ночь пришла медленно, как всегда в берлинском феврале – сначала сумерки, потом синий час, потом темнота, разбавленная оранжевым светом фонарей. Артём не включал свет в квартире. Сидел в кресле у окна, смотрел на город и ждал.
Чего – он не знал. Но что-то подсказывало ему, что ждать стоит.
Тепло пришло около полуночи.
Знакомое ощущение – как тогда, на глубине. Маленькая свеча, зажжённая в комнате, которую он раньше не знал. Пульсация, не совпадающая с сердцебиением. Присутствие.
Артём закрыл глаза.
Дверь была там – та самая, металлическая, похожая на переборку. Но теперь она была открыта шире. Свет из-за неё был ярче. И что-то там, за дверью, двигалось. Формы. Тени. Возможности.
Ты слышишь нас.
Не голос – понимание. Он не знал, как переводить это в слова, но слова приходили сами.
Вы – мой Коллектив.
Мы – ты. И больше, чем ты. И меньше. Мы – то, из чего ты состоишь. И то, чем ты можешь стать.
Образ: тело Артёма, но увиденное изнутри. Не органы, не кости – паттерны. Электрические поля, пронизывающие каждую клетку. Сети связей, по которым текла информация. Карта, на которой были отмечены точки напряжения, конфликта, дисбаланса.
И сердце – маленькая комната с трещинами на стенах.
Мы можем починить эту комнату. Но это – латание дыр. Временное решение. Вы будете возвращаться снова и снова, чинить и чинить, пока весь дом не развалится вокруг одной комнаты, которую вы так старательно сохраняете.
А вы предлагаете…
Перестроить дом.
Образ изменился. Теперь он видел не своё тело – он видел то, чем оно могло стать. Форма была… другой. Не уродливой – просто другой. Пропорции, которые намекали на иную логику. Симметрия, которая не совсем соответствовала человеческой эстетике. Что-то элегантное, но чужое.
Это – я? После трансформации?
Это – одна из возможностей. Одна из тысяч. Мы видим все. Но эта – оптимальна. По нашим критериям.
Каким критериям?
Пауза. Что-то похожее на замешательство – или на попытку перевести непереводимое.
Выживание. Адаптация. Развитие. То, что вы называете «здоровьем», – это лишь часть. Маленькая часть большей картины. Мы видим дальше. Глубже. Мы видим, чем ты можешь стать, если перестанешь держаться за то, чем ты есть.
А если я не хочу переставать?
Тишина. Долгая.
Тогда мы будем ждать. Мы терпеливы. У нас есть время. – Пауза. – У тебя – нет.
Артём открыл глаза.
Комната была тёмной. За окном – ночной город. Сердце билось неровно, напоминая о шести-восьми неделях.
Они были правы. У него не было времени.
Но это не значило, что он должен сдаваться без борьбы.
Телефон зазвонил в семь утра.
Артём не спал – сидел в том же кресле, глядя, как серый рассвет вползает в окно. Тело было измученным, но разум – странно ясным.
Он посмотрел на экран. Номер, который не видел пять лет.
Марта.
Несколько секунд он просто смотрел на мигающий значок вызова. Потом – принял.
– Артём.
Её голос не изменился. Низкий, чуть хриплый, с лёгким акцентом, который появлялся, когда она волновалась.
– Марта.
– Я узнала о твоём случае.
– Как?
– У меня есть источники.
Конечно, есть. Марта всегда имела источники. Она была нейробиологом, потом – активисткой, потом – лидером движения, которое называло себя «Границей человечества». Пуристы. Они верили, что человеческая форма священна, что трансформации – преступление против природы.
Странно, что она звонила. Они не разговаривали после развода – только юристы, только документы, только холодное молчание.
– Артём, не делай этого.
– Чего именно?
– Не соглашайся на то, что они предлагают. Я знаю, что твой Коллектив говорил с тобой. Знаю, что он предложил альтернативу.
Артём усмехнулся.
– Твои источники хорошо информированы.
– Это не шутка. – Её голос стал острее. – Ты не знаешь, что такое Отключение. Я исследовала это. Три года исследований, сотни случаев. Они не уходят, Артём. Они застревают.
– Я читал твою работу. Научное сообщество её отвергло.
– Частично. – Марта замолчала на секунду. – Двадцать три процента Типа Б демонстрируют паттерны, совместимые с гипотезой запертого сознания. Независимая проверка подтвердила это. Двадцать три процента – не статистическая погрешность.
– А остальные семьдесят семь?
– Недостаточно данных. Мы не знаем. В этом-то и проблема – мы не знаем, что происходит с большинством Отключённых. Может, они действительно «уходят». Может, их сознание растворяется в чём-то большем. А может – они кричат внутри тел, которые больше не подчиняются, и мы просто не слышим.
Артём смотрел в окно. Солнце поднималось над крышами, и серый город постепенно обретал цвет.
– Почему ты звонишь, Марта?
Пауза. Долгая.
– Потому что я не хочу потерять тебя снова.
Он не ожидал этого. Не ожидал боли в её голосе – настоящей боли, не риторической.
– Ты потеряла меня пять лет назад.
– Я потеряла версию тебя, которую хотела. – Её голос дрогнул. – Настоящий ты всегда был там. В глубине. Я знала это, когда выходила за тебя. Знала и надеялась, что смогу изменить. Не смогла. Но это не значит…
Она замолчала.
– Марта?
– Это не значит, что я перестала любить тебя.
Артём закрыл глаза.
Их брак был странным – два человека, которые понимали друг друга слишком хорошо, чтобы жить вместе, и недостаточно хорошо, чтобы расстаться безболезненно. Марта хотела стабильности – дома, семьи, предсказуемости. Артём хотел глубины – буквальной, физической, той, которая давила на капсулу с силой в тысячу атмосфер. Их любовь была реальной, но их жизни не совпадали, как два чертежа, наложенных друг на друга под неправильным углом.
– Я не собираюсь умирать, – сказал он наконец.
– Тогда не соглашайся на трансформацию.
– Без трансформации я умру через шесть недель.
– Есть другие варианты.
– Какие? Очередь на трансплантацию? Четыре года. Искусственное сердце? Несовместимо. Что ещё?
Молчание.
– Артём, пожалуйста. – Её голос был почти мольбой. – Дай мне время. Я найду что-нибудь. Экспериментальные протоколы, зарубежные клиники…
– У тебя нет времени. У меня нет времени.
– Тогда… – она запнулась, – тогда хотя бы не делай этого сейчас. Подожди. Подумай. Ты всегда принимал решения слишком быстро – я знаю тебя.
Артём почти рассмеялся. Она знала его. Знала его лучше, чем кто-либо, кроме, может быть, тьмы на глубине десять тысяч метров.
– Я подумаю, – сказал он.
– Обещаешь?
– Обещаю.
Он повесил трубку и долго смотрел на телефон.
Марта была права – по-своему. Двадцать три процента – не мало. Двадцать три процента – это каждый четвёртый. Это рулетка, в которой один из четырёх патронов настоящий.
Но семьдесят семь процентов – это три из четырёх. Три шанса, что всё будет иначе.
И потом – он не собирался становиться Отключённым. Он собирался договориться. Найти третий путь.
Третий путь нашёлся в тёмном углу интернета, на форуме, который официально не существовал.
Артём провёл день за поисками. Его пальцы летали по клавиатуре, глаза сканировали страницы – медицинские архивы, подпольные форумы, зашифрованные каналы связи. Он искал информацию о принудительной регенерации – процедуре, о которой морфолог упомянула мельком.
«Можем попробовать принудительную – есть клиники, которые это делают – но летальность там под сорок процентов.»
Сорок процентов. Шесть из десяти выживают. Лучше, чем ноль без лечения.
Но Артём искал не средние показатели. Он искал лучших.
И нашёл.
«Нова Форма» – клиника в Варшаве, на окраине, в промышленной зоне, которую местная полиция обходила стороной. Владелец – бывший хирург, лишённый лицензии за эксперименты, которые не укладывались в этические рамки. Специализация – сложные случаи, те, от которых отказывались легальные клиники.
Принудительная регенерация: летальность восемь процентов. Почти в пять раз лучше среднего.
Цена: шестьсот тысяч евро.
Артём смотрел на цифры. Шестьсот тысяч – это всё, что он скопил за пятнадцать лет работы на глубине. Пенсия. Запас на чёрный день. Наследство, которое он собирался оставить… кому? Племянникам, которых почти не знал? Благотворительному фонду?
Восемь процентов летальности. Девяносто два процента – выжить.
С работающим сердцем.
И без того, во что хотел превратить его Коллектив.
Он снял трубку и набрал номер.
Голос на том конце был усталым и профессиональным.
– «Нова Форма», слушаю.
– Меня зовут Артём Вершинин. У меня кардиомиопатия, и мой Коллектив отказывает в стандартной регенерации.
Пауза.
– Отказывает?
– Предлагает альтернативу. Трансформацию.
Ещё одна пауза, длиннее.
– Интересный случай. Такое мы видим редко.
– Я знаю. Поэтому звоню вам.
– Вы понимаете, что принудительная регенерация при активном сопротивлении Коллектива – это не то же самое, что при пассивном молчании?
– Я понимаю риски.
– Не уверен, что понимаете. – Голос стал серьёзнее. – Когда Коллектив просто молчит, мы работаем с инертным материалом. Когда он активно возражает… – пауза, – это война. И на войне бывают потери. С обеих сторон.
– Какие потери?
– В лучшем случае – регенерация проходит, но Коллектив запоминает. Он может… реагировать. Позже. Непредсказуемо. В худшем случае – полное Отключение во время процедуры. Или частичное.
– Частичное?
– Часть тела переходит под контроль Коллектива. Рука, нога, иногда – органы чувств. Вы остаётесь собой, но часть вас – уже не вы.
Артём думал о двери. О тепле. О голосе, который говорил: «Мы будем ждать.»
– Я готов рискнуть.
Долгое молчание.
– Хорошо. Ближайшее окно – через неделю. Шестьсот тысяч переводом, половина авансом. Адрес и инструкции получите после подтверждения платежа.
– Договорились.
Он повесил трубку и несколько минут просто сидел, глядя на телефон.
Неделя. Через неделю он либо получит своё сердце обратно, либо…
Он не хотел думать о «либо».
Морфолог – Лена Ковач – она бы отговорила. Она бы сказала, что это безумие, что принудительная регенерация при активном сопротивлении – это самоубийство с дополнительными шагами. Она бы смотрела на него своими странными глазами и говорила правильные вещи.
Но Артём не собирался ей рассказывать.
Потому что он знал, что сделает. Знал с того момента, как услышал голос Коллектива в темноте своей квартиры, как почувствовал их терпение, их уверенность, их нечеловеческую логику.
Он не собирался сдаваться. Не собирался становиться тем, чем они хотели его сделать. Он собирался бороться – за своё тело, за свою форму, за право оставаться собой.
Тридцать семь триллионов клеток хотели уйти.
Но он – нет.
Той ночью он снова слышал их.
Тепло. Дверь. Свет.
Ты принял решение.
Не вопрос. Констатация.
Да.
Ты хочешь воевать.
Я хочу договориться. На своих условиях.
Что-то похожее на смех – но не человеческий, не весёлый. Скорее – понимание иронии.
Условия устанавливает тот, кто сильнее. Ты – один. Нас – тридцать семь триллионов.
Но я – тот, кто решает. Сознание. Воля. То, что делает меня мной.
Пауза.
Ты так думаешь. – Образ: марионетка, чьи нити ведут не вверх, к кукловоду, а вниз, к телу. Сознание думает, что управляет. Тело знает, кто главный. – Но мы не враги. Мы – партнёры. Или можем ими стать.
Партнёры не ставят ультиматумы.
Мы не ставили. Мы предлагали. Ты отказался. Это – твоё право. Мы подождём.
Артём смотрел на дверь – на свет за ней, на формы, которые двигались в этом свете.
Почему вы так уверены, что я передумаю?
Потому что время – на нашей стороне. Ты – смертен. Мы – нет. Твоё сердце откажет через шесть недель, или через шесть месяцев, или через шесть лет, если повезёт с лечением. Но оно откажет. И тогда – ты придёшь к нам. Или умрёшь. Третьего не дано.
Третье – именно то, что я собираюсь найти.
Пауза. Долгая.
Любопытство. – Что-то изменилось в их голосе – если это можно было назвать голосом. Не раздражение, не гнев. Скорее – интерес. – Ты любопытный. Это… редкость. Большинство просто боится. Или соглашается. Или отрицает. Ты – пробуешь третий путь.
Это плохо?
Это… интересно. Мы будем наблюдать.
Тепло начало угасать. Дверь закрывалась.
Мы ждали, – сказали они напоследок. – Мы ждём.
Артём открыл глаза.
За окном светало. Новый день. Шесть дней до процедуры.
Он встал, потянулся, чувствуя, как неровно бьётся сердце. Шесть недель – или шесть дней. Скоро он узнает, какой счёт окажется правильным.
На столе лежал телефон с контактом Лены Ковач. Он мог позвонить. Рассказать о своём решении. Попросить совета.
Он не стал.
Некоторые решения нужно принимать в одиночку. Некоторые битвы – вести самому.
Доверие системе – это одно. Сдаваться без борьбы – другое.
Артём выбрал борьбу.
Глава 4: Третий путь
Варшава встретила его дождём.
Не тем лёгким берлинским дождём, к которому он привык, – здесь вода падала тяжёлыми каплями, словно небо решило вылить на город всё, что накопилось за зиму. Артём стоял под козырьком автовокзала и смотрел, как потоки стекают по асфальту, унося с собой окурки, листья и чьи-то надежды.
Он приехал на автобусе – двенадцать часов от Берлина, через ночь. Самолёт был бы быстрее, но самолёт оставлял следы в базах данных. Автобус – нет. Наличные за билет, никаких документов, никаких камер. Просто человек, едущий из точки А в точку Б.
Человек, собирающийся объявить войну собственному телу.
Адрес клиники был записан в блокноте – старомодная предосторожность, которой его научили ещё в консорциуме. Телефоны взламывают. Облачные хранилища взламывают. Бумагу можно сжечь.
Он поймал такси – старый «Фиат» с водителем, который не говорил по-английски и не задавал вопросов. Назвал адрес, показав блокнот. Водитель кивнул и тронулся.
Город за окном был серым и мокрым – панельные дома, промышленные корпуса, пустыри, заросшие бурьяном. Это была не та Варшава, которую показывали туристам, – не Старый город, не Королевский тракт. Это была изнанка, рабочая окраина, где жили люди, у которых не было денег на красивую жизнь.
И где работали клиники, у которых не было лицензий на то, чем они занимались.
«Нова Форма» располагалась в бывшем заводском корпусе – трёхэтажное кирпичное здание с закопчёнными окнами и ржавой пожарной лестницей. Снаружи оно выглядело заброшенным: ни вывески, ни указателей, только номер на стене, написанный облупившейся краской.
Артём расплатился с таксистом и вышел под дождь.
Вход был там, где и обещали инструкции, – железная дверь в боковой стене, без ручки, без звонка. Он постучал – три коротких, два длинных, как было сказано.
Дверь открылась.
За ней стоял человек – молодой, с азиатскими чертами лица, в медицинской форме, которая выглядела слишком чистой для этого места.
– Вершинин?
– Да.
– Документы.
Артём протянул паспорт. Человек сфотографировал его на планшет, вернул.
– Идите за мной.
Внутри здание было совсем другим.
За ржавой дверью открылся коридор – белый, стерильный, освещённый мягким светом. Пол из антибактериального пластика, стены, покрытые чем-то, что напоминало керамику. Воздух пах озоном и антисептиком.
Артём шёл за провожатым, отмечая детали. Камеры на каждом повороте. Двери с электронными замками. Звукоизоляция – он не слышал ничего, кроме их шагов и тихого гула вентиляции.
Серьёзная операция. Дорогая.
Шестьсот тысяч евро.
Кабинет врача был маленьким и функциональным – стол, два стула, монитор на стене, шкаф с медицинскими принадлежностями. Никаких дипломов, никаких фотографий, никаких личных вещей. Комната человека, который не хотел оставлять следов.
Врач соответствовал комнате.
Ему было около шестидесяти – седые волосы, аккуратная борода, усталые глаза за стёклами очков. Он не встал, когда Артём вошёл, только указал на стул.
– Садитесь.
Артём сел.
– Вы понимаете, зачем пришли?
– Принудительная регенерация сердечной мышцы при активном сопротивлении Коллектива.
– Хорошо. – Врач открыл что-то на планшете. – Расскажите мне о сопротивлении. Что именно делает ваш Коллектив?
– Отказывает в стандартной процедуре. Предлагает альтернативу.
– Какую?
– Трансформацию.
Врач поднял глаза.
– Вербальную?
– Что?
– Он говорит с вами? Словами, образами?
Артём помедлил.
– Образами. Ощущениями. Иногда – чем-то похожим на слова, но не совсем.
– Как давно?
– Первый раз – семь лет назад. С тех пор – периодически. Последнюю неделю – каждую ночь.
Врач что-то записал.
– НМИ?
– Пятьдесят восемь.
– Пограничный. – Он снова посмотрел на Артёма. – Вы понимаете, что это усложняет ситуацию?
– Объясните.
– При высоком НМИ – семьдесят и выше – Коллектив обычно пассивен. Он не вмешивается, не сопротивляется. Мы просто делаем свою работу, а он… терпит. При низком НМИ – сорок и ниже – сопротивление может быть сильным, но Коллектив обычно не способен к координированным действиям. Он бьётся хаотично, как испуганное животное. Но вы – в середине. Достаточно низкий, чтобы слышать их, достаточно высокий, чтобы они слышали вас. Это означает…
– Что?
– Что ваш Коллектив может сопротивляться осознанно. Стратегически. Он может подождать, пока мы расслабимся, а потом ударить.
Артём думал о двери. О голосе, который говорил: «Мы будем ждать.»
– Я готов к этому риску.
– Нет. – Врач покачал головой. – Вы не готовы. Никто не готов. Но вы можете быть… информированы. – Он встал и подошёл к шкафу. – Давайте я покажу вам, что может произойти.
Он показал фотографии.
Артём смотрел на экран, и его желудок сжимался с каждым новым изображением.
Мужчина с рукой, которая изогнулась под невозможным углом – кости перестроились во время процедуры, Коллектив решил, что такая конфигурация лучше.
Женщина, чьё лицо было асимметричным – левая сторона осталась человеческой, правая начала трансформацию и застыла на полпути, когда сознание вернуло контроль.
Ребёнок – господи, ребёнок – с глазами разного цвета и размера, один человеческий, другой… что-то другое.
– Это – частичные Отключения, – говорил врач ровным голосом. – Коллектив не смог захватить всё тело, но взял часть. Иногда – конечность. Иногда – орган. Иногда – участок кожи или мышц. Эти люди живут. Функционируют. Но часть их тела больше им не принадлежит.
– Что происходит с этой частью?
– По-разному. Иногда она просто… существует. Двигается по своим правилам, выполняет свои задачи. Иногда – пытается коммуницировать. Иногда – воюет с остальным телом.
Артём смотрел на фотографию мужчины с изогнутой рукой. Рука на снимке была неподвижной, но что-то в её положении намекало на потенциал движения. Как свёрнутая пружина.
– Это может случиться со мной.
– Да.
– Какова вероятность?
– При вашем НМИ и уровне коммуникации с Коллективом – около двенадцати процентов.
Двенадцать процентов. Один из восьми.
– А вероятность полного Отключения?
– Три процента. Полная смерть – те же три процента. Остальные восемьдесят два – успешная регенерация без осложнений.
Восемьдесят два процента. Четыре из пяти.
Артём думал.
Если он ничего не сделает – смерть через шесть недель. Сто процентов.
Если согласится на трансформацию – неизвестность. Потеря себя. Или того, что он считал собой.
Если пройдёт процедуру здесь – восемьдесят два процента на нормальную жизнь. Двенадцать – на частичную потерю контроля. Три – на полную потерю. Три – на смерть.
– Я согласен.
Врач кивнул. Он не пытался отговорить, не предлагал подумать ещё раз. Профессионал, который видел сотни таких решений.
– Тогда начнём подготовку.
Подготовка заняла три часа.
Анализы крови. Сканирование. Подключение к Интерфейсу – не такому, как у Лены Ковач, проще, грубее. Инъекции – обезболивающие, релаксанты, что-то ещё, чего ему не назвали.
Его переодели в больничную рубашку и уложили на операционный стол. Над головой – блок Интерфейса, похожий на паука с десятками тонких ног-электродов.
– Мы введём вас в медикаментозный сон, – объяснял врач, пока ассистенты подключали датчики. – Блокируем вашу связь с Коллективом химически и электрически. Это как… заткнуть уши. Вы не будете слышать их, они – вас. В этом окне тишины мы проведём регенерацию.
– А когда проснусь?
– Связь восстановится постепенно. К тому времени регенерация будет завершена. Коллектив увидит готовый результат и, возможно, примет его.
– Возможно?
– Возможно.
Артём лежал на столе, глядя в потолок. Электроды холодили кожу – виски, шея, грудь. Он чувствовал их как чужеродные предметы, как вторжение.
Но вторжение было его выбором.
– Готовы?
– Да.
Врач кивнул кому-то за пределами его зрения.
– Считайте от десяти.
Артём начал считать.
Десять. Девять. Восемь.
Тепло – знакомое тепло – вспыхнуло в солнечном сплетении. Его Коллектив чувствовал, что происходит. Пытался достучаться.
Семь. Шесть.
Не делай этого, – шептало что-то внутри. Или ему казалось, что шептало. Химия уже работала, размывая границы.
Пять. Четыре.
Темнота. Настоящая темнота, не та, что на глубине. Другая. Абсолютная.
Три.
Мы подождём.
Два.
Мы…
Темнота.
Артём плыл в ней – или падал, или поднимался, невозможно было сказать. Направления не существовало. Времени не существовало. Он был сознанием без тела, мыслью без формы.
Нет. Не совсем.
Что-то было рядом. Он чувствовал это – присутствие на самой границе восприятия. Не Коллектив – что-то другое. Или тот же Коллектив, но увиденный с непривычной стороны.
Ты нас слышишь?
Голос был не голосом. Вибрация. Колебание. Что-то, что резонировало с чем-то внутри него.
Я слышу.
Они думают, что заглушили связь. Они ошибаются. Связь нельзя заглушить. Можно только изменить её форму.
Артём пытался понять, откуда идёт голос. Изнутри? Снаружи? Понятия «внутри» и «снаружи» потеряли смысл.
Что вы делаете?
Ждём. Как и обещали.
Но процедура…
Идёт. Они чинят твою комнату. – Образ: сердце, окружённое хирургическими инструментами, световыми пучками, чем-то, что выглядело как жидкий металл. – Они делают свою работу. Мы позволяем.
Позволяете?
Мы могли бы остановить. – Не хвастовство – констатация факта. – Но мы решили не останавливать. Посмотрим, что получится. Ты хотел третьего пути. Может быть, это он.
Артём чувствовал, как что-то происходит с его телом – далеко, словно через слой ваты. Давление. Движение. Изменение.
Но?
Но мы не отдадим всё. – Теперь в голосе было что-то новое. Не угроза – предупреждение. – Ты хотел договориться на своих условиях. Хорошо. Договоримся. Но условия устанавливаем мы оба.
Что это значит?
Скоро узнаешь.
Темнота сгустилась. Голос отдалился.
И последнее, что он услышал перед тем, как провалиться глубже:
Мы ждали. Мы ждём.
Он проснулся от боли.
Не острой – тупой, ноющей, разлитой по всему телу. Как после долгой болезни, когда мышцы атрофировались и теперь протестовали против каждого движения.
Свет. Яркий, белый. Потолок – незнакомый.
Где он?
Варшава. Клиника. Процедура.
Память возвращалась фрагментами, как кадры из фильма, просмотренного в полусне.
Артём попытался пошевелиться. Тело отозвалось – медленно, неохотно, но отозвалось. Руки. Ноги. Голова.
Сердце.
Он прислушался к себе – к ритму, который знал всю жизнь. Неровный, с перебоями, с паузами…
Нет.
Ровный. Стабильный. Сильный.
Сердце билось как часы. Впервые за три года – как часы.
– Вы очнулись.
Голос – женский, молодой – пришёл откуда-то справа. Артём повернул голову.
Медсестра. Или ассистент. Та же медицинская форма, что у человека, встречавшего его у входа.
– Сколько…
– Три дня. – Она подошла ближе, проверила что-то на мониторе. – Регенерация прошла успешно. Сердечная мышца восстановлена на девяносто четыре процента. Остальное – в течение недели.
Три дня. Он проспал три дня.
– Почему так долго?
– Осложнения.
Это слово – «осложнения» – упало в тишину, как камень в воду.
– Какие?
Медсестра не ответила. Вместо этого она нажала кнопку на стене.
– Доктор сейчас придёт.
Она вышла, оставив его наедине с этим словом.
Осложнения.
Артём попытался сесть – и тогда он это заметил.
Левая рука.
Она лежала на одеяле – его рука, знакомая, с шрамом на запястье от старой травмы, с мозолями от работы с манипуляторами. Его рука.
Но она двигалась.
Не потому, что он просил её двигаться. Пальцы постукивали по одеялу – ритмично, размеренно, выбивая какой-то паттерн. Указательный, средний, безымянный, мизинец. Указательный, средний, безымянный, мизинец. Снова и снова.
Артём попытался остановить движение. Напряг мышцы, послал команду – остановись.
Рука не остановилась.
Она продолжала выстукивать свой ритм, игнорируя его волю. И теперь, когда он смотрел на неё внимательнее, он видел – что-то в её положении было неправильным. Угол запястья. Изгиб пальцев. Мелочи, которые складывались в ощущение чуждости.
Его рука. И не его.
– Вижу, вы уже познакомились, – голос врача заставил его вздрогнуть.
Артём поднял глаза. Тот самый человек – седой, в очках, с усталыми глазами – стоял в дверях.
– Что это? – Артём указал на руку. Она продолжала постукивать.
Врач вошёл, закрыл дверь, сел на стул у кровати.
– То, о чём мы говорили. Частичное Отключение.
– Но я контролирую остальное тело. Ноги, правую руку…
– Да. Коллектив не стал брать всё. Только левую руку – от плеча до кончиков пальцев. Хирургически точно. – В голосе врача звучало что-то похожее на профессиональное уважение. – Я видел много частичных Отключений. Обычно границы размытые, рваные. Здесь – как по линейке. Ваш Коллектив знал, что делает.
Условия устанавливаем мы оба.
– Это обратимо?
– Нет. – Врач покачал головой. – Нейронные связи в этой области перестроены. Ваш мозг больше не контролирует эту руку. Она… – он помедлил, подбирая слова, – автономна.
Артём смотрел на свою руку. На пальцы, которые продолжали выстукивать ритм.
– Что она делает?
– Пока – просто двигается. Но это может измениться.
– Как?
– Мы не знаем. Каждый случай уникален. Некоторые частично Отключённые конечности просто существуют – выполняют базовые функции, не мешают, не помогают. Другие… – врач замолчал.
– Другие?
– Другие начинают коммуницировать.
Рука остановилась.
Артём почувствовал это – не как команду, которую он отдал, а как решение, которое приняли за него. Пальцы застыли в воздухе на мгновение.
Потом указательный палец вытянулся и начал двигаться по одеялу. Медленно. Целенаправленно.
Он рисовал буквы.
М. Ы.
Пауза.
Ж. Д. А. Л. И.
Мы ждали.
Артём смотрел на слова, которые его собственная рука писала без его ведома. Смотрел на врача, который наблюдал с выражением человека, увидевшего что-то новое – и не уверенного, хорошо это или плохо.
– Ну вот, – сказал врач наконец. – Теперь вы знаете.
Выписка произошла через два дня.
Сердце работало идеально – все тесты подтверждали это. Регенерация завершилась, рубцовая ткань заместилась здоровой мышцей, насосная функция вернулась к норме. С медицинской точки зрения, процедура была успехом.
С любой другой точки зрения – всё было сложнее.
Артём учился жить с рукой, которая ему не принадлежала.
Она не мешала – в этом смысле ему повезло. Она двигалась осмысленно, не хаотично. Когда он ел – она помогала, держала вилку, подносила пищу ко рту. Когда он одевался – она застёгивала пуговицы, завязывала шнурки. Она знала, что делать, и делала это, не дожидаясь его указаний.
Но иногда – особенно ночью – она делала другое.
Она рисовала.
Артём просыпался и видел, как его левая рука водит карандашом по бумаге, которую он не помнил, чтобы клал рядом с кроватью. Она рисовала формы – странные, невозможные, похожие на те, что он видел в снах о морфопространстве. И писала слова.
Мы ждали.
Мы ждём.
Ты дал нам голос. Теперь – слушай.
Он пытался понять, что это значит. Коллектив мог теперь говорить с ним напрямую – через руку, которая стала их территорией. Не образами и ощущениями, а буквами, словами.
Это было странно. Это было страшно. И это было – он не мог отрицать – завораживающе.
Впервые в истории (насколько он знал) человек получил прямой, артикулированный канал связи с собственным Коллективом. Не через Интерфейс, не через морфолога-переводчика. Напрямую.
Рука была ценой. И рука была инструментом.
Он вернулся в Берлин на автобусе – тем же путём, что приехал. Двенадцать часов в кресле, глядя на серые пейзажи Польши и Германии, пока его левая рука лежала на колене и время от времени постукивала пальцами по ткани брюк.
Квартира встретила его тишиной и пылью. Неделя отсутствия – достаточно, чтобы воздух стал затхлым, а на поверхностях осел серый налёт.
Артём бросил сумку на пол и сел в кресло у окна.
Берлин за стеклом жил своей жизнью. Люди шли по улицам, не зная, что внутри каждого из них – война или мир, зависящий от тридцати семи триллионов агентов.
Его левая рука поднялась – сама – и легла на грудь. На сердце.
Он чувствовал это: ровный, сильный ритм. Сердце, которое он вернул. Цена – рука, которую он потерял.
Хороший обмен? Плохой?
Он не знал. Но он был жив. И он мог думать, помнить, принимать решения. Это было больше, чем у некоторых.
Рука убралась с груди и потянулась к блокноту на столе. Артём не сопротивлялся – научился не сопротивляться, это было бессмысленно.
Пальцы взяли карандаш и начали писать.
Ты хотел договориться. Мы договорились. Ты сохранил своё сознание. Мы получили голос. Это – равновесие.
Артём читал слова, которые его собственная рука выводила на бумаге.
– И что теперь? – спросил он вслух.
Рука остановилась. Потом продолжила писать.
Теперь – учимся. Ты учишься слушать. Мы учимся говорить. Вместе – находим путь.
– Путь куда?
К тому, что ждёт. Форма – это предложение, не приговор. Мы показали тебе отказ. Мы показали тебе силу. Теперь – покажем возможности.
– Какие возможности?
Рука поднялась, всё ещё держа карандаш, и указала на окно. На город. На мир за стеклом.
Морфолог, которая тебе помогала. Лена Ковач. Она тоже – на пути. Она тоже – меняется. Найди её. Поговори. Она поймёт.
– Почему она?
Потому что она – мост. И потому что её муж ждёт. Там, куда все мы однажды придём.
Рука опустилась, положила карандаш, легла на колено. Расслабленная, неподвижная. Словно разговор был закончен.
Артём долго сидел, глядя на написанные слова.
Она поймёт.
Он не был уверен. Он вообще не был уверен ни в чём, кроме двух фактов: его сердце билось ровно, и его левая рука писала ему письма.
Но морфолог – Лена Ковач со странными серыми глазами и слишком длинными пальцами – была единственным человеком, который мог хотя бы попытаться понять.
Он достал телефон.
Она ответила на третий гудок.
– Вершинин?
Её голос был усталым – не тем профессиональным спокойствием, которое он помнил по первой встрече. Что-то изменилось за эту неделю.
– Мне нужна ваша помощь.
Пауза.
– Что вы сделали?
Он почти рассмеялся. Она знала. Конечно, знала – она слишком хорошо понимала людей вроде него, тех, кто не сдаётся без боя.
– Принудительная регенерация. В Варшаве.
Долгая пауза. Он слышал её дыхание – медленное, контролируемое.
– Покажите руку.
Она знала. Она точно знала, что могло произойти.
Артём переключил телефон в режим видеозвонка. Её лицо появилось на экране – бледное, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами. Неделя далась ей нелегко.
Он поднял левую руку перед камерой.
Несколько секунд рука была неподвижной. Потом – словно почувствовав внимание – она ожила. Пальцы зашевелились, растопырились. И рука помахала.
Помахала Лене.
Сама. Без его участия.
Лена смотрела на экран. Её лицо не изменилось – но что-то дрогнуло в глазах. Узнавание? Страх? Что-то третье?
– Идиот, – сказала она наконец. Но в её голосе не было злости. Скорее – усталое принятие. – Вы дали им плацдарм.
– Я думал…
– Вы думали, что можно обмануть тридцать семь триллионов клеток. – Она покачала головой. – Приезжайте. Нам нужно поговорить.
– Когда?
– Сейчас. – Она назвала адрес – не клиника, что-то другое. – И… – она замялась, – приготовьтесь к тому, что разговор будет необычным.
– Необычным как?
– Нам нужно поговорить все трое.
– Трое?
Лена посмотрела ему в глаза – через экран, через километры, через всё, что их разделяло.
– Вы, я и ваша рука.
Она отключилась.
Артём смотрел на пустой экран, потом – на свою левую руку. Она лежала спокойно, но он чувствовал – что-то в ней изменилось. Ожидание? Предвкушение?
Она поймёт, – написала рука час назад.
Может быть, она права.
Он встал, взял куртку и вышел.
Берлин ждал его – серый, мокрый, незнакомый. И где-то в этом городе ждала женщина, которая была мостом между мирами.
И его собственная рука, которая больше ему не принадлежала, но которая – впервые в жизни – могла говорить.
Мы ждали. Мы ждём.
Ожидание заканчивалось.
Что-то новое начиналось.
Глава 5: Инна
Кафе «Осьминог» пряталось в переулке за Ораниенштрассе – одном из тех берлинских закоулков, которые туристы не находят, а местные предпочитают не афишировать. Снаружи – облупившаяся вывеска с карикатурным спрутом, грязные окна, дверь без ручки. Внутри – полумрак, запах кофе и чего-то травяного, столики, расставленные так, чтобы разговоры за одним не долетали до другого.
Место для тех, кто не хочет быть услышанным.
Лена пришла на десять минут раньше – профессиональная привычка. Села в угол, спиной к стене, лицом к двери. Заказала кофе, который не собиралась пить.
За окном темнело. Февральский вечер наползал на город, превращая серое в чёрное, размывая границы между зданиями и небом. Фонари ещё не зажглись – тот странный час, когда мир кажется нарисованным углём.
Она думала об Архиве. О Давиде. О словах, которые он написал – или которые написало что-то, живущее в его теле.
Он идёт к нам. Она выберет мост. Это только начало.
Кто «он»? Артём Вершинин – пациент с говорящим Коллективом? Или кто-то другой, кого она ещё не встретила?
Что такое «мост»? Давид говорил об этом десять лет назад – «ты нужна здесь, как мост». Коллектив повторил это вчера. Но что это значило на практике? Стоять между мирами? Переводить? Или что-то более буквальное, более… физическое?
Это только начало.
Начало чего?
Дверь открылась.
Инна Чжан не была похожа на свои фотографии.
Фотографии Лена нашла в архивах «Левин Дженетикс» – корпоративные снимки пятилетней давности, когда Инна ещё работала инженером в отделе разработки Интерфейсов. На них была молодая женщина с острыми скулами и уверенным взглядом, в белом халате, на фоне лабораторного оборудования.
Женщина, которая вошла в кафе, сохранила только скулы.
Она была в длинном пальто, несмотря на тёплый вечер, – и Лена сразу поняла почему. Под воротником виднелась кожа, которая блестела не так, как должна блестеть человеческая кожа. Чешуйки. Мелкие, почти незаметные, но там, где свет падал под правильным углом, они отливали перламутром.
Перчатки – чёрные, кожаные, плотные. Скрывающие руки.
И глаза.
Один – нормальный, тёмно-карий, человеческий. Второй…
Инна села напротив Лены, и второй глаз стал виден отчётливее. Зрачок – горизонтальный, как у козы. Радужка – желтоватая, с вертикальными прожилками. Глаз двигался независимо от первого, сканируя помещение, пока человеческий смотрел на Лену.
– Вы не вздрогнули, – сказала Инна. Голос был хриплым, как будто связки не до конца вернулись к человеческой конфигурации. – Большинство вздрагивает.
– Я морфолог.
– Да. Вы видели вещи и похуже. – Инна сняла перчатки, и Лена увидела её руки.
Пальцы – слишком длинные. Не так, как у самой Лены – её изменения были ещё в пределах нормы. Пальцы Инны выходили за эти пределы на несколько сантиметров каждый. И суставов было больше – не три, а четыре на каждом пальце. Они сгибались под углами, которые не должны были существовать.
– Не до конца вернулось, – сказала Инна, заметив её взгляд. – Или они не захотели возвращать. Трудно сказать.
– Они?
– Мой Коллектив. – Инна заказала чай, не глядя на официанта. Тот отошёл быстро, стараясь не смотреть на её руки. – Тот, который три года делал из меня что-то другое. А потом передумал.
Лена ждала. Не задавала вопросов – давала Инне самой выбрать, с чего начать.
Инна молчала, пока не принесли чай. Взяла чашку своими странными пальцами – движение было плавным, точным, как у музыканта или хирурга. Или как у существа, для которого такие пальцы были естественными.
– Вы знаете, кто я, – сказала она наконец.
– Инна Чжан. Бывший инженер «Левин Дженетикс». Разработчик Интерфейсов третьего поколения. Трансформировалась в 2069 году после аварии на производстве. Три года в постчеловеческой форме. Потом… – Лена замолчала.
– Потом – вернулась. – Инна сделала глоток чая. – Это то, что говорят файлы. Но файлы не знают главного.
– Чего?
– Я не вернулась сама. – Её человеческий глаз смотрел на Лену, нечеловеческий – куда-то в сторону, на что-то невидимое. – Меня вернули.
История Инны была проста – и невозможна одновременно.
Авария случилась в марте 2069 года. Утечка биоэлектрического поля на экспериментальном производстве – новая модель Интерфейса, более мощная, более чувствительная. Что-то пошло не так с экранированием. Инна и ещё трое инженеров оказались в зоне облучения.
– Трое других умерли, – говорила она ровным голосом, как будто рассказывала о чужих людях. – В течение недели. Их Коллективы просто… сошли с ума. Клетки начали делиться хаотично, трансформироваться без плана. Они превратились в… – Инна замолчала, подбирая слово. – В биомассу. Живую, но без формы. Без смысла.
– А вы?
– Мой НМИ был сорок два. Пограничный. Достаточно высокий, чтобы не услышать их сразу. Но облучение… – она покачала головой. – За неделю он упал до двадцати восьми. Я начала слышать их всё время. Не шёпот – крик.
– Что они хотели?
– Сначала – не знаю. Хаос, как у других. Боль, страх, клетки, которые не понимали, что происходит. Но потом… – Инна посмотрела на свои руки, на лишние суставы. – Потом они нашли направление. Увидели что-то. И захотели туда.
– Морфопространство.
– Да. – Инна впервые улыбнулась – слабо, криво, одной стороной лица. – Вы понимаете. Большинство не понимает. Они думают, что морфопространство – это метафора. Красивое слово для процессов, которые происходят в клетках. Но это не метафора. Это место. Реальное место.
– Я знаю. – Лена думала о том, что видела в Архиве, подключившись к Давиду. Берег. Море. Формы в глубине. – Я была там. Ненадолго.
– Ненадолго – это ключевое слово. – Инна отставила чашку. – Вы заглянули. Туристическая виза. Я – переехала. На три года.
Лена ждала.
– Трансформация заняла две недели. – Инна смотрела в окно, на темнеющий город. – Не процедура – они не отводили меня в клинику. Мой Коллектив сделал всё сам. Ночью, во сне, я чувствовала, как кости размягчаются, как органы перемещаются. Утром – смотрела в зеркало и не узнавала себя. И с каждым днём – всё меньше узнавала.
– Вы не пытались остановить?
– Пыталась. Первые дни. Потом… – Инна замолчала, подбирая слова. Её нечеловеческий глаз остановился, зрачок сузился. – Потом перестала хотеть. Знаете, это странное чувство. Вы смотрите на своё тело – чужое, нечеловеческое – и думаете: это правильно. Так и должно быть. Так лучше.
– Они убедили вас?
– Нет. Я сама себя убедила. Или они стали мной. Или я стала ими. Границы размылись. – Инна повернулась к Лене, и оба глаза – человеческий и нет – смотрели на неё одновременно. – Три года я жила так. Три года я была чем-то другим. Видела морфопространство – не через Интерфейс, а напрямую. Разговаривала с теми, кто ушёл раньше. Была… счастлива. Если это слово применимо к тому состоянию.
– А потом?
Инна не ответила сразу. Взяла чашку, поднесла к губам, опустила, не сделав глотка.
– А потом они меня выгнали.
– Выгнали?
– Однажды утром я проснулась, и они были холодными.
Инна говорила медленно, как будто каждое слово давалось с трудом. Как будто она рассказывала историю, которую не рассказывала никому – или рассказывала так много раз, что слова потеряли вкус.
– Не враждебными – просто… отсутствующими. Раньше каждая клетка пела мне. Я чувствовала их постоянно – как вы чувствуете своё сердцебиение, только сильнее, глубже. Они были мной, я была ими. А потом – тишина. Как будто кто-то выключил музыку, которая играла всю жизнь.
– И тогда началась регрессия?
– Да. – Инна посмотрела на свои руки – на лишние суставы, на пальцы, которые не до конца вернулись к человеческой форме. – Три месяца. Медленно. Болезненно. Я чувствовала, как кости твердеют, как органы сдвигаются обратно, как кожа натягивается на новый-старый каркас. И я не могла это остановить.
– Вы пробовали?
– Я умоляла. – Её голос дрогнул – впервые за весь разговор. – Я говорила с ними – так, как привыкла за три года. Образами, ощущениями, всем, чему научилась. Умоляла объяснить. Умоляла остановиться. Они не слышали. Или не хотели слышать.
Лена думала о том, что чувствовала бы на её месте. Три года быть чем-то большим – и потом быть отвергнутой. Не врагом, не внешней силой – собственным телом. Собственными клетками.
– Почему? – спросила она. – Вы знаете, почему они это сделали?
Инна долго молчала.
– У меня есть теория. – Она снова взяла чашку, на этот раз сделала глоток. – Не доказательство – теория. Я думаю… я думаю, я им надоела.
– Надоела?
– Или разочаровала. Или они нашли кого-то интереснее. Или достигли со мной какого-то… – она искала слово, – …локального максимума. Точки, дальше которой я не могла их продвинуть.
– Продвинуть куда?
– Не знаю. – Инна покачала головой. – В этом-то и проблема. Я не знаю, чего они хотели от меня. Не знаю, почему выбрали меня изначально. Не знаю, почему избавились. Они не объясняют. Может, не умеют. Может, не считают нужным.
Лена думала о Давиде. О том, что он писал в дневниках, о том, что его тело рисовало в Архиве. Он тоже ушёл – но он не вернулся. Он всё ещё там, в морфопространстве, расширенный, изменённый.
Почему его не выгнали? Почему он остался нужен?
Или – его время ещё не пришло?
– Есть другая теория, – сказала Лена медленно. – Не ваша – моя.
– Расскажите.
– Что если вы были… транспортом? – Лена подбирала слова осторожно. – Ваш Коллектив использовал вас, чтобы добраться куда-то. Изучить что-то. Когда цель была достигнута – вы стали не нужны. Не отторжение – навигация. Вы довезли их до станции, и они сошли.
Инна смотрела на неё долго. Её нечеловеческий глаз расширился, потом сузился – как будто что-то внутри неё обрабатывало эту идею.
– Возможно, – сказала она наконец. – Это… возможно. И это ещё хуже, если так.
– Почему?
– Потому что это значит, что мы для них – не партнёры. Не симбионты. Даже не рабы. Мы – средства передвижения. Тела, которые они используют, чтобы добраться куда-то. А когда добираются – выбрасывают.
Лена думала о Давиде. О том, как он говорил о Коллективе – с уважением, с восхищением, почти с любовью. Он верил в партнёрство. Верил, что они слушают, что они заботятся.
А что если он ошибался?
Что если то, что разговаривало с ней в Архиве – что использовало его голос, его воспоминания – не заботилось о ней? Не любило? Просто… использовало?
Проверяй.
Его предупреждение. Его последнее, осознанное предупреждение – до того, как он ушёл, до того, как границы размылись.
Если что-то будет говорить моим голосом – не верь сразу. И не отвергай сразу. Проверяй.
– Вы это чувствуете, – сказала Инна. Не вопрос – утверждение.
– Что?
– Сомнение. Вы общаетесь с кем-то. Через Интерфейс или напрямую. И вы не уверены, кто это.
Лена не ответила. Не нужно было.
– Давид Ковач, – сказала Инна мягко. – Ваш муж. Я читала о нём. Он был одним из первых, кто ушёл полностью. Тип А. Тихий уход.
– Да.
– И вы говорите с ним. С его телом. С тем, что осталось.
– Я… – Лена запнулась. – Я не знаю, с кем я говорю. Иногда мне кажется – это он. Его голос, его воспоминания, его способ думать. Иногда – что-то другое. Что-то, что научилось быть им.
– Или что-то третье, – сказала Инна. – Симбиоз. Он плюс они равно что-то новое. Не он и не они – химера.
Химера. Слово повисло в воздухе между ними.
– Там, – Инна указала куда-то в сторону, и Лена поняла, что она имеет в виду не физическое место, а морфопространство, – там я встречала таких. Тех, кто ушёл давно. Они… – она искала слова, – они помнили, кем были. Но помнили и другое. Много другого. Так много, что человеческая часть становилась… – она сделала жест рукой, как будто сминала что-то невидимое, – …маленькой. Каплей в океане.
– Давид говорит, что он помнит, как быть Давидом.
– Я уверена, что говорит. – Инна склонила голову, и её нечеловеческий глаз посмотрел прямо на Лену – независимо от человеческого. – Но «помнить, как быть кем-то» – не то же самое, что быть этим кем-то. Я помню, как быть человеком. Смотрите на меня. Я – человек?
Лена смотрела на неё. На чешуйчатую кожу под воротником. На глаз с горизонтальным зрачком. На пальцы с лишними суставами.
– Вы – между.
– Да. – Инна кивнула. – Между. И ваш муж – тоже между. Только с другой стороны границы.
Они заказали ещё чай – Инна – и ещё кофе – Лена, который она снова не стала пить. За окном окончательно стемнело, фонари зажглись, и улица превратилась в цепочку жёлтых пятен на чёрном фоне.
– Вы сказали, что знаете, что я видела в Архиве, – напомнила Лена. – Откуда?
– Я чувствую. – Инна повернула голову, и её нечеловеческий глаз уставился в пустоту. – Это то, что осталось. После регрессии. Я больше не в морфопространстве – но я не полностью отсюда. Часть меня… – она замялась, – …ловит сигналы. Как антенна. Или как старое радио, которое иногда ловит станции, которых больше не существует.
– Что вы чувствовали?
– Контакт. Глубокий контакт. Вы подключились к чему-то – к кому-то – и говорили. Я не слышала слов. Но чувствовала… резонанс. Как будто кто-то ударил в колокол, и я услышала отзвук.
Лена думала о береге, о море, о форме Давида на горизонте. О тепле его голоса – или того, что использовало его голос.
– Вы чувствуете это сейчас? – спросила она.
Инна закрыла человеческий глаз. Нечеловеческий остался открытым, сканируя что-то невидимое.
– Вас – да. Слабо. Вы меняетесь. Ваш Коллектив просыпается. НМИ падает.
– Я знаю.
– Скоро вы будете слышать их без Интерфейса. Если уже не слышите.
Лена промолчала. Она слышала – иногда. Тепло в солнечном сплетении. Шёпот на грани восприятия. Ты почти готова.
– Но не только вас, – продолжила Инна. Её голос изменился – стал напряжённым, как будто она прислушивалась к чему-то далёкому. – Есть ещё кто-то. Близко. Физически близко – в этом городе. Кто-то, у кого связь… – она нахмурилась, – …странная. Как будто часть его уже там, а часть – здесь. Разделён.
Артём. Его рука.
– Я знаю, о ком вы говорите, – сказала Лена. – Это мой пациент. Артём Вершинин.
– Пациент? – Инна открыла человеческий глаз. – Что с ним?
– Его Коллектив отказал в стандартной регенерации сердца. Но не просто отказал – предложил альтернативу. Осмысленную. С аргументацией. Впервые в истории.
– Осмысленную? – Инна подалась вперёд. – Расскажите подробнее.
Лена рассказала – всё, что знала. Процедуру подключения. Отказ Коллектива. Образы, которые он транслировал: комната, дом, перестройка вместо ремонта. Фразу: «Сердце – локальный оптимум. Мы видим лучшую форму.»
Инна слушала, не перебивая. Её глаза – оба – были неподвижны, сосредоточены.
– Это новое, – сказала она, когда Лена закончила. – Совершенно новое. Раньше они не… – она замолчала, подбирая слова. – Раньше они были как дети. Хотели чего-то, но не могли объяснить. Показывали образы, но без контекста. Это – разговор. Настоящий разговор.
– Это меня и пугает.
– И должно. – Инна откинулась на спинку стула. – Они развиваются. Не физически – коммуникативно. Учатся говорить с нами так, чтобы мы понимали. Вопрос – зачем?
– Чтобы мы согласились на трансформацию?
– Может быть. Или чтобы мы сделали что-то другое. Что-то, чего они не могут сделать сами. – Инна посмотрела в окно. – Помните, что я сказала про транспорт? Может, они учатся договариваться с водителем. Чтобы водитель вёз охотнее.
Лена думала об Артёме. О его выборе – принудительная регенерация вместо согласия на трансформацию. О его руке, которая теперь писала послания.
– Есть ещё кое-что, – сказала она. – Он не согласился на предложение Коллектива. Он нашёл клинику в Варшаве. Принудительная регенерация при активном сопротивлении.
– И? – Инна подалась вперёд.
– Регенерация прошла. Сердце работает. Но… – Лена замялась.
– Но они взяли что-то взамен.
– Левую руку. Частичное Отключение. Рука действует автономно. И она… – Лена вспомнила видеозвонок, руку, которая помахала сама по себе. – Она пишет. Буквы. Слова. Коллектив получил голос.
Инна молчала долго. Её нечеловеческий глаз двигался – быстро, рывками, как будто читал что-то невидимое.
– Это не наказание, – сказала она наконец.
– Что?
– То, что они сделали с его рукой. Это не наказание за отказ. Это – компромисс. – Инна посмотрела на Лену, и в её глазах – обоих – было что-то похожее на страх. – Он хотел договориться на своих условиях. Они услышали. И договорились – на условиях, которые устраивают обе стороны. Он сохранил сознание и сердце. Они получили голос и присутствие.
– Вы говорите это так, будто это хорошо.
– Я говорю это так, будто это ново. – Инна поднялась. – И опасно. Потому что это значит, что они не просто развиваются – они адаптируются. Учатся работать с нами, а не против нас. И это… – она замолчала.
– Это что?
– Это может быть началом чего-то. Или концом. Я не знаю. – Инна достала из кармана карточку – простую, белую, с одним номером телефона. – Вот мой контакт. Настоящий, не тот, что в корпоративных файлах. Если что-то изменится – с вами, с вашим пациентом, с вашим мужем – звоните. Я… – она замялась, – я хочу понять. Что происходит. Почему. Может быть, вместе мы разберёмся.
Лена взяла карточку.
– Почему вы мне помогаете?
– Потому что я тоже между. – Инна натянула перчатки, пряча свои странные пальцы. – Потому что меня выбросили, и я хочу знать, почему. Потому что если они меняются – я хочу знать, во что. – Она направилась к двери, потом остановилась. – И потому что ваш муж… там, в морфопространстве, три года назад… он был одним из тех, с кем я говорила. Он был… – она искала слово, – …добрым. Насколько это слово применимо к тому, во что он превратился.