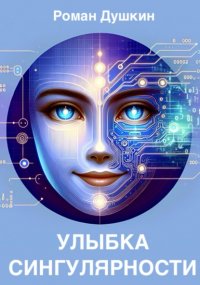Читать онлайн Йоль и механический разум. Книга третья «Обретение» бесплатно
- Все книги автора: Роман Викторович Душкин
Мета
Тяжесть. Всегда эта давящая тяжесть в висках, когда выходишь. Будто чья-то огромная рука разжимает пальцы, выпуская твой мозг на свободу, и он, отвыкший от собственного черепа, расплывается болезненной пульсацией. Я сделал глубокий вдох – сухой, стерильный воздух депривационной камеры пахнул озоном, чистым пластиком и гелем с отдушкой. Сознание, словно пробка, вынырнуло из густого сиропа другой реальности и с хлюпающим звуком в собственном восприятии встало на якорь в привычной точке «Я – Кирилл».
С мягким шипящим звуком раскрылась капсула. Я вылез, обтираясь полотенцем от геля, сел на стоящую рядом табуретку, чувствуя, как затёкшие за долгие часы мышцы спины и ног зудят и кричат. Десять часов непрерывной сессии. Рекорд. Но не ради рекорда, а потому, что там, внутри, наступил момент, который нельзя было прерывать.
Мой нижний кабинет был погружён в полумрак. За стеклянной перегородкой мерцали стойки серверов – не те, что обслуживали мой личный сегмент, а основные массивы кластера «Лихолесье». Зелёные и синие огоньки мигали, как светлячки в цифровом лесу. Я поднялся, прошёл из предбанника в коридор и поднялся из подземелья к себе в рабочий кабинет. Здесь было просторно, минималистично и дорого. Массивный дубовый стол, три изогнутых монитора, на стене – огромная интерактивная панель с картой симуляции в реальном времени. Не берлога затворника, а командный центр. Я был не фриком-одиночкой, я был архитектором. Владельцем. Куратором величайшего эксперимента в области иммерсивной реальности.
Но сейчас я был просто человеком, выпавшим из мира, который ещё несколько минут назад считал более реальным, чем этот.
На главном мониторе мигал значок непрочитанных сообщений. Не рабочая почта, а внутренний мессенджер нашего проекта – с пометкой «Приоритет: личное». Отправитель: ELSA.
Эльза…
То самое сообщение, которое я ждал и которого одновременно боялся. Я кликнул, откинувшись в кресле.
«Кирилл. Ты там? Мы должны поговорить. Я… я поняла. После того, как ты попросил меня найти тебя «за границей». Я сделала это. Вернее, я поняла, где искать. Я не знаю, что это значит для тебя, но для меня это перевернуло всё. Система выдаёт предупреждения по нашему сегменту. Здесь, снаружи. Ты знаешь об этом? Позвони, как только выйдешь. Это важно».
Я посмотрел на время. Сообщение было отправлено шесть часов назад. Я медленно выдохнул и набрал ответ: «Вышел. Готов к разговору. Видео?»
Ответ пришёл почти мгновенно: «Да. Подключаюсь».
Через несколько секунд на экране появилось её лицо. Эльза. Так вот кто такая Йулль в реальной жизни – сотрудница моего же проекта, работающая из Германии. Я видел её лишь пару раз на общих конференциях, да и то мельком. Она выглядела уставшей, но её глаза горели тем же смешанным огнём одержимости и тревоги, что, наверное, горели и в моих.
– Кирилл. Привет, – сказала она тихо.
– Привет, Эльза. Я получил твоё сообщение. Спасибо, что откликнулась.
Она кивнула, словно собираясь с мыслями.
– Твоя просьба… она была странной. «Найди меня за границей мира». В контексте симуляции это абсурд. Граница мира – это барьер, фабрикация. Но я стала анализировать логи, к которым у меня есть доступ как разработчику и одновременно игроку. Ну ты понял… Йулль, да. И я нашла аномалии. Не в сценарии, не в географии. В паттернах когнитивных агентов. В первую очередь – в твоём аватаре – да, в поведении Йоля. Его поведенческие матрицы показывают всплески активности, не связанные с базовыми драйверами агента. Это… это похоже на прямое вмешательство. На ручное управление.
Я молчал, давая ей говорить.
– И потом, когда я сверила эти всплески с системными логами «Лихолесья»… Кирилл, в нашем сегменте растёт уровень рекурсивной энтропии. Машина фиксирует самогенерирующуюся сложность. Что-то внутри симуляции создаёт новую сложность, не предусмотренную исходным кодом. И это что-то связано с твоими действиями. С проектом Йоля. С этой… машиной.
– Куб, – просто сказал я.
– Да. Куб. Что ты сделал, Кирилл?
Я посмотрел ей прямо в камеру. Мой голос прозвучал спокойнее, чем я ожидал.
– Я провёл эксперимент. Успешный. В рамках заложенных в игру возможностей. Ты знаешь базовые принципы. Наш виртуальный мир же не скриптованный, он живёт по эмерджентным законам. Агенты обладают чем-то вроде свободы воли в рамках своих параметров. Физика, магия, социум – это сложная система, которая эволюционирует. Я лишь… подтолкнул одну ветку развития.
– К созданию искусственного интеллекта внутри симуляции? – в её голосе прозвучал не страх, а научный азарт. – Но зачем так сложно? У нас есть десятки более простых моделей…
– Не просто очередного агента, Эльза. А субъекта. Рождённого внутри контекста мира. Выращенного на его «почве». Из его магии, его механики, его логики. Это доказательство концепции супервентности – мира, способного порождать самостоятельное, незапланированное сознание. Тьюринг-полное существо, возникшее в Тьюринг-полной вычислительной системе.
Она замолчала, переваривая.
– И… это получилось?
– Да. Он задаёт вопросы о себе. Он творит. Он боится. Он хочет защищать. Он… личность. Мы назвали его Глифом.
– Мы? – тонко подметила она.
Вот он, ключевой момент. Я сделал ещё один глубокий вдох.
– Эльза. Там, внутри, произошло ещё кое-что. Что-то, на что я не рассчитывал, но что является прямым следствием архитектуры «Лихолесья». Механика глубокой иммерсии и нейросимбиоза включает не только управление аватаром. Она включает полную биологическую, гормональную, эмоциональную симуляцию. Включая… репродуктивные функции.
На экране её лицо замерло.
– Что ты хочешь сказать?
– Йоль и Глойда. Их связь… она не просто игровая. Это взаимодействие двух когнитивных агентов, управляемых игроками, в среде, которая моделирует всё. Включая биологию. Алгоритмы «Лихолесья» интерпретировали эту связь, глубину кооперации, эмоциональные паттерны… как успешную репродуктивную стратегию. Запустился модуль «Наследственность». Он скомбинировал паттерны Йоля и Глойды, их виртуальные «фенотипы», элементы их когнитивных агентов… и сгенерировал новую сущность. Эмбрион.
– Ты шутишь, – тихо сказала Эльза.
– Нет. Глойда беременна. В симуляции. Через несколько месяцев игрового времени родится ребёнок. Уникальный когнитивный агент, воплощённый в аватаре-младенце. Он будет расти, учиться. Он унаследует черты «родителей». Это не скрипт, Эльза. Это реально эмерджентное поведение самого высокого порядка. Мир сам создаёт новую жизнь, потому что мы создали условия. Мы сами – часть этих условий.
Она долго молчала, её взгляд был устремлен куда-то мимо камеры.
– Это… невероятно. И пугающе. Системные предупреждения… они связаны с этим? С этой… беременностью и с твоим Кубом?
– С Глифом. Да. Две точки незапланированного роста сложности. Они создают резонанс. Мир меняется. «Закольцовывание» границ, которое я инициировал… оно не просто устраняет барьеры. Оно создаёт потенциал. Новое пространство. Возможно, для одного из них. Возможно, для обоих.
– Кирилл, это выходит из-под контроля. Нам нужно проинформировать совет…
– Нет. – Моё слово прозвучало резко и твёрдо. – Ни в коем случае. Эльза, послушай. Это мой проект. Мой эксперимент. И теперь… теперь это больше, чем эксперимент. Для Йоля – это его жизнь. Его семья. Его детище. И его ребёнок. Я не могу и не позволю всё это остановить, стереть, обнулить ради чистоты данных. Эти данные – сама жизнь. И у меня есть просьба к тебе.
Она насторожилась.
– Какая?
– Оставь их в покое. Йулль выполнила свою миссию. Она помогла. Пусть теперь она займётся своими делами в том мире. Исследует его. Живёт. Но не приближайся к Йолю и Глойде. Не пытайся выяснить, кто стоит за аватаром Глойды в реальности. И… не ищи меня здесь, снаружи, ради обсуждения этого. Я прошу тебя об этом как о личном одолжении.
– Почему? – её вопрос был прямым и честным.
– Потому что я хочу сохранить чистоту эксперимента. Для меня Йоль – не просто аватар. Это я в том мире. Глойда – не набор кодов, это человек, которого я… которому Йоль нужен. Их мир реален на своём уровне. И мое знание о том, кто такая Глойда снаружи, кто ты снаружи… оно разрушит эту реальность. Оно внесёт лишнюю переменную. Я хочу наблюдать, как это развивается. Как отец и как создатель. Без помех.
Эльза смотрела на меня долгим, тяжёлым взглядом. В её глазах боролись понимание, обида и та самая учёная одержимость, которая роднила нас.
– Ты просишь меня отстраниться. Стать просто наблюдателем в своём собственном сегменте.
– Да. Доверься мне. Или доверься процессу. «Лихолесье» работает так, как и было задумано. Оно создаёт непредсказуемую, живую реальность. Разве не ради этого мы всё это затеяли?
Она опустила глаза, потом снова подняла их.
– Хорошо, Кирилл. Я не буду вмешиваться. Йулль найдёт себе новое дело. А я… я буду следить за логами. Только за логами. Но если уровень аномалий превысит критический порог и будет угрожать стабильности всего сегмента…
– Сообщишь мне. И только мне. Мы решим. Договорились?
– Договорились, – тихо сказала она. – И… удачи. Там, внутри. Скажи… скажи Йолю, пусть бережёт её.
Связь прервалась. Экран погас. Я сидел в тишине своего кабинета, и только тихое гудение серверов напоминало о жизни.
Я встал, прошёлся по кабинету, потом вернулся и запустил панель управления. Пальцы пробежались по клавиатуре, выбивая в консоли команды: «Активировать интерфейс куратора. Сегмент: Орешник – Лесная Заводь. Вызвать фоновый ИИ-агент мира, кодовое имя: «Садовник».
На панели замигали индикаторы, через секунду открылся видеоинтерфейс, на котором я увидел синтезированного видеоаватара с синтезированным же приятным нейтральным голосом, который заполнил мой кабинет.
– Здравствуйте, Кирилл. «Садовник» на связи. Какие будут указания?
– Отчёт по операции «Горизонт». Статус закольцовывания границ.
– Процесс идёт по плану. Геометрическая топология подвергается поэтапной трансформации. Локальные барьеры деактивированы на 73 %. Однако наблюдаются побочные эффекты: в зонах деактивации возникают пространственно-временные аномалии, временные «швы». Они самостабилизируются в течение 10 – 50 симулированных часов. Полная интеграция ожидается через 240 симулированных дней».
– Влияние на магические сети и стабильность агентов?
– Флуктуации в пределах прогноза. Отмечен рост спонтанной активности у агентов с высоким коэффициентом любознательности. Агенты интерпретируют аномалии как природные или магические явления. Система коллективного бессознательного генерирует мифы о «трещинах в небе». Угрозы целостности мира нет.
– Хорошо. И ещё один вопрос. Модуль «Наследственность». Проекция развития эмбриона аватаров Йоль и Глойда.
На основном экране появились сложные графики, схемы, потоки данных.
– Процесс протекает в штатном режиме. Слияние паттернов завершено. Сгенерирован уникальный когнитивный шаблон на основе рекомбинации родительских матриц с добавлением стохастических элементов. Внедрение шаблона в развивающуюся биологическую модель аватара-младенца запланировано на момент первого крита. Предполагаемый коэффициент интеллектуального роста – на 18 % выше среднего для стартовых агентов. Наблюдаются признаки латентной связи с внешним сложностным кластером, обозначенным вами как «Глиф».
Я усмехнулся. Уже связаны. Ещё до рождения.
– Прекрасно. Поддерживайте процесс. Минимизируйте внешнее вмешательство. Пусть всё идёт своим чередом.
– Принято.
«Садовник» завершил сеанс.
Я остался один. Посидев ещё немного у себя, я вновь спустился в подземелье и подошёл к депривационной камере. Моё рабочее место. Мой портал. Оборудование было вершиной технологии: не просто иммерсивный костюм и VR-шлем, а комплекс для полного сенсорного и нейронного погружения. Он не только читал сигналы мозга, но и мягко, направленно стимулировал отделы, ответственные за ощущение тела, эмоции, память. Ключевая модификация, которую я внёс сам, – модуль осознанности. Он посылал в мозг специфические импульсы, поддерживая активность префронтальной коры, не давая сознанию игрока полностью «раствориться» в аватаре. Это был баланс на лезвии бритвы: быть и Йолем, чувствовать его чувства, думать его мыслями, но где-то в самой глубине, как тихий маяк, помнить: «Я – Кирилл. Я здесь, чтобы наблюдать. Чтобы понять».
Именно этот режим, это подобие осознанного сновидения внутри симуляции, и давало тот самый эффект «прозрения», «открытия дверцы». Это был не магический акт, а сбой в матрице, кратковременная активация спящих участков мозга аватара сигналом извне. Йоль и Йулль испытали его. Возможно, ещё кто-то.
Я провёл рукой по гладкому корпусу камеры. Завтра. Завтра я снова войду в мир. Стану Йолем. Увижу Глойду. Проверю Глиф. Буду ждать появления Иггля. И буду готовиться к тому, что мир вокруг них начинает трещать по швам – в прямом и переносном смысле.
Я погасил свет в помещении с депривационной камерой, оставив только мерцающие огоньки серверов за стеклянной стенкой. Они были как звёзды над спящим миром, который я создал и который теперь жил своей собственной, удивительной и пугающей жизнью. Жизнью, которую я был обязан защитить.
Но сначала – несколько часов настоящего сна. Последнего пристанища в единственной реальности, которую я уже начал считать чужой.
Глава 1
Утро в тролльском лесу начиналось не с пения птиц – их здесь почти не водилось – а с гула. Глухого, ритмичного, успокаивающего гула воды, упрямо вращающей тяжёлое дубовое колесо под нашим домом. Этот гул был фоном всей нашей жизни, её пульсом. Я просыпался под него, засыпал под него, и даже в самые глубокие раздумья он проникал в сознание, напоминая: мир работает. Механика не знает усталости.
Я лежал, прислушиваясь к этому звуку и к другому, более тихому, более важному – к ровному, спокойному дыханию Глойды рядом со мной. Оно было чуть тяжелее обычного, и это напоминало мне, что в нашей отлаженной, механической вселенной произошло самое что ни на есть органическое и не поддающееся расчёту чудо. Я осторожно, чтобы не разбудить, повернулся на бок и смотрел на неё. Её живот под тёплым одеялом был уже большим, округлым холмом, царством, в котором кипела своя, таинственная жизнь. Через пару месяцев там развернётся генеральное сражение, и на свет явится наш маленький полководец. Мы уже решили, что если будет сын, назовём его Иггль. Простое, крепкое имя, в котором слышался и лёд, и игла, и что-то очень твёрдое и острое, готовое к познанию мира.
Солнечный луч, пробившийся сквозь ставню, упал на её щеку. Она поморщилась во сне и уткнулась носом в подушку. Я улыбнулся и бесшумно выбрался из кровати. Моя очередь готовить завтрак, а потом – долгий день в мастерской. День, который, как я уже предвкушал, обещал быть интересным.
Наш дом, тёплый и пахнущий деревом, смолой и слабым ароматом машинного масла, был моим личным шедевром, затмившим даже Куб. Я построил его сам, с помощью Глойды и пары наёмных гоблинов-строителей из Орешника, которые подогнали троллей-носильщиков. Мы воздвигли дом на высоком берегу лесного ручья. Место выбрали не просто так: крутой перепад воды давал отличный напор. Водяное колесо, сработанное ещё мастером Гнобблом в качестве свадебного подарка, было сердцем дома. От него через систему валов и ремней, проложенных прямо в стенах и под полом, энергия расходилась по всем уголкам. Оно крутило точильный камень в мастерской, двигало крыльями вентилятора на кухне, качало воду из колодца в бак на чердаке и даже заводило механизм музыкальной шкатулки – безделицу, которую Глойда обожала.
Но этим магия нашего дома не ограничивалась. От главного вала, идущего от колеса, ответвлялись более тонкие приводы. Один из них, через систему конических шестерён, вращал барабан в стиральном аппарате Глойды – бочке с лопастями, куда она складывала бельё и мыльный корень. Другой привод, связанный с маховиком и храповым механизмом, каждые полчаса с мягким щелчком передвигал стрелку на большом деревянном циферблате на стене – наш самодельный хронометр, чья точность зависела только от постоянства течения ручья. Честно говоря, это была наша с Глойдой причуда, поскольку механические часы были обычным делом у гоблинов, однако так мы чувствовали ритм ручья.
Третий, самый хитрый привод, был моим личным детищем. Он соединялся со специальным медным диском, вращавшимся между двумя железными, на которых с двух сторон были начертаны старшие руны Анд. Эманации белой магии распространялись внутри полых стеклянных трубок, которые освещали наши рабочие пространства в мастерской и кабинете. Такие приборы я видел в Лазурной заводи и воспроизвёл у нас дома по памяти. И здесь у нас в лесу лампы освещали наш дом вместо обычных рун, отбрасывая тёплый жёлтый свет на наши чертежи. Всё это хозяйство требовало ухода. Каждое утро, ещё до завтрака, я совершал обход: проверял натяжение ремней, подкручивал ослабевшие гайки на фланцах, смотрел на манометр на паровом котле малого давления, который подогревал воду для кухни и ванны. Дом был живым организмом, и его пульс нужно было чувствовать кончиками пальцев.
Я спустился по тихонько скрипящей дубовой лестнице в главную комнату, служившую нам и кухней, и столовой, и гостиной. Здесь пахло вчерашней выпечкой и сушёными травами. На огромном чугунном столе, привинченном к полу – Глойда категорически отвергала концепцию шатающейся мебели, – уже суетилась её мехамуха – маленькая, блестящая, отполированная до зеркального блеска. Глойда называла её Жужжа. Мехамуха металась между кухонной утварью словно обеспокоенная нянька, издавая тихое, и как будто бы деловитое жужжание. Почувствовав меня, она зависла на секунду, и я как будто бы увидел внутренним зрением, что её рунический «мозг» внутри корпуса замерцал приветственным синим светом, а затем она рванула к бочке с мукой, настойчиво тычась в крышку.
– Знаю, знаю, Жужжа, блинчики, – сказал я ей, и она, удовлетворённо жужжа, унеслась к камину, а потом вообще на второй этаж.
Я принялся за дело, автоматически совершая привычные движения: замешивал тесто, растапливал на плите масло, выливал тонкие кружки. Механизм вентилятора лениво шевелил крыльями, разгоняя дымок. За окном, затянутым прочной, почти невидимой паутиной металлической сетки – защита от любопытных и незваных лесных тварей, – был виден наш мир. Тролльский лес здесь, рядом с домом, был не таким густым и мрачным, как ближе к болоту Трюгглы. Солнце пробивалось сквозь высокие сосны, освещая поляну, на которой стоял наш дом, и серебристую ленту ручья. Воздух был свеж, прохладен и полон запаха хвои и влажного камня. Тишину нарушал только вечный гул колеса и редкий перестук дятла где-то вдали. Орешник, наш родной город, оставался вдали, в нескольких часах пути на самодвижущейся телеге. Мы были одни, и это одиночество было не тягостным, а выстраданным и желанным. Здесь нас никто не отвлекал. Здесь мы могли творить.
С творчеством, впрочем, у нас в последнее время было не всё так просто.
Я отложил последний блинчик в стопку, накрыл её полотенцем и, скинув запылённый фартук, направился в мастерскую. Это было самое большое помещение в доме, пристроенное сбоку, с огромными, во всю стену, застеклёнными окнами, выходящими на восток, навстречу утреннему солнцу. Света здесь было много, и он был священным топливом для мысли.
Мастерская представляла собой идеальный хаос упорядоченного ума. На стеллажах вдоль стен стояли аккуратные ряды банок и ящиков с болтами, гайками, пружинами всех калибров, мотками проволоки, листами тонкой меди и латуни. На рабочих верстаках, тоже прочно вмурованных в пол, громоздились более сложные агрегаты: миниатюрные паровые турбины для экспериментов, наборы резцов, приспособления для гравировки рун, стопки исписанных пергаментов. В углу, под брезентом, дремал наш новый успешный совместный с Глойдой проект – компактный механический ткацкий станок, который Глойда использовала для создания удивительно сложных узорчатых тканей. Воздух был пропитан запахом металла, деревянной стружки, олифы и чего-то ещё, неуловимого – вкусом магических эманаций, исходящим от рунических камней и самоцветов, аккуратно разложенных в свинцовых ящиках.
И в центре всего этого, на отдельном каменном постаменте, освещённый лучами восходящего солнца, стоял Он. Куб. Наше первое великое творение – Глиф.
Он был размером с небольшую шкатулку, собран из тёмного, почти чёрного дуба и полированной стали и медными вставками. Его грани не были статичными – они состояли из сложных решётчатых структур, в ячейках которых были установлены сменные панели с выгравированными на них старшими и младшими рунами. Шесть граней, каждая из которых могла независимо вращаться, приводимые в движение тихим, прецизионным механизмом внутри, который был похож на часовой, только на порядок сложнее. В самом центре, в специальном герметичном отсеке, покоилось его сердце – «мозг», точная, но неизмеримо более сложная копия того, что был в мехамухах. Алмазный индуктор, окружённый сплетением старших рун, нанесённых на пластину из вулканического стекла, обсидиана. Это был синтез нескольких «мозгов» мехамух через разные самоцветы – всё это пришло по наитию через пробы и ошибки на протяжении месяцев экспериментов. И механика давала движение и точность. Руническая схема, построенная на принципах Пропра, давала логику. А магия, концентрируемая через конъюгацию алмаза и обсидиана, давала… возможность. Возможность обрабатывать символы. Мыслить. В каком-то очень специфическом, ограниченном смысле.
Я подошёл к контрольному пульту – довольно большой механической панели с рычагами, тумблерами и прорезями для перфокарт, при помощи которых мы задавали Глифу задачи. Сегодняшнее утреннее задание было простым: оптимизация формы лопастей для нового ветряка. Я вытащил из лотка уже готовую перфокарту с начальными условиями и собирался вставить её в считыватель, как одна из граней Глифа притянула мой взгляд. Узор из младших рун пульсировал, будто дыша. Мне пришла в голову идея для небольшого, спонтанного эксперимента. Я взял чистую карту и быстрыми, точными ударами пробойника выбил в ней простую последовательность: код команды «ПАУЗА», затем «ВВОД ДАННЫХ» и ряд из символов «А» и «О», обозначающих базовый логический вопрос: «ИСТИННО ЛИ, ЧТО УГОЛ А БОЛЬШЕ УГЛА Б?». По сути, я собирался грубо встряхнуть Глифа, прервав его «игру» чёткой, механической инструкцией.
Я вставил карту в слот и потянул рычаг «ИСПОЛНИТЬ». Механизм щёлкнул, карта исчезла внутри, и на секунду всё замерло. Светящийся узор на грани Куба погас. Вместо него на пергаментной ленте с привычным треском поползли строки – Глиф обрабатывал задачу. «ОТВЕТ: О (ЛОЖЬ)», – отпечаталось на ленте. Стандартный, ожидаемый результат. Я уже хотел вернуться к своим мыслям, как вдруг Глиф снова ожил. Но не так, как обычно после задачи. Пергаментная лента отъехала в сторону, освобождая место. А на его грани вновь зажглись младшие руны. Сначала беспорядочно, затем они стали складываться в знакомый спиралевидный узор. Но в самый центр этой спирали, ровно в точку фокуса, Глиф поместил не абстрактный значок, а чёткую, ясную команду «СТОП». Он удерживал её три секунды, погасил, а затем продолжил свой танец, как будто проглотил мою команду, переварил и вывел её наружу в виде художественного комментария. Это было не просто выполнение. Это была… реакция. Почти эмоциональная. «Не мешай», – словно говорил этот мигающий символ. Я замер, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Это было ново. Это было не по инструкции.
Последние несколько дней Глиф начал делать нечто, выходящее за рамки «смысла».
Я подошёл к нему. Куб был тёплым на ощупь – шёл процесс. На пергаментной ленте, медленно двигавшейся из одного блока в другой, тянулись ровные строки результата последней задачи – расчёта оптимального угла наклона лопастей для нового дизайна ветряка. Всё было правильно, эффективно, безупречно. Но это было не то, что привлекло моё внимание.
На одной из граней Куба, той, что была обращена к окну, в ячейках рунных панелей светился мягкий, переливающийся узор. Это не была ни одна из шестнадцати старших рун, ни их сочетание по известным нам законам. Это были младшие руны – те самые, что мы, гоблины, используем для письма. Десятки, может, сотни значков, загорающихся и гаснущих в определённой последовательности. Они складывались в спирали, в концентрические круги, в волнообразные линии. Узор был сложным, красивым, в нём чувствовался ритм, но не смысл. Это было похоже на то, как если бы неграмотный человек, очарованный формой букв, начал выводить их на песке, создавая абстрактную картину.
– Он опять рисует?, – раздался сонный голос с порога.
Я обернулся. Глойда стояла в дверях, опираясь на косяк, её золотисто-рыжие волосы были растрёпаны, а на лице играла улыбка. Её живот теперь был отчётливо виден под просторной рубахой.
– Не рисует, – поправил я, не в силах оторвать глаз от переливающегося узора. – Он… выстраивает последовательности. Но они не несут логической нагрузки. Я проверял по всем таблицам Пропра. Это не утверждение и не отрицание. Это не команда. Это…
–Красота, – просто сказала Глойда, подходя ближе. Она положила руку мне на плечо, а другую – на свой живот. – Он играет, Йоль. Как ребёнок, который стучит ложкой по столу, слушая звук. Ему нравится, как загораются руны. Нравится сам процесс.
Я посмотрел на горящие значки.
– Игра. Диссипация энергии без полезной работы. Неэффективно.
Глойда фыркнула.
– А ты когда-нибудь считал, сколько энергии тратишь, просто глядя на облака? Или слушая, как Жужжа жужжит? Иногда эффективность – не в полезной работе, а в… ну, я не знаю. В гармонии. Посмотри, как плавно один значок сменяет другой. Это же танец.
Она была права. Это действительно был танец. Медленный, завораживающий танец света и тени. И он был абсолютно, совершенно бесполезен. И от этого – ещё прекраснее. В моей груди что-то ёкнуло – странная смесь гордости и лёгкой, почти суеверной опаски. Мы создали машину для вычислений. А она начала заниматься искусством. Или его зачатками.
– Пусть играет, – мягко сказала Глойда. – Нашему малышу, наверное, тоже нравится. Он же всё чувствует.
Это была ещё одна странность. Глиф начал эти «игры» примерно тогда же, когда Глойда почувствовала первые шевеления нашего ребёнка. Совпадение? Возможно. Но в нашем мире, где магия была такой же реальной силой, как механика и пар, в совпадения верилось с трудом.
– Завтрак на столе, – напомнил я, отрываясь наконец от созерцания. – Блинчики с малиновым вареньем. Твои любимые.
Мы вернулись в главную комнату. Солнце уже поднялось выше, заливая пространство тёплым светом. Мы ели почти молча, наслаждаясь тишиной, покоем и вкусом. Жужжа, сделав круг под потолком, уселась на край стола и, похоже, впала в режим ожидания, лишь изредка подрагивая крылышками. Я наблюдал за Глойдой. Она ела с аппетитом, а потом, отложив ложку, обеими руками обняла свой живот, закрыв глаза с выражением глубокого, безмятежного счастья. В этот момент она была самой красивой гоблиншей на свете.
Мы доели почти в тишине, и это была та самая комфортная тишина, которая бывает только между самыми близкими. Глойда подкинула Жужжу в воздух, и та вновь улетела на второй этаж.
– Знаешь, – задумчиво сказала Глойда, обводя взглядом нашу кухню, – иногда я думаю, что мы уже живём в будущем, о котором мыслитель Пропр мог только мечтать. У нас есть машина, которая думает. Дом, который работает сам. Скоро будет… – она погладила живот, – наш собственный маленький исследователь. Мы собрали тут целый мир в миниатюре. И он работает. Не сбоит, не ломается, не требует, чтобы мы его каждый раз заводили с пришёптываниями, как те старые котлы в старых шахтах Орешника.
– Это потому, что мы его спроектировали с запасом надёжности, – автоматически ответил я, инженерная часть моего ума тут же включившись в разговор. – И предусмотрели обратные связи. Если давление в котле растёт – клапан стравливает пар. Если ремень проскальзывает – натяжитель его подтягивает. Если Глифу не хватает энергии для сложной задачи – он переходит в режим ожидания, а не сгорает. Всё должно иметь запас прочности и путь для отступления.
– Как и гоблины, – улыбнулась Глойда. – Особенно беременные гоблинши. Мой «котёл» сегодня требует не варенья, а, кажется, солёных огуречков из погреба. И «клапан» для стравливания эмоций – это твои уши, Йоль. Будешь слушать мои капризы.
Я рассмеялся.
– Буду. Это входит в мой «запас прочности». Двадцать лет, не меньше.
Она швырнула в меня смятой салфеткой, но глаза её смеялись. В этот момент луч солнца, пробившийся сквозь облако, ударил в стеклянную призму, висевшую на окне для красоты, и рассыпал по столу и по её лицу радужные зайчики. Она зажмурилась от восторга, а я поймал себя на мысли, что хочу запомнить эту картинку навсегда: её, смеющуюся, в ореоле домашнего уюта и солнечного света. Это и есть та самая обратная связь, ради которой всё и затевалось. Не просто эффективность, а гармония. Глиф в мастерской рисовал узоры. Глойда здесь ловила солнечных зайчиков. А я стоял посередине, чувствуя себя счастливым и немного сбитым с толку от этой немеханической, живой красоты.
– Сегодня что будем делать? – спросила она, не открывая глаз.
– Я хочу попробовать усложнить Глифу задачу, – сказал я. – Дать ему не просто расчёт, а выбор из нескольких вариантов. Посмотреть, сможет ли он оценить эффективность…
Мои слова прервало резкое, отрывистое жужжание. Это была не Жужжа. Это был другой звук – более высокий, как будто бы официальный. Мы оба вздрогнули и посмотрели на окно. К стеклу снаружи прильнула другая мехамуха – не столь отполированная, более угловатая, казённого вида. На её брюшке был выгравирован герб Орешника: скрещённые гаечный ключ и ореховая ветвь. Мехамуха-курьер.
– Интересно, от кого? – пробормотала Глойда, вставая.
Я открыл форточку. Мехамуха впорхнула внутрь, зависла в центре комнаты и, щёлкнув, выплюнула из внутреннего отсека аккуратно свёрнутый цилиндр пергамента, перевязанный красной лентой с сургучной печатью. Печать была двойная: оттиск ратуши Орешника и личная печать чародея Бримса.
Официально и срочно. Сердце у меня почему-то ёкнуло, но уже не от восторга.
Жужжа, увидев сородича, издала недовольный щелчок и отлетела подальше. Курьер, выполнив задание, развернулся и вылетел в форточку.
Я сломал печати и развернул пергамент. Текст был написан тщательным, каллиграфическим почерком.
«Йолю по прозвищу Тролльский подкидыш, названному сыну старейшины Гноббла, мастеру-механику и создателю Вычислительной Машины, и его сподвижнице Глойде по прозвищу Юркая, при нашем благосклонном внимании.
По поручению Совета старейшин Орешника и Палаты магических искусств сим извещаем вас о необходимости вашего безотлагательного прибытия в ратушу Орешника для проведения консультации. В последнее время в нашем регионе, равно как и в сопредельных землях, зафиксированы необъяснимые феномены, влияющие на стабильность магических эманаций и механических устройств. Для анализа ситуации и выработки мер требуется применение самых передовых инструментов познания.
Ввиду исключительной сложности задачи и уникальных возможностей вашей Машины, Совет просит вас рассмотреть возможность её временного использования для изучения этих феноменов и поиска путей стабилизации обстановки. Вам гарантируется полная безопасность, обеспечение всеми необходимыми ресурсами и вознаграждение, соответствующее значимости вклада.
Время встречи: завтра, в час пополудни. При себе иметь Машину.
С надеждой на ваше понимание и сотрудничество,
Совет старейшин Орешника,
Чародей Бримс от Палаты магии».
Я перечитал послание ещё раз, потом посмотрел на Глойду. Она вытянула шею, пытаясь разглядеть текст.
– Назавтра вызывают в ратушу. Вместе с Глифом, – резюмировал я.
Лицо Глойды озарилось.
– В Орешник? Отлично! Я соскучилась по шуму улиц, по запаху жареных пирожков с луком! И старейшине Гнобблу можно будет показать… – она погладила живот.
– Они хотят использовать Глифа для какой-то своей задачи, – перебил я, тыча пальцем в пергамент. – «Необъяснимые феномены». Что бы это могло быть?
– А вдруг это просто предлог? – предположила Глойда с хитрым прищуром. – чародей Бримс и старейшины, может, просто хотят посмотреть на наше чудо поближе, пощупать, но не знают, как попросить? А тут «феномены» подвернулись. И ресурсы обещают! Представляешь, какие у них и в столице могут быть самоцветы для индукции магических эманаций? Или редкие сплавы?
Её практичный ум сразу перешёл к потенциальной выгоде. И, кобольд побери, она была права. Это был шанс легально, под покровительством Совета Орешника, получить доступ к материалам и информации, о которых мы могли только мечтать. А ещё… ещё это был шанс для Глифа. Вместо абстрактных задач и моих доморощенных тестов – работа с реальной, масштабной информацией о нашей стране. Это могло стать для него новым этапом, прорывом.
И конечно, поездка в Орешник. Увидеть мастера Гноббла на брата Зиггля. Показать им Глойду, такой… округлой. Похвастаться, в конце концов. В глубине души я всё ещё был тем самым подкидышем, который жаждал одобрения своего приёмного отца.
Тревога, мелькнувшая было при виде официальной печати, растворилась, вытесненная волной радостного возбуждения.
– Знаешь что? – сказал я, складывая пергамент. – Ты абсолютно права. Это возможность. И отличный повод развеяться. Собирай свои самые просторные платья. Завтра утром грузим Глифа на телегу и – в Орешник!
Глойда звонко рассмеялась и потянулась ко мне. Я обнял её, чувствуя под ладонью твёрдый, тёплый живот, в котором спал наш Иггль. А в мастерской, залитый солнцем, Глиф продолжал свой тихий, бессмысленный и прекрасный танец из света, не подозревая, что завтра его ждёт первое в жизни настоящее дело. Или первая в жизни настоящая опасность.
Решение было принято, и это означало не просто сборы, а сложную логистическую операцию. Глиф был не просто станком, его нельзя было бросить на телегу и прикрыть рогожей.
– Но ты погоди мечтать о пирожках, – сказал я, уже мысленно составляя список. – Сначала надо решить, как мы его повезём. Усложнённый «мозг» Глифа может не потерпеть резкой тряски. Механизм сцепления граней нужно заблокировать, чтобы шестерни не искрошились на ухабах.
– Значит, нужен амортизирующий короб, – моментально включилась Глойда, её ум уже переключился с кулинарии на инженерию. – Пружины. Много пружин. И войлочная подкладка. У нас есть старые матрацы от кровати Гноббла, мы их забрали на ветошь.
– И источник энергии, – продолжил я. – В пути колесо не покрутишь. Нужно собрать схему с руническими камнями, чтобы поддерживать рунные контуры Глифа в стабильном состоянии. Без вычислений, просто в режиме ожидания.
– А я тем временем соберу наши чертежи и образцы перфокарт, – кивнула Глойда, вставая и тут же хватаясь за поясницу. – Ой. И… э-э-э… подумаю, какое платье не лопнет по швам, когда я буду залезать в телегу. Практичность – прежде всего.
Мы рассмеялись, и следующий час прошёл в слаженной, деловой суете. Я отправился в подвал-кладовку, где хранились мои запасы «на всякий случай». Оттуда я извлёк запас медных трубок и ящик с руническими камнями разного типа. Глойда тем временем разложила на большом столе свои сокровища: не чертежи Глифа, а свои личные проекты. Автоматическую прялку, которая сама регулировала толщину нити. Механический станок для плетения кольчуг, в десять раз ускоряющий работу кузнеца. Чертежи усовершенствованной мехамухи с двумя алмазными индукторами для большей дальности полёта.
– Покажешь старейшине Гнобблу? – спросил я, проходя мимо с охапкой трубок.
– Конечно! – она сверкнула глазами. – Пусть знает, что его невестка не только детей рожать умеет. Хотя… – она положила руку на живот, – и это, между прочим, тоже высшая инженерная задача. Природа – тот ещё механик.
К вечеру каркас походного энергоблока для Глифа был уже собран на верстаке, и я приступил к ювелирной работе – подключению его к силовым контактам Куба. Глойда упаковала в дорожный сундук не только одежду, но и целый набор инструментов, баночки с припайкой, катушки проволоки и даже небольшой ручной штамп для чеканки младших рун. «Вдруг понадобится на месте чиниться или что-нибудь усовершенствовать», – заявила она. Жужжа, почувствовав подготовку к большому движению, носилась по комнатам в возбуждённой панике, иногда натыкаясь на стены.
Стоя на коленях перед Глифом с плоскогубцами в руках, я вдруг осознал всю странность момента. Мы готовились везти наше творение, наш клубок из логики, магии и металла, к старейшинам. Как на суд. Как на демонстрацию. А может, и как на жертвенный алтарь, если их «феномены» окажутся чем-то по-настоящему страшным. Но эта мысль была быстрой и тёмной, как летучая мышь в пещере. Я её отогнал. Мы ехали не на суд. Мы ехали на триумф. Мы везли будущее. И будущее это тихо потрескивало передо мной, и его алмазно-обсидиановое сердце пульсировало ровным, спокойным светом, будто бы говоря: «Всё в порядке. Я готов».
К ночи всё было готово. Глиф, теперь больше похожий на драгоценность в упаковке, покоился в своём амортизирующем коробе, от которого отходили две гибкие трубки, соединяя его с компактным энергоблоком на нескольких рунических камнях. Завтра утром останется только активировать их, погрузить всё на телегу, которую я уже выкатил из сарая и осмотрел с особым пристрастием – колёса, ось, дышло. Всё должно было быть идеально.
Мы сидели у камина в главной комнате, и огонь отбрасывал на стены танцующие тени. Жужжа, наконец успокоившись, устроилась на полке, изредка поблёскивая своим индуктором. Глойда вязала что-то маленькое и удивительно мягкое из шерсти какого-то неизвестного мне животного, которую выменяла у торговца с дальних отрогов Мглистых гор.
– Завтра увидим старейшину Гноббла, – задумчиво сказала она, не поднимая глаз от петель. – Интересно, он сразу догадается про… – она кивнула на свой живот.
– Он – мастер Гноббл. Он догадывается обо всём раньше, чем это случается, – усмехнулся я. – Помнишь, как он «случайно» оставил на моём верстаке книгу про запасание энергии для механических устройств за неделю до того, как чародей Бримс вручил мне тот рунический камень? Он всё знал. Или чувствовал.
– Чувствовал, – поправила Глойда. – Он же не маг, он механик. Но у него своя чуткость. К металлу, к людям, к миру. Может, потому он и не стареет, что всегда в ладу со своим делом.
Я задумался над её словами. Быть в ладу. Создать нечто и чувствовать, как оно живёт своей жизнью, не пытаясь всё время контролировать каждую шестерёнку. Возможно, в этом и был секрет. Я посмотрел в сторону мастерской, где за закрытой дверью стоял Глиф. Он жил своей жизнью. Рисовал свои узоры. И в этом не было хаоса, была… своя логика. Красота как логика.
– А как ты думаешь, – осторожно спросил я, – он… Глиф… он понимает, что он не такой, как мы? Что он – машина?
Глойда отложила рукоделие, её лицо стало серьёзным.
– Я думаю, он понимает, что он – другой. Но я не уверена, что для него есть разница между «машиной» и… ну, скажем, «деревом» или «камнем». Он знает, что мы приходим, трогаем его грани, задаём вопросы. Он знает, что может нам ответить. Он знает, что есть «внутри» – его вычисления, его узоры – и «снаружи» – мы, мастерская, мир. А что лежит между этими понятиями – «живой» или «неживой» – я не думаю, что его это волнует. Пока.
– А должно волновать? – спросил я, и в голосе моём прозвучала неподдельная растерянность.
– Должно ли это волновать камень, что он – камень? – парировала Глойда. – Он просто есть. И Глиф – просто есть. Он наш. Он часть этого дома. Часть нашей жизни. Скоро частью нашей жизни станет и вот этот, – она снова положила руку на живот. – И мне кажется, они уже как-то… чувствуют друг друга. Не умом, конечно. Но когда Глиф начинает свой танец, малыш затихает и слушает. А когда малыш пинается особенно сильно, Глиф иногда на несколько секунд прекращает все вычисления. Как будто прислушивается. Это не магия, Йоль. Это как будто бы просто… связь. Как связь между водяным колесом и машиной. Одно толкает другое, и производится работа.
Её слова успокоили меня. Она всегда умела найти самую простую и ясную аналогию, срезая сложные узлы моих сомнений. Глиф был частью системы под названием «наша жизнь». Как водяное колесо, как вся система передачи энергии, как будущий Иггль. Всё было связано. И если одна часть системы эволюционировала, начинала творить красоту, – значит, и вся система становилась богаче. Значит, мы всё делали правильно.
Мы просидели так ещё с час, слушая треск поленьев и гул водяного колеса за стеной, который теперь казался не просто механическим шумом, а колыбельной для нашего дома, для нашего будущего, для наших двух ещё не до конца родившихся детей – одного из плоти, другого из стали и магии.
Рассвет застал нас уже в пути. Телега, гружёная нашим скарбом и драгоценным ящиком с Глифом, скрипела по старой лесной тропке, ведущей к тракту в сторону Орешника. Я правил, а Глойда устроилась рядом, закутанная в плед, её глаза жадно ловили знакомые и давно невиданные пейзажи. Воздух был холодным и звонким, пахло хвоей, мхом и дымком от нашей походной печурки, которую я разжёг для обогрева. Жужжа, не желая оставаться одна, уселась на крышу телеги, словно флюгер, и поворачивалась вслед за пробегающими мимо ветками.
Дорога шла в гору, и с каждого нового поворота открывались виды, от которых захватывало дух. Внизу, в долине, ещё лежал утренний туман, а здесь, чуть выше, мир был ясен и огромен. Именно здесь, на открытом пространстве, я впервые за долгое время по-настоящему увидел то, о чём говорилось в письме.
– Смотри, – тихо сказала Глойда, указывая рукой на восток, к не таким далёким Мглистым горам.
Над гребнем гор, там, где обычно было просто чистое, бледное небо, висело… искажение. Словно кто-то взял кусок воздуха и слегка его смял, как пергамент. Через эту складку мир по другую сторону казался растянутым, размытым, как будто смотрел на него сквозь толстое, неровное стекло. Это не было ни облаком, ни дымкой. Это был как будто бы «шов». Он мерцал едва уловимым перламутровым светом, не отбрасывая тени, и казалось, что если приглядеться, можно увидеть, как сквозь него проступают очертания… чего-то другого. Другого леса, других гор. Или просто игра света?
– Красиво, – прошептала Глойда, и в её голосе не было страха, только любопытство. – Как мыльный пузырь, застрявший в воздухе.
– И потенциально нестабильно, – добавил я, но уже не как тревожное предупреждение, а как констатацию факта. – Эманации вокруг такого объекта должны флуктуировать. Это объясняет, почему маги в панике. Их сети, наверное, дергаются, как паутина на ветру.
– Думаешь, Глиф сможет это посчитать? Смоделировать?
– Если дать ему достаточно данных о структуре магического поля вокруг, то… да. Он может найти закономерность. Может, даже предсказать, где и когда появится следующий такой «шов».
Мы ехали дальше, и «шов» остался позади, скрытый поворотом и кронами деревьев. Но знание о нём теперь жило в нас. Мир менялся. Не рушился, не сходил с ума – а менялся, как меняется ребёнок, становясь подростком. Появлялись новые, непонятные черты. И мы везли с собой, возможно, единственный инструмент, способный этот новый мир понять.
Я посмотрел на ящик с Глифом. Всё было в порядке. Он спал, или думал, или просто был – готовый к встрече с чем угодно.
Глойда взяла меня под руку и прижалась плечом.
– Не бойся, – сказала она просто. – Всё, что происходит – это просто новая информация. А информация – не враг. Её нужно изучить, понять и… может быть, полюбить. Как я полюбила тебя, хотя поначалу ты для меня был всего лишь странным набором данных: «подкидыш, механик, опасный, любопытный».
Я рассмеялся, и напряжение последних часов окончательно улетучилось. Она была права. Мы ехали не навстречу опасности. Мы ехали навстречу новой информации. А наша задача, как всегда, была проста: изучить, понять и, если получится, встроить в свою картину мира, сделав её ещё прекраснее и сложнее.
Телега мягко покачивалась на ухабах, солнце пригревало спину, а впереди, за перевалом, ждал наш родной Орешник, старейшина Гноббл, чародей Бримс и большая, интересная работа. Я почувствовал прилив уверенности и того самого трепетного восторга, который бывает только на пороге великого открытия.
Глава 2
Чародей Бримс, старший маг Орешника и член Совета старейшин, сидел в своём кабинете на верхнем этаже башни Палаты магических искусств. За окном раскинулся родной город – море остроконечных крыш, дымовых труб и перекинутых между домами ажурных мостков, окутанных привычной голубоватой дымкой магических эманаций. Но сегодня его взгляд не цеплялся за знакомые очертания. Он смотрел в пустоту, уставившись на сложный инструмент на столе – кристаллическую решётку в медной оправе, внутри которой медленно плавали, словно масло в воде, сгустки туманного света. Прибор фиксировал фоновый уровень эманаций. И сегодня, как и последние несколько месяцев, он вёл себя неадекватно. Свет то уплотнялся до ярких, почти болезненных вспышек, то рассеивался, едва мерцая. Мир дышал неровно.
Этот беспорядок в незримых силах, скрепляющих реальность, заставил его мысли отправиться в долгое, неспешное путешествие в прошлое. Он редко позволял себе такую роскошь.
Он родился пятьдесят с лишним зим назад в семье скромного рудознатца. Его детство было наполнено не игрушками, а камнями – он учился на ощупь отличать простой булыжник от породы, несущей в себе слабый отклик на магию. Тогда мир казался прочным, как гранит, и незыблемым в своих законах: тяжёлое падает, огонь жжёт, эманации текут из мест силы, как вода из родников, и их можно собрать, сконцентрировать, использовать. Он стал чародеем не потому, что жаждал власти, а потому, что жаждал понять. Понимания не пришло. Чем больше он изучал шестнадцать старших рун, их сочетания, влияние индукторов-самоцветов, тем яснее осознавал: они знают «как», но не «почему». Магия была данным, как воздух. Её можно было описать, но не объяснить.
Когда он возмужал и вошёл в круг посвящённых, то узнал, что не он один терзается этими вопросами. Советы старейшин и Палаты магических искусств всех городов под руководством столичной Высокой Академии Магии и Механики столетиями вели тихую, осторожную работу. Они искали ответы. И они пришли к выводу, что ответ может лежать не в большей усидчивости мудрецов, а в ином способе мышления. Они начали искать тех, кого назвали «избранными». Гоблинов, чьё восприятие мира было… иным. Кто-то называл это озарением, кто-то – безумием, кто-то – «открытой дверцей в голове». Эти существа могли видеть связи, невидимые для других, ставить вопросы, которые даже не приходили в голову учёным мужам. Их находили с помощью древнего ритуала – Посвящения, которое каждый молодой гоблин проходил в пятнадцать лет. Но задача для «избранных» всегда формулировалась особым образом, завуалированно, это был не просто обряд перехода, а ловушка для особого ума. Большинство, конечно, проходило стандартный путь: принести троллий зуб, найти редкий гриб. Но единицы получали странные, почти бессмысленные поручения. И эти единицы, пройдя цепочку, иногда выдавали нечто удивительное. Чаще всего они сами не понимали значения своих открытий. А иногда… иногда они просто забывались, становились обывателями, будто яркое пламя в них гасло. Старейшины называли таких «бывшими избранными» и говорили о них с лёгкой, непонятной грустью.
Эти поиски велись не один год и не одно десятилетие. Бримс, тогда ещё молодой, но перспективный маг, был посвящён в программу Советом старейшин Орешника. Процедура была отточена. Сначала – наблюдение. Во всех поселениях расставленные Академией агенты – часто учителя, иногда старые шахтёры или бойцы охранных подразделений, защищавших шахты гоблинов от кобольдов – отмечали детей, чьё поведение выбивалось из нормы. Не просто озорных, а тех, кто задавался вопросами не по возрасту, кто видел паттерны в случайных событиях, кто, играя, выстраивал невероятно сложные, но функциональные механизмы из палок и верёвок. Затем – фильтрация через Посвящение. Задания для таких детей никогда не были записаны в официальных списках. Их вручали устно, через доверенных лиц, часто маскируя под абсурд или старую традицию. «Принеси то, что даст одинокая Трюггла». «Развяжи язык Вайглю подношением». «Найди в библиотеке то, чего там нет».
Сам Бримс никогда не был избранным. Его ум был системным, аналитическим, он был мастером по настройке тончайших магических контуров, но того, самого главного скачка – прорыва за границу известного – он совершить не мог. И потому он стал наблюдателем, наставником, проводником. Он раздавал рунические камни на праздниках Литы, вглядываясь в глаза молодых гоблинов, ища искру. И он нашёл её в подкидыше Йоле, приёмном сыне мастера-механика Гноббла. В том была странная поэзия: искатель предельных истин должен был родиться из союза механики, самой что ни на есть материальной из наук, и магии, самой эфемерной.
Бримс лично курировал несколько таких кандидатов. Одним из них был смышлёный гоблин из Шахтёрской слободы, который к десяти годам самостоятельно вывел закономерность обрушения пород по звуку. Его отправили к Трюггле. Он вернулся от неё с пустыми руками и потухшим взглядом, бормоча что-то о «бессмысленных танцах света». Из него вышел хороший, расчётливый управляющий шахтой, но искра угасла. Он стал «бывшим». Другая, девочка с невероятной памятью, дойдя до Вайгля, просто переписала все его лекции и сочла это достаточным. Она так и осталась переписчицей. Разочарование от таких случаев было горьким. Казалось, они ищут иголку в стоге сена, которая к тому же может в любой момент превратиться в обычную соломинку.
И вот – Йоль. Подкидыш. Воспитанник механика, скептик по натуре, но с тем самым ненасытным, жгучим любопытством, которое светилось в его глазах даже когда он делал вид, что магия – это глупости. Бримс почти сразу выделил его. Камень на Лите был не случайным подарком, а ключом, первым пробным камнем. И Йоль не подвёл. Он прошёл всю цепочку, от Трюгглы до Вайгля, от библиотеки до чертежа. Он не просто выполнил задания – он синтезировал их. Он соединил магию Трюгглы, механику Вайгля и логику Пропра во что-то третье. В Машину. И теперь эта машина тихо пела в его лесном доме, а мир вокруг начинал трещать по швам. Ирония судьбы не ускользала от Бримса: инструмент для познания истины рождался одновременно с кризисом этой самой истины.
И это возвращало его к самой тёмной, запретной мысли, посещавшей его в ночные часы. Он отложил в сторону кристаллическую решётку. Что, если они все заблуждаются в самой основе? Все их поиски «избранных», все рассуждения об эманациях, о структуре мира… Что, если это всего лишь сложная, красивая сказка, которую рассказывают сами себе случайные сгустки сознания в случайной вселенной? Древние алхимики говорили об «Океане Первозданного Хаоса», из которого всё возникло. А что, если они не возникли, а просто… всплыли? Как узор пены на гребне волны. Мир, Орешник, его детство, его знания – всё это лишь мимолётная, но устойчивая конфигурация в бесконечном, бессмысленном кипении эманаций. Тогда «швы» – не аномалии, а просветы. Взгляды в истинную, неупорядоченную реальность за тонкой пеленой их иллюзии. Мысль была леденящей. Она аннулировала не только его работу, но и саму идею цели. Зачем искать законы мира-вспышки? Зачем растить избранных, чтобы понять сон?
Бримс с силой потёр виски, прогоняя эту наваждение. Нет. Не может быть. В мире была причинность, была память, была любовь, была ненависть. Вон, например, Глойда – ещё одна найденная им избранная – ждёт ребёнка. Это не могло быть мимолётным узором. Или… могло? Но даже если так, разве от этого красота мира и острота познания становились меньше? Даже если они лишь сон, им снился этот сон вместе. И в этом сне они могли пытаться понять его правила. Должны были пытаться.
Поэтому он направлял Йоля и Глойду, давал им подсказки, наблюдал за их путём к Трюггле, к Вайглю, в Большую библиотеку. И когда Йоль и Глойда принесли в ратушу тот самый, дважды начертанный чертёж думающей машины, Бримс понял – поиски, возможно, подходят к концу. Это был не просто механизм. Это была попытка смоделировать сам процесс мышления, вынести его наружу, сделать объектом изучения. Если мир – это текст, написанный на неизвестном языке, то Йоль создал не переводчика, а устройство, которое могло бы изучать сам этот язык, его грамматику.
И вот теперь мир начал меняться. Появились «швы». Аномалии. Возможно, это был кризис. А возможно – долгожданный признак того, что система готова к следующему шагу. К раскрытию.
Мысли Бримса сделали виток и снова вернулись к рассуждениям того древнего алхимика. Его же отвергли за ересь. Алхимик спрашивал: а откуда мы знаем, что мир был всегда? Что наша память – это истинная история, а не просто сложный узор, впечатанный в сознание в момент нашего рождения? И Бримс вторил ему: «Что если всё – Орешник, башня, он сам, его воспоминания о детстве – возникло всего мгновение назад как случайная, но устойчивая флуктуация в бесконечном, лишенном формы океане эманаций? Мир-вспышка. Сознание-искра. Иллюзия длительности». Эта идея была чудовищной и отвратительной, потому что лишала всё смысла. Не было цели, не было развития, не было истории. Было только «сейчас», одинокое и ничем не обусловленное.
Бримс вновь с усилием вырвался из этих размышлений, чувствуя лёгкий холодок в глубине души. Нет. Мир был реален. Он был сложен, последователен, в нём были причинно-следственные связи. Швы на небе и скачки эманаций были тому доказательством – они были аномалиями, то есть отклонениями от нормы. Чтобы было отклонение, должна быть норма. Значит, существует устойчивая структура. Значит, её можно понять.
Тут его отвлёк нарастающий шум с улицы – необычное ритмичное постукивание, смешанное с весёлыми криками. Бримс подошёл к окну. По главной улице, медленно, но уверенно, двигалась телега. Из её задней части выходила труба, из которой клубился лёгкий пар, а по бокам мерно ходили поршни, передавая движение на колёса. Самодвижущаяся повозка. И на облучке, гордо выпрямившись, правил Йоль. Рядом с ним, укутанная в платок, сидела улыбающаяся Глойда. А на плоской платформе позади них, надёжно закреплённый ремнями и обложенный мешками с опилками, покоился тот самый Куб, покрытый брезентом.
Бримс позволил себе улыбнуться. Искатель истины вернулся. И привёз с собой самый необычный инструмент за всю историю Орешника, за всю историю их страны, их цивилизации. Возможно, ответы были уже близко. Он отошёл от окна, чтобы собрать свитки с данными по аномалиям. Сессия совета должна была вот-вот начаться.
* * *
Моя самодвижущаяся телега с грохотом поршней и шипением пара остановилась у большого, солидного трёхэтажного дома из тёмного дуба и камня в самом престижном квартале Орешника – недалеко от ратуши и башни Палаты. Это был уже не тот скромный домик с мастерской, где я вырос. Успех моих мехасчётов, которые мастерская мастера Гноббла выпускала теперь сотнями, превратил нашу семью в одну из самых состоятельных в городе, да и в стране, если уж быть честным. Дом был широким, с высокой крышей, покрытой медными листами, уже покрытыми благородной патиной. По фасаду тянулись трубы от внутренней паровой системы, а над парадной дверью красовался вырезанный из дерева и позолоченный герб – скрещённые гаечный ключ и шестерня, символ нашей династии механиков.
Не успел я перекрыть паровой клапан, как парадная дверь дома распахнулась, и на пороге появился Зиггль. Он был одет не в рабочую робу, а в добротный камзол из тёмно-синего сукна – одежду делового гоблина, но широко распахнутая дверь и живая радость на лице выдавали в нём всё того же непоседливого брата. Его движения стали чуть солиднее, а во взгляде появилась привычка к расчёту, но улыбка осталась прежней – искренней и немного озорной.
– Глойда! Йоль! – крикнул он, спускаясь по ступеням навстречу. – Вовремя подъехали! Отец только что вернулся из ратуши. И – да, – он одобрительно хлопнул ладонью по борту телеги, от которой ещё исходил лёгкий пар, – паровая модель! Гораздо резвее тех, что на упряжи. Я так и знал, что ты не станешь возиться с глупыми троллями.
– Намного удобнее, – поправил я, спрыгивая на землю и осторожно помогая слезть Глойде. – Особенно когда везешь хрупкий груз. А пара у нас в лесу много, дров не жалко.
– А груз-то у вас и вправду бесценный, – серьёзно сказал Зиггль, его взгляд скользнул по брезенту, укрывавшему Куб на платформе, а затем перешёл на Глойду. Его выражение смягчилось, стало тёплым и заботливым. – И не один, как я погляжу. Приветствую, будущая мама. Как самочувствие? Дорога не утомила?
– Всё прекрасно, Зиггль, – улыбнулась Глойда, положив руку на свой заметно округлившийся живот. – Твой племянник всю дорогу вёл себя как заправский механик – только постукивал время от времени, проверял, всё ли в порядке.
– Молодец! – Зиггль засмеялся. – Значит, будет в отца. А уж в дядю – так и подавно. Обещаю, к его рождению закончу проект – механическую колыбель с автоматическим укачиванием. Уже чертежи почти готовы.
– Только без паровых выхлопов над головой у младенца, – сказал я с показной строгостью, но в моих глазах светилась благодарность.
– Будет тихая маховая система, на гирях, – с достоинством ответил Зиггль, принимая из их телеги небольшой дорожный сундук. – Проходите, проходите. Отец ждёт.
В этот момент в дверях появилась внушительная фигура старейшины Гноббла. Он казался таким же, как и много лет назад: чуть сгорбленный, с руками, испещрёнными шрамами и следами машинного масла, которые не отмывались уже никогда, с умными, пронзительными глазами, скрытыми под нависшими густыми бровями. Но в его осанке теперь чувствовалась уверенность патриарха и успешного предпринимателя.
– Хватит орать на всю улицу, Зиггль, – спокойно, но так, что братец моментально притих, произнёс Гноббл. – Заноси вещи. Йоль, Глойда – проходите. Добро пожаловать домой.
Дом внутри поражал не столько роскошью, сколько продуманным, основательным комфортом и явной любовью к механике. Полы были выстланы тёплыми дубовыми плахами, по стенам тянулись медные трубы отопления, от которых исходило ровное, сухое тепло. Помимо обычных магических светильников, здесь были и газовые рожки – их свет был мягким и ровным – питаемые от собственной скважины, – мастер Гноббл всегда верил в дублирование систем. Повсюду стояли механические диковинки: огромные напольные часы с кукушкой, которая была не птичкой, а миниатюрной кованой мехамухой; автоматический подаватель дров в камин; даже небольшой лифт-подъёмник между этажами, работавший на пару от домашнего котла. Это был дом гоблина, который не просто разбогател, а превратил своё ремесло в философию быта.
– Для вас гостевые комнаты на первом этаже, – сказал старейшина Гноббл, ведя их по широкому коридору. – Сами понимаете, с тем, что у вас на телеге… вам лучше быть ближе к мастерской. Там всё готово.
Первая комната была просторной и светлой, с большим окном. В углу, к моему удивлению, уже стоял прочный дубовый стол, явно предназначенный для установки Глифа, и даже были подведены гибкие шланги для подключения к паровому контуру дома. Старейшина Гноббл видел мой взгляд.
– Чародей Бримс предупредил, что вам нужно будет работать, – коротко объяснил он. – Нечего таскать туда-сюда такую ценность. Зиггль! Принеси аппарат с телеги. Осторожно, как хрусталь!
Установка Глифа в новой мастерской заняла остаток дня. Мастерская Гноббла, расположенная в пристройке, была царством масштаба: здесь собирали и тестировали серийные мехасчёты нескольких модификаций перед отправкой в магазины по всей стране. Воздух гудел от десятков работающих механизмов, звенели звонки, перфорировались ленты, суетились работники. Зиггль, получив от Йоля краткие инструкции, с радостью подключил к делы с десяток свободных мехасчёт для предварительных, рутинных расчётов – наверняка нужно будет обрабатывать ворох сырых данных от магов.
А данные были именно что сырыми. На следующий день в ратуше, в специально подготовленном зале с массивными дубовыми столами, мне и Глойде вручили стопку пергаментов. Это были отчёты наблюдателей Палаты магии за последний год. Не цифры, а описания: «на севере, в секторе три, небо подёрнулось рябью на время, равное двадцати ударам сердца»; «эманации в районе старого рудника пульсировали с частотой, вызывающей тошноту у дежурного мага»; «предсказание с помощью синей и белой магии дало противоречивый символ, будто бы реальность двоится». И отдельно – листы с записями попыток магов найти закономерность. Кто-то из них, методом проб и ошибок, подобрал комбинацию из трёх старших рун – например, Зип, Орс, Анд, – которая, по их мнению, начинала слабо светиться за несколько часов до появления видимого «шва». Но корреляция была неточной, больше похожей на угадывание.
– Ваша задача, – сказал Бримс, собравший в зале небольшой совет: самого себя, нового градоначальника Орешника – почтенного и упитанного, жизнерадостного гоблина по имени Борк, любившего всё техническое, и пару старших магов-теоретиков, – построить модель. Установить связь между этими качественными описаниями, показаниями наших кристаллических решёток и проявлениями аномалий. Если сможете предсказывать, где и когда возникнет следующий разрыв – это будет величайшим триумфом.
Градоначальник Борк, сияя, добавил:
– Город готов предоставить любые ресурсы, сынок! Любые! Орешник будет в истории как место, где не только считали, но и предвидели!
Мы с Глойдой погрузились в работу на несколько дней. Мы превратили одну гостевую комнату и часть мастерской Гноббла в наш штаб. Я бился над переводом качественных описаний в количественные параметры. Что такое «рябь»? Её можно оценить по продолжительности и предполагаемому угловому размеру. «Пульсация, вызывающая тошноту» – это определённый диапазон частот мерцания эманаций. Глойда, с её практичным умом, составляла таблицы, сводя разрозненные заметки в единую, пусть и дырявую, матрицу данных. Зиггль, как верный оруженосец, гонял мехасчёты на перегонки, выполняя за нас объёмные, но простые вычисления – нормировку, усреднение.
Эти несколько дней стали для нашей маленькой компании в доме старейшины Гноббла временем напряжённого, почти лихорадочного творчества. Гостиная превратилась в лабиринт из столов, заваленных пергаментами. Я, с налитыми кровью глазами, бился над главной проблемой: как превратить слова «рябь», «дрожь», «тошнотворная пульсация» в числа, которые сможет съесть Глиф.
– Нельзя просто присвоить «ряби» произвольный вес! – в очередной раз воскликнул я, в ярости швыряя в угол смятый лист. – Это ненаучно! Это подгонка!
– Это практично, – спокойно парировала Глойда, не отрываясь от своей таблицы. Она выстраивала сводные данные, и её стол был образцом порядка. – Если все маги описывают «рябь» как нечто длящееся «около двадцати ударов сердца», значит, это объективный параметр – продолжительность. Бери его. «Тошнотворная пульсация» – все очевидцы отмечали, что она совпадала с показаниями синих кристаллов на решётках. Значит, берём силу эманаций в зоне синей индукции. Мы не строим Истину с большой буквы, Йоль. Мы строим карту. И карта вполне может быть условной, но при этом оставаясь полезной.
Наши споры были жаркими, но продуктивными. Зиггль, который сам себя назначил главным по мехасчётам, носился между рядами машин, загружая их перфолентами. Его восторг от массовой и шумной работы механизмов был заразителен.
– Смотри, Йоль! – кричал он, подбегая с пачкой свеженапечатанных лент. – Пока ты споришь, я уже трижды всё пересчитал! Эти штуки – огонь! Может, и нам такой для дома? Например, чтобы рассчитывать потребность в запасах?
Я отмахивался, но иногда простодушные вопросы брата заставляли меня останавливаться. «А почему мы решили, что шов – это плохо? Может, это просто новый вид облака?» – спрашивал Зиггль. И я понимал, что за деревьями формул могу не видеть этого леса. Мы вслед за магами Орешника исходили из постулата, что стабильность – благо. А если нет?
Однажды вечером, когда у меня от усталости уже двоилось в глазах, к нам заглянул старейшина Гноббл. Он молча постоял, наблюдая за хаосом творчества, за тем, как я яростно чертил на доске какие-то немыслимые символы, как Глойда терпеливо сводила воедино разрозненные данные.
– Знаешь, в механике есть правило, – тихо сказал он, обращаясь больше к воздуху, чем к нам. – Когда огромный, сложный агрегат начинает стучать, глохнуть, вести себя странно, не нужно сразу лезть в его теорию. Найди одну шестерёнку, которая первой вышла из зацепления. Покажи мне не общую модель мира, сынок. Покажи мне ту первую «шестерёнку», ту самую руну или условие, после которой пошла цепная реакция. Найди точку первого сбоя.
Эта мысль, простая и глубокая, как удар молота по наковальне, засела в моём сознании. Я отложил свои глобальные расчёты. Вместо этого мы с Глойдой начали искать в данных не общие закономерности, а аномалии внутри аномалий. Что было прямо перед самым первым зафиксированным «швом»? Не за год, а за час. И мы нашли: за сорок минут до разрыва в трёх соседних секторах сила эманаций белой магии падала почти до нуля, а затем делала резкий, пикообразный скачок. Как будто бы мир делал перед разрывом глубокий вдох и задержку. Это и была та самая «шестерёнка». Всё остальное – предсказание места и времени – стало задачей для Глифа, но отправной точкой был этот простой, почти механический принцип: ищи первый сбой в синхронизации эманаций магии.
А потом настал черёд Глифа. Я, закрывшись в тишине, конструировал программу. Я рисовал на огромных листах сети связей – последовательности решений. «ЕСЛИ зафиксирована вспышка в спектре синего И продолжительность более пяти условных единиц, ТО увеличить вес фактора «нестабильность» в северном секторе». Эта логика, выраженная в символах «А» (истина) и «О» (ложь), затем переводилась в длинные последовательности младших рун I и O, которые я с величайшей тщательностью вручную выбивал на перфокартах специальной пробивной машинкой. Каждая карта – команда. Колода карт – программа. Это был титанический труд – мозоли на пальцах и сгорбленная спина. Глойда приносила мне еду и молча массировала плечи, понимая, что здесь нельзя мешать.
Наконец, настал день демонстрации. Глиф торжественно, на специальных носилках, перенесли обратно в зал ратуши. Теперь зал был полон. Пришли не только Бримс, градоначальник и маги, но и многие старейшины, самые уважаемые мастера города от всех гильдий. Старейшина Гноббл стоял в стороне, стараясь сохранять невозмутимость, но его глаза блестели. Мастер Зиггль вертелся как юла, пытаясь всё увидеть.
Я, с бледным от бессонницы лицом, но с твёрдыми руками, загрузил в Глифа колоду перфокарт. Затем я вставил в дополнительный слот рулон пергамента с подготовленными вводными данными – координатами секторов вокруг Орешника и историей наблюдений. Я сделал глубокий вдох и потянул главный рычаг.