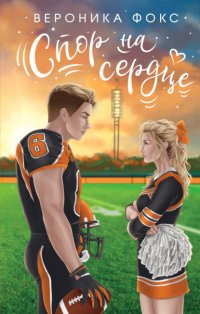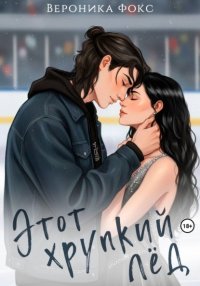
Читать онлайн Этот хрупкий лёд бесплатно
- Все книги автора: Вероника Фокс
Глава 1. Лада
Этой историей я прикасаюсь к памяти мамы – человека, ушедшего слишком рано из жизни. Она была моим нерушимым берегом: к нему я прибивалась в шторма, на него опиралась, когда подкашивались ноги. Её вера в меня жила до последнего вздоха – и живёт во мне до сих пор. Она научила меня видеть в мире не только холод, а еще и тёплые руки, готовые подхватить, когда ты падаешь.Моя мама отдала юность хрупкому льду – он был для неё глотком воздуха, мечтой, пульсирующей в венах. Но коварная зависть той, кого она любила как родную сестру, перечеркнула путь: сборы, что могли решить её судьбу, остались позади.Тогда мама выбрала иной путь – посвятила жизнь спасению людей, поступив в медицинский. Но в глубине души она так и не покинула лёд. Он навсегда остался местом, где застыла её юность, —остался прекрасным и безжалостным, как теплое воспоминание.Спасибо за терпение, которое ты в меня вложила. Ты – свет, что никогда не погаснет в моем сердце.Вечная память. Вечная любовь.
Контроль – он всегда начинался с мелочей. С того, как именно я складывала последние вещи в спортивную сумку. Как поправляла ремешок на чехле для коньков, будто от этого зависело всё. Как воздух рвался у меня в груди, когда дверь захлопывалась за моей спиной, оставляя позади всё, что я знала. А впереди не было ничего. Кроме пустоты, обещавшей стать новым миром.
Я считала шаги. Семьдесят два ровных, отмеренных шага от такси до стеклянных дверей общежития. Одна улыбчивая консьержка. Двое дворников, сметающих прошлое с тротуара. Три автомата с кофе, выстроившиеся в ряд на первом этаже, и сотни незнакомых лиц, в которых мне предстояло потеряться.
Вся моя новая жизнь помещалась в две спортивные сумки, чехол для коньков и небольшой чемодан. Мама пыталась вручить мне ещё один пакет – с домашним вареньем и фотографиями в рамочках. Я мягко отстранила её руку. Некоторые вещи нельзя было брать с собой.
Они тянули назад.
– Так, посмотрим… – консьержка уткнулась носом в список, водя по нему острым ногтем. Я сглотнула. Комок в горле был тугим и неподатливым. – Пе-чё-ри… – бубнила она.
Я оглянулась. Место было новым – пахло свежей краской и чужими надеждами. Плитка на полу блестела так, что в ней можно было утонуть. Я уставилась на мыски ботинок, словно надеялась найти там ответы на свои вопросы. Но вместо них увидела лишь своё отражение.
Оно было размытым, но достаточно чётким, чтобы разглядеть усталую и амбициозную фигуристку. Ту, что мечтает оправдать ожидания родителей, мечтает, чтобы они гордились ею.
– Ага, нашла, – голос консьержки вывел меня из оцепенения.
Конечно, я была в списках. Весь мой путь – от Красноярска до Петербурга – был расписан и утверждён. Но знать что-то головой и чувствовать это нутром – две разные вселенные.
И тут за моей спиной раздался смех – громкий, раскатистый, беспечный. Я обернулась.
По коридору шли трое. На полголовы выше меня, с широкими плечами, будто привыкшими расталкивать мир на своём пути. Их самоуверенные улыбки словно заявляли: «Мы здесь хозяева».
Спортивные костюмы, чехлы с коньками за спинами…
Хоккеисты.
От них веяло запахом победы и безнаказанности, которая даётся лишь избранным.
Я усмехнулась про себя – горько, почти незаметно.
Парни…
Последнее, что мне было нужно на пике карьеры. Мои мысли принадлежали только льду, грядущему чемпионату – и ничего больше. Абсолютно ничего.
Но даже сквозь всё это что‑то внутри щёлкнуло, включилось само по себе. Какая‑то женская внутренняя шкала оценки, которую я вовсе не просила себе в подарок.
– У тебя третий этаж, женское крыло… – доносился голос консьержки, будто из‑под толщи воды.
А я смотрела на них. Они почти поравнялись со мной, споря о чём-то с жаром.
О тренировке. О девчонках. О чём угодно, что давалось им так же легко, как дышать.
Тот, что светлый, жестикулировал так, словно доказывал, что лёд на арене принадлежит только ему. Двое других подначивали его, смеясь над каждым словом.
Меня буквально выворачивало наизнанку от такого вот типажа.
– Эй, новенькая? – один из темноволосых замедлил шаг.
Его взгляд, тяжелый и оценивающий, прошелся по фигуре, задержался на чехле с коньками, уставился в лицо. Я почувствовала, как предательское тепло разливается по щекам, и возненавидела и его, и саму себя за эту мгновенную слабость.
Я просто смотрела сквозь него.
– Похоже, немая, – фыркнул его клон, второй темноволосый.
– Или просто слишком хороша для таких, как мы, – с наглым хохотом вставил первый..
Но тот, что был светлее других, лишь тихо хмыкнул, перебрасывая свой чехол на другое плечо. И его глаза… Серые, холодные и прозрачные, как лед на Неве в феврале, на секунду поймали мои.
– Цыпочка ничего, – темноволосый, что стоял ближе всех, облизнул губы. Этот жест был таким дешевым, таким отработанным, что у меня внутри все сжалось.
Он пытался транслировать «ты мне нравишься», но все, что я считывала, было «ты – свежее мясо».
– Тем, идем! – блондин уже толкал стеклянную дверь. – Треня не ждет!
Тот, кого звали Тем, еще на секунду задержал на мне этот липкий, самоуверенный взгляд. Подмигнул. Развернулся и ушел, нагоняя свою шумную братию.
Я выдохнула со свистом.
– Это наши местные боги, – голос консьержки прозвучал тихо, почти по-матерински, когда она протягивала мне ключ. Ее пальцы были тонкими и морщинистыми. – Правила для них пишут на воде, девочка. Осторожней.
– Понятно, – мой собственный голос прозвучал глухо и отстраненно. – Спасибо.
– Тебе в левое крыло. По главной лестнице наверх и налево. Не заблудишься.
Я взяла сумки и направилась в свою комнату.
***
Ледяной ветер ворвался в душу задолго до того, как я переступила порог дворца спорта «Кристалл». На улице январь устроил настоящий спектакль – снежинки кружились в воздухе, будто репетируя свой идеальный пируэт. Я шла за тренером по длинному коридору, глядя на ее прямую спину, как на маяк в незнакомом океане.
Марина Львовна. Сухопарая женщина лет сорока пяти, с серебряными прядями в светлых волосах, собранных в такой тугой пучок, что казалось – он натягивает ее кожу, делая лицо более строгим, чем оно есть на самом деле. Глаза у нее – цвета старого льда, пронизывающие и чуть усталые. Я видела много таких глаз за свою спортивную жизнь. Глаза, которые видели слишком много падений и слишком мало честных побед.
– Распорядок простой, Лада, – говорила она, шагая уверенно, не оборачиваясь. – Подъем в шесть утра, завтрак в столовой общежития к шести тридцати. Затем – первая тренировка с семи до десяти. Обед, сон – час. Вторая тренировка с четырнадцати до семнадцати. Вечер – университет или дополнительные занятия с хореографом. Отбой в двадцать два тридцать. Воскресенье – отдых, если нет соревнований.
Я кивала, но не слышала половины слов.
В голове крутилось только одно имя: Максим Артеев.
Я выучила его наизусть, еще когда мое имя произнесли рядом с его в устах тренерского совета.
Я видела его фотографии на обложках «Ледового спорта» и «Спортивной России». Перелистывала его аккаунт в соцсети – единственный раз за два года, когда я нарушила свое правило не лезть в соцсети.
Тридцать две тысячи подписчиков. Сто тридцать шесть комментариев под каждым постом. Бесконечные сердечки и восклицательные знаки от девчонок, мечтающих прикоснуться к его славе.
А у меня был только чемодан, набитый костюмами со стразами, которые я сама пришивала по ночам, когда другие студентки пели под гитару. Мамины фотоальбомы с моими детскими выступлениями. И одинокий шрам на запястье, о котором никто не знал
– Максим – особенный спортсмен, – продолжала Марина Львовна, останавливаясь у стеклянной двери с надписью «Каток 1. Резервировано». – Он привык к дисциплине и не терпит опозданий. Его время – дорого. И он требует того же от партнерши. Ты должна быть готова к этому. Готова полностью отдаваться работе.
– Я всегда готова, Марина Львовна, – ответила я, чувствуя, как голос звучит чуть выше обычного. Не от страха, а от лжи.
Я не была готова к нему. К его славе. К его требованиям. К его глазам, которые, наверное, видят больше, чем должны. Но это был единсвтеный шанс ну лучшую жизнь.
В этот момент ее телефон зазвонил – настойчивый, деловой звук, который разрезал напряжение в воздухе. Она взглянула на экран, извиняюще подняла палец.
– Минутку, – сказала она, отходя в сторону. – Зайди внутрь. Максим уже на льду. Разогревается. Я присоединюсь через пять минут.
Я осталась одна перед дверью, за которой скрывалась моя новая жизнь.
Глубокий вдох. Выдох.
Дверь скрипнула, открывая путь в другой мир. Холод ударил в лицо. Воздух был насыщен запахом льда и металла – специфический аромат арены, который я узнаю с закрытыми глазами.
Каток простирался передо мной белоснежным полотном, идеально гладким и безупречным. По периметру – высокие стеклянные ограждения, слегка запотевшие от перепада температур. Над ареной висели мощные светильники, заливающие лед ярким, безжалостным светом, не оставляющим тени для сокрытия ошибок.
В центре этого белого мира, как черная точка на чистом листе, катался он.
Максим.
В чёрном облегающем термобелье и простом сером худи с капюшоном. На голове – массивные чёрные наушники.
Он был погружён в себя и в музыку, которую слышал только он. Его движения были отточены до безупречности.
Он разгонялся, делал стремительную тройку, затем – резкий, мощный толчок. Тело взмывало в воздух, закручивалось в идеально собранный штопор – тройной аксель. Вращение было таким быстрым, что сливалось в серебристое пятно. Приземление – бесшумное. Лезвия коснулись льда с едва слышным поскрипывающим шорохом, без единого брызга. Он не просто выполнил элемент – он его присвоил, сделал частью своей воли.
Я застыла у бортика: сумка выскользнула из ослабевших пальцев и мягко шлёпнулась на пол.
Этот парень был воплощением всего, чего от меня ждали: силы, контроля, бесстрашия.
Он закончил каскад, скользил задом, широко расставив руки, будто обнимая пространство. И его взгляд, скользящий по пустым трибунам, наткнулся на меня.
Он не удивился. Не смутился. Он просто плавно развернулся и поехал прямо ко мне, не сбавляя хода. Снял один наушник. Второй остался прижатым к уху, из него доносился смутный бит.
– Ты опоздала на семь минут, – сказал он.
Голос был низким, ровным, без капли дружелюбия.
– Марина Львовна…
– Я говорю на другой языке? – его вопрос заставил меня оцепенеть. – Мое время стоит очень дорого, если ты не замтеила, – он остановился в метре от бортика, его дыхание не было участившимся. От него исходил лёгкий пар и запах холодного воздуха с оттенком чего-то древесного, дорогого. – Ты Лада, да?
Я кивнула, чувствуя, как язык прилип к нёбу, поэтому просто кивнула головой.
– Я – Максим. Хотя ты и без того должна знать, кто я такой.
– Видела, – прохрипела я в ответ.
Он ухмыльнулся. Теперь я понимала, почему все девчонки мира мечтали прикоснуться к нему. Максим был невероятно харизматичен. Стоило ему лишь взглянуть на меня, как тут же возникало ощущение, будто я провинилась или сделала что‑то не так. Под натиском его зелёных глаз было невероятно сложно сохранять самообладание.
– Ну и что ты стоишь? А? – Он раскинул руки в стороны. – Давай, показывай, что умеешь.
В этот момент подошла Марина Львовна. Её лицо оставалось невозмутимым.
– Максим, дай девушке подготовиться. Лада, оставь вещи здесь и разомнись. Начни с кардио, потом – динамическая растяжка. Давай, пошла!
Голос тренера вернул мне долю твёрдости. Я резко наклонилась, сняла старую олимпийку – казанскую, с выцветшим гербом, – и бросила её на стул. Под ней оказались простой чёрный лосиновый топ и леггинсы.
Сделав глубокий вдох, я начала разминку: бег на месте с высоким подниманием бедра – чтобы разогнать кровь; выпады вперёд – глубокие и ровные, с отчётливым ощущением растяжения в бёдрах и паху; махи ногами – вперёд, в сторону, назад: плавные, но с усилием, чтобы увеличить амплитуду; наклоны к прямым ногам – грудью к коленям; вращения суставов – от шеи до лодыжек.
Всё это время я ощущала его взгляд
Он катался широкими, ленивыми кругами вокруг центральной части, всегда оставаясь в поле моего периферийного зрения. Как акула ждущая свою жертву.
Когда я встала в шпагат на полу (гибкость всегда была моим козырем), он проехал так близко, что брызги от его коньков холодной росой упали на мою голую щиколотку. Я вздрогнула.
– Неплохо, – произнёс он сверху. – Для начала. Теперь покажи, что ты можешь на льду.
Он протянул руку, чтобы помочь мне встать. Инстинктивно я отшатнулась, поднявшись сама, резко и немного неуклюже. Его рука повисла в воздухе. Он медленно её опустил, но взгляд стал пристальным, изучающим. И тогда он заметил.
Его глаза, холодные и светлые, приковались к моему левому запястью. В момент резкого движения рукав сполз вниз, обнажив на несколько сантиметров кожу. И шрам.
Длинный, грубый, глянцево-белый, будто кто-то провёл по кремниевой коже тупым ножом. След, который не мог остаться от случайного падения.
Время замерло.
В его глазах промелькнуло любопытствою Как будто он нашёл недостающий пазл в чужой головоломке.
Я ощутила прилив жара, потом ледяного стыда. Рывком натянула рукав так сильно, что ткань натянулась до костяшек пальцев, скрывая всё. Дышать стало трудно.
– Не трогай меня, – выдохнула я, и голос прозвучал хрипло, не как у спортсменки, а как у загнанного зверька.
Он смотрел на меня ещё секунду, потом медленно кивнул, отводя взгляд на то место, где под тканью скрывался шрам.
– На льду командую я. И трогать буду тогда, когда это нужно, – сказал он тихо, но так, что каждое слово достигло моего уха сквозь гул арены. – Это парное катание, детка. Если ты не готова – твой чемодан со стразами ещё не разгрузили.
– Хватит разговаривать попусту, – строго сказала тренер. – Начинаем с базовых элементов. Максим, покажи ей переход в позицию «рыбка». Она никогда не работала в такой партнёрской связке.
Контроль начинается с мелочей. С того, как ты держишь руки. С того, как прячешь шрамы. С того, как отвечаешь на вопросы, на которые не хочешь отвечать.
Максим снова оказался в центре, ожидая меня. Его поза выглядела расслабленной, но я замечала напряжение в плечах, видела предвкушение в глазах. Он не просто показывал элемент – он демонстрировал своё превосходство.
– Подойди, – приказал он. – Покажи, что ты умеешь.
Я подкатила к нему, стараясь сохранить дистанцию.
Сделала вдох. Выдох.
Контроль.
Но что‑то шло не так. Его присутствие казалось слишком объёмным для этого льда – слишком требовательным, слишком личным.
И когда он вновь протянул руку, чтобы поправить мою спину, я почувствовала, как лёд подо мной становится хрупким.
Максим Артеев не просто хотел научить меня кататься с ним в паре. Он стремился разбить меня – и собрать заново так, как ему нужно.
Но он ещё не знал одной важной вещи.
Лёд может треснуть. Но он также способен выдержать удар.
Особенно если под ним – сталь.
***
Марина Львовна произнесла: «Неплохо для первого дня».
Слова упали в тишину, которая наступила, когда мы замерли перед ней у бортика, и я несколько секунд просто ловила ртом воздух, пытаясь осознать их смысл.
Это не было похвалой. Это было сухим, тренерским констатирующим фактом/ Но в моём измученном сознании, готовом к разбору полётов и новому витку унижений, даже это прозвучало как нечто невероятное. Крошечная щель в стене высоких ожиданий и моего собственного страха, через которую пробился лучик надежды.
Я кивнула, сжав губы, и почувствовала, как подступает странный ком к горлу. Боялась пошевелиться, чтобы не расплакаться или не рассмеяться истерично.
Я сделала последнее, глубокое скольжение к выходу, толчком оттолкнувшись ото льда. Момент, когда зубцы конька цеплялись за лёд для толчка, а потом лезвие соскальзывало на гладкий, твёрдый резиновый пол у бортика, всегда был для меня магическим. Резкая смена текстуры, звука, сопротивления. Одна реальность заканчивалась, начиналась другая.
На льду я была невероятно гибкой, быстрой девушкой. Здесь, на твёрдой земле, я снова становилась просто Ладой – уставшей, потной, с дрожью в перегруженных мышцах бёдер и спины.
Я не оглядывалась. Но всё моё существо было настроено на то белое пространство за мной. Я слышала его. Максим остался на льду. Ритмичный, шипящий звук его лезвий разрывал тишину катка: разгон, щелчок зубцов, глухой удар приземления после прыжка, резкое скольжение при остановке.
Он не ушёл. Он продолжил свой диалог со льдом – монолог совершенства, начатый задолго до моего прихода. Это действовало гипнотизирующе и одновременно отчуждающе.
Моё «неплохо» и выступление не изменили ровным счётом ничего в его вселенной. Он был солнцем в этой системе, а я – в лучшем случае новым, нестабильным спутником, чью орбиту только предстояло вычислить и взять под контроль.
Пока я копошилась, натягивая чехлы на лезвия, краем глаза я замечала его тень, мелькавшую по льду.
Он отрабатывал тройной аксель – снова и снова. Падал при жёстком приземлении, поднимался, отряхивал с плеча невидимую пыль и шёл на новый заход. Ни тени раздражения. Только холодная, механическая настойчивость.
Это была абсолютная поглощённость целью, в которой не оставалось места ни для чего человеческого, ни для чего чужого. На мгновение мне стало почти жалко его: жить в таком вечном, ледяном аду идеала, должно быть, невыносимо. Но тут же я поймала себя на этой мысли и внутренне сжалась. Сочувствие к нему? После сегодняшнего?
Это была слабость. А слабости здесь, как я уже начинала понимать, не прощали.
С сумкой в руке я направилась к выходу с арены. Не обернулась, когда тяжёлая дверь закрылась за мной, отсекая звук скользящего льда и оставляя в ушах лишь нарастающий звон собственной усталости.
Раздевалка встретила меня уже знакомым, но оттого не менее отталкивающим коктейлем запахов: хлорка, въевшийся в дерево шкафчиков пот, сладковатые нотки дешёвых духов и что‑то ещё – кисловатое, словно запах страха. В помещении было пусто, тихо и гулко.
Основной поток спортсменок уже разошёлся, унеся с собой гомон и энергию. Теперь это место казалось не просто комнатой для переодевания, а камерой хранения для усталых тел и потаённых мыслей. Давящая тишина выглядела обманчивой – в ней слишком явственно звучало эхо недавних голосов, шёпота и смешков, которые, я была уверена, касались и меня.
Я нашла свой шкафчик – №14, с новой, холодной металлической биркой «Печерина Л.В.», которая блестела под люминесцентными лампами, как свидетельство о моей временной прописке в этом мире.
Ключ, висевший на резинке на запястье, дрожал в моих пальцах. Адреналин начинал отступать, оставляя после себя мелкую, неконтролируемую дрожь.
Дверца открылась со скрипом, прозвучавшим невероятно громко в этой тишине. И первое, что бросилось в глаза, было не сложенное на полке моё скромное содержимое – простая футболка, джинсы, бельё, – а листок бумаги.
Обычный, в клеточку, явно вырванный из школьной тетради. Он был прилеплен к внутренней стенке шкафчика на жвачку. На нём – корявый, нарочито неразборчивый почерк, будто кто‑то писал левой рукой. Всего одна фраза:
«Новая шлюха Артеева?»
Я замерла, ощутив внезапную, острую волну иронии – горькой и едкой, поднявшейся откуда‑то из самых глубин подсознания.
«Шлюха». Какое емкое слово, какая исчерпывающая характеристика. Всего три часа на льду – и за это время он не сказал мне ни единого слова, а вердикт социума уже вынесен. И вынесен, судя по почерку и жвачке, не взрослой соперницей, а каким‑то подростком, чья ярость и зависть нашли столь жалкий выход.
Я фыркнула – коротко и беззвучно. Звук собственного смешка, пусть и саркастичного, отозвался в пустой раздевалке странным, гулким эхом.
Сняла бумажку, скатала пальцами в тугой, твёрдый шарик, ощутив, как бумага сопротивляется, будто не желая подчиняться. Затем, тщательно прицелившись, зашвырнула её в самый дальний, тёмный угол – под скамейку у раковин. Пусть валяется там вместе с пылью и чужими волосами.
Это не впервой. Сколько раз уже было: косые взгляды, шёпот за спиной, злобные записки… Зависть всегда ищет выход – а слабые выбирают самые дешёвые способы уязвить. Но я знаю одно: их яд не прилипает, если не давать ему зацепиться. И меня совершенно не волнует, что говорят за моей спиной. Сплетни – удел слабых.
Неприятный осадок остался, но он был больше похож на брезгливость, чем на боль. Я принялась доставать свои вещи, отчаянно пытаясь вернуть себе ощущение нормальности.
Я потянула дверцу, чтобы захлопнуть шкафчик, – решительным жестом отрезая себя от этого инцидента. И в тот самый момент, когда дверца уже пришла в движение, на пол передо мной упала густая тень, перекрыв свет.
– Ты новенькая?
Голос был низким, немного хрипловатым. Я вздрогнула так сильно, что дверца выскользнула из моих пальцев и с оглушительным грохотом ударилась о соседний железный шкаф. Звон ещё стоял в ушах, а передо мной, словно материализовавшись из этой гулкой тишины, уже стояла девушка.
Гимнастка. Это читалось в ней с первого взгляда – в идеальной, вытянутой, как струна, осанке, в тонких, но с чётким рельефом мышц руках, обнажённых майкой‑алкоголичкой, в высокой сложной причёске. Тёмные волосы цвета горького шоколада были убраны в тугой, безупречный пучок, из которого не выбивалась ни одна проволочная волосинка.
Она была красивой – но не той солнечной, открытой красотой, а другой: холодной, отточенной, опасной. В её карих, чуть раскосых глазах светилось не любопытство, а холодное, хищное внимание.
– Какое тебе дело? – вырвалось у меня прежде, чем я успела обдумать ответ. Усталость, остатки адреналина и этот внезапный испуг сделали меня резкой, почти грубой.
Её губы тронула едва заметная усмешка, словно она и ожидала такой реакции. Медленно, ничуть не скрывая этого, она оглядела меня с ног до головы. Взгляд её был бесцеремонным, оценивающим – точно у покупательницы на распродаже, которая прикидывает, стоит ли брать последний, помятый экземпляр.
Он скользнул по моим поношенным кроссовкам, задержался на простом свитере, на руках, вцепившихся в ремень сумки, на лице, где, я знала, явственно читались усталость и напряжение.
– Да так, – протянула она нараспев, играя с тонкой серебряной цепочкой на шее. – Просто интересно. Очередную куклу какого фасона будет натягивать на свой член наш золотой мальчик? У него, знаешь ли, уже разнообразная коллекция.
Внутри меня сначала все похолодело, будто меня окунули в ледяную прорубь, а затем мгновенно закипело – горячей, слепой яростью.
Я сделала глубокий, шумный вдох, пытаясь собрать в кулак все остатки самообладания, которые еще не унесло этим днем.
Лёд научил меня простому правилу: неважно, кто и как тебя сбивает. Важно – встанешь ли ты сам, не дожидаясь их разрешения.
Я видела достаточно Максима Артеева на обложках журналов и в соцсетях, чтобы понимать – для него я просто новая фигурка на шахматной доске его карьеры.
Но эти девчонки… они играют в другую игру. Они думают, что любовь и слава – это одно и то же. Что его внимание – это награда.
Я давно поняла: лед не прощает тех, кто слушает чужие голоса громче, чем ритм собственного сердца. Победа достается не тому, кто собирает аплодисменты, а тому, кто находит силу дышать в такт своему страху
Мне было безразлично, чьё имя он прошепчёт во сне. Меня волновало лишь то, кто поднимет олимпийскую медаль. И я была готова заплатить эту цену – даже если каждый день кто‑то пытался вбить клин между нами. Мой билет отсюда – золото. И если для этого нужно терпеть его руки на моей талии и их ядовитые слова – я выдержу.
Потому что настоящая боль – это когда теряешь контроль над собственным телом. А их сплетни? Всего лишь фоновый шум, который заглушит музыка на чемпионате мира.
– А тебе так обидно, что ты не в их числе? – спросила я, глядя ей прямо в глаза.
Мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидала.
Её лицо исказила мгновенная, словно вспышка, гримаса чистой, неподдельной злобы. Губы дрогнули, в глазах на секунду вспыхнул настоящий огонь. Но она оказалась хорошей актрисой: почти мгновенно взяла себя в руки. На её губах расцвела сладкая, ядовитая, неестественная улыбка.
Она сделала шаг ближе. Я почувствовала запах её парфюма – цветочный, тяжёлый, удушливый.
– Я? – фыркнула она с фальшивым весельем. – О, милая, нет. Я не первая. А ты, уверяю тебя, не последняя. Так что можешь выбросить из головы эти дурацкие надежды. Тебе не светит ни он, ни чемпионский титул рядом с ним. Ты для него – просто очередная удобная палочка‑выручалочка. Пока он не присмотрит себе кого‑нибудь… получше.
Я медленно провела языком по внутренней стороне щеки, сдерживая улыбку.
Спасибо за предупреждение, но я уже проходила через подобное. Когда Ирина ушла из спорта, меня обвиняли во всех смертных грехах. Неудачное падение, переломанные позвоночник. И я была заменой, которая выступила лучше, чем кто либо. А когда меня перевели в парное катание, все твердили, что я не справлюсь. А теперь я здесь – с Максимом Артеевым. Не потому, что он хочет меня, а потому, что я лучше всех исполняю его спирали.
И когда придёт время, я уйду от него с медалью на шее и чистой совестью. А они все ещё будут ждать своего шанса у двери его гримёрной, не понимая главного: чемпионки не ждут разрешения блестеть. Они просто выходят на лёд – и ослепляют».
Мысленно проговорив это, я наконец позволила себе лёгкую, почти незаметную улыбку.
Но её слова били по самым болезненным, самым потаённым местам. По тому страху, который я изо всех сил душила в себе: что я недостаточно хороша, что моё присутствие здесь – ошибка, временная замена. Во мне вновь и вновь проигрывался эффект отличницы: навязчивое, изматывающее ощущение, что я обязана быть безупречной.
Я не знала, что ответить. Вся словесная бравада иссякла. Мысли, приходившие в голову, казались детскими, жалкими, нелепыми. Нужно было прекратить этот разговор – немедленно.
Резко развернувшись к шкафчику, я сделала вид, что проверяю, не забыла ли чего внутри. Движения получились угловатыми, нервными. Мне нужно было просто уйти.
– Я с тобой закончила, – бросила я через плечо. Голос уже дал трещину, выдавая то, что я так старательно скрывала.
В следующий миг мир перевернулся, сжался до точки – ослепительной, обжигающей боли.
Жгучую, рвущую боль я почувствовала раньше, чем осознала, что произошло. Её пальцы вцепились в мои волосы у самого корня – у виска, там, где пряди выбились из хвоста. Хватка была железной и безжалостной.
Моё тело, расслабленное и не ожидавшее физического насилия здесь, в раздевалке, инертно подалось назад по траектории её рывка.
Звон. Белый свет в глазах. Острая, точечная боль в скуле и лбу. Я прижалась к металлу щекой, чувствуя его леденящую твёрдость. Дышать стало нечем. От неожиданности и боли в глазах сразу выступили слёзы, застилая всё белой пеленой.
– Слушай сюда, кукла, – её шёпот обжёг ухо, насыщенный ментоловой жвачкой и кислым привкусом собственной злобы. – Заруби на носу, раз твоя пустая башка не воспринимает слова. Чемпионкой тебе не стать. Ты слишком… – она резко дёрнула за волосы, вынудив меня стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть, – …деревенская, что ли. Таким, как ты, путь на золотой олимп закрыт. А на Максима даже не смотри. Он не для таких, как ты. Он для победителей. Уловила суть?
Я медленно повернула голову, преодолевая боль. Сквозь пелену слёз взгляд сфокусировался на её лице – слишком близко, слишком самодовольное.
Липкий, животный, всеохватывающий страх подкатил к горлу тошнотворным комом. Он сковал лёгкие, связал язык, превратил тело в неподвижную статую.
Я стиснула зубы так сильно, что на языке появился солоноватый привкус – я прикусила его до крови. Молчала. Всё, что я могла в этот момент, – не закричать, не заплакать, не подарить ей желанного зрелища моей слабости.
Впилась взглядом в ржавую щель на металле перед глазами, цепляясь за эту точку, как за спасательный круг. Концентрировалась на неровном крае металла, на пятне ржавчины, на микроскопических царапинах – лишь бы не чувствовать унижения, лишь бы не дать страху поглотить меня целиком.
– Я спросила, уловила? – её голос стал тише, но от этого звучал ещё опаснее. Пальцы снова дёрнули мои волосы, и по коже головы пробежали мурашки острой боли.
Я кивнула – едва заметным, сдавленным движением, насколько позволяла её хватка. Любое лишнее движение обещало новую волну боли.
Прошла вечность – или всего секунда, или десять. Время потеряло смысл. Наконец её хватка ослабла. Пальцы разжались, выпуская мои волосы.
Я услышала её шаги удаляющиеся по кафельному полу. Она не сказала больше ни слова. Просто ушла, оставив после себя шлейф тяжёлого парфюма и гнетущее ощущение её абсолютной, бесправной победы. Я стояла, прислонившись лбом и щекой к холодному металлу, дрожа всем телом, как в лихорадке. В ушах гудело.
Медленно, очень медленно, я отлипая кожей от металла, выпрямилась.
В небольшом зеркале, висевшем на противоположной стене, я увидела отражение. Бледное, искажённое маской шока и боли лицо с безумными, слишком большими глазами.
На лбу и на скуле расцветали красные, некрасивые пятна. Волосы торчали диким, перепутанным ореолом. Я выглядела именно так, как она меня назвала.
Испуганной зверушкой, загнанной в угол.
Сделала еще один глубокий, сдавленный вдох, заставила свои руки двигаться. Собрала вещи, запихнула их в сумку, не глядя, натянула куртку.
Пальцы плохо слушались, застегивая молнию.
Тогда мой взгляд случайно упал на тёмный угол, куда раньше я забросила бумажный шарик. Я замерла, словно пронзённая этой находкой. Потом, двигаясь почти механически, подошла, наклонилась. Голова тут же закружилась от резкого движения, но, стиснув зубы, я всё‑таки подобрала смятый листок. Развернула его и дрожащими пальцами разгладила по колену.
Кривые, злые буквы будто оживали на ладони, впиваясь в сознание: «Новая шлюха Артеева?»
Не знаю, откуда во мне проснулась эта ярость, но я с неистовой силой разодрала листок над раковиной – словно вырывала из себя всё накопившееся негодование, всю ту злость, что давно бурлила внутри. Кусочки бумаги, кружась, упали в раковину, а я застыла, тяжело дыша.
Глубокий вдох. Медленный выдох. Ещё один. И ещё.
Они ни в коем случае не должны узнать, что творится у меня на душе. Потому что, если узнают, я стану уязвимой. А уязвимую – легче подбить, выбить из колеи, выбросить из гонки за золото.
Глава 2. Демьян
Санкт‑Петербург встретил меня бесконечными коридорами спортивного комплекса «Ледяной Кристалл».
Камера, нацеленная прямо в лицо, вспышки фотографов – всё это обрушилось разом, словно ледяной шквал.
Я сидел за столом, втиснутый в пиджак клубной формы, и чувствовал, как под плотной тканью холодеет спина. Плечи расправлены, взгляд – чуть выше голов в толпе, губы сжаты в нейтральной, почти безразличной гримасе. Меня учили, как вести себя на публике, и я уже на автомате принимал верную позу для журналистов.
– Демьян, «Спарта-М» проиграла третий матч подряд с вашим приходом в основной состав. Это совпадение или проблема в вашей адаптации? – голос из первого ряда принадлежал сухому мужчине в очках.
– Хоккей – игра командная, – мой голос прозвучал глухо, будто доносился из‑под толщи льда. – Мы анализируем ошибки и работаем дальше. Всё только начинается.
Отговорка номер один.
Кирилл, сидевший у стены за спинами журналистов, едва заметно прикрыл глаза, всем своим видом выражая смертельную скуку. «Засыпаю, Орлов. Разбуди, когда начнётся что‑то интересное», – читалось в его позе.
В зале гулял прохладный сквозняк, пахло полированным деревом и нервозностью. Я сжал пальцы под столом, ощущая, как ногти впиваются в ладони. Это не просто пресс‑конференция. Это было испытание, как проверка на прочность.
– Правда ли, что ваш стремительный уход из красноярского «Енисея» связан не только со спортивными амбициями? – вклинилась женщина с короткой стрижкой. – Что питерский клуб закрыл ваши существенные долги перед прежними… партнёрами? Или это были кредиторы?
Внутри всё сжалось в тугой, ледяной узел. Деньги. Вечно эти чёртовы деньги.
Я позволил уголку рта дрогнуть – едва заметно, в подобии снисходительной усмешки. Старый приём, которому меня научил агент ещё в юниорской команде: «Когда нет аргументов, улыбнись, будто услышал детский лепет».
– Финансовые условия трансфера – компетенция руководства клубов, – отчеканил я, глядя в пространство между головами журналистов. – Я сосредоточен на игре и на помощи «Спарте». Санкт‑Петербург – это новый вызов. Новый этап.
В зале на мгновение повисла тишина, нарушаемая лишь щелчками фотокамер. Я ощущал, как под воротником рубашки скапливается капля пота, но держал спину прямо. Нельзя показывать слабость. Ни здесь. Ни сейчас.
Женщина не отступала. Казалось, она нащупала мою слабину – как акула чует кровь в воде.
– Ваши финансовые трудности в Твери – не секрет для спортивного сообщества. Скажите, как ваша семья переживает этот груз ответственности? Особенно младший брат? Как на нём сказывается постоянное давление из‑за ваших… обязательств?
Она не назвала его имени. Но оно взорвалось у меня в голове с гулом колокола, отдавшись вибрацией в висках.
Миша.
Всё внутри дрогнуло. Небольшая, почти незаметная судорога пробежала по спине – будто по коже провели лезвием конька. Я невольно вздрогнул.
«Чёрт. Чёрт!»
Её глаза тут же загорелись холодным, торжествующим огоньком – попалась добыча. Она выцепила живое, задела то, что я прятал глубже всего.
Я наклонился к микрофону, скрывая мгновенное сжатие челюстей. Голос вышел ровнее, чем я ожидал, – будто лёд сковал гортань:
– Моя семья – моя поддержка. Их вера для меня важнее всего. Следующий вопрос.
Голос подвёл меня – в нём проскользнула хрипотца, обнажив всё внутреннее напряжение, которое я так старался скрыть.
Кирилл нахмурился, бросив на меня короткий, тревожный взгляд. Пресс‑атташе клуба, уловив момент, поспешно объявил о завершении конференции.
Я поднялся под вспышки камер. Улыбка застыла на лице – мертвенная, негнущаяся маска, которую я не мог снять. Аплодисментов не последовало, лишь равнодушный шорох блокнотов, шуршащих в руках журналистов, да тихое щёлканье затворов.
За дверью зала ждал прохладный коридор – оазис тишины после ослепительных вспышек и колючих вопросов. Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять дрожь в пальцах.
– Ну, все прошло неплохо, – затараторил Константин, поправляя свой пиджак.
Я ничего не ответил. Просто одарил его злобным взглядом. Эта выскочка не могла отобрать верные вопросы, чтобы не выбивать меня из колеи.
В раздевалке я первым делом выдернул телефон из куртки.
Четыре пропущенных от бабушки. Ледяная рука сдавила горло. Сердце колотилось в висках обрывистым, паническим ритмом: с Мишей что-то случилось.
Я сразу набрал ей, усевшись на скамейку. Гудки тянулись вечность – но наконец бабушка подняла трубку.
– Баб? – голос сорвался, стал предательски сдавленным.
– Дёмочка, ты не занят? – её голос, всегда тёплый и мягкий, словно плюшевое одеяло, теперь был пронизан тонкой, колющей проволокой тревоги. – Прости, что беспокою…
– Всё в порядке, я свободен. Что случилось? С Мишкой что? – слова вырывались пулемётной очередью.
– Нет‑нет, с Мишуткой пока всё… хорошо. В школу ушёл, портфель сам собрал, – она затараторила, и от этого у меня внутри похолодело ещё сильнее. Так она говорила, когда боялась озвучить главное. – Это… как его… лекарство. Ингалятор, Дёма, почти закончился. А новую упаковку по нашей льготной квоте выписывают только через неделю. Я звонила в поликлинику, умоляла, просила – но мне сказали, что только через неделю… Лимит исчерпан, говорят. Нужно ждать. Семь дней.
Тишина в трубке загудела в ушах, сливаясь с гулом в голове. Я закрыл глаза, прислонился затылком к стене.
Семь дней. Одна неделя. Один сильный приступ удушья – и этого жалкого, драгоценного пшика может не хватить.
Купить другой, нельготный? Он стоил как моя стипендия за два месяца. Стипендия уже была разобрана по крупицам: на прошлые долги, на коммуналку в питерской общаге, на дорогие витамины для бабушки.
– Дёма? Ты меня слышишь?
– Слышу, бабуль, – я собрал волю в кулак и выдавил из себя ровный, почти спокойный голос. – Ничего страшного. Это решаемо. У меня в медпункте института есть знакомый. Попрошу его что‑нибудь придумать.
– Сынок, да я знаю, как тебе сложно, ты и так…
– Баб, всё нормально. Договорились. Целуй Мишку. Вечером позвоню.
Я положил трубку и ещё долго сидел, уткнувшись взглядом в стену, пытаясь загнать обратно в клетку рвущуюся наружу панику. Она билась о рёбра, горячая и беспомощная.
Потом медленно, с преувеличенной осторожностью, убрал телефон в самый дальний, внутренний карман сумки, застегнул его на молнию.
Кирилл ждал меня у выхода, небрежно опираясь на дверной косяк.
– Конференция – просто отстой, – бросил он, поравнявшись со мной.
– Ага, – коротко ответил я, не глядя в его сторону.
Мы молча направились к выходу. Каждый шаг отдавался в голове глухим эхом недавних вопросов, будто невидимые крючки цеплялись за мысли и не давали отвлечься.
Лекция по спортивной психологии в университете стала единственным убежищем. Полумрак актового зала, монотонный голос пожилого профессора, пыльные лучи света, пробивающиеся сквозь высокие окна – всё это создавало странную, почти гипнотическую атмосферу покоя.
Здесь я был просто студентом. Не объектом сплетен, не «скандальной личностью», которую пытались утопить в чужих амбициях и грязных домыслах. Здесь я был никем. И это ощущалось как свобода.
Я забился в самый дальний угол на галерке, натянул капюшон, стараясь слиться с тенью. Закрыл глаза, вслушиваясь в размеренную речь профессора. Хотелось раствориться в этом ритме, забыть обо всём хотя бы на пару часов.
Но вдруг мой взгляд невольно выцепил силуэт – незнакомую женскую спину в переднем ряду. Что‑то в её позе, в том, как она сидела, выпрямив спину и чуть наклонив голову, заставило меня присмотреться.
Она не листала конспекты, не перешёптывалась с соседями. Она слушала. Внимательно, сосредоточенно – так, как слушал сейчас и я.
И от этого странного совпадения внутри шевельнулось что‑то новое. Едва уловимое любопытство.
Кто она? Почему я раньше её не замечал?
Вся аудитория так или иначе бросала на меня взгляды – любопытные, осуждающие, восхищённые. Я давно превратился в центр тихой бури, вокруг которого кружился мелкий сор пересудов и домыслов. Привык быть этим пятном, этой мишенью, этой фигурой на шахматной доске чужих ожиданий.
А она… Она словно принадлежала другому миру. Сидела прямо, не оглядываясь, не пытаясь поймать мой взгляд, не шепча что‑то соседке. В её неподвижности было что‑то почти вызывающее – полное отсутствие интереса ко мне, к шуму, к сплетням.
Я поудобнее устроился на скамье, облокотился на стол, слегка толкнул Кирюху плечом.
– У нас что, новенькая? – спросил я, не отводя взгляда от её спины.
Кирюха лишь качнул головой, скользнув по ней равнодушным взглядом.
– Говорят, новая партнёрша для Артеева.
– Кого?
– Ну этого, – он понизил голос до шёпота, будто произносил имя запрещённого божества, – «золотой мальчик» парного катания. У него в прошлом году партнёрша ушла – переехала за границу, оставила его ни с чем. Говорят, долго искали подходящую. И вот… нашли.
Я молча кивнул, продолжая разглядывать её. Прямая спина, аккуратно собранные в хвост волосы, строгое пальто, наброшенное на плечи. Ничего броского, ничего кричащего. Но в этой сдержанности чувствовалась какая‑то внутренняя сталь, что не ломается под грузом чужих ожиданий.
– А она знает, во что ввязывается?
Кирюха лишь пожал плечами, скользнув по ней равнодушным взглядом:
– Деньги не пахнут.
В этот момент преподаватель неожиданно задал вопрос, обращаясь к аудитории. Она не отреагировала – полностью погружённая в свои мысли, не услышала. Профессор повторил вопрос, повысив голос. В его тоне уже сквозило раздражение. Она вздрогнула так резко, будто её ударили током. Взгляд метнулся к слайду на экране – в нём на мгновение вспыхнула чистая, животная паника. Но уже через секунду она взяла себя в руки: лицо мгновенно преобразилось, превратившись в нейтральную, ничего не выражающую маску. Почти профессиональную.Такую же, которую я сам надевал считанные часы назад на пресс‑конференции.
Я невольно напрягся, уловив это сходство. В горле мгновенно запершило, и мне пришлось сдержанно откашляться, чтобы скрыть неловкость.
И в этот самый момент её взгляд, беспокойно метавшийся по аудитории, вдруг наткнулся на мой. Мы почему-то зацепились взглядами. Не знаю, это было слишком странное чувство, которое пробуждало во мне маленькое мужское любопытство.
Я не отводил взгляда, внимательно разглядывая её.
Упрямый подбородок, тёмные, слегка кудрявые волосы цвета горького шоколада. Глубокие карие глаза, в которых тонули отблески света от ламп. Небольшая родинка на подбородке – едва заметная, но придающая лицу особенное, неповторимое выражение. Высокие скулы, очерченные с почти скульптурной точностью, и ровные брови, изогнутые мягким домиком.
В её чертах не было ничего кричащего, ничего нарочито эффектного – лиш сдержанная, естественная красота, которая притягивает взгляд не броскостью, а гармонией линий.
Кирюха толкнул меня в плечо, ехидно ухмыляясь:
– Че, запал?
Я мотнул головой и отвел взгляд, стараясь скрыть неловкость.
– Ни капельки. Она не в моём вкусе.
– А мне кажется, она ничего так, – не унимался друг. – Я видел её раньше, когда она заселялась в общежитие.
Я приподнял бровь, невольно заинтересованный:
– Она в нашем общежитии?
– Естественно! – усмехнулся Кирюха. – Вообще, она какая‑то молчаливая. И, мне показалось, немного «не от мира сего».
– В смысле?
– Ну, мы шли с пацанами, начали прикалываться, подкалывать её, а она – ноль эмоций. Ни слова не сказала, только одарила нас таким удручающим взглядом… Мол, «вы серьёзно?» И всё. Скучная, короче. Но фигура зачет! Прежняя парница Артеева вообще была доской, даже не посмотреть ни на что. А эта вон, смотри какие линии.
Я промолчал, но в голове невольно промелькнула мысль: «А может, она просто не считает нужным опускаться до пустых шуток?» В её молчании виделась не скука, а скорее осознанная отстранённость – как у человека, который знает цену словам и не разбрасывается ими попусту.
Кирюха, не дождавшись моей реакции, пожал плечами и отвернулся, а я снова бросил взгляд в сторону девушки. Она по‑прежнему сидела прямо, сосредоточенно записывая что‑то в тетрадь, будто вокруг не существовало ни насмешливых взглядов, ни громких перешептывания.
Когда пара закончилась, мы начали собираться. Девчонки строили мне глазки, перешёптывались, бросали многозначительные взгляды – привычная рутина. Но мой взгляд, вопреки всему, снова и снова возвращался к новенькой.
Я наблюдал, как она спускается по лестнице аудитории – сдержанная, сосредоточенная, словно не замечающая окружающего шума. И в тот момент, когда она почти достигла нижнего пролёта, сидящая впереди Светка ловко подставила ей подножку.
Новенькая едва удержалась на ногах – инстинктивно выбросила руку вперёд, ухватившись за край перил. Её лицо на мгновение исказилось от напряжения, но уже через секунду она выпрямилась, сжала губы и продолжила путь, будто ничего не произошло.
Светка и её приспешницы что‑то прошипели ей вслед – сквозь гул собравшихся студентов разобрать слова было невозможно. Зато их смех прозвучал отчётливо, пронзительно, будто осколки стекла.
– Пойдём, – сказал Кир, небрежно облокачиваясь на моё плечо. – У нас тренировка.