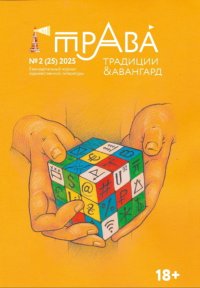
Читать онлайн Традиции & Авангард. №2 (25) 2025 бесплатно
- Все книги автора: Литературно-художественный журнал
Директор журнала
Березина Галина Николаевна
Главный редактор
Орлов Даниэль Всеволодович
© Интернациональный Союз писателей, 2025 © Галина Березина, 2025
© Даниэль Орлов, 2025
© Арсений Ли, дизайн, 2025
© Дизайн-бюро «Револьверарт», 2025
От редактора
Если что и прорастёт в полях, сожжённых войной, точно не злаки. Будет ли это горькая полынь отчаяния или сорная трава обиды? Чего ждать от нашей земли, вдоволь удобренной мазутом и кровью, если не поить её надеждой, если и правда каждому даётся по вере его? Во что верили мы все эти годы? Кому кланялись? В том Феврале выходили в это поле, слабы, растерянны и разобщены. Спеклись ли за три с половиной года вновь в единый народ, как после той войны? Превратились ли бурые камни руды в металл, из которого можно сковать плуг, чтобы вспахать вечность? А если нет, то как тогда?
Вспаханное войной время должно засеять, и только идеи дают устойчивые всходы. Тогда лишь сыт сам, когда прежде накормишь мир. Единожды надежды человечества мы уже предали, прельщённые блеском золота дураков. Мир не понимает, можно ли верить нам снова, знаем ли путь. Обидно? Не то слово! Сегодня – традиционные ценности и суверенность, а что завтра? «Нефть в обмен на продовольствие»? О да, у этой чёрной крови планеты резус-фактор меняется на биржах по несколько раз на дню.
Да что там мир – сами же в собственное мессианство верим с трудом. Проходя переулками обеих столиц, украшенными гирляндами мишуры, читая новости в Сети, листая форумы и ветки комментариев к постам «видящих», крепнем лишь в сомнениях, от которых до греха отчаяния лишь шаг. Может быть, с такой тесной близи нам просто не различить большого? Хорошо бы так.
Кто подскажет? Кто вразумит? Девятнадцатый и двадцатый века черпали силу и правду в литературе. Есть ли сейчас у русской литературы возможность стать опорой нации? Нынешние литераторы тонут в суете публицистики, почеркушках в блогах, пустой полемике в комментариях, где тиражируется банальность общих мест, где царит пошлость чванства и самолюбования.
Меня одновременно обескураживало и забавило, насколько публицистические высказывания современных писателей зачастую противоречат их же литературе. В прозе – деликатность и прощение, в публицистике – бесцеремонность и безапелляционность приговоров. В стихах – высокая частота любви, в статьях – почти инфразвук ненависти. Словно бы писали это разные люди.
«Ха-ха! – скажут мне. – Это ты ещё с художниками да композиторами не разговаривал». Но тому есть объяснение. Если публицистика строится на логике, на анализе фактов, то искусство, литература, а особенно поэзия как высшая форма абстракции – это интерпретация синтетического интуитивного знания, того, что люди задолго до нас назвали откровением. Откровение не имеет авторства, его автор тот, у кого лик един, а Имён не счесть. Оттого и задача художника – передать услышанное эхо гласа Горнего мира как можно точнее, как можно понятнее. Искусство – всегда перевод с Божьего на человеческий. Отсюда столь прост способ отличить искусство от ремесленничества: передалось воодушевление и желание созидать – значит, искусство. Пожалуй, и всё отличие. Творческий порыв, вдохновение – как состояние сверхпроводимости. Это когда то, что выглядело как чурбан, вело себя как чурбан и собиралось сгнить чурбаном, вдруг потянулось новыми ростками к небу. И вот уже шелест листьев и спасительная тень для путника.
Литература на «ать-два» не становится искусством. Мало темы и формы, мало мастерства и желания, не хватит лишь и одной уверенности в правоте или патетического гражданского горения. Должно свершиться таинству, почти метафизическому превращению нефти человеческого опыта в чистое электричество. Потому и редки вспышки света. Потому и вредно называть искусством то, что им не является. Потому и грех выдавать плевелы за зёрна. Плевелы, шелуха всходов на мазуте и крови не дадут, а наша земля не накормит ни нас, ни тем более остальной мир. Пусть лишь живое рождает живое, а остальному – тлен. Мы тоже не без греха. Но мы стараемся. Осознаём своё ничтожество и тянемся к свету. Это если «по чесноку».
Практически всегда ваш
Даниэль Орлов,
пока ещё главный редактор
Проза, поэзия
Новые и неизданные
Стихи
Андрей Сизых
Родился 4 августа 1967 года в г. Бодайбо Иркутской области. Окончил Иркутский государственный педагогический институт, исторический факультет. С 2012 года президент культурно-просветительского фонда «Байкальский культурный слой». Лауреат премии журнала «Футурум АРТ», финалист и дипломант Первого открытого чемпионата Балтии по русской поэзии, шорт-лист Григорьевской премии, шорт-лист премии «Московский счёт». Более десяти лет был организатором Международного фестиваля поэзии на Байкале им. А. Кобенкова.
Автор книг стихов «Интонации» (2009), «Аскорбиновые Сумерки» (2011), «Икра летучей рыбы» (2015), «Габаритные огни» (2016), «Полёт камбалы» (2018), «Багажная касса» (2022), «Весы времени» (2024). Публиковался в журналах Terra Nova, «Идель», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер», «Крещатик», «Плавучий мост», «Звезда», «Сибирь», «Алтай» и других. Состоит в Союзе российских писателей (СРП) и в Русском ПЕН-центре.
Живёт в Иркутске.
Афродизиак
- Калипсо, дочь Атланта и Плейоны,
- Не так пленит скитальцев и бродяг,
- Как яд Эвтерпы. Счёт на миллионы
- Вкусивших рифмы афродизиак.
- О грешники – герои и профаны,
- Рабы бессмысленных и хладнокровных букв!
- Себе самим наносите вы раны,
- Впечатывая строчки в ноутбук
- Или скрипя, как в старину седую,
- Стальным пером по писчему листу, —
- Подобно самохвалу ветродую,
- Впустую гимн поёте колдовству,
- Бесплотной деве – престарелой музе.
- Слова произнесённые мертвы!
- Как однодневки-мотыльки – иллюзий
- Недолговечных памятники вы.
- Тщеславные творцы мертворождённых,
- Живущие с обманом во грехе.
- Вас слава призрачная, словно заклеймённых,
- Приковывает к творческой сохе.
«В Потсдаме пасмурно и душно…»
- В Потсдаме пасмурно и душно,
- А в Трептов-парке тишина.
- И только чей-то змей воздушный
- Летит в другие времена —
- В Берлин, где посреди развалин
- Полощет ветер красный стяг.
- Где с транспаранта смотрит Сталин
- (Закрыв собою вход в Рейхстаг)
- Туда, где девочку от пули
- Спас русской гвардии сержант —
- Он и поныне в карауле,
- И меч в его ладони сжат.
- И словно кадр из старых съёмок:
- Сегодня в русском городке
- Фашистов бьёт его потомок
- С мечом карающим в руке.
- А в парк, что возле тихой Шпрее,
- С цветами в майский день придут
- Славяне, немцы и евреи,
- Чтоб поклониться павшим тут.
Тени
- Тенью пройду между старых домов —
- Серых панельных и чёрных сосновых,
- Где в переулках забытых годов
- Редко встречаешь товарищей новых,
- А вспоминая былые пути,
- Стёжки-дорожки, проходы-тропинки,
- Время – рассыпанное конфетти —
- Чаще приводит меня на поминки,
- Чем на пирушки студенческих лет,
- Где и друзья молодые, и сам я
- Юным подружкам изысканный бред
- Нежно шептали. И только касанья
- Нам позволяли они иногда
- Рук их горячих и щёк их горящих.
- Всё это было когда-то, когда
- Мы не скрывали ни чувств настоящих,
- Ни восхищенья невинностью их,
- Ни мимолётности очарованья,
- Ни откровенных желаний своих
- После единственного свиданья.
- Всё это тени! И я средь теней
- Тенью брожу, беспокоя прохожих.
- Память мне пишет на каждой стене
- Столбики слов, на поэму похожих.
«Что спасает от боли, когда вдруг умирает друг?»
Памяти Лады Пузыревской
- Что спасает от боли, когда вдруг умирает друг?
- Путь человека тяжёл и тернист, но совсем не долог.
- Память хранит все пожатия крепкие тёплых рук,
- Боль и улыбки того, кто для нас был и мил, и дорог
- В сутолоке, в беспокойствии наших бегущих дней,
- В том, что зовём иногда мы судьбою своею и Летой.
- В ежедневном безмолвном, бескровном сражении с ней
- Не бывает героев, и, как всегда, недопетой
- Остаётся строка главной саги про жизненный путь —
- Где-то яркой, а где-то немного наивной, банальной.
- Чтобы друг спел её и взгрустнулось ему чуть-чуть
- О былых временах в этой песне его поминальной.
18.05.2025
«Небо – синяя птица – зоб полощет зарёй…»
- Небо – синяя птица – зоб полощет зарёй,
- Из облаков лохматых гнездо над планетой вьёт.
- Если кошмар приснится, в землю его зарой,
- И если тебе не спится, отправляйся в полёт
- Над тихой ещё до срока землёю своих скорбей
- И радости безотчётной, где жил ты и счастья ждал.
- Лети, как с ладошки детской летит в никуда воробей,
- И вести неси благие всем тем, кто, как ты, не спал
- В прошедшую ночь тревоги и смуты, когда весна
- Безгреховно родится зелёной листвой и травой,
- Когда прорастают навстречу новой заре семена
- Цветов прошлогодних и злаков, как на востоке искрой
- Прорастает Светило, даря безвозмездно тепло.
- Лети в долгожданные дали – туда, где сбывается сон.
- Всё, что с тобою было, никуда от тебя не ушло,
- И ты, растворяясь в небе, живи до конца времён.
«Стрижи прилетели, и сердце поёт…»
Стрижи прилетели, и сердце поёт,
- Когда наблюдаешь их быстрый полёт —
- Как будто сам Бог открывает кавычки,
- Где лето распишет стрижей переклички
- Крылатыми знаками радостных нот.
22.05.2025
Настанет время
- Настанет время – снова сядем рядом
- Кропить дешёвой водкой разговор.
- Нас дружно будет память лихорадить
- И уводить из радости в минор.
- Мы выбрали такой детерминизм,
- Такую бешеную, с ямами стезю,
- Такую сросшуюся с терниями жизнь,
- Что пей – не пей, а ни в одном глазу.
- А позже заварганим чай обычный —
- Портяночный, грузинский в доску чай,
- Теперь надолго ставший заграничным,
- Чтоб под чифирь немного помолчать.
- Про наших вспомнить. И не наших тоже.
- Одних уж нет… Но мы ещё живём —
- Родные же до слёз нестыдных рожи
- Из края дикого, богатого рыжьём[1].
- Судьба – не фильм про «Золото Маккенны»!
- Нас породили дикие места —
- В притоках драгоценных речки Лены
- Мы родились свободу отыскать.
- Мы до сих пор не трусим и не верим.
- Просить о чём-то? Да помилуй Бог!
- Но истину единой мерой мерим —
- Родным до боли словом – Бодайбо.
- Настанет время – а оно настанет! —
- Мы снова будем вместе песни петь.
- Те, что хранить не перестанет память,
- Пока всех нас не одолеет смерть.
2006–2025 гг.
Ни о чём и обо всём, или Стихи во время прогулки
- Сибирская в прострации весна
- То снегом сыпала, то вдруг зазеленела.
- Жарой сменились дни легко и смело.
- Однако ночи холодны весьма.
- Как, впрочем, и всегда в краю бурлящих рек
- И северного озера, что морем
- Зовёт здесь каждый местный человек.
- И я, тому не прекословя, вторя,
- Снимаю шляпу пред скопленьем вод.
- Живу я здесь уже который год —
- От юности далёкой до седин.
- И вроде семьянин, но всё один
- Брожу обычно, очень не спеша,
- По городу губернскому, дыша
- То свежим ветром, с моря налетевшим,
- То копотью печных и прочих труб —
- Фабричных, выхлопных. А проще – вешним
- Я воздухом дышу, и он мне люб.
- Ну что же, этот мой анжамбеман[2],
- Как город наш – конечно, не фонтан.
- Зато фонтан есть в центре городском!
- Есть церкви милые, гостиные дворы,
- Но если честно, то грязней дыры
- Я не встречал нигде в рассеянье людском.
- И при царях богат был город мой.
- Когда-то на пропой давали золотой
- Извозчику матёрые купцы
- И городка всесильные отцы
- На Пасху не скупились. Всем владея,
- Они, как правило, все были иудеи,
- Но выкресты. Настроили дворцы
- Себе, больницы разным людям бедным,
- Гимназии, доходные дома,
- Но грязен город был ещё при них весьма
- И на события, как и сейчас, был бледным.
- Ну, что-то мысль моя течёт, как мысь[3] по древу…
- А надо бы сказать о прочих пустяках.
- Впустил бы я в стихи свои рассказ про деву
- Прекрасную, о Колчаке и о большевиках,
- Но ноги путника-поэта не внимают
- Ни словесам, ни мыслям – каждый миг
- Они пейзаж окрестный изменяют,
- Пока он бродит на своих двоих.
- И вот уже река прохладой бирюзовой
- Блестит на солнце – манит утонуть!
- Она была бы вовсе образцовой,
- Когда бы согревалась хоть чуть-чуть
- В своём истоке из морского чрева.
- Но нет – весь год безумно холодна.
- И, кстати, друѓ и, чем она не дева?
- Жаль, лишь в себя с рожденья влюблена.
- А я в соседстве с нею проживаю
- И, как теперь, до берега дойдя,
- Гуляю там по самому по краю,
- Беседы с ней неспешные ведя.
- И чушь несу, и в рифму сочиняю
- Про город, про любовь и про себя.
- Пытаюсь жить подобно речке быстрой,
- Бегущей вдаль куда-то навсегда,
- При этом оставаясь звонкой, чистой,
- Не убежавшей вовсе никуда.
- Она, себе желая жизни вечной
- И красоту и юность сохраня,
- Поёт о чём-то главном, бесконечном —
- Мятежно и светло, почти как я.
Крымское счастье
- От зари до зари, от темна до темна
- Эта пена морская, как брага, пьяна!
- Эти южные ночи, как женщины-вамп,
- Это счастье бессрочно дарящие вам!
- И рассветное солнце, сходящее с гор
- На Алушту и Ялту, Гурзуф и Мисхор,
- Зажигает сердца и огнём веселит.
- И всегда молодым оставаться велит.
- Море дивное, дай я тебя обниму
- За желанье взаимное счастья в Крыму,
- Где в зелёную тогу одет кипарис
- И глядит на людей, словно князь, сверху вниз,
- Где колышет прилив старый парусный ял
- И кипящей волной ударяет в причал.
- Где когда-то гуляла и юность моя,
- Словно солнцем июня, бессмертно горя.
«В дни майские, когда метели…»
- В дни майские, когда метели
- Черёмух снежный цвет несут,
- В Иркутске соловьи запели,
- Которых не слыхали тут
- Ни коренные горожане,
- Ни пришлые из мест иных.
- А птахи – нежные южане,
- Певцы любви, рулад ночных
- И трелей сладостных и длинных —
- Аккордами тревожат сон.
- И сердца ритм от песен дивных
- Звучит их нотам в унисон.
«Имея времени чуть-чуть…»
- Имея времени чуть-чуть,
- Не отвлекаясь всуе,
- Я мыслю – то есть жизнь влачу,
- А значит, существую.
- Всё сказано, и всё старо —
- Был прав старик Декарт.
- Я не гадаю на Таро,
- Но верю в силу карт,
- Где география страны,
- Планеты и моя
- В единство жизни сплетены —
- Лишь в этом магия!
- Мне остаётся завершить
- Свой глобус бытия —
- Смотать в клубок, страницы сшить
- Без лести и вранья.
Похолодало
- Затуманился свет – ненаставшее новое утро
- Выпадало в осадок колючим, несносным дождём.
- Нам кричали стрижи из-под туч антрацитных: полундра!
- Будто мы моряки и плывём через штормы вдвоём
- На борту обветшавшего в странствиях древнего судна,
- С мачтой, вырванной с корнем, как бурей в Крыму кипарис.
- И земля нам казалась, как море чужое, безлюдна,
- А у нас не осталось и малой надежды спастись.
- Мы смотрели из окон квартиры, мгновенно остывшей,
- На печальное буйство далёких арктических фей,
- И желали мы мира под нашей семейною крышей,
- Возвращенья любви и живого тепла вместе с ней.
Не плачь о Риме!
- Не плачь о Риме, о авлет![4] О греческих царях
- Не пой, аэд[5] иль кифаред[6], не поминай сей прах.
- Их солнце древнее зашло с улыбкой на устах,
- И утопил Харон весло давно в других слезах.
- Остались только имена, значенья изменив.
- Но и теперь идёт война под ветвями олив
- И гибнут отроки в бою за власть царей иных,
- Но эту песню я пою не про мужей земных,
- Не про несчастных матерей, про жён и про сирот.
- Пою, что Мир не стал мудрей и лишь войной живёт,
- А русским подлости чужды! Языческая спесь —
- Мать вожделенья и вражды – не будет править здесь!
- В стране, где до Небес верста, а до царя сто вёрст,
- Над нами только власть Христа – с рожденья и до звёзд.
Казаки-ушкуйники
- А ты веди нас, атаман,
- Куда глаза глядят —
- Через восход, через туман
- И прямо на закат!
- Мы нынче смирные твои
- Соратники и слуги,
- Ты нас допьяну напои,
- Как мы взойдём на струги,
- Как мы возьмёмся за весло,
- Как мы подымем парус.
- Чтобы в бою всегда везло,
- На стяге вышит пардус[7] —
- Охотник жадный и лихой,
- Ушкуйник и убивец,
- И смел сей зверь куда с лихвой!
- Да и в любви счастливец.
- Веди нас в битвы, атаман,
- За доброю добычей,
- Чтоб золотом звенел карман,
- Чтоб песнею девичьей
- Казачьи полнились сердца,
- Вздымалась плоть бесстыже.
- Мир – хижинам, война – дворцам!
- И воля тем, кто выжил.
Стихов и сказок отпечатки
- Не довелось мне пить вина кометы,
- Тем более чтоб пробка в потолок!
- Зато в «Онегине» люблю читать про это.
- А как же не любить, помилуй бог.
- Кто нам родней всего и сердцу ближе,
- Кто встал с пророками и гениями в ряд?
- Живя хоть в Петербурге, хоть в Париже,
- Все русские как Пушкин говорят.
- В России, от Ростова до Камчатки,
- Простого слова и любимых фраз,
- Его стихов и сказок отпечатки
- В любой душе и на сетчатке глаз.
- Ещё и то любезно мне, потомку
- Тунгусов диких, внуку казаков,
- Что я, как Пушкин, рифм головоломку
- Слагаю лучшим из известных языков.
Троица
- Видел маму-покойницу в воскресенье, на Троицу —
- Приходила во сне помолчать.
- Улыбалась – не плакала, ни словами, ни знаками
- Мне не стала она отвечать.
- За собой не звала, не ругала, не гневалась —
- Посмотрела тепло и по полю пошла…
- И душа у меня безмятежною сделалась —
- Не осталось ни капли в ней гнева и зла.
- А когда луч лазоревый сдвинул штору оконную
- И по векам моим пробежал налегке,
- Я почувствовал, как прикоснулся ладонью
- Кто-то близкий и ласковый к влажной щеке.
08.06.2025
Гладиаторы
1
- Давным-давно вино разлито в кратеры,
- И мальчик-виночерпий задремал…
- Что приуныли, братья-гладиаторы,
- Неужто напугал бойцов Баал?
- Арену посыпают свежей известью —
- Смерть на миру как маковый цветок!
- Идём сражаться с подлостью и низостью,
- Здесь с нами Сила Крестная и Бог.
- Так выпьем же вина, как кровь Христовую,
- Не разбавляя крепости водой,
- За жизнь Небесную, прекрасную и новую,
- С улыбкой уходя в последний бой.
2
- На смертный этот бой со стороны,
- Как зрители бездушные, глазеем,
- Мы – жители и граждане страны,
- Для прочих в мире ставшей Колизеем,
- Где лучшие и верные сыны,
- Не ради Цезаря сражаясь, гибнут в битвах,
- Но ради Бога, против сатаны.
- Найдём же место им в своих молитвах
- И будем помнить всех по именам
- Назло Европе подлой и кровавой.
- И по любви тогда воздастся нам,
- А Родине – победою и славой.
Июнь 2025 г.
Бабай
Рассказ
Дмитрий Филиппов
Родился в 1982 году в г. Кириши Ленинградской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.
Публикации в литературных журналах «Знамя», «Нева», «Волга», «Север», «Огни Кузбасса», «Наш современник» и др., в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», «Свободная пресса», «Русская планета». Автор книг «Три времени одиночества», «Я – русский», «На этом свете», «Битва за Ленинград», «Собиратели тишины».
Лауреат премий «Гипертекст», «Слово», «Альтернативная литература», «Радуга», премии им. В. Г. Короленко, премии им. Л. Н. Леонова.
За роман «Собиратели тишины» член союзов писателей России и Санкт-Петербурга. Работает в администрации Пушкинского района. В настоящий момент служит сапёром в зоне СВО. Награждён медалью «За отвагу».
Две тысячи километров остались позади. Вожак вышел из машины, устало потянулся. Душный донецкий вечер навалился на плечи сразу, без предварительных ласк.
В одних джинсовых шортах, хитро улыбаясь, из дома вышел Бабай. Поручкались, обнялись.
– Как дорога?
– Звездец. Перед Ростовом на М-4 фура перевернулась, всю дорогу загородила. Пробка выстроилась на двадцать километров. Жара под сорок. Звездец.
– А кондей ты так и не сделал в Штирлице?
– Так и не сделал.
– М-да. Грустно тебе было.
– Очень.
Штирлицем парни называли ржавенький «мерседес ML», переданный в подразделение в качестве гуманитарки. Машина хоть и была старой, но борозды не портила, отрабатывала на все сто и вытаскивала группу из разных передряг. Добрая была машина, везучая.
Бабай внимательно посмотрел на товарища:
– В роте кто-то слушок пустил, что Вожак из отпуска не вернётся, соскочит. А я знал, что ты вернёшься.
– Пропадёте же без меня, – усмехнулся Вожак.
– Ну, положим, не пропадём. Но мозг выносить будет некому.
– Штурман на задаче?
– Да, он сегодня заступил с Казаком. Пока ты тёлочек окучивал, обстановка сильно поменялась.
– Каких тёлочек? Побойся Бога, я женатый человек.
– Да ладно, – махнул рукой Бабай, – пару-тройку, поди, завалил на кровать.
Вожак улыбался и ничего не отвечал. Бабай потянул носом воздух, нарочито принюхиваясь к Вожаку:
– Ну точно тёлочкой пахнешь, и не одной. Сразу видно, из отпуска прибыл.
За чашкой чая Бабай рассказывал свежие новости. Полку поменяли зону ответственности, и группа переехала из Тоненького на новое место, ближе к фронту. Затрёхсотился Француз во время ротации. Работы вроде бы стало меньше, но всё это до поры до времени. Ходят слухи, что скоро будут переезжать на новое место: фронт двигается слишком быстро.
– Для меня привёз что-нибудь из отпуска? – с надеждой спросил Бабай.
– Конечно. – Вожак открыл барсетку и достал плитку шоколада. – Держи. Бабаевский.
– С…ка.
В обычной жизни Бабая звали Женя, ему было слегка за тридцать, он работал слесарем на заводе металлоконструкций, женат, детей нет. И жизнь он вёл совершенно обычную: пятидневка на работе, по выходным – дача и шашлыки с друзьями, когда вечером в пятницу начинаешь выпивать, в субботу продолжаешь, в воскресенье похмеляешься и в понедельник с тяжёлой головой снова выходишь на работу. И так неделя за неделей, месяц за месяцем, за годом год. Если бы его спросили, устраивает ли его такая жизнь, то он не понял бы вопроса, пожал плечами. Все так живут, что тебе надо вообще, чего привязался? Самый умный?
Бабай был из той породы русских мужиков, которые и своего не отдадут, и лишней копейки не потратят, и подберут всё, что плохо лежит. Куркулистая его натура требовала ощутимой пользы ото всего, на что падал взгляд и к чему прикасались руки. Перед тем как купить планшет, он внимательно изучал характеристики, выбирал оптимальный по цене и качеству, а потом колесил по всему Донецку, чтобы купить самый дешёвый. Ему было проще отмыть от грязи затрофеенный шлем, чем покупать в военторге новый. «Бабай, а тебя не смущает, что твой шлемак с трупа сняли?» – «Вообще параллельно, я же помыл его. С “Фэри”». При этом для друзей он был открыт, как ребёнок, как кулинарная книга, в которой есть рецепты на все случаи жизни.
Чаепитие парни закончили за полночь.
– А кто после меня в отпуск? – спросил Вожак.
– Я, – улыбнулся Бабай.
Из Донецка Бабай уезжал на рейсовом автобусе до Петербурга. Это был самый душный, самый утомительный и самый дешёвый маршрут. Вещей с собой он не брал: небольшой рюкзак и сумка с документами, карточками, деньгами. Вот и весь скарб. Ему досталось место в конце автобуса. Зажатый между двумя ядрёными, в самом соку женщинами (казачки, кровь с молоком), Бабай цокнул и тяжело вздохнул, ощущая, как внутри всё закипает, волнуется, как твердеет всё то, чему положено твердеть у молодого голодного мужика.
У Бабая был простой и надёжный план: он не собирался возвращаться из отпуска.
Он не хотел штурмовать вражеские укрепы. Он не хотел сидеть в закрепе в тесном и хрупком блиндаже, когда днём и ночью, без перерыва на обед, по тебе работает вся арта на свете.
Он не хотел убегать от дронов-камикадзе. Он не хотел сбрасывать ВОГи на хохлов. Это только на мониторе всё выглядит как компьютерная игра: завис, прицелился, включил нижнюю подсветку, отправил гранату… Но Бабай знал, что это не игра, что осколочная граната от АГС-17 несёт смерть. Вот противник: бежит, прячется, думает, что укрылся. А вот он, Бабай, следит с мавика за каждым его движением, зависает над кукольным телом в режиме аса и нажимает на кнопку. Граната летит, взрывается, и человек, чьего имени он не знает, перестаёт шевелиться. И только синий скотч на отлетевшем в сторону шлеме напоминает Бабаю, что всё сделано правильно, задача выполнена и штурмовая группа может продолжать движение.
Бабай больше не хотел воевать.
Он чувствовал себя смертельно уставшим, постаревшим на пятьдесят лет. Душа его одряхлела, иссохла, утратила вкус радости и любви. И что с того, что ему тридцать два года? Он глубокий старик, и в глубине зрачков уже поселилась смерть. И каждый день страшно просыпаться. Страшно выезжать на задачу. Страшно жить дальше, когда следующий шаг может оказаться последним.
У Бабая был план, и перед отъездом он рассказал обо всём друзьям, Вожаку и Штурману. Парни пожали плечами и пожелали удачи. Ни у кого не повернулся язык осудить Бабая. Это с уютного дивана очень удобно судить «пятисотых» и призывать сражаться до последней капли крови. А люди, не единожды видевшие смерть, гораздо терпимее относятся к чужим слабостям.
Чем ближе автобус подъезжал к Петербургу, тем ощутимее менялась погода: влажность, температура воздуха. В приоткрытые окна залетал прохладный ветер, обдувал лицо шершавым порывом, и Бабаю становилось спокойнее от этой прохлады, дышалось легче и глубже. Менялся пейзаж за окном. Буйство южных красок, бескрайние поля с подсолнухом и кукурузой сменили смешанные дремучие леса, в которые ступишь одной ногой – и тут же заблудишься. И вековые ели, и белые-белые берёзы заставляли Бабая удивляться самому факту своего существования. Неужели это не сон? Господи, как давно не был дома…
Первые три дня он пил. Бабаем его называли не зря – в состоянии опьянения он натурально дурел, ловя вожжу под хвост. Он пил яростно, страшно, весело, шало. Он пил так, что домашние боялись сказать лишнее слово, а соседи безмолвно сидели по квартирам. Его взгляд мутнел, наливался страстью и был способен прожечь стены кирпичных домов. Он шатался по квартире, звонил друзьям и бывшим женщинам, в любой момент готовый сорваться и побежать на край света. А куда ещё бежать человеку, вернувшемуся с войны? Край света для того и придуман, чтобы туда сбегать, когда душу рвёт на части от боли и жалости к самому себе.
На четвёртый день он проснулся с больной головой и отчётливо понял, что больше пить не хочет, что отпущенная ему бочка вина выпита, а край света… Подождёт край света, никуда не денется.
– Самое главное в этой схеме – что всё абсолютно законно. ВВК[8] наше, там сидят свои люди. Надо будет, конечно, полежать в больничке, чтобы все анализы, все справки и заключения по-настоящему, без липы. После этого получаешь справку о негодности к дальнейшему прохождению службы, тебе присваивают категорию «Г». Справку мы по линии военкомата отправляем в строевую часть твоего полка, и они уже готовят приказ об увольнении. Тебе даже в полк возвращаться не надо будет. – Антон, старый друг ещё со школьной скамьи, говорил уверенно, со знанием дела.
– И какая цена вопроса? – спросил Бабай.
– Лям.
– Это серьёзные деньги.
– Нет, брат, это смешные деньги. Только потому, что мы старые друзья. Для человека с улицы услуга стоит три ляма. Потому что люди рискуют своей свободой, на секундочку, чтобы вас вытащить оттуда. Рискуют честным именем и репутацией.
– Рискуют, говоришь? – Бабай отвернулся. Разговор был ему неприятен.
– Слушай, я всё понимаю. Моего интереса здесь нет вообще. Если согласен, то деньги вперёд. Если нет, то нет.
– Я согласен.
Совесть его не мучила. Он воевал уже полтора года, прошёл ад Авдеевки; он убивал сам, много раз пытались убить его. Он не был добровольцем и не считал себя героем, просто не стал бегать, когда пришла повестка, посчитал это ниже своего достоинства. И, положа руку на сердце, не единожды об этом жалел. В его, Бабаевой, картине мира он сполна отдал долг Родине, сделал всё, что нужно, и даже сверх этого, так что Родина оставалась ещё немного должна. И сейчас он просто хотел соскочить.
В военном госпитале, куда его положили на обследование, свободных мест практически не было. В хирургическом отделении все палаты были забиты ранеными: бойцы без рук, без ног, с аппаратами Илизарова. У каждого из них была своя исключительная история, и вместе с тем все истории были похожи одна на другую: выход на задачу, прилёт, промедол, отключка… Кого-то вытащили сразу, кто-то полз к своим несколько дней, кто-то ждал эвакуации несколько недель, сидя в сыром подвале под ежеминутным обстрелом, начиная гнить заживо, уже ни на что не надеясь. Для многих из них война закончилась, впереди была инвалидность до конца дней. Но никто не жаловался на судьбу. Впереди была жизнь, и это уже считалось большой удачей.
В госпитале Бабай провёл две недели, и в душе его родилось тягучее чувство богооставленности, словно он один держит круговую оборону в разбитом здании. Чувство это усиливалось с каждым днём, выплёскивалось наружу раздражением, бессонницей, внезапными слезами в подушку.
– Всё на мази, брат, – позвонил Антон. – Книжки твои сдал в библиотеку, люди работают по твоему вопросу.
Антон шифровался, как школьник, но Бабаю было всё равно.
– И когда результат?
– Скоро. Я приеду к тебе, это не телефонный разговор.
Он навестил Бабая через несколько дней. Они вышли во внутренний дворик, сели на скамейку, подальше от посторонних глаз и ушей.
– Короче, тема такая! На вэвэка будут сидеть три врача: двое наших, один левый, он ни о чём не знает. По документам, у тебя раздроблен правый коленный сустав и ещё что-то хитрое, то ли нерв задет, то ли ещё что-то. Суть не в этом. Тебе надо будет зайти и выйти, подволакивая правую ногу, не сгибая её в колене. Запомнил? Это важно, братан.
– Да запомнил, запомнил.
– Тебе присвоят категорию «Г» на три месяца…
– Почему на три?
– Больше не дают. За эти три месяца у тебя начнётся осложнение, люди оформят все документы и вместе с ними отправят тебя в Донецк.
– На х…ра?
– Твой диагноз должна будет подтвердить местная вэвэка. Сейчас так. И уже на основании её заключения тебя приказом демобилизуют по состоянию здоровья и исключают из списков части.
– А она подтвердит? Местная вэвэка?
– Она подтвердит. Везде есть свои люди.
– Ну просто мафия какая… Дон Корлеоне, б…я.
– Дон Корлеоне нервно курит.
Чем ближе была дата комиссии, тем неуютнее чувствовал себя Бабай. Ему не было стыдно за своё решение, тут каждый сам пытается выжить, всеми правдами и неправдами. Ему просто было очень неспокойно, тревожно. Ему стало казаться, что обман обязательно вскроется, что его ошельмуют перед всем полком и отправят на штурм в один конец. Собрался с духом и позвонил Вожаку:
– Как у вас обстановка?
– Да нормально, работаем. Скоро под Селидово переезжаем, там вроде блиндаж нам нашли в лесополке.
– А чего так?
– Фронт двигается, уже на пределе долетаем.
– А хохлы как?
– Да охренели, твари. Небо контролят, машины жгут. В общем, всё как обычно. Ты-то как?
– Да лежу в госпитале, завтра вэвэка…
– А-а-а… И какие прогнозы?
– Самые благоприятные.
– Ну, это хорошо, рад за тебя. Ладно, Бабай, мне работать надо…
– Давай, давай, конечно.
– На связи.
И вроде бы разговор был самый обычный, и Вожак ни в чём его не обвинял, но уже чувствовалось, что они находятся на разных планетах. У Вожака рвутся мины и снаряды, жужжат камикадзе, на его планете убивают не понарошку, взаправду убивают, страшно и окончательно. А у Бабая… А что у Бабая? Птички поют за окном, мирное небо над головой, в больничку ничего и никогда не прилетит. Вот только бессонница…
Он вошёл в кабинет, подволакивая ногу, как учили. Остановился у широкого стола.
– Как вы себя чувствуете? Жалобы есть?
– Нет, жалоб нет, – ответил Бабай.
В горле пересохло.
– Как ваше колено?
Бабай молчал. Он покраснел как помидор и не мог выдавить из себя ни слова.
– Я спрашиваю, ногу согнуть можешь?
И Бабай ответил то, что должен был ответить. Правильный ответ возник мгновенно, разбивая вдребезги все планы и надежды. И на душе сразу стало легко и спокойно. Бабай не знал, что будет с его жизнью дальше, но точно знал, что за этот ответ ему никогда и ни перед кем не будет стыдно.
– Могу.
И несколько раз присел для надёжности.
Галилея
Рассказ
Алексей Куренёв
Прозаик, член Челябинского областного отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России. Родился в Самаре. Окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи, факультет радиосвязи, и Самарскую государственную академию путей сообщения. Выпускник Литературных курсов ЧГИК (руководитель – Н. А. Ягодинцева). Лауреат Второго областного литературного семинара «Сочинительный Союз». Автор публикаций на сайте Ассоциации писателей Урала и на сайте «Российский писатель». Публикации в журналах «Царицын», «Ротонда», «Невский альманах», в альманахах «Южный Урал», «Бельские просторы». Живёт в Челябинске.
Солнечное и безоблачное воскресное утро шагало по заброшенной пашне. Измотанные, но живые разведчики двигались по весеннему большаку вдоль поля. Весна на курской земле наступала рано. Снег месяц как сошёл, и апрельский короткошёрстный зелёный ковёр укутывал землю Посемья, старательно пытаясь натянуть тонкое полотно на воронки прилётов с рваными краями. Деревья набухали почками, готовыми вот-вот взорваться молодыми листьями. Сквозь ещё голые ветки виднелись поля. Воздух был кристальным. Пахло травой и ожиданием весенних дождей.
Задание выполнено, и группа шла размеренно, не торопясь, экономя силы. Амуниция, казалось, весила тонну, но мысли о предстоящей полевой бане, сытном ужине и сне толкали вперёд. Улыбки нет-нет да и проскальзывали на лицах разведчиков.
Дорога сделала крутой изгиб – лесополка, разделявшая поля, закончилась, лишь пара деревьев с перебитыми разрывами снарядов стволами, как сломанные указатели, лежала в направлении села. Показались дома, уставившиеся в лазурь неба чёрными дырами пробитых крыш. Беспилотники тут уже не летали, только птицы заходились трелями.
На войне быстро растут в должностях и званиях – на то есть много причин: ротации, ранения, потери. Кифа воевал уже третий год. В четвёртый раз он командовал группой. В свои двадцать семь этот русоволосый, кряжистый и упрямый сельский парень окончил автомобильный техникум, отслужил снайпером срочку, поработал в автосервисе. Женился. Мобилизовали. Жена в обнимку с двумя дочками смотрели на него с фотографии, которую он частенько доставал из нагрудного кармана в часы отдыха и в которую подолгу вглядывался, возвращаясь мыслями домой.
Взгляд всё время цеплял шнурочек с крестиком на шее у младшей, в памяти тут же возникал небольшой спор с женой о том, на что крестик крепить. Тёща внучке серебряную цепочку подарила, но Кифа настоял на шнурке: «Так правильнее – не украшение это…»
Командир поднял руку – рефлексы сработали мгновенно: разведчики замерли. Он оглянулся на группу:
– Мужики, глядите.
Кифа показал рукой на громадный крест, накренившийся низко над землёй. Тень огромным чёрным вороном распростёрлась на земле. Массивный, с облупившейся краской, местами проступавшей ржавчиной, крест своей поперечной перекладиной, как руками, прикрывал кустарник, росший чуть дальше, и одновременно неотвратимо нависал над чертогоном, окружавшим развороченное подножие. Бетонное основание перевёрнутым зонтом гриба вздыбило дёрн вокруг. С бетона свисали комья земли с переплетёнными корнями.
– Похоронили тут кого? – Фаддей снял каску.
– Дурик ты, Фаддей, тёмный человек, хоть и рыжий. Эт у вас в столице кресты только на могилах да на церквях. Для вас поклонный крест – диковинка. У нашего села такой стоит. Батюшка наш рассказывал, что его поставили, когда вражину с нашей земли прогнали. Навсегда прогнали!
Кифа обошёл крест, внимательно его осматривая.
– Эка его выворотило. – Командир подошёл к покосившемуся кресту, присел и провёл рукой по сварному шву. – Видать, «бэхой»[9] давили.
– С чего ты так решил? – не унимался Фаддей.
– Видишь отметины? – Кифа ткнул в поперечные глубокие зарубы на поникшем железном брусе, поблёскивающие на солнце израненным металлом. – Аккурат по высоте носа корпуса «бэхи», у танка клюв пониже будет. А до конца не смогли раздавить из-за подножия креста, которое встало на дыбы в днище «бэхи». Посмотри: заливной конус бетона сверху отломан. – Командир показал на ту самую недовывернутую из земли грибную шляпищу из цемента с обломанным верхним краем, в человеческий рост высотой.
– Командир, ну ты следопыт. – Фома подскочил к металлоконструкции и начал поглаживать металлический профиль, как бы на ощупь проверяя слова.
Все сгрудились вокруг наклонённого креста и молчали, только Лука что-то пробормотал одними губами и перекрестился.
Солнце перевалило через зенит, тени деревьев выросли, и крест, казалось, ещё больше навис над землёй.
– Чего делать будем? – Мытарь положил руку на крест.
– М-да-а-а. Нельзя его так бросать. – Лука посмотрел на командира.
Луке шёл пятый десяток, но выглядел он моложаво: поджарый, со смуглой кожей, лишь засеребрившиеся виски выдавали его возраст.
– Парни, понимаю, устали… Приказывать не могу… и не буду… Тут у каждого своё… – Командир обвёл бойцов взглядом и процитировал: – «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них…»[10]
Не говоря больше ни слова, Кифа подлез под опору и, как атлант, взвалил на плечи перекладину, раскинул руки, пытаясь поднять крест, и на мгновение напомнил всем человека, замершего под тяжестью взваленной непосильной ноши.
– А ну подсоби! – Мытарь встал рядом с командиром, упираясь в край поперечной перекладины, отчего вторая сторона конструкции начала заваливаться.
– Чего стоим? Кого ждём? – Лука подскочил к просевшему краю и, оглядываясь на остальных, махнул им рукой: – А ну давай, давай! Навались, православные!
Человеческие тела упёрлись в крест, который пытался вознестись вершиной к небу, но его что-то пружинило к земле, и он возвращался в исходное накренённое положение. Крупные капли пота скатывались со лбов бойцов, орошали землю, катились по шеям за шиворот.
Сделав ещё пару попыток, бойцы отпрянули, чтобы собраться с силами. Сели полукругом прямо на вытоптанную траву. Фома и Мытарь закурили. Лука, отдышавшись, встал, подошёл к фундаменту и начал его обходить.
– Кифа, я вот чего думаю, ежели его так заливали на совесть, наверное, нам стоит сначала подкопать под основанием, а уж потом и вертать его на прежнее место, – подал голос Лука, выглядывая из-за бетонного окружия. Он в силу возраста и опыта редко давал дурные советы. – Только подпереть чем-то бетонину надо, а то, не ровён час, придавит хлопцев.
Командир, одобрительно хмыкнув, обдумывал услышанное. Недолгая пауза прервалась командой:
– Мытарь, Фома, давайте в яму, устанете – сменим. Лука, Фаддей, быстро в лесополку, к повороту, который прошли, я там видел перебитое взрывом дерево – как раз на подпорку сойдёт.
Земля сверху прогрелась и была податлива, часу не прошло, как бетонный конус основательно навалился на самодельную сваю, готовый вот-вот упасть в яму.
– Кажись, всё готово, командир! – Лука выбрался из рукотворной впадины, похлопал себя по ногам, выбивая землю, обернулся и подал руку Мытарю.
Грузный Мытарь чуть не утянул своего помощника назад в яму.
– Братцы, давайте посидим, покурим, передохнём чутка, умаялся я чего-то. – Мытарь уселся на траву, утёр пот со лба и достал пачку сигарет.
Сизый дым уносился вверх. Оранжевый диск медленно, но упорно шёл к горизонту.
– Ну, с Богом! – Кифа решительно встал и направился к ржавому распятию, на ходу давая указания: – Лука, услышишь свист – выбиваешь подпорку. Остальные – к кресту!
По сигналу раздался глухой удар дерева о дерево, и грубо обструганный ствол, приспособленный под опору, вылетел из-под цементной громадины. Крест под натиском сильных рук ухнул своим основанием в яму, навершием устремляясь в небо.
Впятером они водрузили крест на место. Фаддей с Лукой остались удерживать крест, пока другие метались по округе и таскали валуны к основанию.
* * *
Группа уходила размеренно, не торопясь, экономя силы. Амуниция, казалось, весила тонну, но мысли о предстоящей полевой бане, сытном ужине и сне толкали вперёд. Улыбки нет-нет да и проскальзывали на лицах разведчиков. Позади, рядом с большаком, на въезде в село, возвышался крест. Закатные рябиновые лучи отражались от поклонного креста и светили в спину.
Кифа обернулся, снял тактический шлем, протяжно посмотрел на зарю и перекрестился.
Подборка стихов
Стихи
Кристина Денисенко
Родилась в 1983 году в Донецкой области УССР.
Печаталась в поэтических сборниках, литературно-художественных журналах, литературной периодике. Автор девяти книг.
Победитель, лауреат, дипломант ряда поэтических конкурсов. Член Межрегионального союза писателей.
Живёт в г. Юнокоммунаровске (ДНР, Россия).
Два берега
- Всеми правдами
- и неправдами
- небо полнится,
- словно птицами,
- то ли хищными,
- то ли райскими,
- то ли кажется,
- то ли снится мне…
- Непроглядная,
- недожжённая
- ночь заполнила
- дно параболы,
- и стоят без лиц
- (с капюшонами)
- вдоль одной реки
- наши ангелы.
- Вот бы старый мост,
- а за ним рассвет
- и в тюльпанах всё
- дышит красками…
- Мне бы два крыла,
- чтобы вверх взлететь
- над окрестностью
- неприласканной.
- Мне бы вплавь в весну,
- мне бы вброд в любовь,
- мне б туда, где все
- справедливые,
- но черна земля
- наших берегов —
- тут и там туман
- над руинами.
- Сколько зла в сердцах?
- Сколько горечи?
- То не гром взревел
- оглушающим…
- Приходи ко мне
- тихой полночью
- в кратковременный
- сон прощающим.
Мой край
- Никаких «Прощай», мой разбитый в твердь
- огневой рубеж.
- И без окон дом, и без дома дверь —
- всё в тумане беж.
- В световых лучах православный храм
- с золотым крестом…
- Колокольный звон беспокойных гамм…
- Ты и я – фантом.
- Отгремели в нас ураганы зла
- в неизбежный час.
- Отгремела ночь – тишина легла
- белым снегом в грязь.
- Не слышны шаги, я иду и нет —
- я лечу, как стриж,
- над сырой золой сорванных в кювет
- обгоревших крыш.
- Порастут травой кирпичи, стекло,
- чернота руин…
- Мой разбитый в хлам белым-набело
- расцветёт жасмин.
- Будет ясный день, будет ясной ночь,
- будет цвет кружить.
- И в твоих полях золотым зерном
- корни пустит жизнь.
- С чистого листа, с фермерских широт
- ты начнёшь расти!
- Над тобой рассвет новый день зажжёт
- с божьей высоты.
- Пусть же смоет дождь черноту и смрад
- с каменных равнин…
- Чтоб построить дом, посадить здесь сад,
- чтоб играл в нём сын.
- Не в войну, а в мяч! По росе босым!
- И с нас хватит войн.
- Всё пройдёт, мой край, словно с яблонь дым,
- всё пройдёт как сон.
- Не прощусь с тобой, как бы ни был плох
- и потрёпан в пыль.
- Здесь моя земля! Здесь родной порог
- и в слезах ковыль.
Свет
- Я сотку тебе свет, мой друг,
- Без станка и волшебной пряжи.
- Из обыденных слов сотку.
- Такой лёгкий, как пух лебяжий.
- В нём запахнет весной миндаль.
- В нём снегами сойдёт опасность.
- Я последнее б отдала,
- Лишь бы ты не грустил напрасно.
- Я добавлю к той чистоте
- Межсезонного неба омут,
- Лик Сикстинской Мадонны, крест,
- Чтобы горем ты не был тронут.
- Колокольчиков синих звон
- И альпийской лаванды шёпот
- Я вкраплю, как святой огонь,
- В полотна невесомость, чтобы
- Ты услышал, как дышит степь,
- Как орех молодеет грецкий,
- Как умеет о светлом петь
- Тишина обожжённым сердцем.
Багряный горизонт
Мэри Рид
- Возьми меня, воскресшую, за ворот
- и в тёмное бездумье утащи.
- Бетонные дома лежат холмами
- разбитых судеб братьев и сестёр.
- Стихает вьюга плачем Ярославны,
- и вдовий лик мерещится в немой,
- пустынной и крамольной панораме
- меняющей рубеж передовой…
- Идёт война, и с неба свет багряный
- течёт на снег, как убиенных кровь.
- Здесь был мой дом, беседка, пчёлы, груши.
- Всё стёрто пламенем с холста земли.
- Никто не воспретил огню разрушить
- и церковь, где несчастных исцелить
- могло бы время, битое на части…
- В минуте шестьдесят секунд беды.
- За пазухой я горе камнем прячу.
- Я не могу былое отпустить.
- Любовь моя покоится в подвале,
- отпетая ветрами, без креста.
- Я душу верить в чудо заставляла
- и тысячу свечей в мольбах сожгла.
- Мой прежний дом – блиндаж, траншея, бункер.
- Мой прежний город – холод катакомб.
- Мой регион делили, и он рухнул.
- Мой прежний мир подавлен целиком.
- Мне память довоенных вёсен гложет
- сознание аккордами тоски
- о том родном, что мне всего дороже,
- о том, что отнято не по-людски.
- Багряный горизонт, рукой суровой
- над пустошью удерживая щит,
- возьми меня, воскресшую, за ворот
- и в тёмное бездумье утащи.
В живом саду
- Здесь, на земле,
- Где в лунную поверхность тёмных улиц
- Твои шаги, как в воду, окунулись,
- Досадно мне,
- Что не вернуть
- Цветенье скошенной снарядом вишне,
- И о войне упоминать излишне,
- Когда в дыму
- Окурки крыш,
- Когда поля вынашивают пустошь
- И в городских глазницах тоже пусто,
- А ты молчишь.
- Зажат февраль,
- Как между молотом и наковальней.
- Час от часу печальней и печальней
- Ты смотришь вдаль.
- Скворечник пуст
- У чудом уцелевшего забора.
- Пернатым отчий дом уже не дорог
- Ни на чуть-чуть.
- Скворцов отряд
- Несёт весну на крыльях, словно знамя,
- Куда-то мимо, спешно и упрямо,
- Не в этот сад.
- Скажи, когда
- Протянет солнцу молодняк вишнёвый
- В молитве праведной свои ладони,
- Пройдёт беда?
- Когда вокруг
- Распустятся набатом горицветы
- И будет пустошь в свежий цвет одета,
- Не станет мук?
- Дождусь ли я
- Спокойствия и соловьиных трелей
- В краю, где даже звёзды потускнели
- В неровен час?
- Не стану ждать
- Твоих ответов, Ангел, я устала
- Ночь начинать с конца, а не с начала
- И, глядя в сад,
- Жалеть о том,
- Что и скворечник пуст, и ветки голы,
- И скорбью наполняет альвеолы
- Тревожный вдох.
- Не обессудь.
- Я знаю, день настанет, мой тихоня,
- Скворцы о мире вишням растрезвонят
- В живом саду.
Леса из пепла
- Когда-нибудь здесь вырастут леса до звёзд.
- На выжженных руинах, на бетонных дюнах…
- Земля сама себя от серости спасёт,
- Воскреснет, возликует цветом веток юных.
- Бутоны, вспыхнув сочным пламенем зари,
- Пробьют колоколами не набат, а нежность.
- И будет в чистом воздухе весна царить,
- И птицы воспевать рассвет в краю рубежном.
- Вернутся лисы из окрестностей глухих.
- Огромный лес им станет новым старым домом
- С зажжёнными свечами рыжих облепих
- И смутной тенью скорби на ковре зелёном.
- Природа победит все войны в смертный час.
- От призрачного света боль моя ослепнет.
- Пусть, если ни солдат, ни бог тебя не спас,
- Когда-нибудь здесь вырастут леса из пепла.
Август
- От возвратной жары умолкают усталые птицы.
- Август в пыльных ладонях качает потерянный день.
- Бестолковое дело – на осень всем сердцем польститься:
- Духота тесных комнат и слышать не слышит о ней.
- Всё молчит. Даже буйный бульвар покорился погоде
- И в огнях хризантем, как немой наблюдатель, притих,
- Будто ждёт, как бесстыжим дождям будет всё-таки отдан
- Заоконный пейзаж в чердаках и в надеждах скупых.
- Подоконник – дворцовая площадь несложенных ямбов —
- Подпирает свинцовый закат биоритмом тоски.
- И душа, как осина, жаре вопреки то ли зябнет,
- То ли просит дождя у небес, чтоб чуть-чуть отойти
- От угрюмого зноя, насущных печалей и рисков
- Только верить и ждать новый день, только верить и ждать.
- Август раненой грудью пейзаж с чердаками забрызгал
- И стихами прилёг на открытую ветром тетрадь.
Тревогу осязает август
- Тревогу осязает август каждым звуком
- Берёзовой листвы, шуршащей о больном.
- Зарёй в родном краю с поличным враг застукан,
- И небо прижимается к плечу плечом,
- Как друг, который никому не даст обидеть,
- Как звёздный стражник на соломенном коне.
- И я ввиду отвергнутых душой событий
- К его плечу хочу прильнуть ещё тесней
- И о прекрасном грезить, будто всё свершится,
- Лишь стоит дать испуганным мечтам полёт.
- Чтоб умолкали не от новых взрывов птицы,
- А оттого, что летний дождь вот-вот пойдёт.
- Чтоб август, опалённый жуткими боями,
- Слезами не смывал с лица людской беды.
- Пусть смоет дождь. И в скором сентябре упрямо
- Родной мой край, как прежде, будет золотым.
Оживай, возрождайся, вспыхивай
- Я воскресла из пепла яблони
- и по новой руками зяблыми
- полумёртвым и полувыжившим
- в одночасье вяжу бинты.
- Под расколотым небом ужаса
- белый снег с чёрным страхом вьюжится —
- поднимайся, боец израненный,
- тебе нужно вперёд идти.
- Стылый воздух пронзило выстрелом,
- а ты должен, обязан выстоять,
- даже если другой не выстоит,
- устремив в никуда свой взгляд.
- Знаешь, ворон, вздымая крыльями,
- в своей чаще и сердце выклюет
- и стервятнику, и могильнику,
- даже если слабей в сто крат.
- И ты сможешь с врагами справиться,
- я вколю тебе кубик здравицы,
- дозу веры и две – везения —
- день закончится, словно сон,
- снегопадом, на поле минное
- опустившимся мягко сплинами
- по отцовской веранде с рейками,
- и до боли родным крыльцом.
- Ничего нет на свете вечного,
- город смотрит на снег увечьями,
- на ресницах солёных изморось,
- на губах приглушённый стон.
- Оживай, возрождайся, вспыхивай
- покалеченной стрессом психикой.
- Я не ангел, не врач, не знахарка,
- но ты будешь опять спасён.
Ты держись
- У бездонного неба на рухнувшем пирсе такие же звёзды,
- как и я в прошлой жизни, наловит какой-нибудь местный пацан,
- загадает желаний за целую роту несчастных двухсотых
- и, как маленький бог, со своей высоты будет жизнь созерцать.
- А я всё… Канул в Лету в горячем бою за донецкие степи.
- Немилы караваны знакомых созвездий над дымом густым.
- Страх – ничто. Страх – ничто, только в небе, как в братском заоблачном склепе,
- за тебя мне тревожно и боязно до нелюдской маеты.
- Я двухсотый, я тень, я дыхание стылого ветра, я призрак…
- Надо мной отлетали зловещие стаи голодных ворон —
- над тобой белка жёлуди с дуба в осколках, как сахар, догрызла,
- но не сладко ни ей, ни тебе, и твой бой так и не завершён.
- Ты держись. Хоть за воздух зубами, за звёзды над рухнувшим пирсом.
- Ты держись, как держаться не сможет убитый разрывом солдат.
- Ты держись, я молюсь за тебя, как никто никогда не молился,
- даже если и звёзды от залпов орудий стеклом дребезжат.
- Ты держись…
Подборка стихов
Стихи
Наталья Шухно
Родилась в 1984 году в г. Могилёве. Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики.
Журналист, телеведущая, сценарист, поэт, автор песен. Автор и ведущая телевизионных программ о кино, театре и музыке.
Автор поэтических сборников «Белые паруса» (2002), «Сборник стихотворений» (2010), «Монтажный лист» (2024).
Лауреат Литературной премии им. Ю. П. Кузнецова (журнал «Наш современник»). Публикации в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Невский альманах», «Сибирь», «Волга – XXI век» и других.
Член Союза писателей России.
Живёт в Москве.
Страшные сказки
- Шпили башен вспарывали небо,
- Звёзды заблудились в тополях,
- На ветру раскачивались вербы.
- Я была в гостях у короля.
- Билась ночь в окно летучей мышью,
- И стонали чёрные поля,
- Спал огонь под сводчатою крышей.
- Я держала руку короля.
- По-другому никогда не будет.
- Даже начиная жизнь с нуля,
- Безусловно, маленькие люди
- Выполняют волю короля.
- Слабый платит кровью, а сильнейший
- Слышит, как рыдают и скулят.
- И глаза прекрасных, нежных женщин
- Гаснут по приказу короля.
- Крик заполнил каменные стены,
- Загорелись алым соболя,
- И теперь с собой двуликий демон
- Забирает душу короля.
- Всё ещё бугрилась и дрожала
- Замок поглотившая земля,
- И плясал на острие кинжала
- Отблеск от печати короля.
- И цвели на гобеленах розы,
- И лилось вино из хрусталя.
- Пропадая, словно под гипнозом,
- Я всегда любила короля.
«А воздух мая был игристым…»
- А воздух мая был игристым
- И хмелем бил наверняка,
- Ванильных яблонь цвет душистый
- По саду плыл, как облака.
- Над изголовьем сны летали
- То о морях, то о любви,
- И мальчик бредил островами,
- Куда не ходят корабли.
- Но сорок лет – как сорок станций,
- Уход во тьму по одному,
- Когда приходится прощаться,
- Не понимая почему.
- Глухой ноябрьскою ночью
- Тяжёлых звёзд холодный строй,
- И бой, казалось бы, окончен,
- Но всё же не окончен бой.
- И, глядя чутко и тревожно
- На мир в заплаканном окне,
- Ты ищешь то, что невозможно, —
- Мечту о будущей весне.
«Ночь спускалась, дрожала и пела…»
- Ночь спускалась, дрожала и пела,
- Как невидимая органза,
- Подводило предательски тело
- На каких-нибудь полчаса.
- Море высохло, лето сгорело,
- Стыли мёрзлые сосны в лесах,
- И звезда, умирая, звенела
- На каких-нибудь полчаса.
- И кружилась метель, и ревела,
- Закрывая собой небеса,
- Я на целую жизнь постарела
- За каких-нибудь полчаса.
- И ветра, надрываясь устало,
- В три погибели ветви согнут,
- Я на целую жизнь опоздала
- За каких-нибудь пять минут.
«Голос пел крылом осиным…»
- Голос пел крылом осиным,
- Шелестел густой листвой
- И московским небом синим
- Плыл над талою водой.
- Двадцать лет – какая роскошь,
- Нескончаемые дни,
- По глазам твоим наотмашь
- Бьют арбатские огни.
- И трамвайными звонками
- В пьяном воздухе хрусталь,
- Отправляешь фото маме,
- Не сказать в какую даль.
- И последний тёплый вечер
- Тихо льёт печаль свою,
- Ты поедешь до конечной,
- А потом умрёшь в бою.
- Я пою тебе осанну,
- Безымянный рядовой,
- Если я не перестану,
- Значит, мир ещё живой.
- Голос мечется и рвётся,
- Сколько память ни храни,
- Ничего не остаётся,
- Кроме фото и любви.
«Пишите, как в паспорте, месяц и год…»
- Пишите, как в паспорте, месяц и год.
- Хотите курить? Можно в форточку. Вот
- Жемчужные серьги, кольцо и браслет,
- И больше при ней ничего вроде нет.
- Печати проставим, и можно идти,
- Её увезут около десяти.
- Увидеть? Не надо бы большей беды,
- Ложитесь. Сестра, принесите воды.
- Он вышел на улицу, сник, и погиб,
- И вздрогнул от света, от зелени лип,
- Смотрел не мигая сквозь дым сигарет,
- Как ветер гоняет бумажный пакет.
- Он думал, что будет потом, и ещё
- Что мир укрывается серым плащом,
- Что вишни цветут и доводят до слёз,
- Что в спальне останется запах волос.
- Пишите, как в паспорте, кем, и когда,
- И как расстаются в земных городах.
- Он вышел на улицу, в долгий покой,
- И вечность ему помахала рукой.
«Каренина, маршрут построен…»
- Каренина, маршрут построен:
- Тверская, пригород, перрон.
- И вывески неровным строем
- Сливаются в сплошной неон.
- Любовь – неуловимый призрак,
- И ты никто, и звать никак.
- В твоих глазах горит капризный
- Смертельный опиумный мак.
- Им дела нет и нет печали,
- Что так хрупка твоя броня,
- Что руки колыбель качали
- И звёзды падали в моря.
- Моя растоптанная нежность
- Заполнит снежную Москву.
- В такси, в слепую неизбежность,
- Но всё равно опять к нему.
- И вяжет ночь покров на спицах,
- И я вне рамок и систем
- И, как мечта самоубийцы,
- Недостижимая совсем.
- Среди зимы блестит столичный
- Луны шлифованный алмаз.
- Я думаю уже привычно,
- Что видимся в последний раз.
«Над речкой замер дух берёзовый…»
- Над речкой замер дух берёзовый,
- Над выгнутой спиной моста.
- В осеннем дне, ещё не познанном,
- Мучительная красота.
- Пока мы здесь, и жизнь наивная
- Подбрасывает нам любви,
- И тянется дорога длинная,
- Теряется в лесной дали.
- Пусть воин спит непотревоженный
- И крестит мать его во сне.
- Всё это наше, это сложено
- И о тебе, и обо мне.
- Полей желтеющих наследие
- И листьев острые края.
- В тебе звучит моё бессмертие
- Последним словом сентября.
«Море смерит пульс в запястье…»
- Море смерит пульс в запястье,
- Не давая умереть,
- И ловцы земного счастья
- Вытянут пустую сеть.
- Лорелей тягучий голос
- Набирает глубину,
- Чтобы лодка напоролась
- На подводную скалу.
- Что блестит во тьме тревожной,
- Ледяная, не своя,
- Человеческая кожа
- Или рыбья чешуя?
- Тот, кто больше не вернётся,
- Не жалеет ни о чём,
- И звезда лежит в колодце
- С переломанным лучом.
- Доведённая до дрожи
- И укрытая плащом,
- Лорелей сидит в прихожей,
- Но звонок молчит безбожно,
- Им не встретиться, похоже,
- В этом мире невозможном
- Или где-нибудь ещё.
«Так волшебно и совсем не страшно…»
- Так волшебно и совсем не страшно
- Стрелки на часах замедлят бег,
- Будет мальчик в беленькой рубашке
- Из окна смотреть на первый снег.
- Нежным пухом ровно и упрямо
- Он укроет дворик не спеша,
- И обнимет молодая мама
- Худенькие плечи малыша.
- Светлый день морозною картиной
- Выступит спасением из тьмы,
- Хоть в пустой и маленькой гостиной
- Нет уже ни мамы, ни зимы.
- С Новым годом, камуфляж и вата,
- С новым счастьем, ледяной блиндаж,
- Ну а мальчик с новым автоматом
- Ныне, присно и навеки наш.
- И под ёлку с изумрудной тенью,
- Сколько бы войны он ни прошёл,
- Бог ему положит сновиденья,
- Все о том, что будет хорошо.
Родная речь
Рассказ
Анаит Григорян
Прозаик, переводчик с японского языка.
Родилась в 1983 году в Ленинграде, окончила биологопочвенный и филологический факультеты СПбГУ. Кандидат биологических наук.
Публикации: дебютный сборник коротких историй «Механическая кошка» («Геликон Плюс», 2011), роман «Из глины и песка» («Айлурос», Нью-Йорк, 2012), романы «Посёлок на реке Оредеж» («Эксмо», 2019), «Осьминог», ставший бестселлером (Inspiria, 2021), «Смерть знает твоё имя» (Inspiria, 2024). Литературно-критические и художественные тексты публиковались в литературных журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Волга», «Вопросы литературы». Переводы с японского языка включают романы классика современной японской литературы Нацухико Кёгоку и мастера остросюжетной прозы Котаро Исаки.
Живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Родного языка я не знаю. Он помнится набором странных отрывистых звуков. Какие-то бесконечные «ш» и «к».
И почему-то вспоминается запах. Пахнет печёными яблоками с корицей. Их так много, что столько никому и никогда не съесть. А дед съел. За свои сто с лишним лет. Сколько ему было, когда он умер? Сто десять? Сто одиннадцать? Мы, его внуки, называли деда бессмертным, отец – «мамонтом». Не потому, конечно, что он действительно был похож на мамонта, хотя что-то от могучего древнего слона в нём, конечно, было. Дед был невероятно старым. Не дряхлым, просто очень старым. Жизнь его была длинной, а её закат – бесконечным. Он нередко повторял, что хочет умереть. Не жаловался на здоровье – просто ему ужасно надоело жить. И поговорить было не с кем. С нами разве поговоришь? Мы не говорим, а трещим, тараторим без умолку. И языка не знаем. А дед говорил медленно, обстоятельно. И опухоль на его шее двигалась в такт его словам. Мы боялись и деда, и его опухоли. Что он говорил? О чём рассказывал? Мы знали только, что когда-то давным-давно он служил разведчиком в Тегеране и на каком-то задании машина – грузовик – придавила ему ноги. Или брёвна покатились с какой-то машины и придавили ему ноги, и потом он всю жизнь хромал, а под конец большей частью сидел неподвижно в кресле и вставал лишь изредка.
Бабушка деда очень любила. Когда она умерла, кто-то из родственников сказал, что это дед, мол, свёл её в могилу. Говорили, что он часто ей изменял и что из-за этого она много плакала и состарилась раньше времени. Много лет назад даже пыталась убежать от мужа в родительский дом, но родители её не приняли, и ей пришлось вернуться. Чего только не расскажут после того, как человека уже нет на свете. Ещё говорили, что он мучил её своими придирками. У него был тяжёлый характер, и он всё время ко всему придирался. Иногда звал нас, чтобы попросить о какой-нибудь мелочи: принести с кухни яблоко или конфету. Когда мы приносили, дед обычно морщился и говорил, что он просил совсем не то, посылал нас заново на кухню, и всё повторялось сначала. Кончалось тем, что мы приносили ему все фрукты и конфеты, что находили, заглянув в самые отдалённые уголки кухонных полок. Тогда он успокаивался, складывал всё это добро на свою прикроватную тумбочку, где у него лежали очки в толстой роговой оправе, а потом звал нас, уже затем, чтобы дать яблоко или конфету. Такая у него была игра. Яблоки он нарезал старым перочинным ножиком на тонкие дольки, которые называл «бумажными». Дед точил ножик всегда сам на куске точильного камня и правил на кожаном ремне. Делал он всё это очень обстоятельно и подолгу, а потом так же обстоятельно нарезал им яблоки и обтирал салфеткой. Позвав, всегда давал только по одной дольке. Нужно было положить полупрозрачную дольку на язык, и тогда казалось, будто яблоко растворяется во рту: никто другой, кроме деда, не умел так нарезать яблоко, чтобы оно растворялось во рту. Когда умерла бабушка, дед не плакал, а только сидел молча в своей комнате недели три и не просил у нас ни яблок, ни конфет. А потом всё стало как прежде.
Бабушку похоронили на кладбище в горах. Когда дед об этом узнал, он очень рассердился. Мы его всегда боялись, но за всё то время, сколько мы его знали, сердился он только однажды. Он кричал, что надо было похоронить бабушку на нижнем кладбище, потому что до верхнего кладбища ему не дойти с его больными ногами. Он не сможет принести ей цветы, посидеть на скамейке подле её могилы и «поговорить» с ней. Родители разводили руками и отвечали, что на нижнем кладбище не было мест. Дед возражал. Мол, места всегда найдутся, если попросить кого надо и кому надо приплатить. Потом он успокоился и сказал, что если родители такие дураки, что не могли по-человечески похоронить бабушку, то пусть хотя бы его похоронят рядом с ней. Но когда дед умер, его похоронили на нижнем кладбище, потому что по какой-то причине там вдруг появились места, а на верхнем – закончились, а наши родители были слишком нерешительными, чтобы «попросить кого надо». Так дед и лежит отдельно от бабушки: они шестьдесят лет прожили вместе, дед был намного её старше и пережил на несколько лет.
Как-то раз он рассказал нам забавную историю. Бабушка закатывала банки с компотом, и, чтобы проверить, хорошо ли закрыта банка, нужно было перевернуть её вверх дном. Дед, помогавший ей на кухне, переворачивал банки. И вот одна из них открылась, и три литра горячего сладкого компота вылилось на пол. Дед сильно закричал, и бабушка недолго думая сдёрнула с него штаны и принялась изо всех сил дуть, как выразился он, «на все его сокровища». А дед продолжал кричать, и бабушка думала, что он кричит от боли, и дула ещё сильнее. На самом деле он ругал её на чём свет стоит и требовал прекратить это безобразие. Компот пролился ему на ноги, а день был прохладный, и на ногах деда были плотные шерстяные носки. Не сказать, чтобы ожог был особенно сильный, но приятного в этом всё равно было мало. Потом, вспоминая тот случай, я подумала, что деду почему-то всегда если не везло, то с ногами. Как будто сама судьба пыталась смирить его упрямую, деятельную натуру, постоянно требовавшую движения. В конце концов она одержала над ним верх, и дед долгие годы доживал свою жизнь, почти не выходя из комнаты.
Мы жили у самого берега моря: в сильный шторм волны врывались в наш двор и, как говорил дед, «бесчинствовали»: срывали калитку забора, а иногда и сам забор, разоряли огород, оставляя на грядках белые полосы соли, уносили в море забытые во дворе детские игрушки. Дед всегда повторял, что жить вдалеке от моря нельзя, потому что человек когда-то вышел из воды и близость воды придаёт ему силы. Играя во дворе, мы часто видели деда, сидевшего у открытого окна, обрамлённого вьющимися стеблями винограда. Губы его время от времени шевелились, как будто он разговаривал с морем, а оно отвечало ему плеском и шуршанием перекатываемой волнами гальки. Дед говорил, что его и бабушкины родители бежали из Армении в Грузию во время русско-турецкой войны, а потом дед перебрался в Абхазию, потому что его пленила природа этой зажатой между кромкой воды и подножиями гор местности. Так и оказались подле моря. «Что Армения? Пустыня, камни, голые горы, выгоревшие под солнцем. Чтобы заставить такую землю родить, нужно всю жизнь работать не покладая рук». В Армении он бывал в молодости и вспоминал её с теплотой и грустью. Отец говорил, что дед работал там строителем и однажды его послали в город Камо[11] найти какого-то Шиллера. Дед удивился: каким ветром занесло этого бедного еврея на берег озера Севан? В Камо Шиллера, как выяснилось, знала каждая собака: он был прорабом на стройке, а «Шиллер» оказалось именем, данным в честь немецкого философа и поэта. Фамилия же Шиллера была Петросян. Позже дед познакомился с Пушкиным, Толстым и Гагариным.
Однажды, когда дед сидел на кухне, к нам зашёл высокий худой, как будто высушенный солнцем, абхазский пастух. Его кожа выглядела точь-в-точь как шкурка вяленной на солнце хурмы. Он поставил свой посох у двери, чудно́ поднял в приветствии руки и поздоровался. Потом они с дедом сидели до поздней ночи и разговаривали: дед не очень хорошо знал абхазский и часто вставлял в свою речь армянские и грузинские слова. Мы, дети, не понимали ни тех, ни других, но сидели на кухне и слушали: нам было странно, что у деда, оказывается, были друзья. Пастух тоже был очень старый: лицо всё изрезано морщинами, седая борода до пояса, длинные седые волосы. Дед горячился, говорил громко, жестикулировал, а пастух сидел прямой, как жердь, и время от времени важно кивал и проводил узловатыми пальцами по бороде. От его чёрной и, несмотря на жару, довольно тёплой одежды крепко пахло овцами. Это был приятный запах сухой шерсти, травы и молока. Под конец разговора дед тяжело поднялся, взял из кухонного шкафчика бутылку коньяка, налил пастуху и себе по рюмке. Они не торопясь выпили, не чокаясь, пастух поднялся из-за стола, чинно поблагодарил, взял свой посох и ушёл в душную темноту южной ночи.
Отец говорил, дед никогда его и его младшего брата – нашего дядю – особенно не воспитывал и ни разу не поднял на детей руку, но они всё равно его побаивались и ходили по струночке, когда дед – тогда ещё совсем не дед, а крепкий мужчина средних лет, который продолжал нравиться женщинам, – бывал дома. От детей он ничего не требовал, кроме прилежной учёбы, и очень рассердился на отца, когда тот бросил на последнем курсе институт и женился. Сам он после ранней смерти родителей долго был беспризорником, пока его не взял к себе родной дядька-сапожник. Дядька этот изготавливал туфли на фальшивой картонной подошве, а дед бегал на базар эти туфли продавать. Это было трудное, но по-своему счастливое время. Как-то раз в Тбилиси (дед называл этот город по-старинному, Тифлисом, как назывался он до 1936 года) приехал цирк-шапито. Дед побежал на представление, и ему дали покататься на одноколёсном цирковом велосипеде. Неожиданно у него обнаружился талант, и он принялся выделывать на этом велосипеде разные трюки, так что артисты предложили ему бросить его тогдашние занятия и поступить работать в цирк. Дед отказался, но потом, рассказывая эту историю, заканчивал её словами: «Кто знает, что было бы, если бы я согласился… Может быть, вся жизнь тогда была бы другая и все вы стали бы циркачами…» Но и та беспризорная жизнь, которую он вёл, тоже вскоре закончилась. Однажды он продал пару туфель какому-то военному: в первый же дождь картонные подошвы отвалились, и военный прибежал на базар искать нашего деда. Поймав его, он не стал сдавать мальчишку в милицию, а отвёл и пристроил его в ФЗУ – фабрично-заводское училище при обувной фабрике Адельханова. На этой же фабрике работал когда-то отец Сталина Виссарион Джугашвили, а потом и маленький Сосо, которого отец хотел обучить достойному ремеслу.
Кажется, единственный вопрос, который мы вообще когда-нибудь задавали деду, был о Сталине: видел ли он Сталина, как Сталин выглядел и какой Сталин был национальности. «Он был грузином?» — спрашивали мы. Дед хмурился и отвечал, что Сталин не был грузином. «Тогда он был армянином?» Дед мрачнел окончательно, говорил, что и армянином Сталин тоже не был, и разговор на этом прерывался. Мы никак не могли взять в толк, почему деду не нравились эти вопросы. Скорее всего, его просто раздражало, что он не знал на них точного ответа и это каким-то образом могло подорвать его авторитет. Окончив ФЗУ, дед устроился учителем ремесленного дела в грузинскую школу: грузинский он знал не хуже армянского, и грузины почему-то всегда говорили, что у деда настоящий грузинский характер. В чём этот характер выражался, правда, никто не уточнял, но ясно было, что это похвала. Преподавая в школе, дед поступил на географический факультет университета, а окончив его, стал учить школьников уже не ремесленному делу, а географии. Кто-то из старых соседей ещё на нашей памяти называл деда «патмас» – это сокращение от грузинского «уважаемый учитель». Слово казалось нам смешным и потому запомнилось.
Он умер весной, как раз накануне нашего приезда. Когда дед был жив, мы никогда по собственной воле не заходили в его комнату: она казалась нам такой же страшной, как и он сам, и мы называли её мамонтовой пещерой. Забегали на минутку, не оглядываясь по сторонам. Дед, наверное, был бы рад, если бы мы пришли просто его навестить, посидеть с ним, послушать, что он будет нам рассказывать. Но мы не приходили. Жаль было тратить наше молодое время на его старческую болтовню, на его странный язык с его «ш» и «к». Теперь нам вдруг стало интересно, как он тут жил, и мы всё рассматриваем и втягиваем ноздрями воздух – пыльный, как будто тоже очень старый, и совершенно неподвижный. В ящике прикроватной тумбочки лежит стопка тетрадных листков, исписанных дедовым прыгающим почерком, со множеством помарок, исправлений, совсем без знаков препинания и часто без мягких знаков в словах, оканчивающихся на мягкий знак. Мы листаем, спорим, что это за буква – «ш», «т» или «м», и постепенно буквы складываются в слова, а слова – в воспоминания. Дед пишет о времени, когда ему было чуть больше, чем нам тогда.
На приказарменной площади в Тифлисе маршируют войска, играет духовой оркестр, ночью из города бегут меньшевики, потом приходят большевики. События почти столетней давности, что нам до них… В городе спорили, каковы большевики из себя: то ли у них по две головы, то ли они великаны, то ли у них есть рога и копыта, как у чертей, а потом дед сбегал на фабрику и, увидев большевиков, разочаровался: они были самые обыкновенные, всего с одним рогом на голове, и говорили тоже обыкновенно: по-русски и по-грузински. И нам странно, что наш дед был когда-то мальчиком и играл на пыльных улицах незнакомого нам города с такими же мальчиками и за их игрой наблюдали красноармейцы в остроконечных шлемах, которые кто-то принял за растущие из их голов рога. Красноармейцы заговаривали с детьми, шутили, о чём-то спрашивали, мальчики постарше стреляли у них скрученные из куска газеты «козьи ножки», набитые махоркой. Это была совсем другая, далёкая от нас жизнь, похожая на кадры из старой советской кинохроники, но картины её почему-то представлялись нам очень яркими, солнечными и немного расплывчатыми, как бы дрожащими в летнем мареве.
Тетрадных листков много, они никак не скреплены друг с другом и не пронумерованы: мы роняем их на пол, собираем, пытаемся восстановить правильную последовательность. У деда, оказывается, были два брата: старший и младший – и ещё младшая сестра. Мать умерла от крупозного воспаления лёгких, сестра умерла во младенчестве, вслед за ней; врачи сказали: «Оттого что мать кормила её воспалённой грудью». Отец пьянствовал, распродал всё имущество и в конце концов продал дом. Семья оказалась на улице. Голод, нищета, тяжёлая работа. Дед писал немногословно, как будто торопился. Событий было слишком много, они теснились в его памяти, а времени было слишком мало. Думал ли он о том, что мы найдём его листки? Мы путаемся в названиях улиц, армянских и грузинских именах: почти всю нашу недолгую жизнь мы прожили в Петербурге, где дед никогда не бывал, и он всё пытался нас расспросить, как там, когда мы приезжали провести у моря летние каникулы. В Москве он, кажется, бывал, и этим его личный опыт, касавшийся России, исчерпывался – за исключением Сочи, конечно, куда он ездил по делам множество раз, когда ноги ещё ходили. Но Сочи, как и любой город недалеко от границы, не считался, как не считается для его жителей «заграницей» вся Абхазия. Какая же это заграница, если у всех там друзья, родственники, какие-то дела…
Из листков в памяти сохранилось немного. Когда дедов отец вернулся с трудовой мобилизации из азербайджанского Сальяна (какой это был год: 1923-й, 1924-й? Так давно, что и не упомнишь), дети приняли его за нищего, такой он был грязный и заросший. Они полезли в его вещевой мешок, где нашлась связка сухих таранок[12], кусок чёрного хлеба и грязное бельё – его сожгли на улице в костре, и бельё трещало, так много было в нём вшей. От этих вшей вся семья вскоре заболела сыпным тифом. Потом в туберкулёзный санаторий «Аразиндо» провожали соседа, рабочего табачной фабрики дядю Антона, который иногда угощал детей тростниковым сахаром, и дед не понимал, отчего плачут жена и дочь дяди Антона. От пьянства умер отец, а старший брат деда поступил в Кавалерийское училище горских национальностей в Краснодаре. Об этом старшем брате мы от деда никогда не слышали: по-видимому, он умер ещё до того, как мы появились на свет, или когда мы были совсем маленькими. Потом, уже будучи взрослой, я узнала, что старшего брата деда звали Арташес и был он генерал-майором Советской армии.
Когда дед был ещё мальчиком и учился в ФЗУ, он хотел вступить в пионеры, но по пути в училище на сбор пионерского отряда встретил старшего брата. Тот спросил его, куда это дед направляется, и, услышав ответ, закричал: «Какие ещё тебе пионеры?!» — избил его и отправил обратно домой. Так дед и не стал пионером. Много лет спустя, учась в Высшем пограничном училище СССР, старший брат Арташес позвонил деду и требовательно спросил его, вступил ли он в комсомольскую организацию. Дед даже растерялся, что случалось с ним нечасто: «Как так получается, сначала отметелил непонятно за что, а теперь спрашивает про комсомольскую организацию?..» Брат Арташес дослужился до генерала и потом, звоня кому-нибудь, всегда начинал разговор следующим образом: «С вами говорит генерал Григорян» — таким тоном, что казалось, будто на том конце линии сразу же вставали и отдавали честь. За исключением этой особенности, в жизни он был спокойным и очень вежливым человеком, так что не верилось, что он мог побить младшего брата за желание вступить в пионеры. Ему прочили большое будущее, но со смертью Сталина руководство сменилось, карьера старшего дедова брата закончилась, и он вышел на пенсию.
Много лет спустя я сильно жалела, что мы, небрежно просмотрев дедовы записи, сунули их обратно в ящик тумбочки и никто не догадался взять их с собой. Теперь жизнь разбросала нас по разным городам, и нет времени собраться и поехать к морю, да и дом, в котором мы проводили долгие летние каникулы, родственники давно сдают отдыхающим.
К стене прижат эбеновый шкаф, забитый книгами. Вернее, книга всего одна – «Большая медицинская энциклопедия», в которой больше сотни томов. Остальное – подшивки литературных журналов столетней давности. Корешки ужасно потрёпанные. Ясно, что дед каждый этот том и каждый журнал по много раз перечитывал. Брал с полок своими толстыми, с трудом сгибавшимися пальцами и листал, листал. Подносил книги к подслеповатым глазам, и тогда запах старой бумаги смешивался с запахом печёных яблок с корицей. Сидел, тяжёлый, неповоротливый, в своём кресле за скособоченным столом (под одну из ножек была подложена сложенная вчетверо бумажка, чтобы не шатался). В открытое окно задувал солоноватый, пахнущий йодом ветер, отчего кружевные гардины вздымались, подобно парусам, и слышался отдалённый шум волн, перекатывающих прибрежную гальку.
Начитавшись, дед расхаживал, хромая, по комнате. Вечерами через стены до нас доносился скрип половиц. И ещё он зачем-то ковырял ногтем обои. Подойдёт – поковыряет. Бывало, оторвёт полоску, но не бросит на пол, а донесёт до стола. Чтобы потом – в ближайшую свою вылазку на кухню или в туалет – забрать с собой и выбросить в мусорное ведро. Родители сначала пытались с дедом ругаться, чтобы он перестал портить обои, но что ему было до их возмущения… У деда на родителей была обида, и хотя он после того единственного скандала никогда их не попрекал, родители знали, что обида была и никуда она не делась. Обида же состояла в том, что родители не дали деду уйти из жизни. Однажды он, лёжа в кровати, вскрыл себе вены перочинным ножом – но, должно быть, в его теле оставалось ещё столько жизненной силы, что он попытался подняться и рухнул на пол. На шум прибежал отец и, увидев, что произошло, вызвал скорую. Деду поставили капельницу, а заодно проверили сердце и сказали, что сердце у него отличное и с таким сердцем он может прожить ещё сто лет. После того случая он долго сердился и ни с кем не хотел разговаривать. Потому в конце концов на дедовы причуды просто махнули рукой. Его комната – пусть в ней что хочет, то и делает. Хоть на голове пусть ходит.
Спал он на узкой кровати возле окна. Матрас чуть не до пола продавлен. А над кроватью – ночник. Лампочка покрыта густой пылью. Когда дед был помоложе, то есть около девяноста, он любил читать лёжа. Даже сесть на эту кровать боязно: а ну как совсем провалится? Но мы садимся по очереди, ведь деда-то кровать выдерживала. Пружины надрывно скрипят. Здесь всё скрипит, кроме разве что книг в шкафу, которые он без конца перечитывал. Давным-давно ведь выучил наизусть, но, выучив, всё равно перечитывал. И ел яблоки с корицей, которые сначала бабушка, а потом мама пекли специально для него. И звал нас, просил принести ему что-нибудь с кухни, а потом звал, чтобы угостить «бумажным яблоком». Очень хочется теперь поговорить с ним, послушать его истории, узнать, как на самом деле ему покалечило ноги, как он встретил бабушку – тогда молоденькую и очень красивую (несколько фотографий в альбоме, на одной из них бабушка с тремя её сёстрами и тремя братьями, все в старинных крестьянских костюмах). Сидя на его кровати, мы пытаемся что-то припомнить, но припоминаются только отголоски слов, лишённые смысла. И запах из комнаты почти выветрился.
Этот рассказ автобиографичен лишь отчасти: так, например, в действительности мои дедушка и бабушка по отцовской линии похоронены вместе в городе Гагра в Абхазии и при жизни дедушка, кажется, никогда не ел печёных яблок с корицей, но, когда я вспоминала наше общение, мне вдруг сам собой представился этот образ. Единственной приезжей в его доме была я, а другие дети – мои двоюродные брат и сестра – жили там постоянно. На самом деле все мы деда нисколько не боялись, разве что временами уставали от его долгих разговоров и нравоучений и убегали играть на улицу, а скорую ему вызывал не мой отец, а мой родной дядя. Но чистая правда, что врачи сказали деду в его почти сто лет, что он может прожить ещё сто, и это его сильно расстроило. Мы искренне верили, что дед всегда будет сидеть в своей комнате, слушать барахлящее радио и перелистывать страницы старой энциклопедии. Тогда мы ничего не знали о смерти.
Гагра – Санкт-Петербург, 2015–2025 гг.
Подборка стихов
Стихи
Герман Титов
Поэт, архитектор, искусствовед.
Родился в г. Сумы.
Окончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института. В 2009–2014 годах был главным редактором харьковского журнала поэзии «Лава».
Автор девяти книг стихов, пять из которых были напечатаны в России.
С августа 2014 года живёт в Санкт-Петербурге.
«Хорошо быть бесплотным духом…»
- Хорошо быть бесплотным духом:
- Надевать не нужно рубах
- И чесать за опухшим ухом,
- Разбираясь в мёртвых словах.
- Хорошо над Невой с рассветом
- В акварельных тучках парить,
- В Летний сад приходить за летом,
- Не теряя осени нить.
- На кораблик глазеть злачёный
- С верхних ракурсов в ясный день
- И мурлыкать, что кот учёный,
- Невозбранную хренотень.
- По Фурштатской волею ветра
- Незаметно для всех гулять
- И ночные квадраты света
- Незаметно благословлять.
- А ещё за линию фронта,
- Мимо смертью призванных птиц,
- Пролететь бы до горизонта,
- До отчизны моих страниц.
- Повидаться с другом и мамой,
- Посетить могилку отца,
- Расквитаться с кровною драмой.
- Ну и что, что после конца?
- Возвратиться часов в двенадцать
- К заповедным Невским вратам,
- Чтоб кому-то здесь вспоминаться
- И кому-то быть нужным там.
- Знать отныне о самом главном,
- Как Иосиф и Павел, да.
- И стихи сочинять пространно,
- Обращённые в никуда.
«Вернись, пожалуйста, живым…»
- Вернись, пожалуйста, живым,
- А там уж разберёмся,
- Насколько сладок южный дым
- И кто из наших вовсе
- Исчез, кого здесь просто нет,
- Кто вышел за оконце
- И почему престольный свет
- Сегодня дарит солнце
- России в этих трёх цветах.
- И помолчим о главном.
- А прах всегда вернётся в прах,
- Со славой иль бесславно.
«В самом начале Столетней войны…»
- В самом начале Столетней войны
- Вспомнишь, себе на уме,
- Давние тёплые детские сны,
- Волны в бликующей тьме,
- Сочи из прошлого века и Крым,
- Дождь в девяносто восьмом,
- Мирный отечества прежнего дым,
- Всё, что душе поделом,
- Всё, что в садах согревала весна,
- Птичий в ветвях перещёлк,
- Многоочитые звёзды без сна,
- Вещий и праведный полк,
- Вдаль уходящий на верную смерть,
- Не разбирая утрат,
- Там, где с отчизной смыкается твердь
- И не вернуться назад.
- Рощи, посёлки, поля, чертежи:
- Выйду к своим – разберусь…
- Вдаль уходящий – на вечную жизнь,
- Загоризонтную Русь.
«Для чего, скажите, тело…»
- Для чего, скажите, тело,
- Если с ним живёт вина?
- Гэндальф Серый, Лёшек Белый,
- Много выпил я вина.
- Я кивну вослед трамваю,
- Будто Цой иль Гумилёв,
- Ветер мой, Борей и Вайю,
- Шепчет про отменный клёв
- У моста. Закат. Туристы
- Разбрелися кто куда,
- В небе сумрачно и чисто,
- Баю-бай, Дворец Труда.
- Спят ограды и каналы,
- Бельведер и Бармалей,
- У Балтийского вокзала
- Дремлют стайки голубей.
- Все труды Омар Хайяма
- Обратилися в вино,
- И, признаться, это драма,
- Но, однако, всё равно,
- Если впрямь у Трисмегиста
- Что вверху, то и вблизи
- И любая реконкиста
- Вязнет в боли и в грязи,
- Если больше нет трамвая,
- Если ты – лишь голос твой.
- Сердце молча замирает
- Над бездонною Невой.
«Меж Рождественских улиц жарко…»
- Меж Рождественских улиц жарко,
- Поглотил закат корабли.
- Маскарон, судьбы аватарка,
- Смотрит вдоль пропащей земли.
- Покидают смыслы творенье,
- Но ведут в Таврический сад;
- Обменяй тоску и сомненье
- На куртин бессонный парад.
- Кто спасёт твои переулки,
- Кто вернёт им всем имена?
- Продают здесь кофе и булки
- И открыт магазин вина.
- Нобунага из Лабытнанги,
- Шарлемань из ближних Шушар,
- В этом мiре глухо, как в танке,
- И двусмыслен песенный дар.
- Только ветер и выручает,
- В нём невидимый Духа свет,
- Только он владеет ключами
- От того, чего уже нет.
- Бледный ангел держит зерцало,
- И мерило его – звезда,
- И душа, как чайка, мерцает
- Над примятой гладью пруда.
Тридцать первое августа
- В прощальном августе имперском
- Жар обращается в золу
- И луч оттачивает блеском
- Адмиралтейскую иглу.
- Здесь умирать совсем не ново:
- Ждёт постояльцев «Англетер»,
- И за трамваем Гумилёва
- Бледнеет облачный партер.
- Оград мерцающие сплетни
- Не заслоняют пустоту,
- И Летний сад сегодня летний,
- Увы, последний раз в году.
- И зелень утром на бульваре
- Конногвардейском уж не та,
- И об ушедшем Государе
- Не вспомнят Царские врата.
- Но музыка, перебивая,
- Вдруг тронет тронный сон ветвей,
- И Медный Всадник выплывает
- Навстречу смертности твоей.
«Редеет дерево за сдвоенным окном…»
- Редеет дерево за сдвоенным окном.
- Жизнь – пробуждение в октябрьской темноте, —
- Неразделимая с предшествовавшим сном,
- Но безусловная, как чайник на плите,
- Как предложение, что длится не спеша.
- Никто не слушает – и ладно, ничего,
- Жизнь продолжается и, листья вороша,
- Уходит прочь, как и любое волшебство.
- Не оглянуться на брандмауэров ряд,
- Смешные окна, золотую кутерьму,
- Так продолжается который век подряд,
- И звёзды прячутся в небесную суму.
- Войной и осенью всего не объяснить,
- Но и не надо, холодны теперь слова,
- У Ариадны и Клото всё та же нить,
- И даль октябрьская, и рыжая трава.
- Всё – отражения, их много вне земли,
- И братья мёртвые идут, идут ко мне,
- В Неве темнеющей мерцают корабли,
- И повторенья их – на кровеносном дне.
- Да, уходи, но подожди ещё, постой,
- Мы слишком много оставляли этой мгле,
- В которой теплится кораблик золотой,
- Как мотылёк музейный на игле.
«Нас уже ничего не берёт…»
Нас уже ничего не берёт,
Чёрный дым и огонь – не беда,
Мы рассеянно смотрим вперёд,
Где рассеяны смыслов стада,
На раздолбанный вечностью край,
Где теряются все имена,
Где в октябрь упирается май,
А победа до смерти одна
На руинах шахтёрских садыб[13],
Терриконов, лугов и судеб,
Чернозёма распахнутых глыб,
Где сияет луганский Эреб,
Где так важно дойти до черты,
Где кончается всякий жилфонд,
Где навек только небо и ты
И России твоей горизонт.
«Расскажи мне о самом страшном…»
- Расскажи мне о самом страшном,
- О живом, о том, что болит,
- Замерзают блики над башней,
- И плывут во тьму корабли,
- И плывёт подобьем заката
- Всё, что было прежде моим,
- Фонари – Эреба заплаты,
- И отечества сладкий дым
- Заполняет поры пространства,
- Застилает Храм на Крови,
- Быть живым – уже самозванство,
- Как угодно это зови.
- Ведь закат доподлинно знает,
- Что молчанье – лучший ответ.
- Полнота бытия мерцает
- Сквозь василеостровский свет.
«Перед смертью выпал снег…»
- Перед смертью выпал снег,
- Сонно, невесомо,
- Ты простишь свой долгий век,
- Выходя из дома.
- Тут такие чудеса,
- То война, то вьюга,
- Всё наглядно: видишь сам,
- Не спасти друг друга.
- Всё наглядно и легко,
- Снег-первопроходец
- Льёт эфирное пивко
- В питерский колодец.
- Жить ещё? Ну, поживи,
- Тут – до поворота,
- И парадные твои
- Вымерзли ворота.
- Сны выходят на карниз,
- Дремлют кот да кошка,
- И Господь твой смотрит вниз
- В лунное окошко.
«Если жив – попробуй согреться…»
- Если жив – попробуй согреться,
- Обернулось сердце бронёй,
- И глядит в пространство Боэций,
- Утешаясь всякой фигнёй,
- Будто есть в том небе окошко,
- Будто есть в излёте исход,
- И звезда как морось, морошка,
- Полыньёй полынь прорастёт.
- Хорошо не быть декабристом
- В декабре, на призрачный лёд
- Не ступать и в счёт реконкисты
- Отправлять свой чаячий взвод.
- Быть пророком – так себе доля,
- Сонный дольник сбивчив и наг,
- И глядится в русское поле,
- Звёздный купол, Божий дуршлаг.
- Театральной зыбкости задник,
- Но придёт свершение дня,
- И бессмертный клодтовский всадник
- Для рассвета вздыбит коня.
«Вот ещё б вернуться к ответу…»
- Вот ещё б вернуться к ответу
- На вопрос, которого нет,
- Вспомнить сердцем прошлое лето
- И последние десять лет.
- Петербург, мой сторож гранитный,
- Полустёртой памяти след,
- Наши жизни пишутся слитно
- Оттого, что скомкан билет.
- Летний сад и Марсово поле,
- Тает Мойка, словно во сне.
- Дело вовсе не в алкоголе
- И, увы, уже не во мне.
- На Дворцовой площади пусто,
- Ранним утром тёмен дворец,
- Это чувство, это искусство
- Быть живым, когда не жилец.
- Вот ещё обняться хотя бы
- И увидеть, будто ответ,
- Как сквозь купол Главного штаба
- Расцветает русский рассвет.
Восемь рассказов
Рассказы
Олег Дарк
Прозаик, литературный критик.
Родился в 1959 году. Из семьи учителей. Подмосковное детство описано в автобиографической повести «Андреевы игрушки» («Знамя», 1999, март). Окончил филологический факультет МГУ. Автор сборников рассказов «Трилогия» (1996), «На одной скорости» (2015). Публикации в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Вопросы литературы», «Старое литературное обозрение», «Новое литературное обозрение», «Пушкин», «Русский журнал»; в альманахах «Стрелец», «Вестник новой русской литературы», «Комментарии»; в «Независимой газете», «Литературной газете», «Общей газете» и др. Комментатор изданий Ф. Сологуба, В. Набокова, В. Розанова. Составитель антологий «Проза русского Зарубежья» (в 3-x т., М., «Слово/Slovo», 2000) и «Поэзия русского Зарубежья» (там же, 2001).
* * *
14 октября 1946 года, Нюрнбергская тюрьма
Герман Гёринг:
Фюрер указал нам путь, подал пример, как должен умирать национал-социалист. И некоторые последовали ему: ничтожество Йозеф и этот одержимый агроном. Ты правда думаешь, что я уступлю им? Я был вторым после фюрера, всегда вторым, и это справедливо. Или ты думаешь, что они последовали за ним из страха? Это не так. Ни Йозеф, ни агроном страха не знали. Никто из нас не знал страха. Но Йозеф думал, что он переиграет фюрера хотя бы сейчас. Смотри, фюрер убил себя и свою безвольную дуру Еву. Никогда не мог понять, зачем она ему. А Йозеф переколол шестерых детей и прекрасную Магду. Да, вот кто мне действительно нравился, жаль. То есть он в четыре раза превзошёл фюрера. Он всегда мечтал об этом. Но он ошибся. Кому нужна его и его выродков жизнь? Фюрер не просто убил себя и Еву – это было жертвоприношение. И он завещал нам его. И Йозеф это знал. С Хайни всё было иначе. Он действительно однажды поверил, что может вырастить новую Германию, как разводил своих кур. Это было хуже, чем заблуждение, это была болезнь. Он совершенно помешался на рыцарстве, тайных орденах и всём этом тупом Средневековье. Я думаю, он путал времена – что живёт в пятнадцатом веке. Но с этой своей наивностью он приносил пользу, и Адольф терпел его. То, что он убил себя, – очень естественно, и в этом нет никакой позы.
Я хорошо знаю историю, я много учился. Учился понимать историю. Не так, как Адольф, конечно. Но в этом ему и не было равных. Я думаю, что единственное, что он знал, была история. Это его и погубило. А с ним и всех нас. Он думал, что сможет выиграть сражение, потому что больше знает. Больше, чем Бисмарк, Бонапарт или Фридрих. Но он не знал больше. Я изучал французскую революцию, да, ту самую. Кровавую. Якобинцы лили кровь и пьянели от этого. Нам никогда не нравилось лить кровь. Мы делали это из практических соображений. Мы были прагматики и политики. А якобинцы не были политиками. Они убивали своих, это как? Мы так никогда не делали. Смотри. Йозеф в 21-м требовал исключения фюрера из партии. Но Йозеф был говорун и отменный писака, и Адольф позволил ему работать рядом, приблизил к себе, ласкал, научился доверять ему. А Робеспьер убил Дантона, который мог бы спасти его, да и всю Францию. Я не очень жалую французишек, дурной, никчёмный народ. Но Дантон мне нравится. Не Бонапарт – Дантон. У нас много общего. Он так же, как и я, любил вкусную еду, красивых женщин и драгоценности. И живи он в двадцатом веке, он был бы авиатором. Я ведь Дантон национал-социализма.
Мы допустили очень много ошибок, и я сожалею о них. Я сожалею, но не жалею ни о чём. Это разные вещи. Так вышло с евреями. Их не надо было уничтожать, во всяком случае, не сейчас. У меня работали евреи, и никто не лез в мои дела. Гестапо заканчивалось у моего порога. Потому что я лучше знаю: если он работает у меня, значит, он не еврей. Только так. Мы восстановили против себя весь мир, это очень плохо. Евреев много и в Америке, и в Англии, они там играли большую роль, влияли на политику. Тогда ведь все были антисемитами. Черчилль был антисемитом. Это было в духе времени. Но еврейские деньги, еврейские связи… как они все стоят друг за друга, все они родственники. Поэтому антисемитизму были установлены границы. Они это называли цивилизованностью. Меня веселят словечки политиков, но с ними надо было считаться. А мы нарушали границы, потому что нам было на всех плевать. Адольфа губила честность. Он во всём хотел дойти до конца. И в этом тоже. Я же всегда был против. Евреев надо было вытеснять из важных сфер, отнимать влияние, разрывать их связи. А лучших, самых полезных – использовать. Так я и делал. Я знал евреев, которым импонировали идеи национал-социализма. Зачем от них отказываться? Уничтожить евреев можно было б после победы. После победы кто бы нам мог в этом помешать?
Другая печальная ошибка – война против всех. Этого нельзя было допускать. Дюнкерк – конечно, поражение, и фюрера лично. Он остановил наступление, зачем? Все недоумевали. Адольф испугался, ты слышал что-нибудь подобное? Конечно, не англичан и бельгийцев, а за свой великий план, которым был одержим. А нет ничего хуже, чем великие планы на войне. Этот его поход на восток и новые пространства для немцев. Потому что, видите ли, в Европе тесно. Что мы слишком потратимся и на восток не станет сил. Какого чёрта! Разве нельзя было обождать? Я думаю, он торопился потому, что боялся умереть – он всегда был очень мнительным в этом отношении – и без него ничего не сделается. Я в 40-м уже понял, что всё бессмысленно, кончится катастрофой, и потерял к делу интерес.
Договор с Москвой был большой удачей Риббентропа, хотя я никогда не любил виноторговца, но не он же его придумал. Мне всегда было интересно, как удалось уговорить фюрера. На это был способен только один человек. Бедный Руди! Так и сгниёт в камере. Хотя я всегда считал его психом, но уговаривать он умел. И это было хорошо. Мы тем самым получили два года. А нужно было четыре. Надо было с вислоусым поделить мир. Временно, разумеется. Дать ему куски пожирнее: Финляндию и Польшу. Хочет Российскую империю – пусть получит. Всё равно вернём. А сначала разделаться с англичанами и бельгийцами. Их следовало сбросить в море, а всю их сборную флотилию – уничтожить. Тогда бы Британия оказалась в наших руках. Мы бы с лёгкостью высадились с моря и воздуха, создали бы плацдарм, на который переправляли бы войска, сколько нужно и без спешки. Потому что воздух наш, а я знаю, о чём говорю. А после сделать так, чтобы Америка и не вздумала лезть. По примеру Японии, которая перестала бы канителиться, превратить её атлантическое побережье в сплошной Перл-Харбор. И в Африке не было бы проблем, и у Москвы – надежды на помощь, которой они только и держались. Остались бы в одиночестве, а мы бы подготовились.
А теперь они будут нам мстить. Для того и собрали этот паноптикум. Кому там меня судить, дегенератам, пачкавшим штаны во время наших налётов? Конечно, вот за этот вот испытанный страх. И никогда не простят. Я не рассчитывал на снисхождение, я в нём не нуждаюсь. Ни когда паясничал и глумился над ними, ни когда защищался. Смерти не боюсь.
У меня с ней, можно сказать, договорённость. Что умру, когда пожелаю и как пожелаю. Но верёвка – брр! И висеть на потеху толпе? Фюрер нам завещал: только от собственной руки. У меня дрожь отвращения, как представлю, кто-то заворачивает мне воротник.
Я ни о чём не жалею, потому что хорошо пожил. У меня было всё: слава, власть, деньги и много всего красивого. И во многом благодаря фюреру. Неужели же я так неблагодарен, что не уйду за ним по собственной воле, а не потому, что чьё-то решение! Да, я пытался тогда отстранить Адольфа и принять власть. Мне хотелось спасти то, что осталось от Германии. Но фюрера я любил всегда и продолжал любить. Конечно, достойней было бы застрелиться, я солдат, остаюсь им. Но фюрер не застрелился. И знаешь, что я тебе скажу: если б чудо вызволило меня и была бы возможность, я всё равно выбрал бы яд. Чтоб пройти последний путь моего фюрера.
Бомжам-то сейчас холодно
Из разговора
Да он мне сразу понравился. Хотя и слабый, как оказалось. Ксана ещё с нами. Она от мужа сбежала, да что-то там не срослось. Теперь с нами. Так втроём и мыкались. Она то со мной, то с ним. Не обижала. Я за пять лет хорошо места изучил. Там чердак открыт, там котельная, где нальют. Мы много пьём, чтобы жить. Или, например, магазины. Встанешь – не знаю почему, у одного охотно подают, а у другого – совсем ничего. Запоминаешь, где подают. У меня в голове как карта. С закрытыми глазами.
Хорошо летом. Можно просто в парке, забраться поглубже. К утру, конечно, пробирает. Но ничего, встал, зарядку сделал – и за работу. Однажды мы в такие дебри залезли, а там в середине вроде поляны, а вокруг заросли. И с дороги не видно. Натащили ящиков, досок, сколотили себе пристанище. Просто дом. Месяц прожили по-человечески. Пока охранник, как-то набрёл на нас, не прогнал. Да не всё ж на одном месте.
А тут снег пошёл. Это каждый год так, тяжело к зиме. Но им-то в диковинку. Стали думать, как жить дальше. Вариант – на юг пробираться. Дорогу знаю. И тут мне вдруг вштырило: а давайте на войну запишемся. А что? Документы есть, я их вообще берегу. Они у меня в специальном пакете к телу приклеены. Стали считать, какие у нас с того деньги будут. Говорят, двести, а то и триста. Я таких в руках не держал. Если на полгода и не убьют, можно потом пожить как следует.





