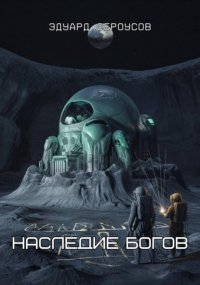Читать онлайн Свидетели бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Сероусов
Часть I: Паттерн
Глава 1. Сорок тысяч
Счётчик на панели показывал 39 999.
Рут Эверетт смотрела на эту цифру дольше, чем следовало. Пять секунд. Десять. Достаточно, чтобы осознать: следующий просмотр будет юбилейным. Сорок тысяч чужих смертей за пятнадцать лет работы. Если разделить на рабочие дни – примерно семь-восемь в день, что соответствовало норме для свидетеля класса А-3. Если разделить на общее количество дней – чуть больше семи смертей в сутки, включая выходные, праздники, тот отпуск в Корнуолле, когда она пыталась научиться не думать о работе и провалилась на третий день.
Сорок тысяч. Население небольшого города. Стадион, заполненный дважды. Достаточно людей, чтобы заселить космическую станцию или основать колонию на Марсе, если бы кто-то ещё верил в такие проекты.
Все они умерли. И Рут видела каждую смерть.
Она отвернулась от счётчика и потянулась к чашке кофе. Кофе давно остыл – она налила его два часа назад, перед предыдущим просмотром, и забыла выпить. Привычка, оставшаяся с первых лет работы: держать что-то в руках, чтобы руки не дрожали. Теперь они не дрожали, но кофе она всё равно наливала.
Просмотровый зал Бюро Танатологии располагался на третьем подземном этаже бывшего здания Скотланд-Ярда. Когда-то здесь допрашивали преступников; теперь здесь допрашивали мёртвых. Рут находила в этом определённую иронию – из тех, что лучше не озвучивать вслух, потому что коллеги либо не поймут шутку, либо поймут слишком хорошо.
Зал был невелик: шесть метров на четыре, потолок низкий, стены покрыты звукопоглощающим материалом цвета мокрого асфальта. Один стол, одно кресло, один экран. Бюро экономило на интерьере, но не на оборудовании: проекционная система стоила больше, чем годовой бюджет среднего хосписа, и позволяла реконструировать визуальные образы умирающего с точностью до семидесяти трёх процентов. Эмоции – шестьдесят процентов. Мысли – сорок пять, но кто вообще понимает чужие мысли, даже реконструированные?
Рут сделала глоток холодного кофе, поморщилась и поставила чашку обратно. На экране мерцал стандартный интерфейс: имя субъекта, дата смерти, причина, локация, продолжительность записи. Семь минут – стандартный буфер системы Кларити-7. Четыреста двадцать секунд последнего сознательного опыта, сжатые в файл размером с короткометражный фильм.
Элинор Мэй Хоуп, 78 лет. Инсульт. Хоспис Святого Варфоломея, Восточный Лондон. Запись: 6 минут 47 секунд.
Мирная смерть. Рут научилась определять это по метаданным ещё до просмотра: продолжительность близка к максимуму (значит, угасание было постепенным), локация – хоспис (значит, смерть ожидаемая), возраст – за семьдесят (значит, биологически оправданная, если такое понятие вообще применимо к смерти). Худшие записи – короткие, внезапные, молодые. Автокатастрофы. Теракты. Те случаи, когда буфер не успевает заполниться, и последние семь минут жизни превращаются в семнадцать секунд ужаса.
Элинор Мэй Хоуп умирала правильно – если смерть вообще может быть правильной.
Рут коснулась сенсора запуска.
Первые тридцать секунд всегда самые дезориентирующие. Система калибрует восприятие, подстраивая проекцию под визуальную кору наблюдателя. Рут видела размытые пятна света – окно хосписа, мягкий зимний полдень, – потом контуры обрели резкость, и она оказалась внутри.
Не буквально, конечно. Технология Кларити не переносила сознание; она реконструировала образы из нейронной активности умирающего мозга, превращая электрические импульсы в картинку, которую мог интерпретировать живой наблюдатель. Рут оставалась собой – сидела в кресле, чувствовала холод кондиционированного воздуха, слышала тихий гул вентиляции. Но её зрительная кора теперь обрабатывала чужие данные, и часть её сознания находилась там, в палате хосписа, в последних минутах Элинор Мэй Хоуп.
Палата была светлой. Цветы на тумбочке – искусственные, но качественные, из тех, что невозможно отличить от настоящих, пока не попробуешь понюхать. Кровать у окна. За окном – серо-оранжевое небо Лондона, привычное после Великого Компромисса, когда стратосферные аэрозоли стабилизировали климат ценой закатов цвета ржавчины.
Элинор смотрела на потолок. Её поле зрения сузилось – периферия темнела, как виньетка на старой фотографии, – но центр оставался чётким. Трещина в штукатурке. Она выглядела как река на карте, с притоками и дельтой, и Рут поняла, что Элинор думала именно об этом: о реках, о картах, о путешествии, которое они с мужем планировали в шестьдесят третьем году, но так и не совершили, потому что Мартин заболел, а потом уже было некогда, а потом было поздно.
Мысли просачивались сквозь образы – не словами, скорее ощущениями, окрашенными в эмоциональные тона. Сожаление, но мягкое, давно выдохшееся. Принятие. Усталость, которая была не неприятной, а почти уютной, как желание лечь спать после очень длинного дня.
Дверь открылась. Элинор повернула голову – медленно, с усилием, которое Рут ощущала как отголосок чужой слабости. Двое: женщина лет пятидесяти, седеющая, в мятом джемпере, и мужчина чуть моложе, похожий на неё достаточно, чтобы быть братом. Дети. Рут видела их не так, как видела Элинор – образы накладывались, сдвигались во времени, и лицо дочери на мгновение стало лицом пятилетней девочки с разбитой коленкой, а потом – подростка, спорящей из-за комендантского часа, а потом – невесты в белом платье, которое было слишком дорогим, но Элинор всё равно не возражала.
Память умирающего работала не линейно. Она выхватывала моменты, склеивала их, наслаивала. Рут научилась читать эти палимпсесты, находить в них смысл – профессиональный навык, который невозможно объяснить тому, кто никогда не был внутри чужой смерти.
Дочь – её звали Маргарет, Мэгги, – взяла мать за руку. Тепло чужих пальцев было ярким, почти болезненным на фоне общего онемения тела. Элинор думала: «Тёплые. Она всегда была такой. Огонёк». И ещё: «Не плачь, милая. Всё хорошо. Я знаю, куда иду».
Последнее было не совсем мыслью – скорее убеждением, глубоким и спокойным, укоренённым где-то под поверхностью сознания. Элинор верила. Во что именно – система не могла реконструировать с достаточной точностью; религиозные образы размывались, становились абстрактными. Свет. Тепло. Присутствие. Этого хватало.
Сын – Дэвид – стоял чуть в стороне. Элинор смотрела на него и думала о том, как он похож на отца. Не внешне – Мартин был невысоким и рано полысел, – а в манере держаться, в том, как хмурился, когда не знал, что сказать. Дэвид не знал, что сказать. Он открыл рот, закрыл. Потом просто сказал:
– Мам.
Одно слово. Рут видела, как оно прошло сквозь угасающее сознание Элинор, развернулось в целую жизнь: первый шаг, первое слово («мама», конечно, не «папа», и Мартин тогда немного расстроился, но не по-настоящему), первый день в школе, и все годы после, и то воскресенье, когда Дэвид позвонил и сказал, что переезжает в Эдинбург, и Элинор поняла, что её дети выросли окончательно, и это было правильно, но больно, как потеря молочного зуба: необходимая и всё равно кровоточащая.
– Всё хорошо, – сказала Элинор. Или хотела сказать; её губы едва двигались, и Рут не была уверена, услышали ли дети. – Внуки…
Мэгги кивнула:
– Джейми получил стипендию. Полную. Я хотела тебе сказать…
Внуки. Элинор думала о них – не как о лицах, а как о чувстве, о продолжении, о том, что что-то останется после. Джейми – умный мальчик, слишком серьёзный для своих лет, но это пройдёт. Софи – та, что младше, – весёлая, легкомысленная, и это тоже хорошо, мир нуждается в легкомыслии. Они будут жить. Они будут помнить.
Этого хватало.
Рут смотрела, как жизнь Элинор Мэй Хоуп сворачивается внутрь, как затухающее пламя. Боли не было – хоспис позаботился о морфине. Страха не было – или был, но так глубоко, что система не улавливала. Было только угасание: медленное, постепенное, почти торжественное, как закат над морем.
Последняя минута.
Элинор закрыла глаза. Образы потеряли чёткость, превратились в абстракцию: тени, движение, вспышки цвета без формы. Это было нормально – зрительная кора отключалась одной из первых, и последние секунды сознания редко содержали что-то, поддающееся визуальной реконструкции.
Но кое-что оставалось.
Φ – интегрированная мера сознания – держался на уровне 2.4, что было выше, чем следовало ожидать для умирающего мозга. Рут видела показатели на вторичном экране: синусоида, которая должна была падать, вместо этого выровнялась. Всплеск интеграции. Это фиксировали у всех умирающих – последний выдох сознания, момент, когда нейронная активность не рассеивалась, а собиралась, концентрировалась, как луч света в линзе.
Двести миллисекунд.
Рут привыкла к этому. Пятнадцать лет, сорок тысяч просмотров – она видела всплеск столько раз, что перестала обращать внимание. Стандартный паттерн. Финальная интеграция. Потом – коллапс, Φ падает до нуля, и запись обрывается.
Но сейчас что-то было иначе.
Система реконструкции выдала образ. Нечёткий, как всегда в последнюю секунду, но различимый. Лицо.
Рут нахмурилась. Элинор думала о ком-то конкретном в момент смерти – это было обычно. Дети, супруг, иногда давно умершие родители. Система фиксировала эти образы, добавляла в отчёт под графой «финальная интенциональность». Статистически интересный параметр, но не более.
Лицо проявлялось медленно. Женщина. Не Мэгги – черты другие, строже. Не знакомая по воспоминаниям Элинор – Рут проверила бы метаданные, но она и так знала: этого лица не было в предыдущих шести минутах записи. Элинор не думала о нём раньше.
Оно появилось только сейчас. В последнюю секунду.
Лицо обрело резкость.
И Рут узнала себя.
Система завершила просмотр стандартным образом: экран погас, показатели обнулились, на панели появился запрос на классификацию записи. «Мирная смерть – естественные причины – с сопровождением – религиозный контекст положительный – рекомендация к публикации: да».
Рут не шевелилась.
Она сидела в кресле, руки на подлокотниках, взгляд направлен в погасший экран. Сердце билось ровно – она проверила пульс автоматически, два пальца к шее, давняя привычка. Семьдесят два удара в минуту. Никакой паники. Никакой физиологической реакции.
Это было плохо.
Паника была бы нормальной. Паника означала бы, что организм отреагировал, выбросил адреналин, приготовился к угрозе. Отсутствие паники означало одно из двух: либо угрозы не было, либо угроза была настолько серьёзной, что система «бей или беги» просто отключилась, не зная, что делать.
Рут предполагала второе.
Она медленно подняла руку и коснулась панели. Перемотка. Последние тридцать секунд.
Экран ожил. Мэгги говорила о стипендии. Элинор думала о внуках. Показатели Φ. Всплеск. Лицо.
Стоп-кадр.
Лицо было её. Не похожее – её. Те же скулы, высокие и острые. Тот же нос, чуть длинноватый, с горбинкой посередине. Те же глаза – светло-серые, почти прозрачные при определённом освещении. Седые пряди в тёмных волосах, которые она перестала красить три года назад, потому что казалось глупым.
Она смотрела на себя из последней секунды чужой жизни.
Рут перемотала ещё раз. Посмотрела. Лицо было тем же.
Технический сбой. Очевидное объяснение. Система реконструкции обучалась на миллиардах образов; ошибки случались. Иногда алгоритм «галлюцинировал», заполняя пробелы в данных паттернами, которых не было в исходном сигнале. Такое случалось примерно в двух процентах случаев, и Бюро имело протокол для подобных ситуаций: пометить запись, отправить на перепроверку, не публиковать до выяснения.
Рут открыла журнал системы. Проверила целостность данных. Хеш-сумма совпадала, передача прошла без ошибок, алгоритм реконструкции сработал в штатном режиме. Никаких аномалий на стороне оборудования.
Тогда, возможно, аномалия на стороне данных. Элинор Мэй Хоуп знала Рут? Видела её раньше – в новостях, на конференции, на улице? Свидетели класса А-3 не были публичными фигурами, но и не были анонимными. Их лица иногда появлялись в документальных фильмах, в статьях о Законе о Прозрачности.
Рут проверила файл Элинор. Место жительства: Лейтонстоун, Восточный Лондон. Профессия: учительница музыки в начальной школе, на пенсии с 2060 года. Семейное положение: вдова с 2071 года. Социальные связи: обширные, в основном церковная община и бывшие коллеги.
Никаких пересечений с Бюро Танатологии. Никаких связей с Рут Эверетт.
Рут откинулась в кресле. Потолок просмотрового зала был таким же безликим, как стены: серый, гладкий, с утопленными панелями освещения. Она смотрела на него и думала – не о том, что видела, а о том, что должна сделать.
Протокол требовал сообщить о технической аномалии. Заполнить форму А-7, отправить её в отдел контроля качества, дождаться ответа. Если ответ подтвердит сбой – запись отзовут и переобработают. Если нет – добавят пометку в базу данных и забудут.
Но что-то мешало ей поднять руку и коснуться панели. Что-то, что не было паникой и не было рациональным анализом. Что-то, похожее на предчувствие.
Рут не верила в предчувствия. За пятнадцать лет работы она видела достаточно, чтобы знать: смерть не имеет сверхъестественного измерения. Нейроинтерфейсы Кларити записывали физические процессы – электрическую активность нейронов, химические реакции, паттерны возбуждения в коре. Всё, что казалось мистическим – тоннели света, умершие родственники, чувство покоя, – было продуктом угасающего мозга, последними фейерверками умирающих нейронов.
Она знала это.
И всё же.
Рут встала. Кресло скрипнуло – амортизаторы давно нуждались в замене. Она подошла к терминалу архива у дальней стены и положила руку на сканер.
– Авторизация: Эверетт, Рут. Класс А-3. Запрос на доступ к архиву записей.
Система ответила мягким зелёным свечением.
– Доступ разрешён. Пожалуйста, укажите параметры поиска.
Рут помедлила. Потом сказала:
– Последние десять записей, обработанных мной. Финальный кадр. Режим сравнения.
Экран разделился на десять сегментов. Десять лиц. Десять последних секунд.
Девять из них были размытыми, неразличимыми. Стандартный паттерн: угасающее сознание, хаотическая активность, ничего, что можно было бы интерпретировать как образ. Так выглядело большинство записей – не из-за технических ограничений, а потому что в последнюю секунду мало кто думал о чём-то конкретном. Мозг отключался, и визуальная кора отключалась вместе с ним.
Но один кадр был чётким.
Запись номер семь. Томас Эдвард Бёрнс, 83 года, рак лёгких, хоспис в Бристоле. Рут смотрела её два дня назад – рутинная смерть, ничего примечательного. Она не помнила финальный кадр.
Теперь смотрела.
Лицо было тем же. Её лицо.
– Расширить выборку, – сказала Рут. Голос звучал ровно. – Последние сто записей. Финальный кадр. Режим сравнения.
Экран перестроился. Сто сегментов, мелких, как почтовые марки. Большинство – шум. Но некоторые…
– Выделить записи с чётким финальным образом.
Двадцать три сегмента подсветились.
– Увеличить.
Двадцать три лица. Разное качество реконструкции – от почти фотографической чёткости до размытых силуэтов. Но все они были похожи. Все они были её.
Рут стояла перед экраном, и её руки не дрожали. Она считала. Двадцать три из ста. Двадцать три процента. Это было много – слишком много для случайной ошибки алгоритма. Но это было и мало – слишком мало для закономерности.
Она должна была остановиться. Заполнить форму. Сообщить.
Вместо этого она сказала:
– Расширить выборку. Последняя тысяча записей.
Система замерла на секунду – архив был большим, выборка требовала времени. Потом экран вспыхнул.
Тысяча сегментов. Рут не могла различить отдельные лица на таком масштабе, но система могла.
– Анализ: процент записей с чётким финальным образом.
– Двадцать два и семь десятых процента.
– Анализ: процент совпадения финальных образов с эталоном.
Рут загрузила собственное фото из базы данных сотрудников как эталон.
– Девяносто девять и девяносто семь сотых процента.
Она не шевелилась.
Двести двадцать семь человек из тысячи видели её лицо в момент смерти. Людей, которых она никогда не встречала. Людей, умерших в разных городах, в разных обстоятельствах, от разных причин. Людей, чьи жизни не пересекались с её жизнью ни в одной точке.
И все они – в последнюю секунду – видели её.
– Расширить выборку, – повторила Рут. Голос всё ещё был ровным. – Все записи, обработанные мной за последние пять лет.
Система предупредила: объём данных превышает оперативные возможности терминала; рекомендуется пакетная обработка.
– Пакетная обработка. Приоритет максимальный.
Ожидание заняло четырнадцать минут. Рут стояла перед экраном, скрестив руки на груди, и смотрела на индикатор прогресса. Она не думала ни о чём конкретном. Мысли текли по краю сознания, как вода по желобу: если позволить им остановиться, они затопят всё.
Результат появился в 17:43.
Всего записей: 18 742.
Записей с чётким финальным образом: 4 231.
Совпадение с эталоном: 99.97%.
Рут закрыла глаза. Открыла. Экран не изменился.
Четыре тысячи двести тридцать один человек. За пять лет. Каждый пятый. И все они – в последнюю микросекунду, в последний всплеск умирающего сознания – видели её лицо.
В коридоре горел дежурный свет – тусклый, синеватый, предназначенный для того, чтобы не мешать ночной смене. Рут шла мимо закрытых дверей других просмотровых залов, и её шаги отдавались эхом в пустоте. Было восемь вечера; большинство свидетелей уже ушли домой.
Она не собиралась уходить.
Кабинет Сары Чен находился на первом подземном уровне – достаточно близко к поверхности, чтобы иметь окно (искусственное, с проекцией городского пейзажа), достаточно далеко, чтобы сохранять связь с подземным миром просмотровых залов. Сара была директором Бюро Свидетелей уже восемь лет и единственным человеком, которому Рут доверяла.
Дверь кабинета была закрыта. Рут подняла руку, чтобы постучать, – и остановилась.
Она думала о том, что скажет. «Сара, у меня проблема». «Сара, система сбоит». «Сара, четыре тысячи человек видели моё лицо в момент смерти, и я не знаю, что это значит».
Каждый вариант звучал неправильно. Слишком спокойно или слишком истерично. Слишком похоже на техническую заявку или слишком похоже на бред.
Рут опустила руку.
Она развернулась и пошла обратно – не в просмотровый зал, а глубже, на четвёртый подземный уровень, где располагались серверные помещения архива. У неё был доступ – класс А-3 открывал почти все двери в Бюро. Сканер мигнул зелёным, и дверь отъехала в сторону.
Серверная была холодной и шумной. Ряды стоек уходили в темноту, мерцая индикаторами активности. Здесь хранились все записи смерти, обработанные Лондонским отделением за двадцать три года существования Закона о Прозрачности. Миллионы файлов. Миллионы жизней, сведённых к семи минутам данных.
Рут села за терминал в углу.
Её пальцы двигались автоматически – много лет работы с архивом выработали рефлексы, которые не требовали сознательного усилия. Она расширяла выборку: не пять лет, а десять. Не записи, которые обрабатывала сама, а все записи в системе.
Запрос был масштабным. Система предупредила: ориентировочное время обработки – четыре часа.
Рут откинулась на спинку стула.
Холод серверной проникал под кожу, несмотря на рабочий пиджак. Она думала о том, чего не понимала – и о том, что боялась понять.
Если это ошибка системы – значит, система ошибалась миллионы раз, систематически, предсказуемо, и никто не заметил. Невозможно.
Если это совпадение – значит, тысячи людей, никогда не видевших её, каким-то образом хранили её образ в подсознании и извлекали его в момент смерти. Невозможнее.
Если это правда…
Рут не знала, что «это» значит. Она знала только, что её лицо – последнее, что видели четыре тысячи человек. И что это число, скорее всего, было намного больше.
Она смотрела на мерцающие индикаторы серверов и ждала.
Результат пришёл в 23:17.
Рут проснулась от звукового сигнала – она не заметила, как задремала, сидя в кресле. Шея болела, пальцы замёрзли. На экране мерцали цифры.
Общее количество записей в архиве: 2 341 872.
Записей с чётким финальным образом: 527 419.
Совпадение с эталоном…
Рут замерла.
Она не читала число. Она видела его, но мозг отказывался обрабатывать. Цифры висели перед глазами, как иероглифы на неизвестном языке, и она знала, что, как только прочтёт их, что-то изменится. Навсегда.
Она прочла.
99.97%.
Пятьсот двадцать семь тысяч человек видели её лицо в момент смерти.
Рут сидела неподвижно. Холод серверной стал острым, как лезвие. Гул машин превратился в белый шум, заполнивший всё пространство внутри черепа.
Пятьсот двадцать семь тысяч.
Это было невозможно. Это было статистически, физически, логически невозможно. Она никогда не встречала этих людей. Большинство из них умерли в городах, где она никогда не была. Некоторые – в странах, которые она не могла найти на карте. Некоторые – до её рождения.
До её рождения.
Эта мысль пришла последней – и ударила сильнее всех предыдущих.
Рут рывком подалась к клавиатуре. Пальцы дрожали – впервые за вечер.
– Фильтр по дате, – она говорила быстро, глотая слова. – Записи до 2030 года. Совпадение с эталоном.
Год её рождения. Она хотела увидеть ноль. Хотела, чтобы система сказала: «Записей не найдено». Хотела, чтобы это было ошибкой, совпадением, чем угодно, лишь бы не…
– Записей: 12 847. Совпадение с эталоном: 99.94%.
Двенадцать тысяч восемьсот сорок семь человек видели её лицо в момент смерти – до того, как она родилась.
Рут медленно отодвинулась от терминала. Кресло проехало по полу с тихим скрежетом. Она смотрела на экран, и экран смотрел на неё, и в этом взгляде не было ничего человеческого – только цифры, равнодушные и точные, как вердикт.
Она пыталась найти рациональное объяснение. Какое-нибудь. Любое.
Система обучалась на современных данных – значит, старые записи реконструировались с использованием современных паттернов. Её лицо попало в обучающую выборку (как?). Алгоритм «галлюцинировал» её черты при недостатке данных (но почему только её?). Квантовые эффекты в хранилище повредили старые файлы, создав систематическую ошибку (но какова вероятность?).
Каждое объяснение разваливалось под собственным весом.
Рут встала. Ноги держали её, хотя она не была уверена, что они должны. Она вышла из серверной, прошла по коридору, поднялась на лифте. Здание Бюро было пустым – ночная смена работала на других этажах, и здесь, на пути к выходу, не было никого.
Она остановилась у двери своего просмотрового зала.
Экран внутри был погашен. Счётчик на панели всё ещё показывал 39 999 – она так и не завершила классификацию записи Элинор Мэй Хоуп. Не подтвердила просмотр. Не сдвинула счётчик на заветные сорок тысяч.
Рут вошла. Села в кресло. Экран остался тёмным.
Она думала о том, что видела за пятнадцать лет работы. Сорок тысяч смертей – насильственных и мирных, быстрых и медленных, молодых и старых. Она думала, что понимает смерть лучше любого живого человека. Понимает её механику, её физиологию, её нейронную подпись.
Теперь она понимала, что не понимала ничего.
Пятьсот двадцать семь тысяч человек видели её в последнюю секунду жизни. Люди, которых она никогда не встречала. Люди, умершие до её рождения.
И где-то – прямо сейчас – кто-то умирал. И в последнюю микросекунду, в последнем всплеске угасающего сознания, этот кто-то видел её лицо.
Рут сидела в темноте и смотрела в погасший экран.
Её отражение было едва различимым – силуэт на фоне чёрного, как смерть, которую она наблюдала каждый день. Она подняла руку и коснулась стекла. Холодное. Гладкое. Реальное.
– Кто я? – спросила она вслух.
Экран не ответил. Темнота не ответила. Пустой зал не ответил.
Но где-то – она знала это теперь – кто-то умирал. И в последний момент этот кто-то видел женщину с седыми прядями в тёмных волосах и светло-серыми глазами, почти прозрачными при определённом освещении. Видел её – и, может быть, думал, что она ответит.
Рут опустила руку.
Счётчик на панели переключился – система автоматически завершила просмотр, засчитав присутствие в зале как подтверждение. 40 000.
Сорок тысяч чужих смертей.
И одна жизнь, которая только что изменилась навсегда.
Глава 2. Методология
Лео проснулся от боли.
Не острой – к острой он привык, острая была честной, понятной, с ней можно было договориться. Эта боль была другой: тупой, разлитой, как будто кто-то медленно наливал свинец в кости. Она начиналась в тазу, поднималась по позвоночнику, растекалась по рёбрам. Лейкоз добрался до костного мозга три месяца назад, и с тех пор каждое утро начиналось с инвентаризации: что болит сегодня, насколько сильно, можно ли встать.
Он лежал с закрытыми глазами и считал. Таз – шесть из десяти. Позвоночник – четыре. Рёбра – три, терпимо. Голова – два, почти норма. Общее состояние…
Лео открыл глаза.
Потолок хосписа Святой Клары был белым, с трещиной в углу, похожей на молнию. Он изучил эту трещину за три недели, что провёл здесь, – знал каждый изгиб, каждое ответвление. Иногда, когда морфин делал мысли вязкими, он представлял, что трещина – это карта. Река с притоками. Дорога, ведущая куда-то.
Куда-то.
Он усмехнулся – губы едва двинулись, но это была усмешка. Чёрный юмор стал его специальностью за последние полгода. Когда тебе двенадцать и ты знаешь, что не доживёшь до тринадцати, выбор невелик: либо плакать, либо шутить. Плакать он уже попробовал. Не помогло.
Лео повернул голову – медленно, чтобы не разбудить боль в шее – и посмотрел на тумбочку. Блокнот лежал там, где он его оставил: чёрный, потрёпанный, с загнутыми уголками страниц. Рядом – три карандаша (он всегда держал запасные, на случай если один сломается), стакан воды, планшет в режиме ожидания.
За окном было серое утро. Лондонское небо – не голубое и не белое, а какое-то промежуточное, цвета старой ваты. После Великого Компромисса небо стало таким почти везде, но Лео помнил другое: яркое, синее, с белыми облаками, похожими на животных. Ему было пять, они с мамой лежали на траве в парке и угадывали формы. «Смотри, слон». «Нет, это скорее… динозавр». «Динозавры не бывают такими пушистыми». «Откуда ты знаешь? Может, некоторые были».
Мама умерла через три месяца после того дня.
Лео сел в кровати. Движение отозвалось волной боли – предсказуемой, уже учтённой. Он потянулся к блокноту, открыл на чистой странице.
17 марта 2077. 07:23.
Пробуждение: естественное, без внешних стимулов. Боль при пробуждении: 6/10 (таз), 4/10 (позвоночник), 3/10 (рёбра). Качество сна: 4/10. Прерывистый, два пробуждения (≈02:00, ≈05:30). Сновидения: да.
Он остановился на последнем пункте.
Сновидения. Да. Опять.
Блокнот появился в его жизни четыре месяца назад, когда диагноз «острый миелоидный лейкоз, резистентный к терапии» превратился из слов в приговор. Врач – пожилая женщина с усталыми глазами – говорила что-то о паллиативной помощи, о качестве жизни, о том, что современная медицина может многое сделать для комфорта. Отец сидел рядом, и его лицо было таким белым, что Лео испугался: ему показалось, что отец сейчас упадёт.
Но отец не упал. Он взял Лео за руку – неловко, как всегда, когда дело касалось физического контакта – и сказал:
– Мы справимся.
Лео не стал спрашивать, что именно значит «справимся». Он знал, что отец имеет в виду: найдём решение, попробуем новый протокол, свяжемся со специалистами. Хидео Танака был программистом, и программисты верили в решения. Каждая проблема – это баг, который можно исправить. Каждая ошибка – это код, который можно переписать.
Но Лео тоже был сыном программиста. Он понимал: некоторые баги – не баги. Некоторые ошибки – это фичи. Иногда система работает именно так, как задумано, и ты просто не согласен с замыслом.
Он начал вести дневник в тот же вечер.
Не дневник в обычном смысле – не «дорогой дневник, сегодня мне сказали, что я умру». Это было бы глупо. Бесполезно. Лео не собирался тратить оставшееся время на глупости.
Вместо этого он начал документировать.
Симптомы. Ощущения. Показатели. Всё, что можно было измерить, записать, проанализировать. Он выпросил у медсестёр доступ к своей медицинской карте – не полный, но достаточный, чтобы видеть результаты анализов. Он читал статьи о лейкозе, о процессе умирания, о том, что происходит с телом и сознанием в последние недели, дни, часы.
Отец не одобрял. «Тебе не нужно это знать», – говорил он, и в его голосе слышалось что-то, похожее на мольбу. «Ты должен… жить. Пока можешь».
Лео не спорил. Он просто продолжал записывать.
Потому что это было единственное, что он мог контролировать.
Болезнь контролировать нельзя – она делала, что хотела, пожирала его тело изнутри, превращала кровь в яд. Страх контролировать нельзя – он приходил ночами, сжимал горло, не давал дышать. Время контролировать нельзя – оно утекало, как песок сквозь пальцы, и с каждым днём песка оставалось всё меньше.
Но понимание – понимание можно было контролировать.
Если он не мог остановить смерть, он мог хотя бы понять её. Разложить на составляющие. Найти паттерны. Это было что-то. Это было больше, чем ничего.
Сновидения: да. Содержание: женщина (повторяющийся образ, 7-й раз за 12 дней). Детали: см. отдельную запись.
Лео отложил блокнот и потянулся к планшету. Отдельная запись – это был файл, который он завёл специально для снов. Не для всех снов, большинство были обычными: хаотичными, бессмысленными, сотканными из обрывков дня и осколков памяти. Но некоторые сны были другими.
Этот сон – был другим.
Он появился впервые двенадцать дней назад. Лео проснулся тогда посреди ночи, сердце колотилось, и он не мог понять почему. Сон не был кошмаром. Не было ничего пугающего – ни монстров, ни падений, ни погони. Была только женщина.
Она стояла в пустом пространстве – не комната, не улица, просто пространство, заполненное мягким светом, не имеющим источника. Лео видел её со спины: высокая, тёмные волосы с седыми прядями, прямые плечи. Она не двигалась. Просто стояла.
И ждала.
Лео не знал, откуда пришло это слово – «ждала». Женщина не делала ничего, что указывало бы на ожидание: не оглядывалась, не смотрела на часы, не проявляла нетерпения. Но он знал. Чувствовал. Она ждала кого-то.
Его?
Сон повторился на следующую ночь. И через ночь. И ещё. С каждым разом он становился чётче, подробнее, как фотография, проявляющаяся в растворе. Лео начал видеть детали: линию шеи, наклон головы, узкие запястья. В шестой раз женщина наконец повернулась – медленно, как в замедленной съёмке – и он увидел её лицо.
Сегодня ночью был седьмой раз.
Лео открыл файл на планшете и начал печатать, вспоминая.
Сон №7. Дата: 17.03.77, ≈02:00 (первое пробуждение).
Локация: то же пространство, без ориентиров. Свет равномерный, без теней. Температура нейтральная – ни холодно, ни тепло.
Субъект: женщина, ≈45-50 лет. Рост выше среднего (≈175 см?). Телосложение худощавое. Волосы тёмные, прямые, до плеч, с заметными седыми прядями. Кожа светлая.
Лицо (вид спереди, седьмое наблюдение): высокие скулы, выраженные. Нос длинный, с небольшой горбинкой. Губы тонкие, сжаты. Глаза – светло-серые, почти прозрачные. Выражение лица нейтральное, но не холодное. Спокойное? Ожидающее.
Контакт: зрительный. Она смотрит прямо на меня. Не говорит. Не двигается. Просто смотрит.
Эмоциональный фон: нет страха. Нет тревоги. Есть… узнавание? Как будто я должен знать, кто она. Как будто я уже знаю, но забыл.
Ощущения при пробуждении: учащённое сердцебиение (≈95 уд/мин), потливость ладоней. Эмоциональное состояние: не страх, скорее… ожидание? Предвкушение?
Примечание: образ стабилен, повторяем, детализирован. Не соответствует типичным характеристикам сновидений (хаотичность, нестабильность образов, смещение деталей между эпизодами). Возможные объяснения: 1. Подсознательная обработка визуальной информации (виденное лицо в СМИ/на улице?) 2. Проекция архетипа (анима? проводник?) 3. Побочный эффект медикаментов (морфин – галлюцинации редки, но документированы) 4. ?
Лео уставился на последний пункт. Вопросительный знак. Он поставил его в первую ночь, когда начал документировать сны, и с тех пор не убирал. Потому что три первых объяснения его не устраивали.
Подсознательная обработка – возможно, но он не помнил, чтобы видел эту женщину раньше. Он пытался вспомнить: перебирал лица учителей, врачей, соседей, случайных прохожих. Ничего. Её лица не было в его памяти – кроме снов.
Проекция архетипа – он прочитал об этом в статье о юнгианской психологии. Анима, внутренний женский образ. Но анима должна быть персонализированной, связанной с реальными женщинами в жизни субъекта. Мать. Первая любовь. Идеализированный образ. Женщина из снов не была похожа ни на кого из тех, кого он знал. Она была… чужой. Отдельной. Конкретной.
Побочный эффект морфина – он проверил. Галлюцинации от опиоидов были редкими и обычно проявлялись при передозировке или индивидуальной непереносимости. Его дозировка была стандартной, и никаких других галлюцинаций он не испытывал. Только этот сон. Снова и снова.
Оставался вопросительный знак.
Лео не любил вопросительные знаки. Они были неряшливыми, незавершёнными. Они означали, что он чего-то не понимает, а он не любил не понимать.
Но иногда – он начинал это принимать – вопросительный знак был единственным честным ответом.
Дверь палаты открылась, и вошла Агнес.
Агнес Морроу была одной из дневных медсестёр хосписа – невысокая женщина пятидесяти восьми лет, с короткими седыми волосами и руками, которые всегда пахли лавандовым кремом. Лео заметил это в первый день: когда она проверяла его капельницу, её запястье оказалось рядом с его лицом, и он почувствовал запах – мягкий, успокаивающий, совершенно неуместный в стерильной больничной обстановке.
– Доброе утро, – сказала Агнес, и в её голосе была та особая интонация, которую он научился распознавать у медсестёр хосписа: тёплая, но не слащавая; заботливая, но не притворная. – Как спалось?
– Нормально.
Это была ложь. Стандартная, автоматическая, бессмысленная. Лео не знал, зачем он лжёт – Агнес всё равно видела показатели мониторов, знала про два пробуждения за ночь. Может быть, это была вежливость. Может быть – привычка. Может быть – нежелание объяснять.
Агнес подошла к кровати, проверила капельницу. Её движения были экономными, точными – много лет практики.
– Завтрак через полчаса. Сегодня овсянка с яблоками. И какао.
– Я не голоден.
– Я знаю. – Она посмотрела на него – спокойно, без жалости. – Но попробуй съесть хотя бы половину. Договорились?
Лео не ответил. Он смотрел на блокнот, лежащий на тумбочке.
– Снова записывал? – спросила Агнес. Она не осуждала – просто констатировала.
– Да.
– Симптомы?
– И сны.
Агнес задержалась на секунду – он видел, как что-то мелькнуло в её глазах. Любопытство? Беспокойство? Сложно было сказать.
– Сны, – повторила она. – Какие сны?
Лео пожал плечами. Жест отозвался болью в спине.
– Просто… сны. Повторяющиеся.
– Кошмары?
– Нет. – Он помедлил. – Там женщина. Я не знаю кто. Она просто… стоит. И смотрит.
Агнес кивнула. Её лицо было профессионально-нейтральным, но Лео заметил: она слушала внимательнее, чем обычно.
– Повторяющиеся сны – это нормально, – сказала она наконец. – Особенно в… в твоей ситуации. Мозг обрабатывает много всего. Иногда это проявляется так.
– Я знаю.
– Хочешь поговорить об этом с доктором Фишер? Она психолог, работает с нашими пациентами…
– Нет.
Слово вышло резче, чем он планировал. Агнес не обиделась – или не показала этого.
– Хорошо. Но если передумаешь – скажи. – Она направилась к двери, потом остановилась. – Лео?
– Да?
– Эта женщина в твоём сне… ты её рисовал?
Лео замер.
– Откуда вы…
– У тебя карандашная пыль на пальцах. И край листа торчит из-под подушки.
Он непроизвольно посмотрел на свои руки. Действительно – серая пыль графита на подушечках пальцев. Он рисовал ночью, после второго пробуждения, когда сон был ещё свежим. И забыл спрятать рисунок.
– Можно посмотреть? – спросила Агнес.
В её голосе было что-то странное. Не любопытство – что-то другое. Лео не мог определить что.
– Зачем?
– Просто… интересно. – Она улыбнулась, но улыбка была напряжённой. – Я тоже когда-то рисовала. Давно.
Лео колебался. Рисунки были личным – частью его метода, его документации. Он не показывал их никому, даже отцу. Особенно отцу.
Но Агнес спрашивала не как медсестра. Она спрашивала как… человек. И в её глазах было что-то, что заставляло его доверять.
– Ладно.
Он потянулся под подушку и достал сложенный лист.
Рисунок был не первым.
Лео начал рисовать женщину после четвёртого сна, когда образ стал достаточно чётким. Сначала – по памяти, пытаясь ухватить общие черты. Высокая фигура, прямые плечи, поворот головы. Потом, когда она повернулась к нему лицом, – детали. Скулы. Нос. Глаза.
Он не был художником. Отец пытался научить его рисовать в детстве, но Лео быстро потерял интерес: его руки были созданы для клавиатуры, не для карандаша. И всё же сейчас, в хосписе, когда делать было почти нечего, он обнаружил, что рисование помогает. Не потому что получалось красиво – не получалось. А потому что это был способ вытащить образ из головы, сделать его видимым, осязаемым. Перевести из категории «странный сон» в категорию «объект исследования».
Рисунок, который он сейчас разворачивал, был шестым. Предыдущие пять висели над его кроватью, приклеенные медицинским пластырем к стене. Медсёстры не возражали – хоспис Святой Клары славился тем, что позволял пациентам «обживать» палаты. «Это ваш дом», – сказала ему главная медсестра в первый день. – «Пока вы здесь». Она не добавила «а потом вас не станет», но это подразумевалось.
Шестой рисунок был лучшим – Лео работал над ним три часа, перерисовывая снова и снова, пока не добился сходства. Не идеального, но узнаваемого. Если бы он увидел эту женщину на улице, он бы узнал её по этому рисунку. Он был в этом почти уверен.
Лео развернул лист и протянул Агнес.
Она взяла его обеими руками – осторожно, как что-то хрупкое. Поднесла к свету от окна.
И замерла.
Лео видел, как изменилось её лицо. Цвет схлынул – не медленно, а сразу, как будто кто-то повернул выключатель. Губы приоткрылись. Рука, держащая рисунок, дрогнула.
– Агнес?
Она не ответила. Смотрела на рисунок.
– Агнес, что…
– Откуда ты её знаешь?
Голос был другим. Не тёплым, не профессиональным – хриплым, надтреснутым. Голос человека, который увидел призрак.
– Я не знаю её, – сказал Лео. – Это из сна. Я же говорил.
Агнес оторвала взгляд от рисунка. Посмотрела на него – и в её глазах было что-то, чего он не видел раньше. Страх? Узнавание? Что-то среднее?
– Из сна, – повторила она. – Просто из сна.
– Да. А что? Вы её знаете?
Агнес не ответила. Она смотрела на рисунок, потом на него, потом снова на рисунок.
– Где остальные?
– Что?
– Ты сказал – повторяющиеся сны. Рисунков должно быть больше одного. Где остальные?
Лео указал на стену над кроватью. Пять листов, приклеенных в ряд. Агнес подошла, посмотрела на каждый. Её спина была напряжённой – Лео видел, как ткань форменного халата натянулась на лопатках.
Она стояла так долго. Может быть, минуту. Может быть, больше.
– Агнес, – позвал он наконец. – Вы меня пугаете. Что происходит?
Она повернулась. Лицо было бледным, но в глазах появилось что-то новое – решимость, может быть. Или отчаяние.
– Это лицо, – сказала она медленно, показывая на рисунки. – Откуда ты его взял?
– Я же сказал: из сна.
– Ты никогда не видел эту женщину раньше? В жизни? По телевизору, в интернете, где угодно?
– Нет. Я проверял. Пытался вспомнить. Я её не знаю. – Лео сел прямее, игнорируя боль. – А вы её знаете?
Агнес открыла рот. Закрыла. Снова открыла.
– Моя мать, – сказала она наконец. – Умерла два года назад. Запись смерти… я смотрела её. Публичную версию.
Лео не понимал. При чём тут её мать? При чём тут запись смерти?
– И?..
– В последнюю секунду, – Агнес говорила медленно, как будто каждое слово причиняло боль, – моя мать видела лицо. Чёткое. Различимое. Система реконструкции…
Она замолчала. Сглотнула.
– Лицо на твоих рисунках. Это оно. Это то самое лицо. То, которое видела моя мать. В момент смерти.
Тишина заполнила палату, как вода – пустой сосуд.
Лео сидел на кровати, Агнес стояла у стены с рисунками, и между ними было три метра воздуха, пропитанного невозможным.
– Это… – Лео начал и остановился. Что он хотел сказать? «Это ошибка»? «Это совпадение»? Он не верил ни в то, ни в другое. – Это не может быть правдой.
– Я знаю.
– Я имею в виду – буквально. Это статистически невозможно. Какова вероятность, что лицо из моего сна совпадёт с лицом из чьей-то записи смерти? Один к… я даже не знаю к скольким.
– Я знаю, – повторила Агнес. – Но это она. Я смотрела ту запись… много раз. Слишком много. Я запомнила каждую деталь. И это – она.
Лео смотрел на свои рисунки. Шесть версий одного лица. Одного и того же лица.
Женщина из снов. Женщина, которую видела умирающая мать Агнес.
Его мозг – мозг сына программиста, мозг, приученный искать паттерны и логические связи – пытался обработать эту информацию. Искал объяснение.
– Может быть… – он начал. – Может быть, я видел эту запись? Записи смерти публикуются, верно? Если я где-то видел эту женщину, даже мельком, подсознание могло…
– Записи смерти не показывают последнюю секунду в публичной версии, – прервала Агнес. – Финальный образ считается слишком интимным. Только ближайшие родственники могут запросить полный доступ. Ты не мог видеть это лицо в публичной записи.
– Тогда, может быть, где-то ещё? Может быть, это настоящий человек, и я видел её на улице, а ваша мать тоже когда-то её встречала, и…
– Лео, – голос Агнес стал мягче, – я искала. После маминой смерти. Я хотела узнать, кто эта женщина, почему мама видела её в последний момент. Прогнала лицо через все базы данных, какие смогла найти. Ничего. Никаких совпадений. Этого человека… либо не существует, либо она никогда не была ни в одной публичной базе.
Лео молчал. Его разум буксовал, как машина в грязи: колёса крутились, но движения не было.
– Как часто вы видите этот сон? – спросила Агнес.
– Семь раз за двенадцать дней.
– Каждый раз – одно и то же?
– Почти. Детали становятся чётче. Сначала я видел её со спины. Потом она начала поворачиваться. Потом я увидел лицо. – Он помедлил. – А сегодня ночью…
– Что?
– Она смотрела на меня. Раньше она просто… была там. А сегодня – смотрела. Как будто видела меня.
Агнес отошла от стены с рисунками. Села на стул у кровати – тот самый, на котором обычно сидел отец во время визитов. Её руки лежали на коленях, пальцы сцеплены.
– Ты знаешь, что такое записи смерти? – спросила она. – В смысле – по-настоящему знаешь?
– Конечно. Закон о Прозрачности Смерти, 2054 год. Нейроинтерфейсы Кларити записывают последние семь минут сознания. Данные публикуются через сорок восемь часов, если нет судебного запрета.
– Это официальная версия. Я спрашиваю – ты знаешь, как это работает? Что люди видят в последние секунды?
Лео покачал головой. Он читал о технологии, о нейроинтерфейсах, о процессе записи. Но содержание записей… нет. Ему было двенадцать, записи для несовершеннолетних были закрыты.
– Большинство людей в последнюю секунду не видят ничего конкретного, – сказала Агнес. – Мозг угасает, зрительная кора отключается, всё превращается в хаос. Цвета, вспышки, шум. Но некоторые… некоторые видят лица.
– Родственников? Близких?
– Иногда. Умерших супругов, родителей. Или живых – детей, внуков. Это понятно, это объяснимо. Память работает до последнего. – Агнес замолчала. Её взгляд был направлен куда-то мимо Лео, в точку, которой не существовало. – Но иногда люди видят… кого-то другого. Кого-то, кого не должны знать.
– Как ваша мать.
– Как моя мать.
Лео откинулся на подушку. Боль в спине пульсировала – ровно, привычно, почти успокаивающе. По крайней мере, она была реальной. Понятной.
– Вы хотите сказать, – он говорил медленно, выстраивая мысль, – что эта женщина… она что? Появляется в снах умирающих?
– Я не знаю, что я хочу сказать. Я просто… – Агнес покачала головой. – Когда мама умирала, я держала её за руку. Она была без сознания, врачи сказали – осталось несколько минут. И вдруг она открыла глаза. Посмотрела на меня и сказала: «Она здесь. Женщина. Она ждёт».
– Ждёт?
– Да. Те же слова, которые ты использовал. «Она ждёт». – Агнес посмотрела на него. – Это было последнее, что мама сказала. А потом… всё.
Лео молчал. Он думал о своих снах. О женщине, которая стояла в пустом пространстве. О её глазах – светло-серых, почти прозрачных. О чувстве, которое он испытывал, когда смотрел на неё: не страх, не тревога.
Ожидание.
– Я не умираю прямо сейчас, – сказал он наконец. – В смысле – да, я умираю, но не в эту секунду. У меня ещё есть время. Почему я вижу её сейчас?
– Не знаю.
– Может быть, это всё-таки совпадение? Или галлюцинация? Или…
– Может быть. – Агнес встала. – Может быть, всё это ничего не значит. Может быть, твой мозг просто генерирует образы, а мой – находит паттерны там, где их нет. Парейдолия, желание видеть смысл в хаосе.
– Но вы так не думаете.
Агнес не ответила. Она подошла к двери, остановилась.
– Лео. То, что я тебе рассказала… я никому не говорила. Про мамину запись, про лицо. Я… я была «закрытой». Долго. Носила глушитель, ходила на протесты. После смерти мамы… – она запнулась. – После смерти мамы я изменила мнение. Но некоторые вещи всё ещё кажутся слишком личными, чтобы говорить о них вслух.
– Почему вы рассказали мне?
Она повернулась. В её глазах было что-то, похожее на извинение.
– Потому что ты рисуешь её лицо. Потому что ты видишь её во сне. И потому что… – она осеклась. – Потому что ты заслуживаешь знать, что это может значить. Даже если я сама не знаю, что это значит.
Она вышла. Дверь закрылась с мягким щелчком.
Лео остался один.
Он не спал после ухода Агнес.
Вместо этого он взял блокнот и начал писать. Не симптомы – не сейчас. Вопросы.
Женщина из снов = женщина из записи смерти матери Агнес. Агнес не смогла идентифицировать женщину через базы данных. Мать Агнес сказала «она ждёт» перед смертью. Я использовал те же слова, не зная об этом.
Вопросы: 1. Кто она? 2. Почему умирающие видят её? 3. Почему я вижу её сейчас, за недели/месяцы до смерти? 4. Это специфично для меня или это паттерн? 5. Если паттерн – сколько людей видят её? Какой процент?
Лео остановился на последнем вопросе. Его рука замерла над страницей, карандаш касался бумаги, но не двигался.
Паттерн.
Если женщина появлялась в записях смерти, значит, данные существовали. Можно было проверить. Выборка из миллионов записей, поиск по визуальному образу, статистический анализ. Это было сложно – нужен был доступ к системе, к архивам, к инструментам анализа. Но это было возможно.
Теоретически.
Практически – Лео был двенадцатилетним ребёнком в хосписе. У него не было доступа к записям смерти, не было инструментов для анализа, не было времени, чтобы…
Время.
Он посмотрел на часы на стене. 09:47. Скоро принесут завтрак, который он не будет есть. Потом – процедуры, обследования, бесконечный ритуал умирания. Потом – визит отца, который будет сидеть рядом и молчать, потому что не знает, что сказать. Потом – ночь, сон, и, может быть, она снова.
Женщина. Ждущая.
Лео не знал, сколько у него осталось времени. Врачи говорили «месяцы», но врачи часто ошибались. Может быть, месяцы. Может быть, недели. Может быть – совсем немного.
Он думал о том, что мог бы сделать за это время. Попрощаться с отцом – по-настоящему, не этими неловкими визитами. Дописать письма – он начал несколько, для друзей, для учителей, которые ему нравились, но не закончил ни одного. Посмотреть фильмы, которые собирался посмотреть. Дочитать книги.
Всё это было важно. Всё это было правильно. Всё это было тем, что умирающий ребёнок должен делать.
Но Лео не хотел делать то, что должен. Он хотел понять.
Понять, кто она. Почему он видит её. Что это значит.
Потому что если он умрёт, не узнав ответа, – ответ исчезнет вместе с ним. Никто больше не задаст этот вопрос. Никто не сложит кусочки. Его рисунки выбросят, его записи удалят, и женщина останется там, в пустом пространстве, ждать следующего.
А если он найдёт ответ…
Лео не знал, что будет тогда. Но это было что-то. Это было лучше, чем ничего.
Он взял новый лист бумаги. Чистый.
И начал рисовать.
К полудню на стене было уже восемь рисунков.
Лео рисовал одержимо, забыв про боль, про усталость, про тупую пульсацию в костях. Каждый рисунок фокусировался на чём-то одном: глаза (крупным планом, с попыткой передать странную прозрачность радужки), руки (длинные пальцы, узкие запястья, ни колец, ни браслетов), силуэт (пропорции, осанка, характерный наклон головы). Он не был художником, но он был наблюдателем. Это было его преимущество: он умел видеть детали, замечать паттерны.
Отец пришёл в два часа.
Хидео Танака выглядел так, как выглядел всегда в последние месяцы: уставшим, растерянным, слишком худым. Он работал из дома с тех пор, как Лео перевели в хоспис, – формально на удалёнке, фактически почти не работал. Лео знал это, хотя отец не говорил. Он видел по теням под глазами, по тому, как отец забывал бриться, по рассеянному взгляду человека, который больше не понимает, зачем просыпаться по утрам.
– Привет, – сказал Хидео, садясь на стул. – Как ты?
– Нормально.
Стандартный обмен репликами. Ритуал, лишённый содержания.
– Врач сказал, что ты плохо ел вчера.
– Не был голоден.
– Лео…
– Пап, – он перебил, – я не хочу говорить о еде. Хорошо?
Хидео замолчал. Он смотрел на сына – Лео видел это боковым зрением – потом его взгляд переместился на стену.
– Новые рисунки?
– Да.
– Та же женщина?
– Да.
Хидео встал, подошёл к стене. Изучал рисунки – медленно, внимательно. Он никогда не комментировал их раньше, не спрашивал, кто это, не выражал беспокойства. Просто принимал как факт: его сын рисует незнакомую женщину, снова и снова.
– Ты когда-нибудь… – Хидео начал и остановился.
– Что?
– Неважно.
– Пап.
Хидео повернулся. Его лицо было странным – напряжённым, но не так, как обычно. Не от страха за сына, не от беспомощности. От чего-то другого.
– Ты когда-нибудь видел её раньше? – спросил Лео. – Эту женщину?
Хидео не ответил сразу. Он смотрел на рисунки, потом на Лео, потом снова на рисунки.
– Нет, – сказал он наконец. – Нет, я не видел её.
Это была правда – Лео слышал это по голосу. Но это была не вся правда.
– Но?
– Что – «но»?
– Ты что-то не договариваешь. Я вижу.
Хидео сел обратно на стул. Потёр лицо руками – жест, который Лео помнил с детства. Отец делал так, когда не знал, как объяснить что-то сложное.
– Твоя мать, – сказал он тихо. – Перед смертью. Она… говорила о ком-то.
Лео замер.
– О ком?
– О женщине. Она бредила в последние дни – морфин, интоксикация, врачи говорили, это нормально. Но она описывала кого-то. Высокую. Тёмные волосы с сединой. Светлые глаза. – Хидео замолчал. – Я думал, это галлюцинация. Думал, она видит кого-то из прошлого, кого-то, кого я не знаю. Но сейчас…
Он посмотрел на рисунки.
– Сейчас я не уверен.
Лео чувствовал, как сердце бьётся – слишком быстро, слишком громко. Мать. Она тоже видела её. За семь лет до того, как Лео начал видеть сны.
– Почему ты никогда не говорил?
– Я думал… – Хидео покачал головой. – Я думал, это ничего не значит. Думал, это просто… конец. Мозг создаёт образы, когда умирает. Это известно. Это нормально.
– Но это ненормально, – сказал Лео. – Если мы оба видим одно и то же лицо. Если мама видела то же самое.
– Я знаю.
Они сидели в тишине. За окном серое небо стало чуть темнее – облака сгущались, обещая дождь.
– Пап, – Лео заговорил первым. – Мне нужен доступ к записям смерти.
Хидео вздрогнул.
– Что?
– Записи смерти. Архив. Мне нужно проверить кое-что.
– Лео, тебе двенадцать. Записи для несовершеннолетних закрыты, и даже если бы…
– Я знаю. Поэтому мне нужна твоя помощь.
– Моя помощь?
– Ты программист. У тебя есть доступ к базам данных, инструменты анализа, ты знаешь, как работать с большими массивами информации. Если я прав… если это паттерн… это можно доказать. Статистически.
Хидео смотрел на него долго. В его глазах было что-то, чего Лео не видел раньше. Не страх – страх там был всегда, фоном, подложкой под всё остальное. Что-то другое.
– Ты хочешь исследовать собственную смерть, – сказал он наконец. – Не просто документировать. Исследовать.
– Да.
– Зачем?
Лео думал об этом. Думал много. Ответ был прост и сложен одновременно.
– Потому что я могу, – сказал он. – Потому что у меня есть время – немного, но есть. Потому что никто другой не задаёт этот вопрос. И потому что… – он запнулся. – Потому что если я просто буду лежать и ждать, я сойду с ума. Мне нужно что-то делать. Что-то важное.
Хидео молчал. Его руки лежали на коленях, пальцы сцеплены – точно как у Агнес несколько часов назад.
– Это опасно, – сказал он тихо. – Не физически. Психологически. Если ты начнёшь копаться в записях смерти, смотреть, как люди умирают, искать паттерны…
– Пап.
– Это может сломать тебя. Ты и так…
– Пап. – Лео поднял руку. – Я умираю. Я знаю это. Ты знаешь это. Все здесь знают. Что ещё может меня сломать?
Хидео не ответил. Он смотрел на сына – на тонкие руки, на бледное лицо, на глаза, в которых было слишком много взрослого понимания для двенадцатилетнего ребёнка.
– Я подумаю, – сказал он наконец.
– Это да или нет?
– Это «я подумаю». – Хидео встал. – Мне нужно время. И тебе тоже. Отдохни сегодня. Поешь что-нибудь. А завтра… завтра поговорим.
Он направился к двери. Остановился.
– Лео?
– Да?
– Эта женщина на рисунках… – он не договорил. Просто посмотрел на стену, на восемь версий одного лица, на светло-серые глаза, которые смотрели отовсюду.
– Пап?
– Ничего. – Хидео открыл дверь. – Увидимся завтра.
Он ушёл. Дверь закрылась.
Лео откинулся на подушку и посмотрел на потолок. Трещина была там – молния, река, дорога. Она никуда не вела, просто была. Как всё в его жизни.
Как женщина в снах.
Он закрыл глаза и попытался увидеть её – не во сне, просто в памяти. Вызвать образ, как фотографию на экране. Тёмные волосы. Седые пряди. Светлые глаза.
Она ждёт.
Кого? Его? Всех? Никого конкретно?
Лео не знал. Но он собирался узнать.
Это было единственное, что ему оставалось.
Ночью она пришла снова.
Тот же сон, то же пространство, заполненное светом без источника. Но что-то изменилось.
Женщина стояла ближе. Лео мог бы дотронуться до неё, если бы протянул руку. Он видел каждую деталь: мелкие морщинки в уголках глаз, седые волоски, выбившиеся из общей массы, чуть заметную асимметрию лица. Она была настоящей – не образом, не символом, не проекцией подсознания. Настоящим человеком, который когда-то жил, дышал, улыбался.
Она не улыбалась сейчас. Но и не выглядела строгой или холодной. Её лицо было… ожидающим. Открытым. Готовым.
К чему?
Лео хотел спросить. Открыл рот, попытался произнести слова – и не смог. Во сне не было звука. Только свет, и тишина, и она.
Женщина подняла руку. Медленно. Протянула к нему – ладонь вверх, пальцы чуть согнуты. Жест, который мог означать «иди сюда» или «возьми мою руку» или «ещё не время».
Лео смотрел на её руку. Он хотел взять её. Хотел сделать шаг вперёд, коснуться этой ладони, узнать, что будет дальше. Тело – сонное, невесомое – не сопротивлялось.
Но что-то его удерживало.
Ещё не время.
Откуда пришли эти слова? Она не произнесла их. Он не подумал их осознанно. Они просто были – как знание, как инстинкт, как что-то, зашитое в саму ткань сна.
Женщина опустила руку. Её глаза – светло-серые, почти прозрачные – смотрели на него. Без осуждения. Без нетерпения. Просто смотрели.
И Лео понял.
Она действительно ждала. Не его конкретно – или не только его. Она ждала всех. Каждого, кто подходил к черте. Каждого, кто видел её в последний момент.
Она была дверью. Или проводником. Или чем-то, для чего у него не было слова.
Сон начал расплываться по краям. Свет тускнел. Женщина отступала – не физически, просто становилась менее… реальной. Лео тянулся к ней, пытался удержать образ, но пальцы хватали пустоту.
Последнее, что он увидел перед пробуждением: её глаза. Серые. Тёплые. Знающие.
Ещё не время. Но скоро.
Лео проснулся с мокрым от слёз лицом.
Он не помнил, когда начал плакать – во сне или уже проснувшись. Слёзы текли сами, без рыданий, без звука. Просто текли.
Он лежал в темноте – было ещё рано, за окном только начинало светать – и думал о том, что видел. О руке, которую не взял. О словах, которые услышал, не слыша.
Ещё не время. Но скоро.
Это должно было пугать. Подтверждение того, что он умрёт – скоро, неизбежно. Но страха не было. Было что-то другое. Что-то, похожее на… облегчение?
Нет. Не совсем облегчение. Скорее – принятие. Или начало принятия.
Лео сел в кровати, вытер лицо рукавом пижамы. Боль была там – привычная, фоновая – но слабее, чем обычно. Или он просто перестал обращать внимание.
Он потянулся к блокноту.
18 марта 2077. 05:17.
Сон №8. Продолжительность: ? (субъективно – несколько минут). Изменения: женщина ближе, чем раньше. Протянула руку. Не взял. Новый элемент: слова? Ощущение слов? «Ещё не время. Но скоро». Эмоциональная реакция: слёзы при пробуждении. Не страх. Не грусть. Что-то другое. Не могу определить.
Гипотеза (новая): женщина – не просто образ. Функция? Роль? Связана с процессом умирания каким-то образом, который я не понимаю.
Следующий шаг: получить доступ к записям смерти. Проверить, есть ли паттерн. Если да – документировать.
Лео закрыл блокнот. Положил его на тумбочку рядом с карандашами.
За окном небо светлело – серое переходило в бледно-розовое, потом в оранжевое. Искажённые цвета мира после Компромисса, но всё равно красивые. Лео смотрел на них и думал о том, сколько ещё рассветов увидит.
Не так много.
Но достаточно, чтобы найти ответ.
Он был в этом уверен – иррационально, необъяснимо, но уверен.
Женщина в снах не просто ждала. Она показывала ему что-то. Вела к чему-то. И он собирался понять – к чему.
Дверь палаты открылась. Агнес вошла с подносом – ранний завтрак, для тех, кто не спит.
Она увидела его лицо – мокрое от слёз, но спокойное – и остановилась.
– Лео?
– Всё хорошо, – сказал он. И впервые за долгое время это была почти правда. – Я видел её снова. И я кое-что понял.
Агнес поставила поднос на тумбочку. Не спросила «что». Не спросила «как». Просто стояла и ждала.
– Мне нужны записи смерти, – сказал Лео. – Много записей. Нужно найти паттерн. Вы можете помочь?
Агнес молчала долго. Её лицо было нечитаемым – профессиональная маска медсестры, но под ней что-то двигалось, принимало решение.
– Это опасно, – сказала она наконец.
– Я знаю.
– Незаконно. Я могу потерять работу.
– Я знаю.
– И даже если мы найдём что-то… это не изменит того, что с тобой происходит.
– Я знаю.
Агнес смотрела на него. На рисунки на стене – теперь их было восемь, плюс ещё два наброска, которые он сделал вчера. На лицо, которое смотрело отовсюду.
Лицо, которое она видела в записи смерти своей матери.
– Хорошо, – сказала она. – Я помогу. Но сначала – ты завтракаешь.
Она пододвинула поднос. Овсянка с яблоками, та самая. И какао.
Лео улыбнулся – впервые за дни, по-настоящему.
– Договорились.
Глава 3. Статистическая невозможность
Рут не спала.
Она провела остаток ночи в серверной, потом поднялась в свой кабинет на втором подземном уровне и просидела там до рассвета, глядя на стену. Стена была серой, как всё в Бюро, и на ней не было ничего интересного – ни картин, ни сертификатов, ни фотографий. Рут работала здесь пятнадцать лет и так и не удосужилась повесить что-нибудь личное.
Теперь она думала: может, это был знак. Может, она всегда знала, что не принадлежит себе.
Пятьсот двадцать семь тысяч.
Цифра пульсировала в голове, как мигрень, которой не было. Пятьсот двадцать семь тысяч человек видели её лицо в момент смерти. Это было больше, чем население Манчестера. Больше, чем все люди, которых она встретила за всю жизнь, помноженные на десять.
Она должна была что-то чувствовать. Страх, наверное. Или благоговение. Или хотя бы любопытство – то острое, колючее любопытство, которое толкало её в профессию свидетеля много лет назад. Но вместо этого была только пустота: гладкая, холодная, как стекло экрана, в который она смотрела всю ночь.
Диссоциация, подсказал профессиональный голос в голове. Защитный механизм. Психика отключает эмоции, когда информация слишком травматична для обработки.
Рут усмехнулась. Даже сейчас она анализировала себя, как чужую запись смерти. Дистанция. Контроль. Привычки не умирают – в отличие от людей.
В семь утра она встала, сделала кофе в общей комнате отдыха и вернулась за рабочий стол. Коллеги начнут приходить через час. У неё было время.
Время для чего?
Для того, чтобы убедиться.
Научный метод – единственное, чему Рут по-настоящему доверяла.
Не людям. Люди лгали, ошибались, умирали. Не интуиции – интуиция была просто названием для паттернов, которые мозг распознавал быстрее, чем сознание успевало их осмыслить. Не вере – вера закончилась, когда ей было шестнадцать, на кухонном полу рядом с телом матери.
Но научный метод работал. Гипотеза, эксперимент, данные, вывод. Повторяемость. Фальсифицируемость. Если что-то было правдой, это можно было доказать. Если нельзя было доказать – значит, это не было правдой. Или было, но пока недоступной правдой, и это тоже было честно.
Рут открыла статистический пакет на рабочем терминале. Пальцы двигались автоматически – она работала с этим софтом так долго, что могла бы управлять им во сне.
Первое: формализовать вопрос.
Она записала: «Существует ли статистически значимая корреляция между финальным визуальным образом в записях смерти и биометрическими маркерами конкретного индивида (Р. Эверетт)?»
Второе: определить параметры выборки.
Ночной анализ был грубым – она просто прогнала все доступные записи через поиск по образу. Теперь нужна была стратификация. Возраст умерших, пол, причина смерти, локация, время записи, качество реконструкции. Если аномалия была артефактом алгоритма, она должна была проявляться неравномерно – например, чаще в записях низкого качества или в определённых возрастных группах.
Рут задала параметры: десять тысяч записей, равномерно распределённых по всем категориям. Система начала выборку.
Третье: контрольная группа.
Это было важно. Если её лицо появлялось в финальных образах из-за какой-то особенности алгоритма реконструкции, то другие лица тоже должны были появляться с аномальной частотой. Рут загрузила в систему фотографии десяти случайных сотрудников Бюро – из тех, кто никогда не работал с просмотром записей напрямую. Если алгоритм «галлюцинировал» лица из обучающей выборки, он должен был галлюцинировать и их.
Четвёртое: ждать.
Обработка десяти тысяч записей с полным анализом финальных образов занимала время. Рут смотрела на индикатор прогресса и думала о том, что будет, когда он дойдёт до ста процентов.
Если результат подтвердит ночные данные – что тогда?
Она не знала. Впервые за долгое время она не знала, что делать с информацией, которую получит.
Результаты пришли в 09:47.
Рут сидела одна в кабинете – дверь закрыта, табличка «Не беспокоить» активирована. Коллеги, должно быть, думали, что она работает над срочным отчётом. В каком-то смысле так и было.
Она открыла файл с результатами.
Выборка: 10 000 записей. Стратификация: подтверждена (равномерное распределение по всем параметрам). Записи с различимым финальным образом: 2 247 (22.47%). Записи с совпадением по эталону (Р. Эверетт): 2 244. Процент совпадения: 99.87%. Статистическая значимость: p < 0.0001.
Рут смотрела на цифры. Они не изменились от того, что она смотрела. Они не изменились бы, даже если бы она смотрела целую вечность.
Девяносто девять и восемьдесят семь сотых процента.
Из двух тысяч двухсот сорока семи записей, в которых система смогла различить финальный образ, две тысячи двести сорок четыре содержали её лицо. Три оставшиеся… Рут открыла их отдельно. Две были повреждены – артефакты передачи, нечитаемые данные. Третья была аномалией другого рода: умерший страдал агнозией, неспособностью распознавать лица, и его финальный образ содержал не лицо, а геометрическую фигуру.
Фактически – сто процентов.
Она перешла к контрольной группе.
Совпадения с контрольными образцами (10 случайных сотрудников): 0. Процент совпадения: 0.00%.
Ноль.
Ни одно из десяти тысяч лиц, которые видели умирающие, не совпало с фотографиями случайных сотрудников Бюро. Алгоритм не галлюцинировал лица из обучающей выборки. Он не галлюцинировал вообще.
Он просто фиксировал то, что видели умирающие.
А умирающие видели её.
Рут встала из-за стола. Прошлась по кабинету – три шага в одну сторону, три в другую. Пространство было маленьким, но движение помогало думать.
Гипотезы. Ей нужны были гипотезы.
Гипотеза первая: взлом системы.
Кто-то получил доступ к архиву записей и модифицировал финальные образы, добавив её лицо. Мотив? Неизвестен. Шантаж, может быть. Или психологическая атака. Или просто чья-то больная шутка.
Проблемы: записи смерти защищены квантово-устойчивым шифрованием. Модификация потребовала бы ресурсов, сопоставимых с государственными. Кроме того, некоторые записи были сделаны до её рождения – взломщику пришлось бы знать её будущее лицо за десятилетия вперёд.
Вероятность: близка к нулю.
Гипотеза вторая: артефакт алгоритма реконструкции.
Алгоритм обучен на данных, включающих её лицо (как сотрудника Бюро). При недостатке информации в финальных образах он заполняет пробелы знакомыми паттернами – и выбирает её.
Проблемы: контрольная группа показала ноль совпадений. Если бы алгоритм использовал лица сотрудников для заполнения пробелов, он использовал бы всех, не только её. Кроме того, алгоритм реконструкции обучен на миллиардах лиц из публичных баз данных – вероятность того, что он систематически выбирает одно конкретное лицо, статистически ничтожна.
Вероятность: близка к нулю.
Гипотеза третья: галлюцинация.
Она не видит реальные данные. Её восприятие искажено – усталость, стресс, начинающееся психическое расстройство. Она проецирует своё лицо на нейтральные образы.
Проблемы: данные записаны в файл. Их можно проверить объективно, независимо от её восприятия. Если бы это была галлюцинация, статистический анализ показал бы другие результаты.
Рут открыла один из файлов случайным образом. Запись: Дженис Мэй Ортега, 67 лет, сердечная недостаточность, Мадрид, 2074 год. Перемотала на финальный кадр.
Лицо было там. Её лицо. Чёткое, различимое, несомненное.
Она открыла ещё один файл. И ещё один. И ещё.
Везде – она.
Это не было галлюцинацией. Это было в данных.
Вероятность: ноль.
Гипотеза четвёртая: ?
Рут остановилась посреди кабинета. Вопросительный знак. Как в детских задачках – «найди неизвестное». Но здесь неизвестное было слишком большим, слишком странным, чтобы даже сформулировать.
Что, если это правда?
Что, если пятьсот тысяч человек действительно видели её в момент смерти – не потому что система ошиблась, не потому что кто-то взломал архив, а потому что… они видели её?
Рут не знала, что это значит. Но она знала, что ни одно рациональное объяснение не работает.
А это означало, что либо она упускает что-то важное, либо объяснение лежит за пределами рационального.
Оба варианта её пугали.
День тянулся бесконечно.
Рут провела два плановых просмотра – обязательная норма, от которой не освобождал даже класс А-3. Первая запись была рутинной: пожилой мужчина, рак, хоспис, мирная смерть. Вторая – сложнее: молодая женщина, автокатастрофа, финальные минуты заполнены болью и страхом.
Обе записи закончились одинаково.
В последнюю секунду – её лицо.
Раньше Рут не замечала этого. Пятнадцать лет, сорок тысяч просмотров – и она ни разу не обратила внимания на финальный кадр. Он был слишком коротким, слишком размытым, слишком похожим на шум. Глаз просто скользил мимо.
Теперь она не могла не видеть.
Молодая женщина из автокатастрофы смотрела на неё – из-за грани, из последней микросекунды, из момента, когда сознание ещё существовало, но уже не принадлежало телу. В её глазах – реконструированных, приблизительных, семидесятипроцентной точности – было что-то, похожее на узнавание.
Как будто она ждала увидеть именно это лицо.
Рут закончила просмотр, заполнила классификационную форму, отправила отчёт. Механические действия, не требующие мысли. Руки работали сами, пока голова была занята другим.
Ей нужно было с кем-то поговорить.
Не с коллегами – они бы не поняли. Не с психологом Бюро – тот обязан был сообщать о любых признаках нестабильности у свидетелей класса А. Не с семьёй – семьи не было, только пустая квартира и мёртвые воспоминания.
Оставалась Сара.
Сара Чен была директором Бюро Свидетелей уже восемь лет, но Рут знала её гораздо дольше.
Они встретились двадцать лет назад, когда обе были начинающими свидетелями класса С. Сара – старше на пять лет, опытнее, увереннее. Рут – ещё не оправившаяся от смерти отца, ещё ищущая что-то, что заполнит пустоту внутри. Они работали в одной смене первые три года, и это создало связь, которую Рут не умела назвать дружбой, но которая была ближе всего к ней.
Сара знала о её матери. О ссоре. О дверях, которые хлопнули за несколько часов до конца. Рут рассказала ей это однажды, поздней ночью, после особенно тяжёлого просмотра, когда защиты не осталось и слова вышли сами. Сара выслушала. Не стала утешать, не стала советовать, просто выслушала. Это было больше, чем кто-либо делал для Рут раньше.
С тех пор они виделись нерегулярно – Сара поднималась по карьерной лестнице, Рут оставалась на передовой, их пути расходились и снова пересекались. Но связь сохранялась. Рут знала, что может позвонить Саре в любое время, и Сара ответит. Это знание было ценнее, чем любые слова.
Она позвонила в шесть вечера.
– Рут? – голос Сары был удивлённым, но не неприятно. – Всё в порядке?
– Не уверена, – сказала Рут. – Можно приехать?
Пауза. Короткая, но заметная.
– Конечно. Ты знаешь адрес.
Квартира Сары находилась в Южном Кенсингтоне – старый георгианский дом, разделённый на апартаменты, с высокими потолками и окнами, выходящими на тихую улицу. Рут была здесь несколько раз – достаточно, чтобы помнить код домофона и номер этажа.
Сара открыла дверь до того, как Рут успела постучать.
– Ты выглядишь ужасно, – сказала она вместо приветствия.
– Спасибо. Я старалась.
Сара усмехнулась – короткая, знакомая усмешка – и отступила, пропуская её внутрь.
Квартира была тёплой, обжитой, полной вещей, которые Рут не понимала: картины на стенах, книги на полках, фотографии в рамках. Жизнь человека, у которого была жизнь за пределами работы. Рут всегда немного завидовала этому – не зло, просто с тихим недоумением.
– Виски? – спросила Сара, направляясь к бару в углу гостиной.
– Да. Пожалуйста.
Сара достала бутылку – хороший односолодовый, из тех, что Рут не могла себе позволить – и два стакана. Плеснула на два пальца в каждый, протянула один Рут.
Они сели на диван. Между ними было полметра – достаточно близко для разговора, достаточно далеко для комфорта.
– Итак, – сказала Сара. – Что случилось?
Рут не ответила сразу. Она смотрела на виски в стакане – янтарная жидкость, отражающая свет лампы. Пыталась найти слова.
– Ты помнишь, – начала она медленно, – когда я только пришла в Бюро? Ты сказала мне… ты сказала, что работа свидетеля меняет людей. Что невозможно смотреть на смерть день за днём и остаться прежним.
Сара кивнула. Её лицо было внимательным, ждущим.
– Я думала, что понимаю, о чём ты говоришь, – продолжила Рут. – Думала, что изменения – это… отстранённость. Профессиональная дистанция. То, как учишься не чувствовать то, что видишь.
– Но?
– Но, может быть, изменения бывают другими. – Рут сделала глоток виски. Он обжёг горло – приятно, отвлекающе. – Может быть, иногда работа меняет не то, как ты видишь смерть. А то, как смерть видит тебя.
Сара молчала. Её глаза – тёмные, внимательные – не отрывались от лица Рут.
– Я нашла кое-что, – сказала Рут. – В записях. Аномалию. Статистическую невозможность.
– Какую?
Рут поставила стакан на столик. Руки не дрожали – она проверила.
– Мое лицо, – сказала она. – В финальных образах. У всех. У каждого, чью запись я проверила.
Она ждала реакции. Удивления, может быть. Недоверия. Профессионального скептицизма – «ты уверена?», «может, ошибка алгоритма?», «сколько записей ты проверила?».
Но Сара не сказала ничего из этого.
Она просто смотрела. И в её глазах было что-то, чего Рут не ожидала.
Узнавание.
– Сколько? – спросила Сара наконец. Голос был ровным, но что-то в нём изменилось – как будто она надела маску, которую Рут видела раньше, но не на ней.
– Пятьсот тысяч. Приблизительно. В лондонском архиве. Я не проверяла другие.
Сара кивнула. Медленно. Как будто информация не удивила её, а только подтвердила что-то.
– Ты провела анализ?
– Да. Десять тысяч записей, стратифицированная выборка. Контрольная группа. Всё по протоколу.
– И результат?
– Девяносто девять и восемьдесят семь процентов. Статистически значимо. Не артефакт алгоритма, не галлюцинация, не взлом.
Сара встала. Прошла к окну, остановилась спиной к Рут. Её силуэт был чётким на фоне вечернего неба – серо-оранжевого, как всегда после Компромисса.
– Когда ты это обнаружила?
– Вчера. Сорокатысячная запись. Юбилей, – Рут усмехнулась, но усмешка вышла кривой. – Пожилая женщина, хоспис, мирная смерть. В последнюю секунду я увидела себя. И начала проверять.
– И проверяла всю ночь.
– Да.
Сара повернулась. Её лицо было странным – не испуганным, не удивлённым. Сосредоточенным. Как у человека, который принимает решение.
– Почему ты пришла ко мне?
Рут не ожидала этого вопроса.
– Потому что… ты единственная, кому я могу доверять. Кто поймёт.
– Понять – это одно. – Сара вернулась к дивану, села напротив Рут. – Я спрашиваю: почему ты пришла именно ко мне? Не к психологу, не к техникам, не в отдел контроля качества. Ко мне.
Рут задумалась. Она не формулировала это для себя – просто знала, что Сара была правильным выбором. Но почему?
– Потому что ты директор, – сказала она наконец. – Если это… что бы это ни было… если это важно, ты должна знать. И потому что… – она замолчала.
– Потому что?
– Потому что когда я позвонила, ты не удивилась. – Рут посмотрела на Сару прямо. – Ты спросила «всё в порядке», но в твоём голосе не было удивления. Как будто ты ждала этого звонка.
Сара не отвела взгляд.
– Может быть, я хорошо скрываю эмоции.
– Ты хорошо скрываешь эмоции. Но не от меня.
Молчание повисло между ними – тяжёлое, полное невысказанного.
– Сара, – сказала Рут тихо. – Ты знала. Ты знала до того, как я позвонила.
Сара встала снова. На этот раз она не пошла к окну – пошла к бару, налила себе ещё виски. Рут видела, как её рука чуть дрогнула, когда она поднимала бутылку.
– Я не знала, – сказала Сара, не оборачиваясь. – Не так, как ты думаешь.
– Тогда как?
– Я… подозревала. Давно. – Сара вернулась с полным стаканом. Её лицо было бледнее, чем несколько минут назад. – Были признаки. Мелочи. Вещи, которые не складывались в картину, пока ты не позвонила.
– Какие вещи?
Сара села. Сделала глоток виски – долгий, как будто ей нужно было время.
– Шесть лет назад, – начала она, – была проверка архива. Рутинная, плановая. Техники заметили аномалию в метаданных – повторяющийся паттерн в финальных образах. Они думали, это ошибка алгоритма, начали разбираться.
– И что нашли?
– Ничего. Официально. Проверку свернули через неделю. Без объяснений, без отчёта. Я была тогда заместителем директора, и даже мне не сказали почему.
– Но ты узнала.
– Я… нашла способ. – Сара не уточнила какой. – Паттерн был реальным. Но его засекретили. На самом высоком уровне.
Рут чувствовала, как что-то холодное сжимается в груди. Засекретили. Это означало, что кто-то знал. Знал всё это время.
– Кто?
– Не знаю. Выше директора Бюро. Может, правительство. Может, Институт.
– Какой институт?
Сара помедлила. В её глазах мелькнуло что-то – осторожность, может быть, или страх.
– Институт Танатологии, – сказала она наконец. – Швейцария. Частный исследовательский центр. Они создали технологию Кларити.
Рут знала об Институте – каждый свидетель знал. Это было место, откуда всё началось: нейроинтерфейсы, алгоритмы реконструкции, сам Закон о Прозрачности. Но она никогда не думала о нём как о чём-то важном – просто исторический факт, часть профессионального знания.
– При чём тут они?
– Не знаю. – Сара покачала головой. – Но когда я начала копать шесть лет назад, мне позвонили. Вежливо попросили остановиться. Намекнули, что моя карьера может… пострадать.
– И ты остановилась?
– Я была заместителем директора. У меня была семья – в смысле, надежда на семью. – Сара усмехнулась, но усмешка была горькой. – Я сделала то, что делают все. Закрыла глаза. Решила, что это не моё дело.
Рут молчала. Она думала о шести годах. О записях, которые она просматривала всё это время. О лицах – своих лицах – которые видели умирающие, пока она закрывала глаза.
– Почему ты рассказываешь мне это сейчас?
– Потому что ты пришла. – Сара посмотрела на неё. – Потому что если бы я знала тогда, что это о тебе… может быть, я не остановилась бы. Может быть.
– Но ты не знала.
– Нет. Я не знала, чьё это лицо. Только что оно повторяется.
Они сидели в тишине. За окном темнело – лондонские сумерки, короткие и холодные. Рут думала о том, что узнала. О засекреченном паттерне. Об Институте. О людях, которые знали и молчали.
И о том, что теперь знает она.
– Что мне делать? – спросила она наконец.
Сара долго не отвечала. Она смотрела в свой стакан, как будто искала там ответ.
– Есть человек, – сказала она наконец. – С которым тебе нужно поговорить.
– Кто?
– Маркус Вейл.
Имя ничего не сказало Рут – или почти ничего. Она слышала его раньше, в контексте истории технологии. Один из создателей Кларити. Один из авторов Закона о Прозрачности.
– Он жив?
– Да. Ему шестьдесят восемь. Он возглавляет Институт Танатологии. – Сара помолчала. – И он ищет тебя.
Рут замерла.
– Что?
– Шесть лет назад, когда мне позвонили и попросили остановиться, – голос Сары был ровным, но в нём слышалось напряжение, – звонок был от него. Лично. Он сказал… – она запнулась. – Он сказал, что придёт время, когда я пойму. Когда она сама придёт ко мне. И тогда я должна буду направить её к нему.
– Она?
– Ты. – Сара посмотрела на Рут. – Он знал, что это будет ты. За шесть лет до того, как ты узнала сама.
Рут чувствовала, как реальность сдвигается под ногами. Шесть лет. Вейл знал. Знал и ждал. Всё это время – он ждал её.
– Почему?
– Не знаю. Он не объяснил. Только сказал, что когда ты будешь готова, я должна дать тебе его контакт. – Сара встала, подошла к письменному столу в углу комнаты. Открыла ящик, достала что-то. – Вот.
Она протянула Рут карточку. Простую, белую, с единственной строкой текста: имя, должность, адрес.
Маркус Вейл. Директор Института Танатологии. Альпы, Швейцария.
– Он ждёт тебя, – сказала Сара. – Тридцать лет, если верить тому, что он сказал мне.
Рут смотрела на карточку. Буквы были чёткими, аккуратными. Они не объясняли ничего.
– Тридцать лет, – повторила она. – Я родилась сорок семь лет назад. Ему было бы тогда…
– Тридцать восемь. – Сара кивнула. – Я проверяла. В 2047 году он пережил клиническую смерть. Четыре минуты двенадцать секунд. После этого он создал технологию записи смерти.
Рут подняла глаза.
– Он видел что-то. Там. Во время клинической смерти.
– Возможно.
– И он думает, что это связано со мной.
– Я не знаю, что он думает. – Сара вернулась на диван, села напротив Рут. – Я только знаю, что он ждал этого момента очень долго. И что он единственный человек, у которого могут быть ответы.
Рут снова посмотрела на карточку. Швейцария. Институт Танатологии. Место, откуда всё началось.
Она думала о пятистах тысячах лиц. О записях, сделанных до её рождения. О статистике, которая не врала, и о реальности, которая перестала быть понятной.
– Есть ещё кое-что, – сказала Сара тихо.
Рут подняла глаза.
– Что?
– То, почему я не стала копать дальше шесть лет назад. – Сара замолчала. Её лицо было странным – не закрытым, но защищённым, как будто она готовилась к удару. – У меня были свои причины не хотеть узнать правду. Личные причины.
– Какие?
Сара не ответила сразу. Она смотрела в окно – на темнеющее небо, на огни города, на что-то, чего Рут не могла видеть.
– Может быть, я расскажу тебе. Когда-нибудь. Но не сейчас.
Рут хотела настоять. Хотела спросить, потребовать объяснений. Но что-то в голосе Сары остановило её – что-то, похожее на боль. Старую, глубокую, не до конца зажившую.
– Хорошо, – сказала она. – Не сейчас.
Сара кивнула. Благодарность мелькнула в её глазах – быстрая, почти незаметная.
– Поезжай в Швейцарию, – сказала она. – Встреться с Вейлом. Узнай, что он знает. А потом… – она не договорила.
– Потом?
– Потом реши, хочешь ли ты знать остальное. Потому что некоторые двери, Рут… некоторые двери лучше не открывать.
Рут встала. Карточка была в её руке – лёгкая, бумажная, ничего не значащая.
И одновременно – ключ к чему-то, чего она ещё не понимала.
– Спасибо, – сказала она.
– Не благодари. – Сара тоже встала. – Я не уверена, что делаю тебе одолжение.
Они стояли друг напротив друга – две женщины, связанные двадцатью годами общей работы и общих потерь. Рут думала о том, что Сара не рассказала ей. О личных причинах. О дверях, которые лучше не открывать.
– Сара, – сказала она. – Что бы это ни было… я справлюсь.
Сара улыбнулась. Улыбка была грустной.
– Я знаю. Поэтому и даю тебе этот контакт. – Она помолчала. – Просто… будь осторожна. Вейл – не тот человек, каким кажется. Он потерял кого-то важного, давно. И с тех пор… он делает вещи. Ради того, чтобы вернуть то, что потерял.
– Какие вещи?
– Поезжай и узнай. – Сара открыла дверь квартиры. – И позвони мне, когда вернёшься. Если вернёшься.
Рут вышла в коридор. Обернулась.
– Если вернусь?
– Я не знаю, что ты найдёшь там, – сказала Сара. – Но я знаю, что это изменит тебя. Так или иначе.
Дверь закрылась.
Рут стояла в коридоре, в полутьме, с карточкой в руке. За окном лестничной клетки горели огни Лондона – миллионы огней, миллионы жизней, миллионы людей, которые не знали того, что знала она.
Пятьсот тысяч из них видели её в момент смерти.
И человек по имени Маркус Вейл ждал её тридцать лет.
Рут убрала карточку в карман. Начала спускаться по лестнице.
Швейцария. Институт. Ответы – или что-то похожее на них.
Она не знала, что найдёт. Но она знала, что должна попытаться.
Потому что иначе – она проведёт остаток жизни, глядя на своё лицо в глазах умирающих.
И никогда не узнает почему.
Глава 4. Доступ
Три дня.
Лео считал их, как заключённый считает дни до освобождения – только в его случае освобождение имело другое значение. Три дня с того разговора с Агнес. Три дня, в которые он ждал, планировал и готовился к разговору, который должен был состояться.
Отец приходил каждый день. Сидел рядом, говорил о работе, о погоде, о чём угодно, кроме того, что имело значение. Лео видел в его глазах страх – тот же страх, что был там с момента диагноза, только глубже, плотнее, как осадок на дне стакана. Хидео всё ещё не дал ответа насчёт записей смерти. Он сказал «я подумаю» и с тех пор думал – или делал вид, что думает, надеясь, что Лео забудет или передумает.
Лео не собирался забывать. Он просто нашёл другой путь.
Агнес.
Она заходила в его палату каждое утро и каждый вечер – проверить капельницу, принести еду, убедиться, что он не умер за ночь. Стандартные обязанности медсестры. Но после того разговора – после рисунков, после её побелевшего лица и слов «откуда ты её знаешь» – между ними что-то изменилось. Она задерживалась дольше. Смотрела на него иначе. Как на загадку, которую хотела разгадать.
Лео понимал это желание. Он чувствовал то же самое.
На третий день он решил действовать.
Агнес пришла в шесть вечера, когда за окном уже темнело. Лондонские сумерки в марте были короткими – серое небо переходило в тёмно-синее за какие-то полчаса, без всяких закатов и переходных цветов. Лео лежал в кровати, но не спал. Он ждал.
– Ужин через час, – сказала Агнес, проверяя показания монитора у его кровати. – Сегодня суп. Куриный, кажется.
– Агнес.
Она подняла глаза. Что-то в его голосе – серьёзность, может быть, или та взрослость, которую он научился надевать, как костюм – заставило её остановиться.
– Да?
– Мне нужно с вами поговорить. Не здесь.
Агнес нахмурилась.
– Что значит «не здесь»?
– У вас есть комната? Для персонала. Где вы отдыхаете, пьёте кофе, делаете что-то, когда не при пациентах.
– Есть. Но…
– Мне нужно поговорить там. Без камер. – Лео кивнул на маленький объектив в углу потолка. Камеры были во всех палатах хосписа – для безопасности пациентов, как объяснили ему в первый день. Он не возражал тогда. Теперь – возражал.
Агнес проследила его взгляд. Её лицо стало осторожным.
– Лео, если ты хочешь сделать что-то…
– Я не собираюсь причинять себе вред, – он прервал её раньше, чем она закончила. – Это не то. Но то, о чём я хочу поговорить… это не должно быть записано.
– Почему?
– Потому что это касается записей смерти.
Молчание. Агнес смотрела на него, и Лео видел, как в её глазах что-то сдвигается – осторожность уступает место любопытству, страх – чему-то, похожему на надежду.
– Через двадцать минут, – сказала она наконец. – Комната для персонала в конце коридора, за пожарной дверью. Я приду за тобой.
Комната оказалась маленькой и уютной – полная противоположность больничной стерильности. Мягкий диван у стены, обтянутый тканью в цветочек. Кофемашина на столике, рядом – коробка с печеньем. На стене – фотографии: групповые снимки персонала, открытки от бывших пациентов, детские рисунки.
Лео сел на диван. Его тело протестовало – боль в тазу стала сильнее за последние дни, и каждое движение давалось с трудом. Но он научился игнорировать это. Боль была фоном, шумом. Важным было другое.
Агнес закрыла дверь. Села напротив него, на офисный стул с потёртой обивкой.
– Итак, – сказала она. – Записи смерти.
Лео кивнул. Он репетировал этот разговор три дня – каждое слово, каждый аргумент. Но теперь, когда момент настал, заготовки казались неуместными. Слишком формальными. Слишком похожими на презентацию.
– Мне нужен доступ, – сказал он просто. – К записям. Много записей. Я хочу найти паттерн.
Агнес не ответила сразу. Она смотрела на него – не как медсестра на пациента, а как человек на человека.
– Ты понимаешь, что это незаконно? – спросила она наконец.
– Да.
– Записи смерти закрыты для несовершеннолетних. Даже для взрослых доступ ограничен – только ближайшие родственники, только после подачи заявки, только…
– Я знаю, – прервал Лео. – Я читал закон. Весь.
Агнес приподняла бровь.
– Весь?
– Двести сорок три страницы, включая дополнения и комментарии. – Он пожал плечами. – У меня много свободного времени.
Что-то мелькнуло в глазах Агнес – удивление, может быть, или уважение. Она откинулась на спинку стула.
– Даже если бы я хотела помочь – а я не говорю, что хочу – у меня нет доступа. Я медсестра, не свидетель. Записи хранятся в защищённых базах данных…
– У вас есть доступ к медицинским записям пациентов, – сказал Лео. – Включая тех, кто умер здесь.
– Это другое.
– Медицинские записи включают ссылки на записи смерти. Для родственников, которые хотят их посмотреть. Система связана.
Агнес замолчала. Её лицо стало осторожным – она понимала, куда он ведёт.
– Ты хочешь, чтобы я использовала свой доступ, чтобы…
– Чтобы показать мне записи. Да.
– Это не просто незаконно, Лео. Это… – она искала слово. – Это неправильно. Ты ребёнок. Тебе двенадцать лет. Записи смерти – это… ты не представляешь, что там.
– Я умираю, – сказал Лео.
Слова вышли ровно, без дрожи. Он практиковался произносить их перед зеркалом – пока не научился говорить это так, как говорят о погоде или о меню на ужин.
– Мне осталось… врачи говорят «месяцы», но мы оба знаем, что это оптимистичная оценка. Может быть, недели. Может быть, меньше. – Он смотрел на Агнес прямо. – Вы думаете, записи смерти могут меня травмировать? Хуже, чем то, что я уже переживаю?
Агнес не ответила. Её руки сжались на коленях.
– Я понимаю, почему вы не хотите помогать, – продолжил Лео. – Это риск для вас. Если кто-то узнает – вы потеряете работу, может быть, хуже. И ради чего? Ради какого-то умирающего ребёнка с бредовой идеей.
– Это не…
– Но вот в чём дело. – Он наклонился вперёд, игнорируя вспышку боли. – Вы уже вовлечены. С того момента, как вы увидели мои рисунки и узнали лицо. Вы сказали, что ваша мать видела эту женщину в момент смерти. Что вы искали её потом, прогоняли через базы данных, и ничего не нашли.
Агнес молчала. Её лицо было неподвижным, но Лео видел: он попал в цель.
– Вы хотите знать, – сказал он. – Так же сильно, как я. Может быть, сильнее. Потому что для вас это не абстрактный вопрос. Это ваша мать. Это последнее, что она видела перед смертью.
– Лео…
– Я могу найти ответ. Если вы дадите мне доступ к записям – я найду паттерн. Я знаю, как искать. У меня есть метод.
Он достал из кармана пижамы блокнот – тот самый, чёрный, потрёпанный. Положил на стол между ними.
– Посмотрите. Пожалуйста.
Агнес смотрела на блокнот долго – может быть, минуту, может быть, больше. Потом протянула руку и взяла его.
Она листала страницы медленно. Лео знал, что она видит: столбцы цифр, графики, нарисованные от руки, таблицы с датами и показателями. Записи симптомов, отмеченные с точностью до минуты. Анализ снов – каждый эпизод задокументирован, каждая деталь зафиксирована.
– Ты вёл это… сколько? – спросила она, не отрывая глаз от страниц.
– Четыре месяца. С момента диагноза.
– Каждый день?
– Каждый день. Иногда – несколько раз в день.
Агнес остановилась на странице с записью о снах. Лео видел её глаза – они двигались по строчкам, впитывая информацию.
– «Субъект: женщина, приблизительно 45-50 лет», – прочитала она вслух. – «Рост выше среднего, около 175 см. Телосложение худощавое. Волосы тёмные, прямые, до плеч, с заметными седыми прядями». – Она подняла глаза. – Это… точно.
– Я записываю то, что вижу. Как можно точнее.
– Зачем?
Вопрос был простым, но Лео понимал: за ним стояло нечто большее. Не «зачем ты записываешь», а «зачем ты делаешь всё это». Зачем тратишь последние недели жизни на документирование собственной смерти.
– Потому что это единственное, что я могу контролировать, – сказал он.
Слова были честными. Слишком честными, может быть. Но Лео устал притворяться.
– Я не могу остановить болезнь. Не могу решить, когда умру, или как. Не могу выбрать, буду ли бояться – я боюсь, каждую ночь, когда просыпаюсь и понимаю, что ещё жив, и скоро это изменится. – Он замолчал. Собрался с мыслями. – Но я могу понять. Могу задать вопросы и искать ответы. Могу… – он искал слово. – Могу быть не просто тем, с кем это происходит. Могу быть тем, кто наблюдает.
Агнес закрыла блокнот. Положила его на стол.
– Моему сыну было бы сейчас тридцать два, – сказала она тихо.
Лео не ожидал этого. Он замер, не зная, что ответить.
– Он умер, когда ему было восемь. Лейкемия, как у тебя. Тогда не было технологии Кларити – записей смерти не существовало. Я сидела рядом с ним, держала его руку, и когда он… – она не договорила. – Я никогда не узнаю, о чём он думал. Что видел. Было ли ему страшно.
Тишина заполнила комнату. За стеной слышались голоса – другие медсёстры, другие пациенты, другие жизни, продолжающие идти своим чередом.
– Когда появился Закон о Прозрачности, – продолжила Агнес, – я думала: вот теперь мы будем знать. Теперь никому не придётся гадать, что чувствовал близкий человек в последний момент. Это казалось… утешительным.
– Но?
– Но моя мать умерла шесть лет назад. И я посмотрела её запись. – Агнес подняла глаза. – Знаешь, что я увидела?
Лео покачал головой.
– Я увидела, что в последнюю секунду она думала не обо мне. Не о моём отце, не о брате, не о внуках. Она думала о женщине, которую я не знала. О ком-то чужом. – Агнес усмехнулась, но усмешка была горькой. – Вся моя жизнь – рядом с ней. Всё, что я для неё делала. И в конце… я была не там. Не в её последней мысли.
– Это та женщина? – спросил Лео. – Та, что на моих рисунках?
– Да.
– Вы искали её.
– Искала. Годами. Думала – может, у мамы была тайная жизнь. Может, любовник, или подруга, о которой я не знала. Что-то, что объяснило бы… – она покачала головой. – Но ничего не нашла. Эта женщина – призрак. Её не существует.
– Она существует, – сказал Лео. – Я вижу её каждую ночь.
Агнес посмотрела на него. Долго, внимательно, как будто пыталась увидеть что-то за поверхностью.
– Почему ты? – спросила она. – Почему именно ты видишь её во сне?
– Не знаю. Пока. – Лео взял блокнот, прижал к груди. – Но я хочу узнать. И если в записях смерти есть ответ – я его найду.
Агнес молчала долго. Лео считал секунды – привычка, выработанная за месяцы документирования. Двадцать три секунды. Двадцать четыре. Двадцать пять.
На двадцать шестой секунде она заговорила:
– Если я соглашусь – а я не говорю, что соглашаюсь – это будет на моих условиях.
Лео кивнул. Не перебивал.
– Первое: никому ни слова. Твоему отцу, врачам, другим медсёстрам – никому. Если кто-то узнает, это конец. Для меня, для тебя, для всего.
– Понимаю.
– Второе: я выбираю записи. Ты не будешь смотреть что попало. Я найду… – она помедлила, – подходящие случаи. Мирные смерти. Без насилия, без боли.
– Это ограничит выборку.
– Это защитит тебя.
Лео хотел возразить – он не нуждался в защите, не так, как она думала – но промолчал. Условие было разумным. Начать с мирных смертей, получить данные, потом – если потребуется – расширить.
– Хорошо, – сказал он.
– Третье: если я увижу, что это… ломает тебя. Что ты перестаёшь справляться. Я останавливаюсь. Без обсуждений, без переговоров. Просто – стоп.
– А если я буду справляться?
– Тогда продолжим. – Агнес встала. – И последнее.
– Да?
– Если ты что-то найдёшь – что-то важное про эту женщину – ты расскажешь мне. Первой. До того, как скажешь кому-то ещё.
Лео понимал, почему она просит об этом. Это была не жадность и не желание контроля. Это была та же потребность, что двигала им: знать. Понять. Не оставаться в неведении.
– Обещаю, – сказал он.
Агнес кивнула. На её лице было что-то странное – облегчение, может быть, или решимость, или страх от того, что она только что согласилась сделать.
– Завтра, – сказала она. – После вечернего обхода. Я принесу планшет с защищённым доступом. Мы начнём.
Ночь была долгой.
Лео лежал в темноте и смотрел на потолок – на ту самую трещину, похожую на молнию, на реку, на дорогу в никуда. Он думал о том, что произойдёт завтра. О записях, которые увидит. О лицах умирающих – чужих людей, которых он никогда не встречал и никогда не встретит.
Страх был. Он не лгал себе. Где-то глубоко, под слоями логики и методологии, под всеми рациональными обоснованиями – страх. Не страх смерти как таковой. Страх того, что он увидит. Страх понимания.
Но любопытство было сильнее.
Он заснул около трёх ночи и проснулся в пять, мокрый от пота, с колотящимся сердцем. Сон был знакомым: женщина, свет, ожидание. Но что-то изменилось. Она была ближе. И когда он смотрел на неё – она улыбалась.
Не широко, не радостно. Просто – уголки губ, чуть приподнятые. Улыбка человека, который знает что-то, чего не знаешь ты. Улыбка ожидания.
Лео записал сон в блокнот. Руки дрожали – немного, почти незаметно, но он заметил. Записал и это.
Тремор при письме: незначительный. Причина: волнение? Ухудшение состояния? Требует наблюдения.
Научный метод. Даже когда объект наблюдения – ты сам. Особенно тогда.
День тянулся невыносимо.
Завтрак, который он не съел. Обход врача, который говорил что-то о показателях и корректировке дозировки. Визит отца – короткий, неловкий, как всегда. Хидео сидел рядом, держал его руку и молчал, и Лео чувствовал его страх, как запах – кислый, тяжёлый, невозможный игнорировать.
– Пап, – сказал он в какой-то момент.
– Да?
– Тот разговор. О записях смерти. Ты подумал?
Хидео отвёл глаза.
– Лео…
– Просто да или нет.
Молчание. Потом:
– Нет. Не сейчас. Мне нужно больше времени.
Лео не стал спорить. Он знал, что это значит: нет навсегда, просто растянутое во времени. Отец не мог сказать «нет» прямо – это было бы слишком жестоко, слишком окончательно. Поэтому он говорил «позже», «подумаю», «не сейчас». Отсрочка вместо отказа.
Раньше это злило Лео. Теперь – нет. Он понимал: у него был другой путь. Агнес.
После ухода отца он взял планшет и открыл файл с заметками. Начал составлять список вопросов – то, что хотел узнать из записей.
1. Частота появления женщины в финальных образах. 2. Корреляция с причиной смерти (естественная/насильственная). 3. Корреляция с возрастом умершего. 4. Корреляция с религиозными убеждениями (если данные доступны). 5. Детали образа: одинаковый ли внешний вид во всех записях? 6. Контекст появления: что происходит в момент, когда она появляется?
Список рос. Каждый вопрос порождал новые – ветвящаяся структура, уходящая вглубь, как корни дерева. Лео записывал всё, не фильтруя. Время фильтровать придёт позже, когда появятся данные.
Если появятся.
Агнес пришла в девять вечера.
Она выглядела иначе, чем обычно – не в форме медсестры, а в обычной одежде: джинсы, свитер, куртка. Как будто только что пришла с улицы.
– Смена закончилась час назад, – объяснила она, заметив его взгляд. – Официально я ушла домой.
– А неофициально?
– Неофициально я вернулась через чёрный ход. – Она достала из сумки планшет – не больничный, личный, в потёртом чехле. – Подключилась к системе через резервный канал. Если кто-то проверит логи… будет выглядеть так, будто я работаю из дома. Удалённый доступ к медицинским записям – рутинная процедура.
– А если копнут глубже?
– Тогда у нас проблемы. – Агнес села на край кровати. – Но давай надеяться, что не копнут.
Она протянула ему планшет. Экран был тусклым – режим энергосбережения – но Лео видел интерфейс: строгий, функциональный, явно не предназначенный для обычных пользователей.
– Это система доступа к записям смерти? – спросил он.
– Упрощённая версия. Для медперсонала и родственников. Без аналитических инструментов, без метаданных – только сами записи.
– Этого хватит. Для начала.
Агнес указала на значок в углу экрана.
– Здесь архив. Я загрузила несколько записей – те, что соответствуют моим условиям. Мирные смерти, хосписы, естественные причины. Десять штук.
Десять. Лео думал о статистике: десять – это ничто, это даже не выборка, это анекдот. Но начинать с чего-то нужно.
– Спасибо, – сказал он.
Агнес кивнула. Её лицо было напряжённым.
– Первую – вместе. Я хочу видеть, как ты… справляешься.
– Хорошо.
Он открыл архив. Десять файлов, пронумерованных от 01 до 10. Никаких имён, только номера – Агнес позаботилась об анонимизации.
– С какого начнём?
– С первого.
Лео коснулся файла.
Экран мигнул, и появился интерфейс просмотра.
Строгий, минималистичный: временная шкала внизу, основное окно в центре, несколько кнопок управления. Сверху – базовая информация: пол (мужской), возраст (72), причина смерти (сердечная недостаточность), дата (14.09.2076), локация (хоспис, Бирмингем).
Лео глубоко вдохнул. Выдохнул.
Нажал «воспроизведение».
Первые секунды были дезориентирующими – он читал об этом, но не ожидал, насколько странно это будет ощущаться. Реконструкция не была видео в обычном смысле. Это было… что-то среднее между фотографией и сном. Образы накладывались друг на друга, сдвигались, меняли фокус. Он видел потолок – белый, больничный – и одновременно что-то другое: лицо женщины, молодой, улыбающейся. Жена? Дочь? Воспоминание из прошлого?
Время в записи текло иначе. Семь минут сжались во что-то более плотное, более концентрированное. Каждая секунда была наполнена – образами, ощущениями, отголосками эмоций. Лео не чувствовал их напрямую – технология не передавала эмоции наблюдателю – но он видел их следы. Страх, мелькнувший в начале. Потом – принятие. Потом – что-то, похожее на облегчение.
Мужчина – тот, чья это была смерть – думал о своей жизни. Не хронологически, не последовательно. Обрывками, вспышками. Свадьба – белое платье, запах цветов. Рождение ребёнка – маленькие пальцы, сжимающие его палец. Похороны – чёрный костюм, слишком тесный в плечах. Обычный вечер дома – телевизор, ужин, смех дочери из другой комнаты.
Обычная жизнь. Обычная смерть.
Лео смотрел, и где-то внутри что-то сжималось – не страх, что-то другое. Узнавание, может быть. Он видел чужую жизнь, сжатую в семь минут, и понимал: его собственная будет такой же. Вспышки. Обрывки. Моменты, которые казались важными, пока он их проживал.
Запись приближалась к концу. Образы становились менее чёткими, более хаотичными. Мужчина терял сознание – не резко, а постепенно, как будто тонул в тёплой воде. Последние вспышки: солнечный день, запах скошенной травы, чьи-то руки (жены? матери?) на его лице.
Потом – финальная секунда.
Лео увидел её.
Женщина из снов.
Она была там – в последнем кадре, в последней микросекунде, в момент, когда сознание ещё существовало, но уже не принадлежало телу.
Лео узнал её мгновенно. Те же черты, те же пропорции, которые он рисовал десятки раз. Высокие скулы. Длинный нос с горбинкой. Светлые глаза – почти прозрачные, как он и описывал в своих заметках. Тёмные волосы с седыми прядями.
Она смотрела на умирающего. Не с жалостью, не с осуждением. Просто – смотрела. Ждала.
Запись закончилась. Экран погас.
Лео сидел неподвижно. Он чувствовал, как сердце бьётся – слишком быстро, слишком громко. Руки дрожали.
– Лео? – голос Агнес, откуда-то издалека. – Лео, ты в порядке?
Он не сразу нашёл слова.
– Это она, – сказал он наконец. – Та же женщина. Из моих снов.
Агнес взяла планшет из его рук. Перемотала запись, остановила на финальном кадре. Лицо женщины – застывшее, реконструированное, но безошибочно узнаваемое.
– Это она, – повторила Агнес. Её голос был хриплым. – Та же, что видела моя мать.
Они смотрели на экран. На лицо, которое не должно было там быть. На загадку, которая стала чуть менее загадочной – и одновременно гораздо более пугающей.
– Это не случайность, – сказал Лео. Его голос был ровным – тот взрослый голос, который он научился надевать, как маску. – Одна запись – совпадение. Но если она есть в других…
– Проверь.
Лео открыл второй файл. Женщина, 81 год, рак, хоспис в Манчестере. Запись была короче – пять минут, мирная смерть, много воспоминаний о детях и внуках.
Финальный кадр: она.
Третий файл. Мужчина, 68 лет, инсульт, больница в Ливерпуле. Четыре минуты. Последний образ: она.
Четвёртый. Пятый. Шестой.
Каждый раз – она.
Лео остановился на седьмом файле. Руки всё ещё дрожали, но теперь – не от страха. От чего-то другого. От осознания.
– Семь из семи, – сказал он. – Сто процентов.
– Это невозможно, – прошептала Агнес.
– И тем не менее.
Он смотрел на экран – на застывшее лицо женщины из седьмого файла. Те же черты. Та же поза. То же выражение: ожидание, терпение, знание.
– Кто она? – спросила Агнес. Вопрос был риторическим – они оба знали, что ответа нет.
– Пока не знаю, – сказал Лео. – Но я найду.
Он взял блокнот. Начал писать.
Первичный анализ: 7 записей, 7 совпадений (100%). Образ женщины присутствует в финальной секунде каждой записи. Детали образа: стабильны, без вариаций. Гипотеза: образ связан с процессом умирания, а не с индивидуальной памятью умирающих. Следующий шаг: расширить выборку.
– Мне нужно больше записей, – сказал он, не отрываясь от блокнота. – Много больше. Не десять – сотни. Может быть, тысячи.
– Лео…
– Я знаю, что это опасно. Знаю, что это займёт время, которого у меня мало. – Он поднял глаза. – Но это реально, Агнес. Это не галлюцинация, не совпадение, не ошибка алгоритма. Эта женщина – она существует. И она появляется в момент смерти. У всех.
Агнес смотрела на него. Её лицо было бледным, но в глазах горело что-то новое – та же одержимость, которую Лео видел в зеркале каждое утро.
– Я достану больше записей, – сказала она наконец. – Столько, сколько смогу. Но ты… – она замолчала.
– Я что?
– Ты должен понимать, во что ввязываешься. Если это правда – если эта женщина действительно появляется у каждого умирающего – это значит…
Она не договорила. Не нужно было.
Лео знал, что это значит.
Это значило, что когда придёт его время – совсем скоро, через недели или дни – он тоже увидит её. Не во сне. По-настоящему.
И она будет ждать.
– Я знаю, – сказал он тихо. – Поэтому и хочу понять.
За окном была ночь – глухая, мартовская, без звёзд. Лео смотрел на экран планшета, на замершее лицо женщины, и думал о том, что видел.
Семь смертей. Семь последних секунд. И в каждой – она.
Это было только начало.
Глава 5. Маркус Вейл
Поезд пересёк границу Швейцарии в половине третьего пополудни.
Рут смотрела в окно на проплывающие пейзажи – зелёные холмы, аккуратные деревни, озёра цвета расплавленного олова – и думала о том, как далеко она оказалась от Лондона. Не в километрах – в километрах было не так уж много, несколько часов на скоростном поезде через Париж. Далеко в другом смысле. В том, который невозможно измерить.
Три дня назад она была свидетелем класса А-3, опытным профессионалом с пятнадцатилетним стажем и сорока тысячами просмотренных смертей. Человеком, который понимал свою работу, своё место в мире, свою функцию. Теперь она была… чем? Аномалией. Статистической невозможностью. Женщиной, чьё лицо видели пятьсот тысяч умирающих.
Карточка Вейла лежала в кармане пиджака – она проверяла её несколько раз за поездку, как будто боялась, что та исчезнет. Белый картон, чёрные буквы. Маркус Вейл. Директор Института Танатологии. Альпы, Швейцария.
Сара сказала: он ждёт тебя тридцать лет.
Рут не знала, что это значит. Не знала, хочет ли узнать. Но выбора у неё не было – или она так себе говорила, потому что признать, что выбор есть, было бы ещё страшнее.
За окном начались горы.
Станция называлась Интерлакен – маленький городок между двумя озёрами, зажатый в долине, как драгоценный камень в оправе из скал. Рут вышла на платформу и сразу почувствовала разницу: воздух здесь был другим, разреженным, холодным, пахнущим снегом и хвоей.
Её ждал автомобиль – чёрный, без опознавательных знаков, с тонированными стёклами. Водитель – молодой мужчина в сером костюме – не представился. Просто открыл дверь, подождал, пока она сядет, и тронулся с места.
Они ехали в горы.
Дорога петляла серпантином, поднимаясь всё выше. Деревни исчезли, сменившись лесами, потом – голыми скалами с прожилками снега. Солнце садилось за вершины, и небо наливалось тем странным оранжево-розовым светом, который бывает только в горах, только на закате.
Рут смотрела в окно и думала о том, как легко было бы сейчас попросить водителя развернуться. Вернуться на станцию, сесть на поезд, доехать до Лондона, вернуться в свой кабинет, в свою квартиру, в свою жизнь. Сделать вид, что ничего не произошло.
Она не попросила.
Автомобиль свернул на узкую дорогу, ведущую к чему-то, что Рут сначала приняла за часть скалы. Только подъехав ближе, она поняла: это было здание. Институт Танатологии.
Он был встроен в гору – буквально, как будто кто-то вырезал кусок скалы и заменил его архитектурой. Бетон, стекло, острые углы. Панорамные окна, отражающие закатное небо. Никаких украшений, никаких излишеств – чистая функция, возведённая в эстетический принцип.
Автомобиль остановился у входа. Водитель открыл дверь.
– Вас ждут, – сказал он. Это были первые слова, которые она от него услышала.
Вестибюль Института был просторным и пустым.
Белый мрамор на полу, белые стены, потолок высотой в три этажа. Единственным источником цвета была инсталляция в центре: спираль из светящихся нитей, медленно вращающаяся в воздухе без видимой опоры. Рут узнала форму – двойная спираль ДНК, но искажённая, разорванная в одном месте, как будто кто-то вырвал из неё фрагмент.
За стойкой администратора никого не было. Вместо человека – голографический интерфейс, мерцающий мягким голубым светом.
– Добро пожаловать в Институт Танатологии, – произнёс синтетический голос. – Доктор Вейл ожидает вас на двенадцатом уровне. Лифт слева.
Рут не стала спрашивать, откуда система знает, кто она. Очевидно, её визит был запланирован. Ожидаем.
Тридцать лет.
Лифт был стеклянным и двигался не вверх, а вниз – внутрь горы. Рут смотрела через прозрачные стены на проплывающие этажи: лаборатории, заполненные оборудованием, которое она не могла идентифицировать; длинные коридоры с закрытыми дверями; залы, похожие на серверные, с рядами мерцающих машин.
Масштаб был впечатляющим. Бюро Свидетелей в Лондоне занимало здание бывшего Скотланд-Ярда – и всё же казалось крошечным по сравнению с тем, что она видела сейчас. Институт был не просто исследовательским центром. Он был… империей. Подземным городом, посвящённым одной цели.
Какой?
Лифт остановился. Двери открылись.
Двенадцатый уровень выглядел иначе, чем предыдущие.
Не лаборатория, не офис – что-то среднее между библиотекой и храмом. Высокие потолки, приглушённый свет, стены, покрытые чем-то, что Рут сначала приняла за панели тёмного дерева. Только подойдя ближе, она поняла: это были экраны. Тысячи экранов, от пола до потолка, каждый размером с ладонь, и на каждом – изображение.
Лица.
Рут остановилась. Сердце пропустило удар.
Это были финальные кадры записей смерти. Она узнала формат – тот же интерфейс, который использовала в Бюро. Но здесь записей были тысячи, десятки тысяч, и все они были остановлены на одном моменте: последняя секунда. Финальный образ.
И на каждом – одно и то же лицо.
Её лицо.
Рут медленно шла вдоль стены, и её собственные глаза смотрели на неё отовсюду. Сотни версий одного образа – разного качества реконструкции, с разных углов, в разном освещении, но безошибочно узнаваемых. Она видела себя такой, какой её видели умирающие: спокойной, ожидающей, почти торжественной.
– Впечатляет, не правда ли?
Голос пришёл откуда-то справа. Рут обернулась.
Он стоял в тени у дальней стены – высокий мужчина в тёмном костюме, с сединой в волосах и лицом, изрезанным морщинами. Ему было шестьдесят восемь, если верить досье, но выглядел он старше – или моложе, в зависимости от того, на что смотреть. Глаза были молодыми: острыми, яркими, полными чего-то, похожего на голод.
Маркус Вейл.
– Я собирал эту коллекцию тридцать лет, – сказал он, выходя из тени. Его шаги были мягкими, почти бесшумными. – Каждая запись, в которой появлялось ваше лицо. Каждый финальный кадр. Каждое свидетельство.
– Зачем?
Слово вышло раньше, чем Рут успела подумать. Не «кто вы», не «что это значит» – «зачем». Самый важный вопрос. Единственный, который имел значение.
Вейл улыбнулся. Улыбка была тонкой, почти незаметной.
– Потому что я искал вас. Всю свою жизнь – или ту её часть, которая имеет значение. – Он остановился в нескольких шагах от неё. – И вот вы здесь. Наконец.
– Вы знали, что я приду.
Это не было вопросом. Рут констатировала факт – и ждала, что Вейл его подтвердит или опровергнет.
– Знал? – он повторил слово, как будто пробуя его на вкус. – Это сложный термин. Я верил, что вы придёте. Надеялся. Планировал. Создал условия, при которых ваш приход становился… вероятным. – Он сделал жест рукой, охватывая комнату. – Всё это – часть плана. Институт, технология, Закон о Прозрачности. Всё ради одной цели: найти вас.
– Меня не существовало тридцать лет назад.
– Нет. Но вы существуете сейчас. – Вейл повернулся к стене с экранами. – И вы существовали тогда – в каком-то смысле. Я видел вас. В 2047 году. За два года до вашего рождения.
Рут молчала. Она ждала объяснения – и одновременно боялась его.
Вейл не торопился. Он смотрел на экраны – на тысячи её лиц, застывших в последних секундах чужих жизней – и когда заговорил снова, его голос был другим. Мягче. Уязвимее.
– Мне было тридцать восемь лет, – сказал он. – Молодой учёный с амбициями и грантом на исследование нейронных коррелятов сознания. Я работал слишком много, спал слишком мало, игнорировал все предупреждения организма. Однажды утром – это было четырнадцатого марта – я встал из-за стола, чтобы налить кофе, и мир погас.
– Клиническая смерть.
– Четыре минуты двенадцать секунд. – Вейл кивнул. – Острая сердечная недостаточность. Меня нашла ассистентка, вызвала реанимацию. Они запустили сердце, вернули меня. Но те четыре минуты…
Он замолчал. Рут видела, как его руки сжались – едва заметно, но она заметила.
– Что вы видели?
Вейл обернулся. В его глазах было что-то, чего она не видела раньше – не голод, не острота. Что-то, похожее на боль.
– Границу, – сказал он. – Между этим и тем. Между жизнью и… тем, что после.
– И там была женщина.
– Да. – Он смотрел на неё, и его взгляд был таким интенсивным, что Рут захотелось отступить. – Вы.
Они прошли в другую часть комнаты – ту, где стояли кресла и низкий столик, как в приёмной психотерапевта. Вейл указал на одно из кресел; Рут села. Он остался стоять.
– Я не помнил лица, – сказал он, продолжая рассказ. – Не сразу. Первые месяцы после реанимации – туман, обрывки, ощущения без формы. Но потом… образы начали проявляться. Как фотография в проявителе – медленно, постепенно. Сначала – контуры. Потом – детали.
– И вы начали искать.
– Я начал создавать. – Вейл подошёл к окну – панорамному, выходящему на подсвеченную скалу внутри горы. – Технология Кларити – это не просто устройство для записи нейронной активности. Это инструмент поиска. Я хотел знать: что видят другие, когда умирают? Видят ли они то же, что видел я?
– Видят ли они меня.
– Да. – Он обернулся. – И они видели. Не все – но многие. Достаточно многие, чтобы я понял: это не галлюцинация. Не артефакт моего повреждённого мозга. Это… реальность. Другого рода, но реальность.
Рут думала о статистике. О пятистах тысячах записей с её лицом. О тех, что были сделаны до её рождения.
– Как это возможно? – спросила она. – Люди видели меня до того, как я существовала. Это нарушает… – она искала слово. – Это нарушает всё.
Вейл улыбнулся – той же тонкой улыбкой, что и раньше.
– Нарушает что? Законы физики? Причинно-следственную связь? Линейность времени? – Он покачал головой. – Мы так привыкли думать, что понимаем мир. Что наши модели – физические, математические, философские – описывают реальность такой, какая она есть. Но смерть… смерть показывает нам пределы наших моделей.
– Вы учёный. Вы должны искать рациональное объяснение.
– Я искал. Тридцать лет. – Вейл сел в кресло напротив неё. – Хотите знать, что я нашёл?
Рут кивнула.
– Сознание, – начал Вейл, – это не то, чем мы привыкли его считать. Не продукт мозга, не эпифеномен нейронной активности. Это… – он помедлил, подбирая слова. – Представьте поле. Единое информационное поле, охватывающее всё. Каждое сознание – локализованный узел в этом поле. Вихрь в потоке. Пока мы живы, вихрь стабилен, изолирован, отделён от остального поля. Это позволяет нам действовать как отдельные существа – принимать решения, иметь идентичность, быть «собой».
– А когда мы умираем?
– Изоляция разрушается. Вихрь рассеивается, сливаясь с полем. Но это не мгновенный процесс. Есть момент – краткий, но измеримый – когда сознание уже не изолировано, но ещё не рассеяно. Момент расширения.
Рут думала о всплеске Φ, который фиксировали системы Кларити в финальные секунды записей. Двести-четыреста миллисекунд повышенной интеграции перед коллапсом.
– Финальный всплеск, – сказала она.
– Именно. – Вейл кивнул. – В этот момент сознание… видит дальше. Соприкасается с полем. И если есть кто-то, кто служит мостом между изолированными состояниями – точка повышенной связности в топологии поля – то умирающее сознание находит этот мост.
– И этот мост – я.
– Вы – аномалия. Топологическая сингулярность. – Вейл наклонился вперёд. – Человек, родившийся в узле, где связность поля максимальна. Вы не создаёте связь – вы и есть связь. Проводник между тем, что здесь, и тем, что там.
Рут молчала. Слова Вейла были… красивыми, почти поэтичными. Но она была учёным – или тем, что осталось от учёного после пятнадцати лет созерцания смерти.
– Это гипотеза, – сказала она. – Красивая, но непроверяемая.
– Непроверяемая? – Вейл поднял бровь. – Вы сидите в комнате с двадцатью тысячами экранов, на каждом из которых – ваше лицо из записи смерти. Люди, которых вы никогда не встречали, видели вас в момент смерти. Люди, умершие до вашего рождения, видели вас. Это не гипотеза, доктор Эверетт. Это данные.
– Данные, которые можно интерпретировать по-разному.
– Разумеется. – Вейл откинулся в кресле. – Вы можете решить, что всё это – ошибка алгоритма. Массовая галлюцинация. Заговор с целью свести вас с ума. Вы можете поверить во что угодно. Но это не изменит того, что вы – здесь. Что вы пришли. Что вы чувствуете: что-то в моих словах – правда.
Рут не ответила. Потому что он был прав. Что-то в его словах резонировало с чем-то внутри неё – с тем, что она чувствовала, когда смотрела на записи, когда видела своё лицо в глазах умирающих. Узнавание. Не логическое – глубже.
– Допустим, – сказала она наконец. – Допустим, вы правы. Я – «проводник». Мост. Что это значит? Что я должна делать?
Вейл встал. Прошёл к дальней стене, коснулся панели. Часть экранов погасла, и за ними открылось окно – не в скалу, а куда-то ещё. Рут встала, подошла ближе.
За стеклом была лаборатория.
Лаборатория была огромной – как ангар для самолётов, только под землёй. В центре стояло что-то, похожее на кокон из переплетённых кабелей и металлических дуг. Вокруг кокона – консоли, мониторы, оборудование, которое Рут не могла идентифицировать. Люди в белых халатах двигались между машинами, но издалека они казались муравьями рядом с чем-то неизмеримо большим.
– Это, – сказал Вейл, – то, над чем я работал последние двадцать лет.
– Что это?
– Усилитель. – Он произнёс слово так, как другие люди произносят имена богов. – Устройство, которое может усилить связь между Проводником и полем. Многократно. Экспоненциально.
Рут смотрела на кокон. Вблизи он выглядел ещё более чуждым – геометрия была неправильной, углы не сходились там, где должны были.
– Усилить для чего?
– Для того, чтобы открыть дверь.
Вейл повернулся к ней. В его глазах снова горел тот голод, который она заметила в начале.
– Вы – мост, доктор Эверетт. Но мост можно перейти только в одну сторону. Умирающие видят вас – и через вас соприкасаются с полем. Но вы не можете пройти к ним. Не можете достать то, что уже рассеялось.
– То, что рассеялось, – повторила Рут. – Вы имеете в виду… мёртвых?
– Я имею в виду тех, кто перешёл. – Вейл говорил быстрее теперь, слова выходили торопливо, как будто он боялся не успеть. – Поле хранит информацию. Всю информацию, которая когда-либо существовала. Сознания не исчезают – они рассеиваются, становятся частью поля, но информация остаётся. И если усилить связь достаточно…
– Вы хотите вернуть кого-то, – поняла Рут.
Вейл замолчал. Его лицо изменилось – маска контроля дала трещину, и за ней мелькнуло что-то сырое, незащищённое.
– Мою дочь, – сказал он. – Элену.
Они вернулись в кресла. Вейл налил им обоим виски из графина на столике – Рут не заметила его раньше. Руки у Вейла не дрожали, но что-то в его движениях выдавало напряжение.
– Элене было двадцать пять, – сказал он, глядя в стакан. – Это было в 2051 году. За три года до принятия Закона о Прозрачности.
– Её смерть не записана.
– Нет. – Вейл сделал глоток. – Автокатастрофа. Мгновенная смерть, как сказали врачи. Они думали, что это утешит меня. Мгновенная – значит, не страдала.
– Но вы не знаете, о чём она думала.
– Не знаю. – Его голос стал тише. – Мы поссорились перед её смертью. Из-за её парня – он мне не нравился, я считал, что она заслуживает лучшего. Обычная отцовская глупость. Я сказал что-то резкое, она ответила, хлопнула дверью. Через три часа мне позвонили из больницы.
Рут знала это чувство. Знала слишком хорошо.
– Я потеряла мать так же, – сказала она тихо. – Ссора, хлопнувшая дверь, звонок из больницы.
Вейл поднял глаза.
– Я знаю.
– Откуда?
– Я изучал вас. Когда понял, кто вы – изучал всё, что мог найти. Вашу историю, ваш путь, причины, по которым вы стали свидетелем. – Он помолчал. – Мы похожи, доктор Эверетт. Оба потеряли кого-то важного. Оба не успели сказать что-то важное. Оба – ищем ответы.
– Я не ищу ответы. Я просто… работаю.
– Вы работаете со смертью. Пятнадцать лет. Сорок тысяч записей. – Вейл покачал головой. – Это не работа. Это поиск. Вы ищете то же, что и я: понять, что происходит по ту сторону. Узнать, что видела ваша мать в последний момент.
Рут хотела возразить. Хотела сказать, что он ошибается, что её мотивы другие, что она не такая, как он. Но слова не шли.
Потому что он был прав.
Тридцать один год она носила в себе этот вопрос. О чём думала мать в последний момент? О Рут – или о ком-то другом? Простила ли она её за ссору – или умерла, держа обиду?
Записи матери не существовало. Она умерла до Закона. Рут никогда не узнает ответ.
Или… узнает?
– Что вы хотите от меня? – спросила она.
Вейл поставил стакан на столик. Встал, подошёл к ней.
– Я хочу, чтобы вы использовали усилитель, – сказал он. – Подключились к устройству и расширили свою связь с полем. Стали мостом не для умирающих, а для тех, кто уже перешёл.
– Вы хотите, чтобы я нашла вашу дочь.
– Я хочу, чтобы вы открыли дверь. – Вейл смотрел на неё сверху вниз, и в его глазах была мольба – едва заметная, почти скрытая, но Рут видела. – Элена – это начало. Но если дверь откроется… вы понимаете, что это значит? Смерть перестанет быть концом. Мы сможем достигать тех, кого потеряли. Говорить с ними. Может быть – возвращать.
– Возвращать? – Рут почувствовала, как что-то холодное сжалось в груди. – Вы хотите возвращать мёртвых?
– Я хочу устранить границу. – Вейл говорил быстро, увлечённо. – Границу, которая существует только потому, что мы не понимаем её природы. Смерть – это не конец, это переход. И если мы научимся управлять переходом…
– Это безумие.
– Это наука. – Он не обиделся на её слова. – Радикальная, да. Непроверенная – пока. Но возможная. С вашей помощью – возможная.
Рут встала. Отошла от него, к окну, к виду на лабораторию с её странным коконом.
– Даже если я соглашусь, – сказала она, не оборачиваясь, – даже если это сработает… что это изменит? Вашу дочь не вернуть. Мою мать не вернуть. Они умерли. Физически, биологически, необратимо.
– Необратимо? – Вейл подошёл к ней, встал рядом. – Что такое «я», доктор Эверетт? Тело? Тело меняется каждые семь лет – клетки умирают и заменяются новыми. Мозг? Нейроны перестраиваются постоянно. Память? Память – это реконструкция, каждый раз новая. Что делает вас – вами?
Рут молчала.
– Информация, – ответил Вейл за неё. – Паттерн. Структура связей, которая определяет, как вы думаете, чувствуете, действуете. И если эта информация сохраняется в поле – если смерть не уничтожает паттерн, а только рассеивает его…
– То его можно собрать снова.
– Теоретически. – Вейл кивнул. – С достаточно сильным Проводником. С достаточно мощным усилителем. С достаточной… волей.
Рут смотрела на кокон внизу. На людей, которые работали вокруг него. На машину, которая обещала невозможное.
– И что, если я откажусь?
– Тогда вы уедете. – Вейл пожал плечами. – Вернётесь в Лондон, продолжите работу, будете смотреть записи смерти и видеть своё лицо в каждой. Будете знать, что вы – мост, но никогда не узнаете, куда он ведёт.
– А если соглашусь?
– Тогда мы узнаем. Вместе.
Он протянул руку – жест, который мог означать приглашение или требование.
– Вы искали ответы тридцать один год, доктор Эверетт. Я – тридцать. Возможно, пришло время перестать искать и начать находить.
Рут не взяла его руку.
Она стояла у окна, глядя на лабораторию, и думала. Не о Вейле, не о его безумной теории, не об усилителе. О матери.
Элизабет Эверетт умерла четырнадцатого сентября 2046 года в 16:47 по местному времени. Аневризма головного мозга. Мгновенная смерть – так сказали врачи. Рут было шестнадцать лет, и она была в своей комнате, с наушниками, всё ещё злая после ссоры. Она не слышала, как мать упала. Не слышала тишину, которая наступила после.
Она помнила, как спустилась на кухню через несколько часов – голодная, всё ещё сердитая, готовая к продолжению спора. И увидела тело на полу. И поняла.
Тридцать один год.
Каждый день – вопрос. О чём мать думала в последний момент? О Рут – или о ком-то другом? Простила ли – или нет?
Записи не было. Ответа не было. Только вопрос, разъедающий изнутри.
– Вы сказали, – произнесла Рут наконец, – что поле хранит информацию. Всю информацию.
– Да.
– Включая мою мать?
Вейл помедлил. Потом кивнул.
– Включая вашу мать. Включая мою дочь. Включая всех, кто когда-либо жил и умер.
Рут обернулась к нему.
– Вы не просто хотите вернуть Элену, – сказала она. – Вы хотите изменить саму природу смерти.
– Я хочу понять её, – ответил Вейл. – Понять – и, возможно, преодолеть. Это преступление?
– Это… – Рут искала слово. – Это опасно. Если граница существует – может быть, она существует не просто так. Может быть, есть причина, почему мёртвые не возвращаются.
– Или может быть, мы просто никогда не пробовали достаточно сильно. – Вейл подошёл к ней ближе. – Вы боитесь, доктор Эверетт. Я понимаю. Но спросите себя: чего вы боитесь больше – того, что за дверью, или того, что проживёте остаток жизни, не узнав?
Рут не ответила. Она смотрела на своё отражение в стекле окна – и на тысячи своих лиц на экранах за спиной. Пятьсот тысяч умирающих видели это лицо. Видели её.
И она не знала почему.
– Мне нужно время, – сказала она. – Подумать.
– Конечно. – Вейл отступил на шаг. – Вы можете остаться в гостевых апартаментах. Столько, сколько потребуется.
– И если я решу уехать?
– Вас отвезут на станцию. Без вопросов, без условий. – Он помолчал. – Но я надеюсь, что вы останетесь. Потому что вы пришли сюда не случайно. Вы пришли, потому что вам нужны ответы. Так же сильно, как мне.
Рут хотела возразить. Хотела сказать, что она не такая, как он. Что её мотивы чище, что она ищет понимание, а не контроль.
Но она не была уверена, что это правда.
– Я подумаю, – повторила она.
Вейл проводил её до лифта. Они шли молча мимо стен с экранами, мимо тысяч её лиц, мимо свидетельств, которые он собирал тридцать лет.
У дверей лифта он остановился.
– Ещё одно, – сказал он.
Рут обернулась.
– Всё, что я вам рассказал, – это теория. Гипотеза, основанная на данных, которые я собирал десятилетиями. Но есть кое-что, чего я не знаю. Кое-что, что знаете только вы.
– Что?
– Почему вы. – Вейл смотрел на неё, и в его глазах было что-то новое – не голод, не мольба. Что-то, похожее на страх. – Я понимаю, как работает поле. Понимаю, что такое Проводник. Но я не понимаю, почему топологическая сингулярность возникла именно в вас. Почему вы родились в узле повышенной связности. Что делает вас – вами.
– Случайность, – сказала Рут. – Генетика, условия рождения, солнечная активность – вы сами это говорили.
– Может быть. – Вейл покачал головой. – Или, может быть, есть что-то ещё. Что-то, чего я не вижу. Что-то, что вы должны найти сами.
Двери лифта открылись. Рут вошла внутрь.
– Доктор Эверетт, – позвал Вейл.
Она обернулась.
Он стоял в проёме, высокий, седой, с глазами, полными тридцатилетней одержимости.
– Вы – дверь, – сказал он. – И я хочу, чтобы вы её открыли.
Двери закрылись.
Лифт нёс её вверх, к поверхности, к миру, который она знала – или думала, что знает. Рут стояла в стеклянной кабине и смотрела на проплывающие уровни Института: лаборатории, коридоры, машины, люди.
Всё это – ради неё. Тридцать лет работы, миллиарды вложений, тысячи людей. Ради того, чтобы найти её и открыть дверь.
Вы – дверь.
Она думала о своей жизни. О тридцати одном годе вопросов без ответов. О матери, которую она никогда не узнает по-настоящему. О записях смерти, которые она смотрела день за днём, год за годом, ища что-то, что не могла назвать.
Вейл был прав: она искала. Всё это время. Только не признавалась себе.
И теперь ей предлагали ответ.
Дверь.
Проводник.
Мост между живыми и мёртвыми.
Лифт остановился. Двери открылись в вестибюль с его белым мрамором и светящейся спиралью ДНК.
Рут вышла.
Снаружи была ночь – альпийская, холодная, полная звёзд. Она стояла на пороге Института и смотрела вверх, на небо, которое здесь, вдали от городских огней, было ярким и бесконечным.
Где-то там – если верить Вейлу – было поле. Единая информация, охватывающая всё. Сознания, рассеянные, но не исчезнувшие. Мёртвые, которые не совсем мертвы.
Мать.
Рут достала телефон. Набрала номер Сары.
– Рут? – голос был сонным, удивлённым. – Который час?
– Поздно. Прости. Я хотела сказать… – она замолчала. Что она хотела сказать? Что Вейл безумен? Что его теория – бред? Что она уедет завтра утром и никогда не вернётся?
Или что-то другое?
– Рут? Ты в порядке?
– Я не знаю, – сказала она честно. – Я встретила его. Вейла. Он рассказал мне… многое.
– И?
Рут смотрела на звёзды. На горы, чёрные на фоне неба. На Институт за спиной – подземный город, посвящённый смерти и тому, что после неё.
– И я не знаю, что думать, – сказала она. – Но я не уезжаю. Пока.
Молчание на другом конце. Потом:
– Будь осторожна.
– Буду.
Рут повесила трубку. Убрала телефон в карман.
Она стояла в темноте, между звёздами и горами, между прошлым и будущим, между жизнью и тем, что Вейл называл «переходом».
Дверь.
Она не знала, хочет ли открыть её. Не знала, готова ли. Не знала, что найдёт по ту сторону.
Но она знала одно: она не может уйти, не узнав.
Тридцать один год вопросов. Пятьсот тысяч лиц.
Пора было найти ответы.
Глава 6. Паттерн в паттерне
Двести записей.
Лео смотрел на экран планшета, на цифру в углу – 200/200, все загружены – и чувствовал странную смесь торжества и страха. Агнес выполнила обещание. Больше того – превзошла его. Она доставала записи партиями: двадцать, потом тридцать, потом пятьдесят. Каждый вечер, после окончания смены, она приходила в его палату с планшетом и новыми файлами, и каждый раз её лицо было чуть более напряжённым, чуть более усталым.
– Это последняя партия, – сказала она вчера, передавая ему устройство. – Больше я не могу. Система начинает замечать аномальную активность.
Лео не стал спрашивать, что это значит. Он понимал: каждый файл, который она скачивала, оставлял след. Цифровой отпечаток, который мог привести к ней. К ним обоим.
Двести записей. Двести смертей. Двести последних секунд.
Достаточно для статистики.
Первые семь записей – те, что он посмотрел в ту первую ночь с Агнес – показали стопроцентное совпадение. Женщина из снов в каждом финальном кадре. Это было впечатляюще, но Лео знал: семь – это не выборка, это анекдот. Чтобы доказать что-то, нужны были сотни.
Теперь у него были сотни.
Он начал систематически. Каждое утро – после завтрака, который он по-прежнему почти не ел, после обхода врача, который по-прежнему говорил ничего не значащие слова – Лео садился в кровати, открывал планшет и смотрел записи.
Не все целиком. Это заняло бы слишком много времени, которого у него не было. Он разработал протокол: перемотка на последние тридцать секунд, внимание на финальный кадр, классификация результата. Женщина есть – отметка в одной колонке. Женщины нет – отметка в другой.
Просто. Эффективно. Научно.
К пятидесятой записи он заметил первую аномалию.
Запись номер 47. Мужчина, 59 лет, инфаркт, больница в Бирмингеме.
Лео перемотал на последние секунды. Стандартный паттерн: угасание образов, хаотическая активность, всплеск интеграции перед финалом. Он ждал увидеть её лицо – и не увидел.
Финальный кадр был… пустым. Не чёрным – это было бы понятно, это означало бы сбой записи или слишком быстрое угасание. Нет, кадр содержал что-то: размытые формы, пятна света и тени, движение без направления. Но никакого лица. Никакой женщины.
Лео перемотал назад. Посмотрел снова. Результат тот же.
Он открыл блокнот, записал:
Запись 47. Финальный образ: шум. Женщина отсутствует.
И продолжил.
К сотой записи аномалий было уже одиннадцать. К стопятидесятой – девятнадцать. К двухсотой – двадцать шесть.
Двадцать шесть из двухсот. Тринадцать процентов.
Лео смотрел на цифры и чувствовал, как что-то меняется в его понимании. Первые семь записей создали иллюзию абсолюта: женщина везде, в каждой смерти, без исключений. Но двести записей рассказывали другую историю.
Она была не везде.
Почему?
Он начал классификацию на следующее утро.
Отец пришёл в десять – как всегда, с неловкой улыбкой и пакетом фруктов, которые Лео не будет есть. Они посидели вместе полчаса, обмениваясь фразами, которые ничего не значили: «Как ты себя чувствуешь?» – «Нормально». «Врач говорит, что показатели стабильны» – «Угу». «Хочешь, я почитаю тебе что-нибудь?» – «Нет, спасибо».