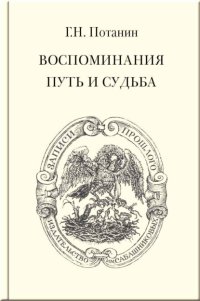
Читать онлайн Воспоминания. Путь и судьба бесплатно
- Все книги автора: Г. Н. Потанин
Григорий Николаевич Потанин
(1835–1920)
© Издательство им. Сабашниковых, 2025
© В. Дорофеев, сост., пред., прим., послесл., 2025
К читателю
Жизнь Григория Николаевича Потанина (1835–1920), выдающегося отечественного антрополога, этнографа, путешественника и общественного деятеля, во многом типична для разночинца его поколения. Типично увлечение либеральными идеями и революционной романтикой в молодости, прошедшей в, наверное, наиболее мрачные десятилетия николаевской эпохи и первых александровских реформ; типично несопоставимо суровое (по меркам содеянного) наказание – каторга и поселение – имевшее итогом просветительскую деятельность и окончательное увлечение серьезной наукой. Наверное, типично и погружение в эту науку, определённый «мир с самим собой» и служение на ниве безграничного и ежедневного познания, вылившиеся в итоге в категорическое неприятие новой большевистской власти на самом излете жизни. В последнем обстоятельстве, судя по всему, и надо искать главную причину забвения имени Потанина в истории советской науки.
Григорий Николаевич чрезвычайно много сделал на ниве зоологии и ботаники, этнографии и фольклористики, палеографии и религиоведения, а также ещё доброго десятка вспомогательных естественных и гуманитарных дисциплин. Причем зоной его исследовательского интереса стала Центральная Азия. Излишне напоминать, что сегодня к влиянию в этом регионе с неослабевающим упорством стремятся как соседние с ним, так и весьма порой удаленные страны. Здесь важно все – непростые отношения между исторически враждебными этноконфессиональными группами, застарелые территориальные претензии, наконец, транзитные пути из китайской «мастерской мира» в европейский «гипермаркет».
И одним из первых, кто сумел не только собрать уникальную базу данных о Средней Азии, но и приступить к ее обработке и расшифровке ментальностей местных обитателей, стал именно Г.Н. Потанин.
Его имя прочно стоит в ряду выдающихся отечественных путешественников и первооткрывателей региона – Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, П.К. Козлова, П.П. Семёнова-Тян-Шанского, однако творческое наследие Г.Н. Потанина обладает чрезвычайно важной особенностью. В силу ряда причин (как отсутствия военных конвоев у экспедиций, так и личных качеств исследователя и его верного ассистента – жены Александры, их искренней дружелюбности к носителям местных традиций) контакт Потанина с изучаемыми культурами оказался весьма тесным, что и обеспечило ему этнографическую и антропологическую глубину, то самое «включённое наблюдение», являющееся неотъемлемым атрибутом современных исследовательских практик.
Важно отметить, что наследие Г.Н. Потанина весьма обширно и многогранно, однако его мемуарные записки занимают в нем особое место. Доведенные до начала 20-го столетия, они с удивительной глубиной, подробностями и рефлективным самоконтролем, свойственными автору, отражают время, в котором ему довелось жить, без преувеличения уникальные подробности бытия России от Николая I до Николая II, мир мыслей и переживаний самого автора – весьма тонкого, эмпатичного и эмоционального человека – и, конечно же, многочисленные перипетии его путешествий. Не только, кстати, в казахские степи, Синцзян и Китай, но и в такие места, как Свеаборгская каторжная тюрьма или собрание Французского географического общества в особняке внучатого племянника самого Бонапарта. И еще не сразу можно понять, что интереснее для читателя – ибо и там, и тут в чистом виде антропология и этнография.
Александр Хлевов,
доктор философских наук,
профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета,
член Русского географического общества,
член-корр. Российской Академии естествознания
Предисловие. Путь и судьба
В 2025 году исполняется 190 лет со дня его рождения Григория Николаевича Потанина, легендарного русского путешественника XIX века, исследователя Центральной Азии, ученого-энциклопедиста. Потанин родился в 1835 году, скончался в 1920, всю свою долгую жизнь связал с Сибирью, а на склоне лет его даже называли «сибирский дедушка».
Есть люди, про которых можно сказать, что они были не только свидетелями, но и творцами истории, героями своего времени. Таков был путешественник Потанин, по праву занявший достойное место среди знаменитых русских путешественников и первопроходцев, таких как Афанасий Никитин, Ермак Тимофеевич, Ерофей Павлович Хабаров, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Николай Михайлович Пржевальский, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Петр Кузьмич Козлов, Михаил Васильевич Певцов.
Его жена, Александра Викторовна Потанина, первая в России женщина, профессиональная путешественница, неизменная спутница и вдохновительница в экспедициях, открытиях и достижениях.
Григорий Потанин потомственный казак, после окончания кадетского корпуса в качестве офицера участвовал в 50-х годах XX века в усмирении бунтовщиков в Средней Азии, был основателем города Верный, нынешней Алма-Аты, после отставки с военной службы учился в Петербургском университете, во второй половине 60-х годов XIX века арестован и отправлен на каторгу за идеи независимости Сибири, а после революции и начала гражданской войны стал одним из авторов сибирской конституции и инициатором провозглашения Сибирского Союза Вольных Штатов.
Многие найдут в судьбе Потаниных особый смысл и предназначение, начиная с первого чудесного спасения трехмесячного младенца Гриши Потанина в зимней оренбургской степи, утерянного и чудесным образом найденного родителями в дорожной метели, и до знакомства в ссылке с будущей женой, ставшей по выражению Потанина, его ангелом-хранителем, до последнего вздоха не оставившей мужа, чтобы уберечь его от возможных последствий нервного заболевания, полученного на каторге.
Между этими драматическими точками биографии разместилась удивительная жизнь в дороге, насыщенная разнообразными, порой опасными и драматичными, подчас чудесными и фантастическими историями и событиями, среди них, – гражданская казнь каторга и ссылка Григория Потанина, любовь, венчание и свадьба Григория и Александры в ссылке, нападение религиозных фанатиков на путешественников в Монголии, беседа с далай-ламой в Лхассе и участие в шаманском камлании, присутствие на пляске масок смерти в Тибете и обнаружение горного райского оазиса с непугаными зверями, птицами, таинственные голоса в Гоби и жесточайшие многолетние испытания снежными буранами и тропическими ливнями, голодом и песчаными бурями, и многое другое на грани человеческих возможностей, характера и воли.
Потанины за два десятилетия совместной жизни совершили четыре экспедиции: 1-я Монгольская (1876–1877), 2-я Монгольская (1879–1880), 1-я Китайско-Тибетская (1884–1886), 2-я Китайско-Тибетская (Сычуанская, 1892–1893). И это невероятное достижение, учитывая, что некоторые из них продолжались не один год, ограниченность технических и транспортных возможностей, и просто женскую хрупкость Александры Викторовны, ушедшей из жизни в последней их китайской экспедиции по дороге домой.
По результатам экспедиций Потаниных, ботаническим, энтомологическим, орнитологическим и др. коллекциям (по каждому из направлений исследований и сборов счет шел на сотни и тысячи образцов), топографической съемке и геологическим образцам, предметам обихода и деталям одежды и украшений, их современники открывали природу, человеческую цивилизацию и историю таинственной Центральной Азии.
Усматривая закономерности в движении песков, Потанин составит первую в истории изучения региона масштабную песчаную карту Центральной Азии, описывая воздушное, в виде пылевых, и земное, в виде песочных потоков, движение песков. Центральноазиатская песчаная карта Потанина состояла из двух независимых территорий, разделенных по воображаемой линии, от монгольской Урги, через восточную оконечность Тянь-Шаня и до китайского Кашгара, на юго-востоке, с локальными песчаными зонами, в горных впадинах, а на северо-западе, с движущимися песками по берегам озер и в долинах.
На основании топографических карт, уточненных или составленных в экспедициях Потанина, были скорректированы границы и произошли события, изменившие судьбы стран и народов. Например, были сняты территориальные притязания со стороны Китая, и заключен во второй половине XIX столетия основополагающий российско-китайский Тарбатагайский протокол (1864), а в XX веке, в рамках точно спланированных по потанинским картам операций, советские войска освободили Китай от японских войск, обеспечив победу СССР в войне с Японией (1945).
Несколько сотен собранных сказок и легенд народов Центральной Азии продолжают спустя столетие вдохновлять исследователей фольклора, издателей и литераторов.
Чтобы излечить своего старинного товарища Николая Михайловича Ядринцева, издателя и сибирского публициста, от тяжелой формы алкоголизма, случившегося после смерти жены, Потанин уговаривает товарища в 1899 году отправиться в экспедицию в Монголию, на поиски древней столицы Чингисхана – Каракорум. Столетия искатели приключений и путешественники пытались с XII века отыскать затерянную во времени и степях столицу Чингизидов, и не получалось. Упоминание и интерес к ней обозначен еще у Марко Поло. Это удалось в 1889 году Ядринцеву. Без маяты, тыканий и кружений, он вышел на цель в месте, указанном Потаниным. Ядринцев совершит историческое открытие, обнаружив каменные стелы Бильгэ-кагана с параллельными текстами на китайском и древнетюрском языках, известными, как орхонские руническим письма, что позволило их расшифровать.
Руководствуясь описаниями и указаниями на местности Потанина, русский путешественник и географ Петр Кузьмич Козлов в первой же своей экспедиции в Гоби в 1907–1909 годах, отыщет развалины засыпанного песком города, оказавшегося древней столицей Хара-Хото Тангутского царства Си-Ся, основанного предположительно в конце X – начале XI веков (ныне Эдзин (Хэйжунчэн), хошун Эдзин-Ци, аймак Алашань, Внутренняя Монголия, Китай). Из той экспедиции, открывшей древний город Хара-Хото и тангутскую средневековую цивилизацию, Козлов привезет в Россию более 8000 книг на тангутском языке (хранятся в Институте восточных рукописей РАН РФ). Важнейшей находкой станет тангутско-китайский словарь, позволивший начать работы по дешифровке тангутской письменности. И это помимо других находок, монет, образцов ткани, украшений, предметов обихода и быта азиатского среднего века (часть этих артефактов хранится в фондах Эрмитажа). Таким образом столица Тангутского царства станет второй древней столицей в Центральной Азии после столицы Чингисхана, открытой также по наводкам Потанина.
Достижения и заслуги супругов Потаниных оценены и признаны современниками в полной мере при их жизни. Подводя итоги двухлетних исследований (1884–1886) первой китайской экспедиции Потаниных, тогдашний вице-председатель Императорского Российского географического общества (ИРГО) Петр Петрович Семенов-Тян-Шаньский, не скрывал восторженных оценок:
«Экспедиция Г. Н. Потанина доставила истинные сокровища для ботанической и зологической географии собранными ею с полным знанием дела и необыкновенным прилежанием естественно-историческими коллекциями. <…> Собранные трудами Потанина и его жены, ботанические коллекции сделались достоянием Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада. <…> Собранные Потаниным коллекции беспозвоночных (насекомых) животных разработаны русскими и иностранными энтомологами в целом ряде статей. <…> Собранные по преимуществу М. М. Березовским <…> превосходные коллекции позвоночных животных (гады, млекопитающие, птицы, рыбы) <…> разработаны и помещены в изданиях Академии наук. <…> Довольно обширная орнитологическая работа «Птицы ганьсуйского путешествия Г. Н. Потанина» напечатана в отдельном издании ИРГО <…>».
Для полноты понимания значения и роли вклада в развитие ряда наук путешественников Потаниных, процитирую Владимира Афанасьевича Обручева, геолога, путешественника, участника второй китайской экспедиции Потаниных, академика, известного популяризатора науки и писателя (автора приключенческого романа «Земли Санникова» и др.):
«Когда будет написана история географических открытий и исследований в Центральной Азии во второй половине XIX века, на ее страницах займут почетное место и будут поставлены рядом имена трех русских путешественников – Г. Н. Потанина, Н. М. Пржевальского и М. В Певцова. <…> Научное исследование Центральной Азии началось именно с путешествий Потанина, Пржевальского и Певцова. <…> Пржевальский и Певцов были офицеры, путешествовавшие с более или менее многочисленным военным конвоем, который делал их более смелыми, более независимыми от местного населения и туземных властей, но зато мешал их тесному общению с туземцами, часто внушая последним недоверие или страх. <…>
Потанин военного конвоя не имел, путешествовал в гражданском платье и со своей женой, провел много дней в селениях туземцев, в китайских городах, в буддийских монастырях и потому изучил быт и нравы народов гораздо лучше, чем Пржевальский и Певцов. Он доказал своим примером, что можно спокойно путешествовать без конвоя, с наемными рабочими, и все-таки проникать туда, куда нужно. Потанин относился с особенным вниманием и любовью к различным народностям Внутренней Азии, и, естественно, что в его отчетах мы находим гораздо более полные и подробные описания их быта, фольклора и т. д., чем в отчетах других двух путешественников.
Для Потанина страны Центральной Азии являлись своеобразным музеем, в котором хранились памятники материальной и духовной культуры народов, частью уже исчезнувших, и в котором можно собрать богатые материалы по народному эпосу и этнографии вообще. <…> Потанин входил в тесное общение с населением, чему много способствовала жена, сопровождавшая Григория Николаевича в путешествиях (кроме последнего), подчеркивавшая своим присутствием их мирный характер и имевшая доступ в семейную жизнь китайцев, закрытую для постороннего мужчины. <…>
Александра Викторовна [Потанина] была одной из тех русских женщин, которые <…> делили с мужьями все труды и опасности и помогали в работе. <…> В путешествиях Александра Викторовна обнаружила замечательную выносливость и неутомимость, хотя перед первой экспедицией казалась слабой и малокровной. В ее слабом теле оказался большой запас нервной энергии, воли и способности преодолевать трудности. Она ездила на равных условиях с членами экспедиции мужчинами, качаясь целый день на верблюде или сидела в седле на лошади, которая шла шагом под палящим солнцем, под дождем или в морозные дни под холодным ветром. Вечером ночевала в общей палатке или юрте, согреваясь у огонька, довольствуясь скудной и грубой походной пищей, и спала на земле на тонком войлоке. При ночевках в юртах кочевников ей приходилось мириться с их нечистоплотностью, с насекомыми, с немытым котлом для супа и чая, с чашкой, которую не моют, а вылизывают. На китайских постоялых дворах она ночевала на жестком и горячем кане рядом с мужчинами, иногда вместе с погонщиками и носильщиками, в тесноте, тяжелом воздухе и шуме, довольствовалась пищей китайца. <…> Случались и ночевки под открытым небом, например при больших безводных переходах через Гоби, когда останавливались на несколько часов, не разбивая палаток, а также зимой на снегу во время путешествия по Урянхайской земле. Бывали дни, когда в экспедициях кончались запасы хлеба и сухарей и приходилось прибегать к корням, выкапываемым из нор полевых мышей. <…>
Александра Викторовна была первой русской женщиной, проникшей в глубь Центральной Азии и Китая; ее присутствие в составе экспедиций Потанина особенно оттеняло их мирный характер, в отличие от военного облика экспедиций Пржевальского и Певцова. Она не только помогала Григорию Николаевичу в его трудах и разделяла его лишения, но и служила ему огромной и ничем не заменимой поддержкой, удваивая, таким образом, его силы и энергию <…>».
Из воспоминаний Владимира Васильевича Стасова, – самого известного культуролога второй половины XX века, инициатора создания Товарищества художников-передвижников и сообщества музыкантов «Могучая кучка», – после знакомства с Александрой Викторовной Потаниной:
«Впечатление, произведенное на меня А.В., было совершенно особенное. Она не была красива, но в ней было что-то такое притягательное для меня. В ее лице была какая-то страдальческая черта, которая делала мне ее необыкновенно симпатичной, хотя мне вовсе не было известно ни тогда, ни теперь, были ли у ней в самом деле страдания в жизни. Но это были какие-то исключительные черты, глубоко нарезанные на ее бледном, серьезном лице, и я не мог смотреть на нее без особенного чувства, совершенно необъяснимого и мне самому. У ней был взгляд такой, какой бывает у людей, много думающих, много читавших, много видевших. <…> Иногда этот взгляд казался рассеянным и потерянным, но все таки необыкновенно сосредоточенным и углубленным. Я таких людей и такие взгляды люблю, признаюсь, и с теми людьми непременно знакомлюсь – и близко. И вот, таким-то образом, я тотчас же постарался познакомиться с этой особенной женщиной, в которой я сразу чувствовал какую-то необыкновенную прочность душевную и надежность умственную».
Драма публичной безвестности Г. Н. Потанина начиная с 1920-х годов объясняется негласным запретом со стороны советской власти на упоминание в общественном пространстве имени Потанина и его трудов на протяжении более четверти века после его смерти. Это было вызвано категорическим неприятием Потаниным большевистского террора. При том, что изучение, а главное использование научного наследия Потанина не прерывалось.
На стыке Монгольского Алтая и горного узла Табын Богдо Ола течет ледяная могучая река ледника «Потанин», самого большого долинного ледника Монголии, длиной около 20 километров, шириной 2,5 километра, площадью до 50 квадратных километров, названного в честь Григория Николаевича Потанина, русского путешественника, исследователя Центральной Азии, этнографа, географа, ботаника, биолога, энтомолога, орнитолога, общественного деятеля и публициста.
Напротив ледника «Потанин» расположен красивейшей ледник Монголии, ледник «Александрин», названный в честь его жены Александры Викторовны Потаниной. Неразлучные супруги и единомышленники, путешественники Потанины и после смерти вместе. Такой путь и судьба – удел немногих.
* * *
Письменное наследие Григория Николаевича Потанина огромно. Мемуарные записи, письма, путевые дневники, научные отчеты, многочисленные прижизненные публикации и выступления в прессе, в полной мере воссоздают полную противоречий и событий эпоху, чаяния, надежды и разочарования людей, принадлежащих к самым различным слоям российского общества, от простых казаков до научной элиты.
Основной текст издания включает мемуарные записки Потанина, доведенные автором до 1894 года. Они разбиты на главы, описывающие основные этапы его жизни. Далее следует подборка «Письма», воспроизводящая более поздний период.
Стиль и правописание оригинала по большей части сохранены с учетом современной орфографии. Некоторые поправки сделаны в части изменившихся написаний географических названий. Даты приводятся по старому стилю. Довольно многочисленные, но относительно небольшие по объему сокращения отмечены знаком <…>, при этом в текст собственно воспоминаний вставлены выдержки из писем Потанина, раскрывающие некоторые подробности описываемых им событий.
Это позволило в одной книге показать жизненный путь ученого с использованием его собственных воспоминаний (главы 1-10, 13–14), экспедиционных дневников и отчетов (главы 11–12), а также личных писем (приведены в главах 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
Вся использованная литература указана в «Источниках».
Примечания вынесены в постраничные сноски, в конце книги помещен подробный указатель имен.
Дополняет публикацию подготовленная специально для настоящего издания полная хроника жизни путешественников Потаниных – «Дети дороги: от первого до последнего дня».
Владислав Дорофеев,
составитель-редактор, Москва
Глава 1
Детство. «Я начал странствовать на первом году жизни»
«Мой дед не сделал военной карьеры, потому что имел большую семью: у него было 17 детей, из которых взрослого возраста достигло три сына и шесть дочерей».
Родина
«Sic transit gloria mundil»1. Эти слова приходят мне на память, когда я вспоминаю о своей родине, т. е. о казачьей станице Ямышевой2 на правом берегу Иртыша, на середине между Омском и Семипалатинском.
Теперь3 это самая захудалая, самая бедная станица на иртышской казачьей линии, а когда-то, в конце XVIII столетия, это был важный административный и торговый пункт, важнее Омска. Тут жил начальник всей военной линии, простиравшейся от Омска до Усть-Каменогорска. Здесь стоял самый значительный гарнизон; в руках начальника линии сосредоточены были сношения с независимыми кочевниками-киргизами, или калмыками, земли которых начинались на другом берегу Иртыша. Этот начальник был степным генерал-губернатором XVIII столетия.
Ямышево было тогда самым торговым местом на линии; на старом плане этого селения, который я видел в архиве омского областного правления, обозначены гостиный двор и мусульманская мечеть. Тут, вероятно, была татарская или сартская слобода. Это местечко свое торговое значение приобрело очень давно, благодаря тому, что в его окрестностях было богатое соляное озеро. Сюда съезжались жители за солью со всей Западной Сибири: из Тобольска, из Томска, из Алтая и из Киргизской степи. На эти съезды солепромышленников являлись также купцы из отдаленных городов Туркестана: из Кашгара и даже из Яркенда, лежащего у северного подножья Тибетских гор.
Синолог о. Палладий4 напечатал небольшую карту Монголии, которая, по его мнению, была составлена во времена Чингисхана, т. е. в XIII столетии. На этой карте, приблизительно в тех местах, где потом появилось селение Ямышево, прочитаете подпись: Емиши. Вот, значит, как давно ямышевская ярмарка была известна в Центральной Азии. <…>
Проезжая на свой пост через Ямышево, отец мой женился на одной из дочерей ямышевского артиллериста5 <…> Отец мой не жил в Ямышеве, он привез в Ямышево свою жену в дом своего тестя только на короткое время, чтобы дать ей возможность разрешиться от бремени6. Ямышево в то время уже сильно утратило свой прежний блеск. Главное начальство уже переехало в Омск, но, кажется, офицеры крепостной артиллерии не все были переведены в другие места.
Дед
Дед мой [по матери] носил фамилию Трунин и был капитаном крепостной артиллерии. Офицеры крепостной артиллерии были выслужившиеся из нижних чинов. Поэтому они не особенно поднимались над уровнем солдатской массы; но так как артиллерия самая грамотная часть армии, то и мой дед интересовался не одной только службой. У моего отца в бумагах я видел листочек, на котором мой дед зарисовал картину ложных солнц, виденную им в Ямышеве. У деда было два брата; все трое, по-видимому, были способные люди; двое дослужились до генеральских чинов, и один из них занимал в Петербурге должность дежурного генерала. <…> Мой дед не сделал военной карьеры, потому что имел большую семью: у него было 17 детей, из которых взрослого возраста достигло три сына и шесть дочерей. <…>
По семейному преданию, наши предки [по отцу] вышли на казачью линию из города Тары. До 1755 года южная граница Тобольской губернии была открыта для набегов киргиз и других кочевников. В половине XVIII столетия правительство порешило от Омска до Звериноголовской крепости протянуть такую же казачью линию, какая уже существовала от Омска до Усть-Каменогорска. Вместе с тем был сделан клич по городам: в Тюмени, в Тобольске, Таре и др., где были городовые казаки, – не пожелает ли кто переселиться на новую линию. Три казака братья Потанины согласились на переселение. Один из братьев выселился в станицу Подстенную, на Иртыше, а два поселились в Островке, около станицы Пресновской, на так называемой Горькой линии.
Один из братьев назывался Андрей. Его сын Илья, дослужившийся до чина сотника, прослыл первым богачом на линии. У него были огромные табуны лошадей и несметное число баранов. Мой отец показывал мне хранившееся в бумагах письмо к моему деду Илье [по отцу] киргизского хана Аблая7. Отец гордился обладанием этим документом: он думал, что он свидетельствует, в какой степени табуны деда Ильи импонировали киргизской орде. Безграмотный хан приложил к своему письму оттиск своей печати. Печать эта, несомненно, имела вид перстня, у которого, вместо каменной вставки, была сердцевидная плоскость с выгравированным именем Аблая. Такую печать коптили на огне и потом притискивали к смоченной бумаге. Мой детский ум был очень заинтригован этим отпечатком копоти. Я инстинктивно сознавал, что за этим отпечатком скрывается сложный мир, во всех подробностях непохожий на русский.
Когда я был мальчиком 8 лет, тогда деда Ильи уже не было в живых, его вдова, бабушка Степанида, о его богатстве передавала мне такие факты: иногда он садил свою жену в телегу и возил целый день по степи между березовыми дубровами и колками, чтобы показать ей свои табуны; минуют один колок, выедут на прогалину и увидят косяк лошадей. Бабушка Степанида спрашивает: «Это чей косяк?» «Наш», – отвечает дед Илья. Едут далее; проедут другой колок, – опять косяк. Опять бабушка спрашивает, чей он, и дед отвечает: «Тоже наш». И так до вечера. По всей степи были рассеяны косяки деда Ильи.
Когда дед Илья умер и три его сына стали делить его скот, то коров и баранов пригнали в Островку; скота было так много, что во двор моего деда весь он не поместился; дворы у казаков загораживаются большие, в несколько раз просторнее крестьянских. Кроме собственного двора, пришлось еще занять два соседних; а конские табуны и не пригоняли в Островку: их делили в степи.
Отец
Отец8 был одним из видных офицеров Сибирского казачьего войска, т. е. того войска, станицы которого тянутся вдоль реки Иртыш9. <…> До того времени все казачьи офицеры этого войска были из простых казаков, пожалованные за продолжительную службу в нижних чинах. Теперь это войско снабжается офицерами из омского кадетского корпуса; тогда его еще не было. Войсковое казачье училище, которое впоследствии было преобразовано в кадетский корпус, было основано позднее.
Мой отец и его старший брат Дмитрий поступили в войсковое училище, основанное для казачьих детей, тотчас после его открытия. <…>
Для тогдашнего времени карьеру моего отца можно было назвать блестящей. Командующий войсками Западной Сибири генерал Вельяминов10 дал ему поручение, требовавшее особенных способностей. Так, ему поручили проводить из Семипалатинска в Кокан посольство коканского хана.
Перед отправлением в Кокан моего отца подучили маршрутной съемке, и он вел ее во все время своего пути. Он вывез в Омск маршрутную карту и дневник. Товарищ по училищу Толмачев помог ему литературно изложить вывезенные сведения о коканском ханстве, и записка моего отца была напечатана в «Военном журнале» того времени, а впоследствии, в 50-х годах, <…> перепечатана в «Известиях» географического общества (ИРГО). Затем отца моего посылали проводить другое посольство из того же ханства, которое приводило в дар государю слона, но не было пропущено в Петербург. Отец мой проводил послов и слона до пределов Голодной степи.
<…> Мой отец совершил до семи маршрутов, будучи казаком, один раз доходил до Ташкента и Кокана. <…>
Когда в киргизской степи стали вводить новое административное устройство по проекту Сперанского11, когда эта степь была разделена на несколько округов и во главе каждого округа был поставлен русский чиновник, то мой отец был назначен начальником одного из таких округов, именно – Баян-аульского. С образованием Баян-аульского округа в центре его был поставлен военный отряд. Это было начало нынешнего города Баян-аула. <…>
Карьера моего отца окончилась печально. Омская военная администрация нашла нужным выставить заслон от Туркестана. Отряд, составленный из пехоты, казаков и артиллерии под начальством моего отца, был выдвинут южнее реки Ишима. Он был вытянут в линию, которая на запад упиралась в горы Улу-тау, а на востоке кончалась у гор Ак-тау.
Во время командования этим отрядом случился инцидент, который оборвал карьеру моего отца. Отец никогда об этой истории ничего мне не говорил; я его о ней не расспрашивал и расспрашивать считал для себя запретным и неделикатным. Узнал я некоторые подробности об этой истории только от одного знавшего моего отца словоохотливого человека, который по своему почину рассказал об этом событии, не знаю, насколько верно.
У моего отца был любимец-казак, к которому он относился пристрастно. Многие проступки против дисциплины сходили этому казаку безнаказанно. Однажды будто бы этот любимец отца самовольно взял пехотное ружье, стоявшее в сошках перед палатками пехотных солдат, и ушел с ним на охоту. Там он, будто бы опустив дуло в воду, выстрелил – и ствол ружья был попорчен. Начальник пехоты арестовал казака и, не доложив начальнику отряда, – наказал его. Мой отец рассердился, арестовал часового, который позволил взять ружье из сошки, и тоже наказал. Вышла грубая сцена на открытом воздухе. После перебранки начальники перешли к ручному действию; казаки и пехотинцы бросились защищать своих начальников; кончилось междуусобием. Когда толпа успокоилась, мой отец послал гонца в Омск с донесением на командира пехоты, а последний, в свою очередь, послал другого гонца с контрдоносом. Когда страсти поссорившихся утихли, они помирились; послали людей вдогонку за гонцами – вернуть их, но было поздно. Донесения дошли до Омска.
Тогда в Омске было новое начальство. Только что на пост генерал-губернатора приехал князь Гopчaкoв12. Почему-то он считал сословие казачьих офицеров особенно испорченным и принялся исправлять его, налагая беспощадные кары на провинившихся. Мой отец пал первой жертвой свирепого князя; он был разжалован из есаулов в простые казаки. Друзья моего отца принимали потом меры для восстановления его в чинах, но безуспешно. Они назначали отца в состав экспедиций, которые ходили в степь для усмирения киргизского бунта, поднятого Кенисарой. После каждого такого похода начальник отряда представлял моего отца к прощению и возвращению ему офицерского звания. Таким образом, мой отец совершил четыре или пять длинных походов в киргизскую степь. Во время экспедиции Сильвергельма13, он в звании рядового казака, доходил до коканских городов Сузака и Чимкента; за недостатком топографов ему поручено было произвести маршрутную съемку вдоль долины реки Сары-су, от гор Улу-тау до ее устья. Барон Сильвергельм представил его к награде, но князь Горчаков остался при прежнем своем решении не щадить казачьих офицеров. Так мой отец и кончил свой обязательный срок службы простым казаком, и только при восшествии на престол Александра II он был особо представлен и получил чин хорунжего в отставке.
Первое путешествие
<…> Отец рассказывал мне, что, когда мне было полгода14, ему пришлось перевозить меня из Ямышева в Пресновск15. Это было зимой; он с женой ехал в кошеве; <…> ребенок был привязан к подушке. Дорогой ямщик остановил лошадей, разбудил спящего отца (была ночь) и сказал, что ему показалось, будто что-то с воза упало. Подушки с ребенком не оказалось. Испуганные родители бросились назад по дороге, и нашли на порядочном расстоянии от кошевы подушку с путешественником, лежащим на ней, носом кверху, и продолжающим спокойно спать. Это было начало моих путешествий. Я начал странствовать на первом году жизни, и самое первое путешествие было единственное, когда мне угрожала смертельная опасность.
Тетя
В то время, как мой отец находился под судом и сидел в тюрьме, умерла моя мать16. По окончании суда, после того, как он был разжалован, он отвез меня к дяде Дмитрию, в станицу Семиярскую. Находясь под судом, отец пытался смягчить суровое начальство подарками и все свои табуны употребил на подкуп своих судей, – но успеха не достиг. Особенно беспощадным оказался чиновник особых поручений Пиоро. У князя Горчакова было несколько таких жестоких чиновников особых поручений, которых в Омске звали бульдогами. Это были специально «карательные» чиновники, если кто попадал им под руку, положение его было безнадежно. <…> Когда умерла моя мать, со мной стала возиться моя кузина. У моего отца была сестра, Мелания Ильинишна, которая была замужем, во втором браке, за казачьим фельдшером. У моего отца в Пресновской станице был свой дом <…>. Младшая дочь [Мелании Ильинишны], Прасковья, девица, жила с нами. Вот она-то и заменила мне мою покойную мать. Я ее звал своей мамой и, должно быть, любил. <…>
Дядя
Отец мой вышел из-под суда совершенным бедняком, а дядя Дмитрий за то же время расплодил свои табуны до 10 тысяч голов. Он обещал отцу продержать меня в своем доме до десятилетнего возраста, приготовить к поступлению в школу, отвезти меня в Петербург и поместить в столичный кадетский корпус. При его богатстве и связях в Омске ему, конечно, удалось бы обойти исключительный закон о казаках.
С переезда в Семиярск я начинаю помнить факты моей жизни, хотя и не в хронологическом порядке, а отрывками, в виде отдельных картин. Так, я запомнил оригинальную семиярскую церковь с двумя колокольнями, которые не примыкают к центральному зданию с куполом, а выстроены в виде отдельных башен, одна к северу, другая к югу от церкви, купол над центральным зданием плоский, и весь ансамбль этого сооружения скорее напоминает мечеть, чем церковь.
Помню, как я с казачатами ходил в поле копать кандык; впрочем, от этой экскурсии у меня осталось в памяти только название этого растения, но образ его в моей голове не сохранился. Не знаю, впрочем, как это случилось, что я попал в компанию казачат. Это был исключительный случай. Большей же частью я в доме дяди жил на положении барчонка, тогда как в Пресновске моя жизнь не отличалась от жизни простых казачат. В Пресновске я большую часть времени проводил на полатях, в избе, наблюдая оттуда, как муж моей тетки Мелании Ильинишны Кирило Корнеич тачал сапоги, – он был сапожник. Он сидел на табуретке против окна, а на лавке, проходившей между ним и окном, были разложены орудия и материалы сапожного ремесла. Днем я бегал по улице и играл с казачатами в бабки.
Два раза в день из нашего двора выгоняли лошадей, штук 10–12, на водопой и часто садили меня верхом на одну из них, как будущего казака, причем выбирали всегда самую смирную лошадь, смирнее коровы.
Дядя мой Дмитрий был женат на сестре томского золотопромышленника Горохова17. <…> Проект моего дяди – отправить меня в Петербург – разрушился. Я прожил у дяди только два года. Он простудился и умер. Мой отец должен был взять меня опять к себе, т. е. перевезти из Семиярской станицы в Пресновскую.
Здесь я опять очутился на полатях и в обществе простых казачат. Меня заставили каждый день ходить в казачью школу. Азбуку к этому времени я уже знал; первый раз за книжку меня посадили еще в Семиярске. Первого своего учителя я совсем не помню, но облик первой книжки остался в памяти, хотя и в смутных чертах. Тогда книжек для первоначального чтения не было, да и вообще детская литература была бедна. Вероятно, после азбуки мой учитель подсунул мне первую попавшуюся книгу. Это, может быть, было какое-нибудь руководство к строительному искусству или фортификации. Я водил по строчкам указкой, разбирал слова правильно, но удивлялся, что ничего не понимал.
Пансион
В это время Пресновск был штаб-квартирой полка и бригады. Бригадным командиром был полковник Эллизен, а полковым командиром войсковой старшина Симонов, который очень дружил с моим отцом. Эллизен любил заниматься огородом и цветоводством; он много выписывал огородных семян, при доме, в котором жил, развел огромный огород, а все площадки, которые примыкали к дому, были заняты цветниками.
Он пристроил моего отца к своему огороду. Работа в огороде пришлась очень по вкусу отцу. Он был человек практический; ум его был способен к математическим занятиям. От школьной скамьи в войсковом училище он сохранил тетрадки геометрии и тригонометрии. Он любил математику; помнил то, чему учился в войсковом училище, и уже в возрасте шестидесяти лет не забыл формулу, как высчитывать объем тела и измерять плоскости, – но не был совершенно знаком с гуманитарными науками. Я был удивлен впоследствии, когда мне было лет пятнадцать и когда я узнал, что он ничего не слыхал о поэте Пушкине. Все литературное движение было для него – белая бумага.
В то время, как мы жили в Пресновске, здесь строили новую деревянную церковь. Надзор за постройкой был поручен моему отцу, и он с увлечением отдался этому делу; он чертил планы, разрезы, раскрашивая их. Занятие в огороде для него было подходящее, тем более, что полковник Эллизен дарил ему семена, и он их сеял в своем собственном огороде.
Когда отец привез меня из Семиярска, Эллизен предложил ему поместить меня в детскую вместе с его детьми. У Эллизена было две дочери, Соня и Лидия, и сын Адоря (Андрей). Отец мой согласился, и я перешел в дом Эллизена. В комнате, где спали Соня и Лидия, поставили и для меня кроватку. С нами вместе в нашей детской спала наша няня Оксана. Она была хохлушка. Полковник Эллизен был женат на дочери генерала Горохова, помещика Харьковской губернии. В приданое за помещичьей дочерью было дано несколько дворовых: две горничных, няня Оксана и ее муж, Радзибаба, служивший кучером.
Только на воскресные дни меня отпускали в отцовский дом; уводили меня в субботу, вечером, и я на другой день пользовался ласками Мелании Ильинишны. Она кормила меня вкусными шаньгами, оладьями, блинами. Особенно я любил печенье, которое называлось крестики; своими очертаниями они походили на ордена, которые украшают грудь заслуженных чиновников. Они были привлекательны потому, что в центре их было спрятано варенье.
Вечером меня опять отводили в мой пансион. В доме Эллизена меня переодели: казачью рубашку, с разрезом на горле и с большим воротником, заменили барской рубашкой, без воротника, с открытыми плечами.
В доме Эллизена я прожил три года. Я был взят в этот дом, главным образом, в качестве компаньона Адоре, но он был на два года моложе меня, и потому я оказался больше подходящим в сверстники девочкам: я был на полгода младше Сони и на полгода старше Лидии, так что одно время я был ровесником Соне, потом отставал от нее; тут меня догоняла Лидия.
Для обучения детей Эллизены пригласили казачьего учителя Велижанина. Мы садились рядом с ним вокруг небольшого стола и учились арифметике и русскому языку, а Соня, кроме того, проходила и географию. Так я очутился на общем положении с детьми барского семейства, т. е. очутился на исключительном положении сравнительно с детьми других казачьих офицеров. Следует заметить, что в этом доме я был окружен не только другой, необычной для казаков, домашней обстановкой, но и жить мне пришлось другой духовной жизнью. В этой жизни было много черт помещичьего быта, а иногда нам казалось, что мы живем в немецкой семье.
Кроме занятий в классной комнате, у нас были и внешкольные занятия; этим я выгодно отличался от других казачат. «Полковница», – так я привык называть во время моего детства мать этого семейства, – выписывала для своих девочек детский журнал «Звездочку» <…>; и у Сони и у Лидии была у каждой своя полочка над кроватью для детских книг. Всякий месяц для них был праздник, когда с почты получалась новая книжка-журнал. Очень часто полковница собирала детей вокруг своей кровати, на которой она любила проводить послеобеденное время, лежа на пуховой пышной перине. Одна из девочек читает какой-нибудь рассказ из «Звездочки», остальные дети слушают. От этого времени у меня сохранился в памяти рассказ о печальных скитаниях по болотам бедного английского короля Альфреда Великого, лишенного трона.
В полковнице билась жилка пропаганды. Она не только заботилась увеличить умственные запасы наших маленьких детских голов, но делала иногда пропагандистские набеги и на взрослую среду. Съездив как-то погостить в Омск, она навезла оттуда интересных и занимательных книг и стала собирать у себя по вечерам местных дам. Женское общество в Пресновске было очень маленькое. Жена казачьего полкового командира Симонова, две сестры казачки, жившие при своем брате офицере, одна вдова, другая старая девица, молоденькая жена полкового доктора Войткевича и ее мать Роза Ивановна, седенькая польская дама, вечно в чепчике и с вязанием в руках – вот и все общество нашей станицы. Полковница опускалась в глубокое мягкое кресло и, усадив вокруг себя гостей, развертывала книгу. Девочки размещались по стульям около матери, а мы, мальчики, валялись и барахтались на ковре у ее ног.
Только лет пять спустя после того, когда я уже был в кадетском корпусе, я сделал открытие, что это были за забавные книги, привезенные в Пресновск из Омска: это было Полное собрание сочинений Гоголя. Самое содержание этих сочинений не задержалось в моей памяти: как будто какая-то губка тотчас смывала с моей памяти отдельные фразы, которые на нее ложились, но в ней хорошо сохранились картинки, созданные живым детским воображением под влиянием чтения. Детская голова выпустила из памяти все диалоги, произнесенные Хлестаковым в то время, как он сидел в трактире без денег и голодный, но зато моя детская фантазия живо создала обстановку, в которой находился Хлестаков. Она оклеила комнату желтыми обоями, разукрасила их узорами до мельчайших подробностей, вероятно, позаимствовав материал из ситцев и др. материй, виденных раньше. Все это, и подлинные строки Гоголя, и комната, созданная моим воображением, улетучилось из моей памяти, но впоследствии, когда сочинения Гоголя попали в мои руки, тщательно забытое вдруг живо проснулось в моей памяти.
Дошедши до одного места, я вдруг подумал: «Да это знакомая комната! Я уже в ней был. Это те самые желтенькие обои, те же самые цветочки, которые я видел в детстве!» Воскресли в памяти не речи Хлестакова и Осипа, а только то, что было создано моим собственным детским творчеством.
Кроме «Ревизора», полковница привезла из Омска и «Мертвые души». И об этом я сужу, как и в предыдущем случае, по одной частной картине, возбудившей работу моего воображения. Рассказ о контрабандном провозе тюля и блонд (блонды – особый сорт шелковых кружев.) заставил меня тотчас представить себе стадо баранов, переходящих западную границу Польши, навьюченных дорогим товаром и обшитых сверху шкурами шерстью вверх. «Знакомое место», – подумал я, прочитав его у Гоголя.
Сам полковник в нашу духовную жизнь совсем не вмешивался. Его значение для нас ограничивалось пределами внешней обстановки. Он любил хороший стол и цветы. За столом у нас появлялись изысканные блюда. Каждый год с ирбитской ярмарки наш дом получал кучу разных приправ для кушаний. Иногда нам подавались каштаны, кукуруза и другие деликатесы. Поваренная книга была его настольной литературой. Иногда он угощал нас новым блюдом, приготовленным им самим по только что прочитанному рецепту. Однажды он нас заставил расхлебать суп «заблудившегося короля». Какой-то французский или немецкий король, бывший на охоте, заблудился в лесу со своей свитой. Нашедши хижину лесника, охотники решились устроиться в ней на ночлег. Король был голоден, а у лесника запасы были скудны: кроме хлеба – ничего. Обошлись тем, что случилось под рукой, и, благодаря остроумию и находчивости, создали суп, который, по крайней мере, можно было есть. Опыт был повторен полковником за нашим столом, и мы получили по тарелке супа, в котором мясо было заменено гренками. В летние жары полковник всегда сам приготовлял очень вкусную ботвинью, для которой иногда с реки Ишима, за 250 верст, доставлялись раки.
Цветники
Очень много было у нас цветов. Мы жили в одноэтажном длинном доме. В правом крыле главного посада выходили окна кабинета; на левом находилась половина полковницы. Перед окнами этого посада поднимались 2–3 ствола берез, за березами – густая роща вишневых кустов. Все свободное пространство между деревьями и рощей было занято цветниками, за которыми ухаживал сам полковник. Он превращал цветники в орнаменты, снабжал их греческим рисунком, превращал их в буквы и письмена. Это цветоводство не осталось бесследным для моего детства. Может быть, ему я отчасти обязан своими симпатиями к естественным наукам. Огромное количество форм растительного царства залегало тогда в моей памяти. Особенно мне казалось занимательным сравнивать формы плодов и семян растений. Может быть, тогда уже во мне зарождался ботаник.
Растительность Горькой линии, на которой стоит Пресновск, не из богатых. В те времена хлебопашество здесь было не так сильно развито, и ишимские степи, прилегающие к Горькой линии с севера, состояли исключительно из целин. Я помню, семья Эллизен из Пресновска ездила на р. Ишим на купальный сезон, старшие в семействе приходили в восторг от степей, покрытых сплошь цветами. Они говорили, что здесь ковер одного цвета беспрестанно сменяется ковром другого. Но эти цветущие поля все-таки далеко уступали по богатству форм Алтаю, который считается самым богатым по флоре Сибири. <…>
Степи, окружающие Пресновск, ровные, гладкие, совершенно горизонтальные, утомляли бы своим однообразием, если бы их не оживляли березовые «дубровы» и березовые «колки». Путешественник Миддендорф об этих «дубровах» и «колках», которые распространяются на всю Барабинскую степь, говорит, что их абрисы сменяются перед глазами путника как в калейдоскопе, и эта замена одной картины другой занимает его в течение всего дня.
Линия называется Горькой потому, что большинство здешних вод горько-соленые. На всем протяжении от Ишима до Тобола, около 250 верст, проточной воды нет. Воду берут из колодцев или озер, которые, в отличие от горько-соленых, называются «питными».
Пресновск также стоит на берегу небольшого «питного» озера. На одно «питное» здесь приходится десяток горько-соленых. Эти последние представляют большую неприятность для местного населения. В их сточной воде загнивают растительные остатки, и, когда ветер разволнует воду озера и подымет лежащую на дне его гниль, сероводородные газы освобождаются и разносятся по окрестностям. Бывало, по целым суткам некуда было спрятаться в Пресновке от запаха тухлых яиц.
Припоминая теперь полковницу, я нахожу, что она была для того времени редкостной воспитательницей, хотя, конечно, в ее программе определенного параграфа об эстетике не было. Мои эстетические воззрения складывались под влиянием цветников и других увлечений немецкого офицера-цветовода.
Троица
Не помню также, чтобы в программе значился пункт религии. Вероятно, старшими нам делались в этом отношении надлежащие внушения, но все это основательно забыто. Сохранились в памяти только те радостные минуты, которые в нас оставили церковные праздники. Религиозные фибры наших сердец питались помпой этих праздников. Наилучшие воспоминания связаны с теми из них, которые бывают летом. Особенно мы любили Троицу. С этим праздником не соединено никакое обжорство, вроде пасхального. Этот праздник бескорыстный, бесплотный, воистину – детский праздник. Он напоминал о себе не куличами, не курчавыми масляными барашками с восковыми позолоченными рожками, а ароматом срезанных березок. Троицын день венчался демонстрацией религиозного чувства офицера-цветовода. Он нарезывал полную корзину цветов и посылал ее в церковь. У правого клироса ставился аналой, и положенный на него крест утопал в живых цветах.
Бабушка
В доме моего отца, как было сказано выше, с ним вместе жила его сестра Мелания Ильинишна и вела его домашность. Она была за вторым мужем, первый ее муж был человек с кокардой, и потому две дочери, которых она от него имела, выросли на положении казачьих барышень. Мелания Ильинишна носилась со мной как с писаной торбой. Когда я капризничал и поднимал рев, она хватала меня на руки, качала в воздухе и приговаривала «Полубочье мое, с золотом!» Тогда ее муж Кирило Корнеич иронизировал над ней и перефразировал ее слова: «Полубочье с крошевом»18.
Кроме тетки и отца, у меня были еще две бабушки, жившие в том же доме. Одна из них бабушка Степанида, другая бабушка Хлебникова. Как последняя приходилась мне родней, я, может быть, совсем и не знал, но, кажется, она была все-таки близкая родственница. От этих двух представительниц самого старого поколения очень мало дошло до меня преданий.
Бабушка Степанида рассказывала, что она помнила время Пугача19; ей было 12 лет, и она жила в Островке в то время, когда весь этот край был напуган слухами, что с запада, из Оренбургской губернии, идет на Курган со своей ордой Пугач. Деревни и казачьи селения волновались и с ужасом ожидали прихода мятежников. Однако Пугач до Кургана не дошел. Потом она рассказывала об армейских полках, которые прежде (до 1812 года) стояли в Сибири. Это воинство оставило по себе тяжелую память своими насилиями над местным населением. Один из полков назывался ширванским, по имени кавказского города Ширван; но сибирские крестьяне переделали это название в «уширванский» и, кажется, распространяли эту кличку на все армейские полки, стоявшие в Сибири. Еще бабушка моя помнила, как она познакомилась первый раз с самоваром. В это время она была уже замужем и жила с мужем в Островке. Они только что пристроили к своей избе новую избу, но сруб еще не был прикрыт, и окна не вставлены. В Островку приехал какой-то генерал. Квартира ему была отведена в доме бабушки. Генеральский денщик поставил самовар, налил в него воды, насыпал горячих углей и выставил машину в новую избу. В его отсутствие бабушка увидела машину, заинтересовалась, начала трогать ее части и сделала открытие – повернула кран, и полилась вода. Но привести машину в прежнее положение никак не могла. Вертит кран направо и налево, а вода все бежит. Бабушка в отчаянии бросилась в чистую комнату к генералу с криком: «Грех случился, я изломала вашу машину!» На крик прибежал денщик и вмиг поправил дело. Моей бабушке, вероятно, было в то время около 20 или 23 лет; следовательно, самовары впервые появились в Курганском уезде в 80-х годах XVIII столетия.
«Калмычки»
Нужно еще рассказать о двух девицах, живших в нашем доме в качестве прислуг; это были две «калмычки», Авдотья и Вера. «Калмычками» называли на Горькой и Иртышской линиях купленных в рабство у киргиз девочек. Под «калмычками» местное население разумело сначала калмычек, т. е. детей калмыцкого народа; киргизы делали набеги на соседних с ними калмыков, брали в плен мальчиков и девочек и продавали русским на линии. Таким образом, в Западной Сибири появился значительный контингент рабов, который был уничтожен Сперанским в 20-х годах XIX столетия.
Наши Авдотья и Вера были не калмычки, а киргизки. В киргизской степи случился сильный голод; люди умирали, особенно дети; киргизы выезжали на линию и обменивали детей на муку. Таким образом, мой дед сделался рабовладельцем. Девочки были крещены по обыкновению (Вера была крестницей моего отца), выросли в нашем доме; по смерти же деда Авдотья досталась Мелании Ильинишне, а Вера – отцу. Печальная участь постигла обеих, особенно Авдотью. Мелания Ильинишна не любила девочку и беспрестанно ее била. Я был свидетелем тяжелых сцен. Мелания Ильинишна гонялась за несчастной девочкой с ухватом или сковородником с криком: «Убью!», а Авдотья с плачем металась по избе, стараясь спрятаться под лавку или кровать. По разбитому ее лицу текла кровь. Она вечно ходила в коростах. Однажды она показала мне свою голову; под волосами у ней не было неразбитого места. Она была тщедушная и, вероятно, загнанная побоями в чахотку, умерла от этой болезни вскоре после того, как меня увезли из Пресновска в Омск. Участь Верочки была легче. Отец мой вывез ее в Омск, и она вышла замуж за солдата, но счастлива тоже не была. Сколько было таких загубленных жизней в Западной Сибири!
Глава 2
Кадетский корпус. «Лихой казак, удалой казак стали нашими идеалами»
«Экзекуция была совершена на таком расстоянии от эскадрона, что мы не слышали ни свиста розог, ни стонов».
Порядок дня
Моей жизни в доме Эллизенов пришел конец. Соне вышел срок ехать в Смольный монастырь. Вся семья в полном составе отправилась в Петербург. Эллизены уехали еще по летнему пути, а вслед затем по санному отец повез меня в Омск, чтобы там отдать в кадетский корпус. Помню торжественное прощание с моими бабушками. Сначала меня подвели к бабушке Степаниде, она положила свою костлявую руку на мою голову и произнесла: «Да будет над тобой мое материнское благословение, от востока и до запада, от земли до неба, отныне и довеку. Аминь». Затем она меня перекрестила. Потом меня повели к бабушке Хлебниковой; она так же положила руку на мою голову, сказала те же слова и тоже перекрестила. Потом мы с отцом сели в кошевку и тронулись в путь. <…>
Омский кадетский корпус, официально известный под названием Сибирского кадетского корпуса, был преобразован из войскового казачьего училища в начале 40-х годов. Это училище было основано в 20-х годах при губернаторе Капцевиче20. По количеству преподаваемых предметов училище приближалось к средне-учебному заведению, по обстановке, в которой жили дети (заведение было закрытое), скорее походило на кантонистскую школу. Училище было открыто исключительно для казачьих детей и содержалось на средства казачьего войска. Комплект учеников полагался в 250 человек. Учителями были казаки, частью офицеры, частью урядники. Первые преподавали в старших классах, вторые – в младших.
Другого училища с равной программой в Омске не было, поэтому в то же казачье училище стали отдавать своих детей и офицеры сибирской линейной пехоты, а кроме того, и гражданские чиновники. Под конец случилось так, что казаки в казачьем училище оказались в меньшинстве. Дети пехотных офицеров и гражданских чиновников воспитывались на счет войсковых казачьих сумм; это был неуклюжий порядок, но такова была воля высшей власти края, и ни у кого не являлось охоты протестовать.
Меня отец привез в Омск в 1846 году. К этому времени ненормальное положение учебного заведения уже прекратилось: перед самым нашим приездом было объявлено о переименовании казачьего училища в кадетский корпус. Прием детей пехотных офицеров и гражданских чиновников был узаконен. Из них предполагалось образовать в составе кадетского корпуса роту, а казаки должны были составить эскадрон. Далее, предполагалось дать новую обмундировку, улучшить учебную часть, облагородить внутренний мир училища, прислать новых учителей и воспитателей из столицы и так далее. Но я застал заведение еще в дореформенном состоянии.
Переход от жизни в родной семье к жизни в закрытом заведении был для меня очень тяжел. День я провел без тоски, меня развлекали новые впечатления, сменявшие одно другое. Меня заставили немного посидеть в классе, потом сводили в цейхгауз, где, вероятно, меня переодели в форменное платье, но последнего я не помню. Помню только, что я потерялся в лабиринте между сошками деревянных ружей и не нашел бы сам выхода, если бы меня не принялись искать. Потом меня проводили в столовую вместе с компанией остальных воспитанников, а вечер я провел вместе с ними в дортуарах. Уже при свечах за мной пришел человек от инспектора классов полковника Шрамова – это был однокашник моего отца по войсковому училищу, потом кончил курс в горгорецком земледельческом училище, по возвращении в казачье войско получил место инспектора классов в войсковом училище и до последнего времени продолжал питать дружеские чувства к моему отцу. Я был несказанно обрадован, найдя в квартире у Шрамова своего отца. После чаю с печеньями, которым нас угостил Шрамов, меня отвели назад в училище. Здесь я еще застал своих товарищей не спящими, а играющими, и принял участие в их играх. Потом мне указали назначенную для меня кровать.
Когда воспитанники начали раздеваться и укладываться спать, я последовал их примеру. Пока я не лег, я чувствовал себя спокойным, но как только я очутился под одеялом, то почувствовал глубокое одиночество, юркнул под одеяло с головой, и слезы полились из моих глаз рекой. Мне показалось страшно остаться на ночь среди чужих мальчиков, с которыми я познакомился только в это утро. Меня окружили товарищи и стали допытываться, что со мной случилось. Никакая теплая нота не согрела моего сердца. В словах детей чувствовалось только любопытство, а также проскользнуло и несколько насмешливых и ядовитых фраз; «Бедный сирота», «Тятенька и мамонька оставили одного». Чтобы облегчить мне тяжесть перехода к новой жизни, Шрамов в течение 3 дней посылал за мной и в то же время приглашал моего отца. Тоска моя не сразу улеглась. Не раньше как дня через три или четыре я перестал плакать по ночам. После последнего свидания со мной в квартире Шрамова мой отец уехал в Пресновск, и для меня началась ритмическая жизнь в закрытом заведении.
В этом плебейском заведении порядок дня был такой. Утром, вставши с постели еще до рассвета и одевшись, мы строились во фронт, накинув на себя серые шинели. После молитвы нас вели через двор во флигель, где помещалась столовая; там мы усаживались вдоль столов; служители раздавали нам куски серой булки. Каждая круглая булка была разрезана на четыре части крест-накрест. Служитель, положив около десятка таких ковриг на левую руку, в виде колонны, поднимавшейся вдоль его груди до его лба, поддерживая вершину колонны правой рукой, бежал вдоль столов и разбрасывал ковриги по столам. Воспитанники ловили надрезанные ковриги, разрывали на разделенные части и ели. Четвертушка такой серой булки и составляла весь утренний завтрак воспитанника. Из столовой ученики шли в классы, где оставались в течение трех часов; в средине занятия прерывались для «перемены».
После классов обедали в той же столовой. Обед был простой. Состоял из двух блюд, одних и тех же каждый день; щи из кислой капусты и каша с маслом. Ели из оловянных тарелок оловянными ложками. Щи и каша подавались в оловянных мисках. Кому показалось мало хлеба или квасу, позволялось потребовать прибавки; недовольные подымали в этих случаях руку вверх; служители, стоявшие в дверях, следили за жестами обедающих и, увидев поднятые руки, подбегали узнать, что нужно. После обеда еще были занятия, также в течение трех часов. День кончался ужином, который состоял из одной каши с маслом. Преобразование войскового училища в кадетский корпус началось с разделения его на две части, на роту и эскадрон. В первую были включены дети пехотных офицеров и гражданских чиновников, во вторую дети казаков. В то время, когда я поступил в заведение, в роте насчитывалось 200 человек, а в эскадроне было только 50.
В то время в сибирском казачьем войске, из которого только и поступали дети в эскадрон, не было ни одного генерала; их не было и от самого основания войск. Высший чин, до которого дослуживались казаки, был только чин полковника. Но в то время, когда я учился в этом заведении, в эскадроне не было ни одного сына полковника. Учились дети есаулов, сотников и хорунжих, и всего-навсего только один попал в нашу компанию сын войскового старшины Иванова из Петропавловска. Только небольшое число казачьих офицеров, дети которых учились в омском кадетском корпусе, сами получили образование в том же учебном заведении; большею частью это были казаки, начавшие службу в нижних чинах. <…>.
Попав в эту среду, я сразу оценил разницу в условиях дошкольного периода, в которые был поставлен я и мои эскадронные товарищи. Этой разнице я приписал ту любознательность, которую я обнаружил на скамейке кадетского корпуса. Никто из моих товарищей до поступления в корпус не имел в руках «Звездочки» Ишимовой, не читал «Робинзона Крузо». Впоследствии, подросши, я еще более оценил дом Эллизена. Всю свою любовь к науке и литературе, которая во мне стала пробуждаться, я приписал благодетельному влиянию полковницы. Я начал считать ее своей духовной матерью и гореть желанием когда-нибудь с благодарностью обнять ее колени или, по крайней мере, написать письмо, полное сознания, насколько я ей обязан своей постановкой на жизненном пути.
Ротные и эскадронные кадеты были отделены друг от друга в классах и дортуарах; мы только обедали в общей столовой. У ротных были свои субалтерн-офицеры, у казаков – свои. Только преподаватели были общие. <…> Домашняя обстановка, обхождение офицеров с воспитанниками и стол резко изменились. С воспитанниками стали говорить на «вы», оловянные тарелки и миски были заменены фаянсовыми.
Изменилась и учебная часть. Для усовершенствования кадет во фронтовой службе были присланы офицеры из Петербурга. Особенное значение для корпуса в этом деле имел офицер Музеус. Это был образцовый фронтовик, высокий, вытянутый в струну, с громким голосом, гроза для неисправных и нерасторопных. Он задавал тон и остальному офицерскому персоналу.
Военный дух старались поднять у нас и внешней обстановкой дортуаров: стены их представляли галерею портретов героев Отечественной войны. В одной из камер эскадрона была повешена картина, изображавшая гибель Ермака в волнах Иртыша.
В дортуарах эскадронных кадет, как и у ротных, была библиотека для внеклассного чтения. Книги выдавались эскадронным и ротным командирами. Эти библиотеки тоже были составлены с тенденцией: тут была история Отечественной войны, соч. Данилевского21.
Впрочем, тут были и книги более общего интереса, исторические мемуары вроде «Записок Манштейна»22, «История государства Российского» Карамзина23.
Кроме того, путешествие Дюмон-Дюрвиля24, обработанное для юношества.
[И] записки моряка Броневского25, описывающие плавание в Ионийском архипелаге.
Последние две книги сделались моим любимым чтением. У Карамзина меня особенно интересовали примечания. Я их перечитывал по нескольку раз и делал из них длинные выписки. Во мне обнаружилась большая склонность к кропотливой работе, роющейся в мелочах.
Мои симпатии к Дюмон-Дюрвилю были подготовлены моим дошкольным чтением. Еще в доме Эллизена я прочитал «Робинзона Крузо» и с тех пор не пропускал ни одного описания из морской жизни. Я любил читать морские путешествия и романы из жизни моряков, знал корабельную терминологию: фок-мачта, брам-стеньга, бейдевинд, задраить, знал морские команды: право на борт, тали пошел, весла на воду! Впоследствии мне пришлось шесть месяцев плыть на военном корабле и на практике услышать эти команды и наглядеться на упражнения матросов и снова восстановить в своей памяти мою морскую культуру, но я и десятой доли не припомню того, что в детстве нахватал из морского словаря. Путешествие Дюмон-Дюрвиля послужило только канвой для компилятора. <…>
Казачья демократия
По мере того, как мы росли и развивались, мы, казаки, все более и более начинали чувствовать свое обособление от бельэтажа. Мы были демократия; половина эскадрона были дети казачьих офицеров, которые родились еще в то время, когда их отцы были простыми казаками или урядниками; мы все помнили свои детские годы, проведенные на полатях изб; помнили годы, проведенные уличными мальчишками в играх в бабки, в мячик на улицах казачьих станиц или в клюшки на льду реки. Рота была привилегированной частью корпуса; ротные смотрели на себя, как на дворян; из бельэтажа исходил свет и падал на нас. Там заводились новые благородные манеры обращения, а потом уже прививались и к нам.
Другая черта обособления бельэтажа от нижнего этажа заключалась в том, что рота состояла из детей уроженцев разных губерний; тут много было таких, которые до поступления в корпус жили в Европейской России; напротив, эскадрон состоял исключительно из казаков; это были уроженцы казачьих станиц, протянувшихся линией от Петропавловска до Бийска. Таким образом, все эскадронные кадеты были сибиряки. Вот где были скрыты семена культурного сибирского сепаратизма. Само правительство разделением корпуса на роту и эскадрон заложило эти ceмeнa. Вероятно, это разделение было сделано с намерением сохранить дворянскую чистоту в детях дворян. Бельэтаж – это была Европа, нижний этаж – Азия. В бельэтаже учили танцам, а казаков в те же часы – верховой езде; в бельэтаже учили немецкому языку, а в нижнем этаже в те же часы – татарскому. Если в корпус отдавали киргизских мальчиков, то их помещали в казачью среду. Если бельэтаж считал себя солью земли, то мы чувствовали, что мы плебеи. Еще была одна особенная черта.
Эскадронные кадеты представляли более дружескую, более сплоченную семью. Это потому, во-первых, что их было гораздо меньше, а во-вторых, состав эскадрона был однороднее; это были дети одинаковых условий быта; многих из них соединяли между собою родственные связи; тут было много родных и двоюродных братьев, племянников, соседей, товарищей по детским играм и т. п. В последний год перед выходом из корпуса, когда мы слушали фортификацию, летом в лагерное время кадет заставляли строить люнет; казаки работали отдельно от ротных; им был отведен особый участок. И вот на этой работе казаки исполняли всегда свой заказ дружнее ротных и быстрее заканчивали дело.
Чувствуя себя другой расой, сортом пониже, чем ротные, видя в последних как бы представителей высшей культуры, мы, казаки, конечно, не могли примириться с нашим неравноправным положением. Мы старались найти в себе какие-нибудь другие достоинства, которые уравняли бы нас с обитателями бельэтажа.
В средокрестную неделю великого поста, во время которой уроки в классах прекращались, учитель русского языка Костылецкий26 читал нам отрывки из Гоголя. Он был очень хороший чтец и особенно славился у нас, как превосходный чтец Гоголя. На казаков сильное действие произвела повесть «Тарас Бульба»; мы увидели нечто общее между нами и героями Гоголя и почувствовали себя сродни тем республиканцам, которые избирали Кирдягу кошевым атаманом. Мы до того увлеклись повестью Гоголя, что распределили имена героев между собою; среди нас появились: Тарас Бульба, Остап, Андрий.
Потом некоторые из нас стали интересоваться историей Малороссии и южнорусского казачества. <…> В этой истории наша сословная обида нашла себе утешение.
Обособленность ротных и эскадронных кадет сказалась и в наших играх. Во время рекреации кадет выпускали во двор, где они играли в городки, в лапту, в завари-кашу и в другие игры. Вот в это время мы выдумали еще игру в войну русских с киргизами; роль киргиз, конечно, исполняли казаки, а ротные изображали русских. Компания играющих разделялась на две артели, которые ходили стена на стену, хватали пленных и уводили их в заточение, т. е. в ретирадное место, и там держали до конца игры под стражей. <…>
Все или многое в наших отношениях к бельэтажу убеждало нас, что мы низшая раса, но повесть Гоголя и романтическая история Малороссии поднимали нас в наших глазах, так как герои Малороссии были тоже казаки, и между ними и нами было что-то общее. Лихой казак, удалой казак стали нашими идеалами. Желание отличиться удальством доводило моих товарищей даже до преступных шалостей. <…>
Погоня за удальством довела моих товарищей до громкого преступного дела. В подвальном этаже кадетского корпуса находился склад всякого рода провизии. Казаки-кадеты через окно увидели там мешки с изюмом, с черносливом, кадушки с маслом, кипы писчей бумаги, карандаши, краски и пр. В окнах были вставлены железные решетки, но в одном окне железо поломалось и образовалось отверстие, в которое мог бы пролезть маленький мальчик. Мои товарищи по классу уговорили одного кадета из младшего класса попробовать пролезть в это отверстие. Он благополучно пролез и вылез назад. И вот мальчуган, по желанию старших кадетов, начал лазить в эту корпусную сокровищницу и добывать оттуда лакомства и письменные принадлежности.
Я не был посвящен в эту конспирацию, но заметил необычное богатство бумаги, карандашей, перьев, которое стало разливаться по нашему классу. Иногда меня одарят тетрадкой писчей бумаги, карандашом или горстью чернослива, но, откуда ниспадали эти дары, от меня тщательно скрывали.
Шайка грабителей открылась следующим образом. Кадет, заведовавший той камерой, в которой жили инициаторы этого дела, заметил, что у находящихся под его ведением кадет за обедом каша всегда бывает полита маслом обильнее, чем у других. Он сделал такое испытание: роздал своим кадетам только кашу, а все масло вылил в свою тарелку. И что же? У всех его подчиненных оказалось в тарелке каждого больше масла, чем у него самого. В тот же, день он открыл склад всякой всячины в печке его камеры (дело было летом, и печь не топилась). Старший кадет по камере, раскрывший эту конспирацию, донес начальству. Начался допрос. Конспираторы уговорились выдать только трех главных зачинщиков и маленького своего сотрудника и, действительно, уперлись и сказали, что никого не знают, кто еще в этой истории участвовал. Тогда Бедрин стал бунтоваться и требовать, чтобы его имя было включено в список заговорщиков. Как? В таком молодецком деле да чтобы он не участвовал? И он пошел к эскадронному командиру и заявил, что он тоже участвовал в конспирации и в дележе добычи.
Решение начальства последовало такое: высечь зачинщиков перед эскадроном. В самой большой камере эскадрон был выстроен в четыре шеренги. Ему прочитали резолюцию, вызвали преступников, увели их в одну из дальних камер и там наказали. Экзекуция была совершена на таком расстоянии от эскадрона, что мы не слышали ни свиста розог, ни стонов. И вот, когда эскадрон стоял молча, в открытую дверь высунулась голова и крикнула: «Слышишь ли, батьку?» Офицеры, оставшиеся при эскадроне, не заметили, кто крикнул, и спросили эскадрон: «Кто это крикнул?» Тогда наш кадетский Тарас Бульба должен был открыть имя смельчака: «Это Бедрин». И Бедрину еще немножко прибавили. В педагогическом совете некоторые голоса требовали, чтобы Бедрин за это издевательство над начальством был исключен из корпуса и отдан в простые казаки, но эскадронный командир настоял на том, чтобы не губить молодого человека. Бедрина оставили в корпусе, но генерал, директор корпуса, все-таки на другой день после экзекуции захотел пройтись петухом перед преступниками. Они были выстроены во фронт. Генерал насупился на них, кричал, топал ногами, махал фуражкой, задевая за их носы. Бедрин стоял руки по швам и задирающе смотрел на генерала. Чем больше генерал тыкал в него фуражкой, тем неустрашимее становился Бедрин. «Отступи!» – крикнул на него наступающий генерал. «Я никогда не отступал и не буду отступать», – ответил Бедрин. «Будешь простым казаком, не дам тебе надеть на плечи эполеты». – «Для меня эполеты – кандалы», – был ответ.
В каждом классе один из кадет становился его вождем. У нас таким был <…> Пирожков. В классе, который был младше нашего, вождем был кадет Бубенный. Кадеты, выдававшиеся своими умственными способностями, не попадали в классные авторитеты; например, в классе, который был старше нашего, Бедрин не был вожаком; точно так же в одном классе с Бубенным находился Чокан, но коноводил классом не он, а Бубенный. Кажется, в классные авторитеты выдвигались такие товарищи, которые превосходили других не умственными способностями, а житейским опытом.
Наш Пирожков27, уже потому являлся более опытным, что был старше других годами. Впрочем, он был не без талантов; он хорошо рисовал, хотя рисование его ограничивалось только копированием с рисунков. Но главное, он был хороший рассказчик; он примечал смешные стороны товарищей и преподавателей, хорошо передразнивал их и смешил публику. Я тогда очень верил, что, выйдя из корпуса, он сделается заметным беллетристом-юмористом. Если бы его рассказы были записаны, то, я думаю, что вышла бы книжка, отмеченная таким же теплым юмором, как «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Он одних представлял перед нашими глазами в смешном виде, но перед другими преклонялся, и это поклонение передавалось и нам; так, он научил нас уважать преподавателя русского языка Н. Ф. Костылецкого, преклоняться перед его независимым духом и восхищаться его сарказмами над каким-нибудь напыщенным генералом.
Еще он был очарован фигурой казачьего полковника Арсения Панкова28. Это был красивый, очень полный офицер, эффектно сидевший в седле и прекрасно танцевавший мазурку. Пирожков был просто влюблен в этого полковника. С каким-то благоговейным чувством он произносил уменьшительное «Арса», как офицеры дружески называли полковника. Если Панков появлялся на площади, Пирожков бросался к окну и кричал: «Господа, Арса едет! Арса едет!»
Пирожков прививал нам демократические вкусы. Он учил нас предпочитать «казачьих тощих лошадок» красивым заводским лошадям с выгнутыми дугой шеями, на которых ездила другая омская кавалерия – жандармы. Он очень карикатурно описывал, как жандарм на своей высокой лошади изящно галопирует, но не подвигается с места, а скромная казачья лошадка, под казаком, растянувшись мышью, обгоняет жандарма. Так мы постепенно привыкали противопоставлять свое казачье, демократическое, чужому.
Хотя корпус был и закрытое заведение, но сношения с внешним миром все-таки были. Мы кое-что знали о жизни казачьих офицеров, об их чувствах и симпатиях, а также кое-что слышали и о казаках. Отклики казачьих симпатий и антипатий долетели до стен нашего заведения. Всегда существовала рознь между казаками и пехотинцами. В то время, как пехота называла казаков «кошмой», иронизируя на счет их несовместимой с военным званием торговлей с киргизами, казаки солдат презрительно называли «крупой» и «сэками»; сэк по-киргизски значит молодой баран; в походное время казаков иногда прикомандировывали к пехотным частям, и казаку, едущему позади пехоты, представлялось, будто впереди его идет стадо сэков, а он сам – гонящий стадо пастух. Казаки, подобно матросам, не любят, когда их называют солдатами.
В омской интеллигенции издавна образовалось отрицательное отношение к казакам; на них смотрели как на эксплуататоров киргизского народа, как на лентяев, которые выезжают на киргизской шее; казалось омерзительным, что они обязаны своим достатком, а часто и богатством киргизскому труду и между тем к киргизам относились с презрением. В глазах омской интеллигенции это были не доблестные воины, а нечистоплотные, лукавые торговцы. Пирожков знал анекдоты, характеризующие эти отрицательные черты «казак-урусов», как их называют киргизы, но он рассказывал их без всякой злобы, напротив, эти плутоватые «казак-урусы» выходили у него симпатичными. Они подкупали слушателя своей изобретательностью и остроумием, как герои народных сатирических сказок; это были Сеньки малые или Климки-воры. Может быть, когда-нибудь народится писатель-художник, который обрисует этот оригинальный тип и выставит его в более привлекательном очеловеченном виде, чем он представляется при поверхностном взгляде.
Один из генерал-губернаторов, чуть ли не Гасфорд29, обратился в Петербург с докладом, что сибирское казачье войско, не имея доблестных традиций, не видевши пред собою примеров благородства, представляется в настоящее время расой невысокого качества; офицерство не отличается рыцарским характером; необходимо облагородить его, а для этого он просил включить в состав войска некоторое количество армейских офицеров. Предложение в Петербурге было принято. Вскоре все места полковых командиров были заняты армейцами; и на низших местах появились молодые армейцы. В этой мере казачьи офицеры почувствовали большую обиду.
Прежде всего казачьих офицеров обижала разница в жалованье: казачий офицер получал в год 72 руб., армеец 250 рублей; кроме того, армеец получал квартирные, фуражные, на отопление и освещение, казачий – никаких подобных прибавок к жалованью не получал. Армейский имел денщика, казачий сам себе чистил сапоги, армеец по окончании службы имел право на получение пенсии, а казачий офицер не имел. Затем, имя армейца, при переходе в казачье войско, ставилось в список офицеров выше казаков, поэтому, при производстве в высший офицерский чин, казаки всегда отставали от армейцев. Это неравенство обособляло армейцев от казаков; армейцы составляли отдельную группу, которая была ближе к главному казачьему начальству, атаману и полковым командирам, чем казаки; у начальства армейцы были на лучшем счету, пользовались большими льготами; атаман Воробьев, например, когда ему докладывали о наградах или о наказании какого-нибудь офицера, имел обыкновение всегда спрашивать: «Это из наших или из ихних?», т. е. из армейцев или из казаков? Если офицер «из наших», ему охотнее давалась награда— и наоборот.
Пирожков, возраст которого позволял уже ему бывать в офицерском обществе, слышал об этом недовольстве, приносил его в корпус и передавал нам. Мы тоже начинали волноваться и питать недружелюбные чувства к армейцам. В наших юных сердцах ненависть против армейцев дошла до того, что мы стали мечтать о том, чтобы по выходе из корпуса начать против армейцев партизанскую войну. Мы уговаривались, одевшись в киргизские шубы и малахаи и сев верхом на лошадей, нападать по ночам на проходящих по улицам города армейцев и стегать их нагайками. Конечно, эти мечты, по выходе из кадетского корпуса, как-то незаметно для нас сразу пропали.
Учителя
В военных школах всегда отдается больше внимания математике. Ждан-Пушкин30, который организовал учебную часть после реформы, конечно, поставил преподавание математики насколько было возможно удовлетворительно, но в этой отдаленной провинции ему приходилось бороться с недостатком преподавателей. Лучше всего преподавалась геометрия. Для этого предмета он не выписывал учителя из столицы, а воспользовался местной силой. Наш эскадронный командир Кучковский (Як. Ив.) преподавал геометрию еще в войсковом казачьем училище. Эту кафедру Ждан-Пушкин оставил за ним и после преобразования училища в кадетский корпус. Я и теперь с удовольствием вспоминаю уроки Кучковского, поражавшие своим, если можно так выразиться, изящно-ясным изложением. Мне кажется, благодаря такому изложению, в котором не было ни одного лишнего слова, он был в состоянии любого тупицу от самого простого положения довести до самой сложной теоремы, не вызвав в нем ни малейшего затмения.
Не так удачен был выбор других преподавателей, алгебры и тригонометрии. Конечно, и эти кафедры занимали хорошие знатоки своего предмета, и для учеников, специально созданных для занятий математикой, они принесли пользу; мои товарищи были ими очень довольны, но меня преподавание учителей алгебры, сколько их ни сменялось за мое время, не увлекало, и только раз, когда кафедра запустовала и Ждан-Пушкину пришлось самому преподавать предмет, я услышал такое же очаровательно ясное изложение алгебры, каким было изложение геометрии у Кучковского.
Бросая теперь взгляд назад, мне кажется, что Ждан-Пушкин распределил предметы преподавания в разумной пропорции. Хотя мы видели его одетым в военный мундир, но мы в нем видели не столько военного человека, сколько просто человека. Русский язык, история русской литературы, география, всеобщая история, закон божий – все эти предметы преподавались учителями, лучше которых и желать не надо. Для замещения некоторых кафедр Ждан-Пушкин сделал специальные поиски, но нескольких учителей он оставил из прежнего дореформенного состава. Кроме Кучковского, он оставил еще двух, Старкова и Костылецкого, первый в войсковом казачьем училище преподавал географию, второй – русский язык, теорию словесности и историю русской литературы.
Когда мы кончили курс, Ждан-Пушкин предложил Старкову прочесть эскадронным кадетам географию Киргизской степи подробнее, он сделал это потому, что служба казачьих офицеров, учившихся в сибирском кадетском корпусе, потом должна исключительно проходить в пределах Киргизской степи. Им предстояло ходить с отрядами казаков в степь, вести там кордонную службу и принимать участие в военных экспедициях, доходивших на юге до границ независимого Туркестана. Старков исполнил желание инспектора классов, и я вышел из корпуса с такими географическими знаниями соседней Киргизской степи, каких не имел ни о какой другой территории. Может быть, Ждан-Пушкин был единственный педагог в Сибири, который, занимая педагогический пост в Омске, не относился индифферентно к географическому положению окружающей местности. <…>
Общественные идеи достигали до нас двумя путями воздействия: школьным и не школьным. Школьными проводниками их были преподаватель русской словесности Ник. Фед. Костылецкий и преподаватель истории Гонсевский31.
Костылецкий познакомил нас с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем. На Пушкина он смотрел, как на национального гения; он казался ему необыкновенно одаренным человеком. Костылецкий рассказывал о встрече с поэтом. Автор «Истории Пугачевского бунта», проезжая через Казань, посетил университет. Студенты сбежались в заведение, чтобы увидеть великого поэта, но Костылецкому, который был тогда студентом, не удалось прийти в университет. Через несколько часов, когда он шел по одной из казанских улиц, мимо него проходит человек, от которого такой духовной мощью пахнуло на Костылецкого, что тот невольно замер, провожая его глазами. Студент подумал: «Это, вероятно, Пушкин». Он запомнил черты лица незнакомца, прошедшего мимо, подробности его костюма, манеру носить платье, и когда потом расспросил своих товарищей, то убедился, что действительно встретился с Пушкиным.
Костылецкий познакомил нас с взглядами Белинского на русскую литературу; он весь свой курс о русской литературе составил по критическим статьям Белинского. Кажется, я не ошибусь, если скажу, что такие деликатные предметы, как история литературы и всеобщая история, преподавались нам конспиративно. Костылецкий построил свой курс на Белинском, но имени Белинского ни разу перед учениками не произнес. Об этом я узнал только впоследствии, спустя восемь или девять лет, будучи вольнослушателем петербургского университета, когда пришлось прочесть полное собрание сочинений Белинского, тогда только что вышедшее32.
Кадеты, родители или родственники которых жили в городе, по воскресным дням отпускались домой. Они уходили из корпусов вечером в субботу и возвращались вечером в воскресенье. Таким образом, создавалось общение кадетской массы с городским обществом, и она подвергалась воздействию внекорпусной среды. Общение детей казаков со своими семьями имело мало значения, гораздо важнее были для кадет посещения семейств их ротными товарищами. Во-первых, казачий контингент был менее значителен; из общего числа кадет казаки составляли только одну пятую часть. Во-вторых, родители ротных кадет представляли среду гораздо более разнообразную и более интеллигентную.
Эскадронные кадеты были уроженцы только казачьей линии, кроме берегов Иртыша, Горькой линии и долины Алтая они других мест не знали, а в роте были кадеты не только со всего пространства Сибири, от Томска до Якутска, но тут находились и такие, детство которых прошло или в Архангельске, или в Кишиневе, или в Тифлисе, или в Москве и Петербурге. Затем родители ротных кадет не были одинаковы по роду своей службы. Одни были военные, другие гражданские чиновники; конечно, воспитание детей во время дошкольного возраста в этих семьях было различно.
Выше я уже говорил, что отцы эскадронных кадет были небогаты и что дошкольное образование их детей было очень скромное, в роте же числились дети генералов и важных гражданских чиновников, в домах которых собиралась самая просвещенная в городе молодежь. В этих домах интересовались русской литературой и внутренней политикой.
Новости, приносимые ротными кадетами в корпус из города, резко отличались по своему содержанию от новостей, приносимых эскадронными. Поэтому корпус получал свой свет из роты. Ротные кадеты отличались своей осведомленностью, а также более отшлифованными манерами; казалось, что у них и темпераменты мягче. <…>
Наши дортуарные библиотеки были очень бедны, в них не было совсем беллетристики. Этим материалом корпусные читатели снабжались из города, через ротных кадет. Таким путем к нам проникли «Вечный жид» Эжена Сю, «Три мушкетера» Александра Дюма, а также и романы Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Домби и сын», «Мартин Чезлвит», «Записки Пиквикского клуба» и многие другие. Это было в последний год моего пребывания в корпусе.
Чокан Валиханов
Я с особенным увлечением читал Диккенса вместе с моим другом Александром Дмитриевичем Лаптевым33.
В то же самое время увлекался Диккенсом и другой мой друг Чокан Валиханов34. <…> Он был внук последнего киргизского хана, это был киргизский аристократ. <…> Это был очень талантливый мальчик. Местное начальство стало смотреть на него, как на будущего путешественника или русского агента в Туркестане или Китае. Он очень много рассказывал о киргизском быте; его рассказы так меня увлекали, что я начал их записывать. Вскоре из его рассказов составилась у меня толстая тетрадь. <…>
Чокан в это время еще плохо говорил по-русски и сам записывать не мог, но он умел рисовать и иллюстрировал мою тетрадь изображениями киргизского оружия, охотничьих снарядов, кожаной посуды и т. п. К концу пребывания в корпусе Чокан начал серьезно готовиться к миссии, на которую ему указывали его покровители, читал путешествия по Киргизской степи и Туркестану, изучал историю Востока и так далее. Впоследствии, когда Чокан был уже офицером, П. П. Семенов35 писал о нем в рекомендательном письме к своему дяде, как об удивительном молодом человеке, который, живя в глухой провинции, сумел приобресть громадную начитанность в литературе о Востоке.
Я был непрерывным свидетелем занятий Чокана; ему доставали для чтения интересные книги по Востоку, и он делился ими со мной. Одновременно мы прочитали путешествие Палласа36 в русском старинном переводе (1773–1788). Это было тоже для меня в высшей степени сенсационное чтение. Страницы этой книги перенесли нас в уральские степи, на берега Яика. От этих страниц пахнуло на меня ароматом полыни и степных губоцветных; я, кажется, слышал крики летающих над рекой чеграв и ченур. Моя мечта о путешествии получила новую форму: Паллас мои морские мечты превратил в сухопутные, и, мало того, он приблизил их к той территории, где будет проходить моя жизнь и моя служба. Он опустил наши мечты на почву действительности, указал нам тесные географические рамки нашей деятельности, по крайней мере, для меня, если не для Чокана. В 1852 году я расстался с Чоканом, окончил курс и вышел из кадетского корпуса, а Чокан должен был остаться в нем еще на год. Собственно, его одноклассники должны были после меня оставаться еще на два года, но Чокан выходил годом раньше их, потому что в последнем классе корпуса преподавались специально военные науки – тактика, фортификация, артиллерия и др., и правительство считало опасным для государства знакомить с этими науками инородцев. <…>
Тургенев остался нам в корпусе неизвестен. Я познакомился с ним года два спустя по выходе из корпуса.
Мы не имели также никакого представления о крепостном праве и о назревшей государственной потребности освобождения крепостных крестьян. Слышали ли мы тогда что-либо о декабристах, я теперь сказать не решаюсь. Вернее всего, что мы о них ничего не слыхали. Неизвестны были нам также и идеи социалистов. Эскадронным кадетам много новостей приносил Чокан Валиханов. Омское образованное общество очень интересовалось этим кадетом; некоторые лица из этого общества брали его в свои дома на воскресный отпуск; это были очень интересные дома. Особенное влияние на его развитие имел бравший его по воскресеньям преподаватель всеобщей истории Гонсевский. Поэтому мы, эскадронные кадеты, немало были обязаны этому киргизскому аристократу с демократическими убеждениями. По выходе из корпуса в течение еще десяти лет, по крайней мере, я это могу сказать о себе, мы жили идеями и влияниями, этого кружка друзей, к которому принадлежали в учебном заведении. Мы уже жили вне корпусных стен, а кружок продолжал развиваться; с некоторыми явлениями, например, с поэзией Гейне, мы познакомились уже по выходе из корпуса, но это было продолжением влияний корпусного кружка. <…>
<…> Один мой одноклассник по корпусу, артиллерийский офицер Колосов37, впоследствии передавал мне сцену, которая его сильно поразила. Группа кадет стояла у ворот двора кадетского корпуса, которые выходят на Иртыш; в этой группе находился и Чокан. Перед глазами молодых людей открывалась картина: река Иртыш, а за нею поднимающаяся к горизонту Киргизская степь. Валиханов жадными глазами смотрел вдаль и сказал, взглянув на свою ногу: «Бог знает, где эта нога очутится впоследствии». Колосов был тогда еще мальчиком, года на четыре моложе Чoкaнa. Он потом сам говорил, что эта фраза крепко им запомнилась, он как бы почувствовал, что перед ним стоял необыкновенный человек.
И в самом деле, для Чокана было невозбранно мечтать и о далеких берегах Хуху-Нора и о вершинах Желтой реки38. Совсем в другом положении находился я.
Я был казачий офицер, а казаки – это были крепостные государства. Все они были обязаны служить в военной службе определенный длинный срок, как простые казаки, так и офицеры.
Казачий офицер должен был в то время служить бессменно 25 лет; положение их было жалкое, жалование они получали скудное; тогда как пехотный офицер, вышедший из того же кадетского корпуса, получал жалованье 250 руб. в год, казачий офицер получал только 72 руб., при этом ему не полагалось ни квартирных, ни отопления, ни фуражных; а по окончании службы – никакой пенсии. Казачий офицер до 25-летнего срока не имел права отказаться от службы и не мог переменить род службы: он должен был служить 25 лет только в своем войске, т. е. сибирский казак только в сибирском войске, оренбургский только в оренбургском и так далее.
Как же я мог угнаться за соблазнительными мечтами Чокана? Его мечта была свободна, а я в своих планах был ограничен. Не странно ли: я по происхождению принадлежал к державному племени, а Чокан был киргиз, инородец, член некультурной расы. Я был не правоспособен, а он был свободный гражданин.
Когда Чокан развивал свои заманчивые планы, они не трогали меня. Твердая вера в несбыточность совместного путешествия с Чоканом обсекала мое воображение. Чокан говорил о своих планах с увлечением, с пафосом, а между тем его слова отлетали от меня, как горох от стены. Я привык совершенно мириться с мыслью, что буду собирать коллекции для ботанического сада и для зоологического музея Академии наук только в том районе, в пределах которого совершаются походы и разъезды казаков сибирского войска.
Хотя я мог служить офицером только в сибирском казачьем войске, а не в каком-либо другом, но в пределах этого войска, я мог выбрать любой полк. Я выбрал 8-й, штаб-квартира которого находилась в Семипалатинске.
Во-первых, мне, уроженцу Горькой линии, которая лежит между Курганом и Петропавловском, хотелось увидать юг, а 8-й полк самый южный из полков сибирского казачьего войска; во вторых, мне хотелось видеть собственными глазами горы, а значительная часть полка была расположена в долинах западного Алтая. Как уроженец Горькой линии, я видел только плоские степи и собственным воображением никак не мог составить правильного представления о горной стране. Я представлял себе горы в виде могильных холмов крупного размера, но равной высоты и расположенных на одном уровне. Мои представления о горах улетали еще дальше от действительности. В родительском доме, в праздники, когда ждали гостей, мой отец ставил на карниз печи курительные свечки, и мне казалось, что горная страна состояла из таких же конических фигур.
Глава 3
Служба. «Будем рубить и колоть»
«Подъезжая к р. Алматы, в версте или нескольких от нее, у самой дороги, мы увидели четыре шеста, воткнутых в землю, и на них четыре казачьих головы. Дело рук тоучубековских джигитов».
Киргизская степь
Я вышел из кадетского корпуса в 1852 г. Это был один из самых больших выпусков: он состоял из 50 офицеров, в том числе одних казаков до 20-ти. Это был первый выпуск, в котором все офицеры всецело были обязаны всем своим воспитанием пореформенному режиму. Три офицера из выпуска, Маслосов, Лаптев и я, записались в 8-й казачий полк. Маслосов и Лаптев были уроженцы этого полка. Маслосов по прибытии в полк, т. е. в Семипалатинск, тотчас был назначен полковым адъютантом, а я и Лаптев остались в строю. Служебные обязанности наши были несложны; изредка нас призывали в манеж учиться верховой езде, да на балах полковой командир Мессарош заставлял нас танцевать с дамами.
<…> По прибытии в Семипалатинск я тотчас же взял отпуск у полкового командира в Усть-Каменогорск, чтобы повидаться с жившим там моим дядей, и поехал туда вместе с моим отцом. Половина дороги туда от устья реки Убы до Змеиногорска гористая; тут я впервые увидел настоящие горы и убедился, в какой степени мои детские представления о горах расходились с действительностью. Меня очень удивило, что я немало видел в книгах картинок, изображавших горные долины, верно передававших действительность, и тем не менее в моем мозгу господствовала детская фантазия.
В Семипалатинске я прожил только зиму, а весной меня уже назначили в поход. В Семипалатинске я встретился с Достоевским39, но только на одну минуту; я входил в двери, а он выходил. Я остановился по одну сторону дверей, чтобы дать ему дорогу, он, оставаясь по другую сторону, предлагал мне первому перешагнуть порог. Произошло препирательство. Наконец он, улыбаясь, сказал: «Десять тысяч китайских церемоний!» Вот и все, что я от него услышал. <…>
<…> После меня на следующее лето в Заилийский край приехал путешественник П. П. Семенов, нынешний вице-президент географического общества, и в то же время здесь по делам службы оказался Чокан Валиханов, который в это время был адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири. Они встретились.
От Чокана и частью от местных жителей Семенов узнал о том, что год назад здесь жил казачий офицер, который ходил в горы, собирал растения и сушил их и что-то записывал и, несмотря на свое скудное жалованье, 72 руб. в год, выписывал и получал журнал «Вестник Географического Общества». И Чокан и я показались ему интересными молодыми людьми. <…>
<…> В ближайшую же весну я и Лаптев назначены были в отряд, в Киргизскую степь. Мой отец получил от Панкова, адъютанта атамана казачьего войска, письмо, в котором он успокаивал отца и просил не смущаться таким распоряжением начальства, потому что отряд имеет важное назначение – занять новую территорию в Киргизской степи, и участвующие в экспедиции офицеры ничего не потеряют. В Семипалатинске были сформированы две сотни из казаков 7-го и 8-го полков. Они должны были отправляться в Копал, городок, расположенный в Семиречье. По присоединении к отряду роты солдат и конной батареи он должен был двинуться еще далее на юг, перейти р. Имо и достигнуть подошвы Тянь-Шаня. Так как этот отряд положил начало городу Верному, то я распространяюсь здесь об этом эпизоде из моей жизни поподробнее.
<…> Две казачьих сотни были отправлены из Семипалатинска в киргизскую степь, в Копал, селение, основанное при подножии Джунгарского Алатау. Отсюда они с присоединением роты солдат должны были двинуться дальше на юг, за реку Илю, чтобы при подошве Тянь-Шаня положить основание новому русскому поселению, нынешнему Верному. Я был назначен в составе этого отряда. <…>
От Семипалатинска до Копала нашему отряду предстояло пройти 700 верст. Поход имел вид приятной прогулки. С каждым переходом подвигались на юг и углублялись в степь, характер которой становился все типичнее и типичнее. Мы миновали горы Аркат, которые оставляют о себе память своими романтическими очертаниями, потом другие горы Арганаты, с вершины которых, сказали нам, на крайнем западе видны воды озера Балхаш. Заметнее прежнего на нас пахнуло югом, когда мы достигли берегов р. Лепсы. На ночлег мы расположились в лесу, состоявшем из деревьев, о которых я прежде только слышал от отца; дерево это называется по-киргизски «джигда». Его длинные, как у ивы, листья, такие же серо-зеленые, дают очень мало тени и заставляют чувствовать себя пришельцем в этой стране, лишенным уюта тени, бросаемой родными деревьями.
В то же время на всем протяжении от Семипалатинска до Копала было всего одно только населенное место – бедная казачья станица, построенная на берегу р. Аягуз. На всем остальном пространстве от Семипалатинска до р. Лепсы мы ночевали у колодцев, часто наполненных горькой и протухшей водой. Только к югу от Лепсы начали встречаться реки.
Копал расположен близ подошвы снежного хребта Алатау. Местность, на которой он лежит, отгорожена от Балхашской низменности второстепенным хребтом, так что с равнины, по которой протекают реки Лепса, Саркан и др., чтобы попасть в Копал, нужно подняться на его уровень по крутому ущелью. Впоследствии был найден более удобный путь через этот хребет, но мы еще поднимались по старой дороге, по ущелью Кисык-ауз (Кривой рот).
В Копале мы должны были простоять целый месяц в ожидании приезда генерал-губернатора Гасфорда, который хотел сделать нам перед выступлением смотр и лично благословить нас в дальнейший путь.
Месяц ожидания нам не показался скучным. Для северянина из-под Омска и Петропавловска в этом теплом Семиречье все было очень ново. Горы со снежными вершинами, горные пенящиеся воды, стремнины и ущелья «кремнистый путь» – все это говорило, что находишься где-то далеко от березовых колков и от русских деревень, в какой-то далекой, очаровательной стране, похожей на тот поэтический мир, о котором так много наговорили русскому читателю Пушкин и Лермонтов.
Около г. Копала в речку Копал впадает ручей Тамчи-булак (тамчи – капля, булак – ручей, ключ). Ручей этот берет начало по самой средине города, в нескольких десятках сажен от городской церкви. Начало его лежит в глубоком овраге с отвесными скалами. Отвесные стены оврага образуют цирк или колодец, из стен которого со всех сторон сочится и тысячами капель падает на дно оврага холодная прозрачная вода. Можно ли было ожидать подобной картины на прозаической почве Горькой линии?
Отряд наш в составе пехотной роты, двух казачьих сотен и конной батареи был поставлен под начальство полковника Перемышльского40. Приехал Гасфорд, сделал смотр и отпустил нас.
Перемышльский занимал должность пристава при Большой орде киргиз и жил постоянно в Копале. Эта должность была учреждена незадолго перед нашей экспедицией. <…> Перемышльский был по счету вторым приставом.
<…> О полковнике Перемышльском говорили, что он был побочный сын князя П. Д. Горчакова, бывшего до Гасфорда генерал-губернатором Западной Сибири, и что он сначала кончил курс в московском университете и потом поступил на военную службу, в университете он написал курсовое сочинение, в котором разошелся с реакционными взглядами своего профессора Каченовского41. Служа в Копале приставом при Большой орде, он выписывал [журнал] «Современник»12 и, я думаю, по собственному своему выбору, а не по чужой рекомендации. Это был очень симпатичный, гуманный начальник, но он держался от нас в стороне, как держатся капитаны военных кораблей от кают-компании. <…>
Экспедиция Перемышльского была уже второй попыткой занять Заилийский край. За год перед тем была отправлена туда экспедиция под начальством полковника Гудковского42. Гудковский с русским отрядом переправился через Илю и поднялся немного вверх по р. Каскелену, но был окружен толпой киргиз под предводительством [хана] Тоучубека. Киргизы начали неприязненные действия против русского отряда; силы киргизов превосходили русский отряд, и Гудковский должен был, отстреливаясь, отступить к берегам Или; благополучно переправившись через реку, он ушел в [город] Копал43.
Прощаясь с Перемышльским, Гасфорд передал ему написанный на бумаге приказ – осмотреть неизвестный край, выбрать место для постоянного пункта и возвратиться на север, но на словах сказал ему, чтобы он непременно остался на южной стороне Или на зимовку. Генерал дал понять Перемышльскому, что если он не исполнит последнего приказания, то потеряет расположение генерала. Я об этом слышал от тогдашнего русского консула Захарова44 в Кульдже. Я в то время отвозил консулу жалованье. Когда я рассказывал ему о нашей уже совершившейся тогда экспедиции, Захаров передал мне, что коварное поведение Гасфорда очень беспокоило Перемышльского и, уезжая из Копала, он написал кульджинскому консулу письмо, в котором просил, если в случае неудачи экспедиции его, Перемышльского, будут обвинять в самовольном зазимовании за Илей, принять меры к его оправданию.
До р. Или мы дошли без всяких приключений. Большей частью шли по пустынной стране. Только в долине р. Каратала мы нашли киргизские аулы. Несколько сот юрт было разбросано по дну долины. Было множество людей и скота.
Реку перешли вброд. Это было очень дружелюбно настроенное к нам население, принадлежавшее к составу Большой орды. Вожаком к нашему отряду Перемышльский пригласил киргиза Булека, который и вел дипломатические сношения с туземным населением. От Каратала до Или мы более не видели киргиз.
Для переправы через Илю отряд привел лодки. Был устроен паром. Началась переправа артиллерийских орудий, людей и багажа. Лошадей переправили вплавь. Для этого два, три казака, раздетые донага, сели верхом на лошадей и бросились в реку. Весь табун, подгоняемый сзади, пустился в воду вслед за пловцами. Интересно было смотреть на плывущий табун с противоположного берега. Лошади плыли тесной гурьбой, тела их были целиком погружены в воду, из которой виднелись только гривы. Все лошади не переставая фыркали. На противоположном берегу стояла толпа киргиз верхом на лошадях, перевезенных на пароме, киргизы кричали: «Кройт! Кройт!» Это междометие должно было ободрить плывущих животных. Все это оживляло берега пустынной реки. Когда табун приблизился к противоположному берегу Или, к фырканью и крикам «Кройт!» присоединились еще новые звуки от плещущей вокруг животных воды, которые раньше не были слышны. Когда переправа кончилась, северный берег затих. Река в этом месте совершенно безлесна, и берега ее неуютны. Только на северном берегу виднелось одинокое дерево, которое еще больше подчеркивало пустынность этой картины.
Перемышльский отделил отряд в 20 казаков и оставил его под начальством хорунжего Лаптева для охраны наших перевозочных средств. С остальными частями он двинулся дальше, к подошве Тянь-Шаня, который протянулся перед нашими глазами по всему южному горизонту. Мы увидели его за несколько дней до Или, не доходя до нее 200 верст.
От южного берега Или до подошвы Тянь-Шаня, который крутой стеной подымается над Илийской равниной, 60 верст ровной, как скатерть, дороги. Над срединой гребня хребта, во всю длину усаженного снежными горами, возвышается один пик выше других. С северного склона этого пика течет р. Талгар. Наш отряд подошел к подошве Тянь-Шаня западнее Талгара, к тому месту, где вытекает из хребта р. Алматы.
Еще западнее, на берегах р. Кискелена, уже начали собираться заилийские киргизы на народное вече, которое должно было решить, принять ли нас в дреколья или с распростертыми объятиями. Народное собрание разделилось на два лагеря. Одна партия с Тоучубеком во главе советовала прогнать нас за Илю, как в предыдущем году был прогнан Гудковский.
Другая партия склонялась к мирному разрешению вопроса. Во главе этой последней стоял влиятельный киргиз Диканбай, которого киргизы звали часто ласкательно-уменьшительным именем Дикеке. На другой или третий день после нашего прибытия судьба наша была решена. Партия Диканбая восторжествовала. Тоучубек со своими друзьями принужден был удалиться за хребет, отделяющий долину Или от долины Чу, а в наш лагерь вслед за тем стали приходить с киргизского веча верблюды, навьюченные «сабами» с кумысом. Наш лагерь оживился. К нам постоянно приезжали гости-киргизы; некоторые из них становились нашими «тамырами», т. е. друзьями. Кумыса было так много, что каждому казаку досталось по чашке.
Зимовка
Перемышльский не остался на зимовку на р. Алматы: он выбрал долину р. Исык, которая вытекает из хребта восточнее Талгара. Здесь мы стали готовиться к перезимовке. Прежде всего навозили бревен из гор и построили два домика. Один под лазарет, другой под квартиру начальника отряда. Для офицеров, солдат и казаков вырыты были землянки. До начала зимы было еще далеко, и мы имели достаточно времени насладиться теплом этого благословенного края и картинами его природы. Кругом нашего стана зрели верненские яблоки, а на горных скатах ущелья росли абрикосовые деревья.
Узнав, что в вершинах р. Исыка есть высокий водопад, небольшая компания поехала полюбоваться на него. Следуя по левому берегу, мы въехали в ущелье, местами приходилось с трудом пробираться между отвесной скалой и бурливым течением реки. Наконец, мы увидели водопад во всю его высоту, но перегородившая наш путь скала не позволила нам достигнуть до его подошвы. Только издали мы полюбовались на него. Узкая долина, по которой мы ехали, впереди оказалась прегражденной кручей в несколько десятков сажень высоты; эта, замыкающая долину стена имела вид треугольника, обращенного вершиной вниз; бока треугольника образованы профилями правого и левого скатов долины. Эти скаты покрыты лесом, но по круче, замыкающей долину, разбросаны только абрикосовые деревья. На гребень этой кручи выбежал густым фронтом еловый лес, который, вероятно, покрывает противоположный скат. Струи водопада скользят вдоль пазухи, образуемой тем боком долины, по которому мы ехали, и перегораживающей долину стеной. Так как мы могли рассматривать водопад только издали, то были не в состоянии различить в нем отдельных струй; водопад нам представлялся белой завесой, опущенной с горы, или белым полотном, лежащим без движения на поверхности горы. Это напоминает киргизам дверь юрты, которая делается в виде войлочного лоскута, висящего перед отверстием, как штора. Дверь по-киргизски «исык», отсюда и название реки.
Потом, в ближайшую весну, я еще раз посетил этот водопад. Воды было тогда в реке мало, так как была ранняя весна, и мы могли легко переходить с одного берега реки на другой в местах непроходимых приторов, и таким образом подошли вплоть к самой подошве водопада. Ложе водопада оказалось сухим. Ни одна капля не скатывалась с его ступеней. Карабкаясь с камня на камень, мы по ложу водопада добрались до самой его вершины. Местами русло водопада перегораживали колоды деревьев, снесенные водой. С вершины водопада нам открылся вид на прелестное небольшое озеро изумрудного цвета. Оно уже очистилось от льда. Уровень его был на 2–3 аршина ниже вершины водопада. Когда снега в горах растают, вода в озере, поднявшись, начинает переливаться через порог, отделяющий его от русла водопада. Мы обошли озеро с правой стороны и нашли там ущелье, которое нас вывело к другому озеру. Это последнее было больше (до 2-х верст длины) и еще покрыто льдом. Скаты высоких гор, окружающих его, были сплошь покрыты снегом. Ущелье, соединяющее два озера, очень узко и мрачно, потому что заросло густым хвойным лесом. Дно его было занято сухим руслом, по которому летом бежит соединяющий озера поток. Оно хаотически завалено буреломом.
Вечные снега на горах, бурные потоки, зеленые альпийские озера, дикорастущие фруктовые деревья, густые травы, в которых путается лошадиная нога, теплые ночи, киргизские красавицы, у которых едва скрывают наготу кисейные покровы, – все это из Заилийского края делает для нас, сибиряков, «прекрасное далеко», без которого не может обойтись в мечтах северная нация. Для англичан, немцев имеет притягательную силу край, где цветут лимонные деревья, где мул в тумане прокладывает свой путь и где дракон выводит своих детенышей в ущелье. Поэзия Пушкина и Лермонтова заставила русских людей мечтать о жаркой долине Дагестана, о башне царицы Тамары, о Бахчисарайском фонтане. Когда я очутился в Заилийском крае, я почувствовал, что он имеет такие же права на внимание северных поэтов, как Италия, Кавказ и Крым. <…>
Выбор местности под зимовку оказался неудачным. Мы зимовали у самой подошвы Тянь-Шаня, где Исык вырывается на Илийскую равнину из горного ущелья. Тут зимой земля покрывается глубоким снегом в несколько сажен высоты. Наше начальство не предвидело этого и не распорядилось отогнать казачий табун к берегам Или, где снега выпадают мелкие – только по щетку лошади. Лошади были не в состоянии добывать траву из-под глубокого снега, и половина табуна к весне вымерла с голоду. Как только осенью выпали снега, сообщение отряда с Копалом прекратилось. Мы не могли получать не только продовольствие, но даже и легкой почты. После продолжительного перерыва первая почта пришла только в конце зимы. Это значит – в январе, потому что с февраля здесь уже начинается весна и расцветают цветы; я хорошо помню, что первые цветы на Исыке появились 19 февраля. Это было какое-то небольшое стелющееся растение из семейства Funariaceae. Наша стоянка на Исыке значительно поднималась над уровнем прилегающей с севера степи; мы издалека завидели едущую почту. Более нетерпеливые поднялись на крыши землянок, но в течение нескольких часов приходилось только наблюдать на снежной равнине несколько неподвижных, черных точек, и только потом начали замечать, как эти черные точки ныряют в глубоком снегу. Стали наблюдать всадников в 10 часов утра, а доехали они до нас часа в 4 или 5 пополудни.
Пришлось и людям испытать лишения. У нас вышли вся мука и соль, осталась только ячменная крупа. Не было мяса. Пекли только ячменный хлеб без соли. Каким образом превращали ячменную крупу в муку – не помню. Варили только ячменную кашу без соли. Чаю оставалось немного. Большинство солдат и казаков вместо чая варили корни шиповника, которые рыли на соседних горах. Кажется, и я сидел без чая, потому что помню хорошо вкус навара этого суррогата и его розовый цвет. У курильщиков вышел табак. Солдаты и казаки крошили намелко свои чубуки, разбавляли этот материал какой-то травой, напоминавшей табак, и курили эту смесь. Сам полковник Перемышльский остался без табаку. Выкурив последний картуз, он у какого-то солдата за дорогую цену купил папушу махорки.