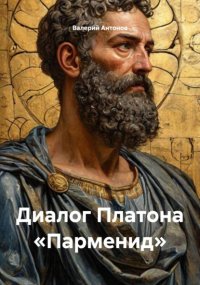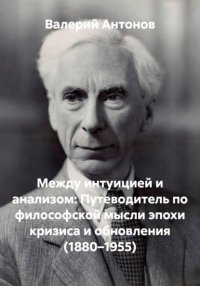
Читать онлайн Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955) бесплатно
- Все книги автора: Валерий Антонов
Предисловие
Предлагаемая читателю «История философии» – не перевод, а самостоятельное сочинение, созданное по следам и в русле фундаментального труда Фредерика Коплстона. Оно наследует его ключевые принципы, стремясь донести их до современной аудитории.
Эта книга обращена к двум главным группам читателей. Во-первых, к тем, кто делает первые шаги в постижении философии и нуждается в надежном, ясном проводнике. Во-вторых, к специалистам из иных областей знания, которые стремятся понять логику и эволюцию философской мысли, чтобы обогатить свой интеллектуальный горизонт. Мы убеждены, что ясность изложения и стремление сделать сложные системы и их взаимосвязи доступными для понимания не должны вести к вульгарным упрощениям – к сожалению, частому недостатку многих вводных работ. Здесь читатель найдет баланс между прозрачностью мысли и уважением к глубине предмета.
Подобно Коплстону, автор следует высокой степени научной строгости и объективности, опираясь на достижения современной историко-философской критики. Краеугольным камнем подхода является рассмотрение любой философской системы в ее историческом контексте и обусловленности. Лишь понимание этой конкретной отправной точки позволяет по-настоящему постичь raison d'être идей того или иного мыслителя. Однако, как справедливо полагал Коплстон, одного контекста недостаточно. Для подлинного понимания требуется определенная интеллектуальная «симпатия» – усилие, чтобы встать на место философа и заново, вместе с ним, продумать его аргументы и интуиции. Только так можно проникнуть внутрь философской системы, увидеть ее изнутри, уловить все ее нюансы и особенности.
Настоящее сочинение, сохраняя эту двойную установку – на историческую объективность и на внутреннее, сопереживающее понимание, – также наследует аналитическую и критическую проницательность, характерную для британской традиции, к которой принадлежал Коплстон. Поэтому предлагаемый путь по истории философии будет отличаться от трудов континентальных авторов не только методом, но и особым вниманием к течениям мысли, развивавшимся в англосаксонском интеллектуальном пространстве, – течениям, оказавшим решающее влияние на проблемное поле философии XX века и наших дней.
Надеемся, что эта книга, следуя канве коплстоновского замысла, поможет читателю не просто узнать набор доктрин и имен, но и пережить философию как живой, развивающийся диалог великих умов о самых важных вопросах человеческого существования.
Британский эмпиризм.
Глава I. Утилитаризм как социальная философия: от Бентама к Миллям (генезис, доктрина и внутренние противоречия).
1. Предварительные замечания.
Эволюция британского эмпиризма после Юма не ограничивается университетской философией. Хотя шотландская школа здравого смысла Томаса Рида и последующий академический идеализм временно доминировали в профессорской среде, эмпиристская традиция продолжала существовать и развиваться вне стен университетов, найдя новое выражение в утилитаристском движении XIX века. Его истоки прослеживаются в творчестве Иеремии Бентама, чье становление пришлось на конец XVIII столетия, но реальное влияние проявилось уже в следующем веке. Между классическим эмпиризмом и утилитаризмом существует отчетливая преемственность, выраженная в методологическом единстве. Бентам и его последователи, подобно Юму, применяли метод редуктивного анализа, сводя сложные явления к простым элементам, и опирались на принципы ассоциативной психологии, разработанные в XVIII веке. Прямое интеллектуальное родство Бентама с Юмом подтверждается и тем, что чтение «Трактата о человеческой природе» стало для него откровением, особенно в части критики теории общественного договора и утверждения полезности как основы добродетели.
Однако при сохранении методологического ядра произошел существенный сдвиг в акцентах и практических задачах. Если классический эмпиризм, включая Юма с его проектом науки о человеческой природе, был в первую очередь ориентирован на теоретическое понимание мира, познания и морали, то утилитаристское движение приобрело ярко выраженный практико-реформаторский характер. Его главной целью стала не интерпретация, а преобразование социальной реальности – правовых, политических и моральных институтов. Эта преобразовательная энергия была востребована либеральными и радикальными кругами английского среднего класса, стремившимися к реформам в противовес консервативной традиции, усилившейся после Французской революции. Философская упрощенность утилитаризма, его кажущаяся понятность и опора на ясный принцип наибольшего счастья наибольшего числа людей стали не слабостью, а силой, превратив его в эффективный инструмент социальной критики и политического действия.
Таким образом, утилитаризм предстает как закономерное развитие и социальная адаптация эмпиристской традиции в новых исторических условиях. В его эволюции внутри XIX века автор выделяет две основные фазы: первоначальный философский радикализм Бентама и последующую, более утонченную и расширенную версию, разработанную Джоном Стюартом Миллем. Обе фазы, объединенные общим индивидуалистическим пафосом и ориентацией на общественное благо, противопоставляются третьей, более поздней фазе – политическому идеализму, заимствовавшему из немецкой и греческой мысли органицистскую концепцию государства.
Обращение к личности и наследию Иеремии Бентама в качестве отправной точки для анализа утилитаристского движения XIX века обусловлено не столько его абсолютной философской оригинальностью, сколько его уникальной ролью систематизатора и практического катализатора. Хотя принцип полезности, который он положил в основу своей системы, не был его изобретением – его истоки прослеживаются у Хатчесона, Беккариа, Пристли, Юма и Гельвеция, – именно Бентаму принадлежит заслуга его радикального, последовательного и всеохватного применения к сферам морали, законодательства и социальных институтов. Его фигура знаменует собой качественный переход от теоретического эмпиризма XVIII века к эмпиризму деятельному, реформаторскому. Бентам становится центральным звеном, соединяющим интеллектуальную традицию с политической практикой: он трансформирует философский принцип в рабочий инструмент для критики и преобразования действительности. Его жизнь и труды демонстрируют эволюцию от частных вопросов правовой и пенитенциарной реформы к осознанию необходимости тотальной политической реконструкции как условия любого иного прогресса.
Ключевым представляется методологическое единство Бентама с его предшественниками-эмпиристами, выражающееся в приверженности редуктивному анализу и ассоциативной психологии, что обеспечивает преемственность традиции. Однако его радикальный рационализм, безразличие к исторической традиции и неприятие теорий естественного права или общественного договора как «бессмыслицы» задают новое, антитрадиционалистское и антиинтуитивистское направление мысли. Его изначальная ориентация не на гуманистический пафос, а на критерии рациональной эффективности и полезности системы подчеркивает характерный для него холодный, почти инженерный подход к социальным проблемам. Труды Бентама, часто публиковавшиеся фрагментарно и благодаря усилиям последователей вроде Дюмона или Джеймса Милля, формируют не столько законченную догматическую систему, сколько обширный проектный арсенал – от Паноптикона как модели тотального социального контроля до конституционных кодексов. Таким образом, начало анализа с Бентама оправдано его ролью создателя парадигмы: он не только унаследовал и переработал идеи предшественников, но и конституировал утилитаризм как влиятельное общественно-политическое движение, определившее интеллектуальную и реформаторскую повестку для последующих мыслителей, включая Джона Стюарта Милля.
Ядро бентамизма составляют два взаимосвязанных постулата: психологический гедонизм как описательная антропология и принцип полезности как нормативный императив. Согласно первому, человек неизбежно подчиняется «двум верховным властителям» – удовольствию и страданию, что представляет собой не моральный выбор, а непреложный факт человеческой природы. Однако Бентам переводит это описание в нормативную плоскость, утверждая, что единственным рациональным критерием добра и зла является способность действия увеличивать или уменьшать общую сумму счастья. Таким образом, принцип полезности (или наибольшего счастья) провозглашается не просто констатацией фактического стремления, а объективным мерилом моральности, преобразующим индивидуальную погоню за удовольствием в задачу максимизации коллективного благосостояния.
Логика этой системы требует инструмента для соизмерения и расчета «счастьесозидающих» последствий действий, что находит выражение в гедонистическом исчислении. Оно предполагает количественную оценку удовольствий и страданий по параметрам интенсивности, продолжительности, определенности, близости, плодотворности, чистоты и – применительно к сообществу – распространенности. Несмотря на очевидную практическую трудность, а зачастую и невозможность точного математического расчета, сама эта модель выполняет критическую функцию, рационализируя моральные и законодательные решения, переводя их из сферы интуиции или традиции в область взвешенного, пусть и приблизительного, учета последствий.
Ключевым для социальной философии Бентама становится понятие «общего интереса», которое он трактует не как мистическую или органическую сущность, а как сумму интересов отдельных индивидов. Эта редукция позволяет рассматривать общественное благо как арифметическую совокупность частных благ и ставит задачу гармонизации интересов через законодательство. Последнее призвано не просто суммировать стихийные устремления индивидов, а создавать такие рамки, в которых рациональное стремление каждого к личной выгоде, направляемое и ограничиваемое законом, приводило бы к возрастанию общего благосостояния. Однако здесь возникает фундаментальное напряжение между эгоистической психологической основой и альтруистическим общественным императивом. Бентам пытается разрешить его, апеллируя, во-первых, к признанию «удовольствий благожелательности» как естественной составляющей человеческой психики, а во-вторых, к механизмам ассоциативной психологии, способным через воспитание связать личное удовлетворение с общественным благом. Тем не менее, его пессимистический взгляд на правящие элиты, движимые узкокорыстными интересами, логически ведет к радикальному политическому выводу: только демократизация управления, передача власти в руки всех через всеобщее избирательное право и подотчетные институты, может гарантировать, что законодательство будет служить «наибольшему счастью наибольшего числа».
Критический анализ бентамизма, отраженный в тексте, выявляет его внутренние сложности и упрощения. С одной стороны, его сила – в методологической ясности, последовательном применении редуктивного анализа и переводе абстрактных моральных и политических понятий в операциональные термины индивидуальных переживаний. Это позволяет создать мощный инструмент социальной критики, особенно в таких областях, как реформа уголовного права, где принцип минимизации необходимого страдания (поскольку «всякое наказание само по себе есть зло») ведет к гуманным и рациональным выводам. С другой стороны, его слабость – в склонности к чрезмерному упрощению. Это проявляется в трактовке качественно разнородных удовольствий как сугубо количественных величин, в проблематичном сведении общего блага к простой арифметической сумме частных благ, что игнорирует возможные системные эффекты и качество общественных связей, а также в известной узости антропологической модели, сводящей многообразие человеческих мотивов к калькуляции удовольствий и страданий. Как точно отмечает Джон Стюарт Милль, Бентам выступает скорее как «великий реформатор философии», мастер разложения сложного на элементы и конструирования практических идеологий, нежели как глубокий философ, адекватно учитывающий всю сложность человеческой природы и социальной реальности. Именно эта сочетающая силу и ограниченность упрощенность, однако, и сделала его систему столь эффективным орудием социальных преобразований.
Джеймс Милль предстаёт в тексте как ключевая фигура, осуществившая институциональное и интеллектуальное закрепление бентамизма. Его биография, начиная со скромного шотландского происхождения, пути через Эдинбургский университет и краткого периода подготовки к духовной карьере, вплоть до переезда в Лондон и становления профессиональным литератором, демонстрирует тип самоучки и социального аутсайдера, чей радикализм питался личным опытом преодоления сословных барьеров. Знакомство с Бентамом в 1808 году стало поворотным моментом, определившим его роль как главного систематизатора, популяризатора и организатора утилитаристского движения. Получив благодаря фундаментальному труду «История Британской Индии» (1817) влиятельную должность в Ост-Индской компании, Милль обрёл не только финансовую независимость, но и практическую площадку для применения утилитаристских принципов в управлении.
Его интеллектуальный вклад, включая «Элементы политической экономии» (1821) и «Анализ явлений человеческого ума» (1829), а также серию политических статей, характеризуется не оригинальностью, а строгой, почти догматической адаптацией идей Бентама к различным сферам знания. В нём сочетались суховатый, лишённый сентиментальности рационализм, стоическая личная дисциплина и непоколебимая преданность доктрине. Эта преданность проявлялась и в знаменитом, тщательно спланированном образовании его сына, Джона Стюарта Милля, превращённого в эксперимент по созданию идеального утилитариста.
В политической философии Джеймс Милль последовательно развивал бентамовский скепсис относительно мотивов правящего класса. Исходя из тезиса о том, что каждый индивид естественным образом преследует собственный интерес, он делал вывод о необходимости жёсткого конституционного контроля над исполнительной властью со стороны законодательной. Однако, учитывая, что и сама Палата общин того времени представляла, по его мнению, лишь узкую группу привилегированных семей, логическим следствием становилось требование радикальной политической реформы: расширения избирательного права и проведения частых выборов как механизма, принудительно согласующего частные интересы правителей с общим благом. При этом его мировоззрение соединяло политический радикализм с экономическим либерализмом (laissez-faire), видя в невмешательстве государства в экономику естественный путь к росту общего богатства. Завершающим элементом этой конструкции была вера в преобразующую силу образования, призванного рационально доказать индивиду тождественность его подлинного интереса с благом всего сообщества, тем самым создавая психологическую основу для гармоничного общества. Таким образом, Джеймс Милль выступил как практик и организатор, переведший философские максимы Бентама в конкретную программу политического действия и воспитания.
5. Альтруизм и ассоциативная психология: полемика Милля против Маккинтоша
В основе полемики Джеймса Милля против сэра Джеймса Маккинтоша лежит фундаментальный вопрос о методологической чистоте и доктринальной самодостаточности утилитаристской этики. Хотя оба философа формально признавали принцип полезности в качестве конечного критерия морали, их расхождения касались психологического и эпистемологического обоснования этого принципа. Для Милля, верного заветам Бентама, путь от эгоистической психологии к альтруистическому поведению должен был быть объяснён исключительно через механизмы ассоциативной психологии, без привлечения каких-либо интуитивных или автономных моральных чувств. Согласно этой модели, идея блага другого человека изначально ассоциируется с собственным удовольствием индивида, но впоследствии, благодаря прочным ассоциативным связям, может превратиться в самостоятельный мотив, подобный химическому соединению, где целое не сводится к простой сумме частей. Таким образом, альтруизм предстаёт как продукт психического обусловливания, а не как проявление изначальной или особой моральной способности.
Именно против такого «особого» начала – теории морального чувства, восходящей к Хатчесону и шотландской школе, – и был направлен гнев Милля. Маккинтош, признавая полезность объективным мерилом действий, настаивал на существовании особых моральных чувств (восхищения, одобрения), которые мы испытываем к добродетельным поступкам и качествам характера, независимо от непосредственного расчёта их полезных последствий. Эти чувства он сближал с эстетическим восприятием прекрасного. Для Милля такой подход был неприемлемым компромиссом и ревизионизмом. Он видел в нём угрозу ясности и монизму бентамистской системы: если существует автономное моральное чувство, то в принципе оно может вступить в конфликт с суждением полезности, что ставит под сомнение последнее как верховный и единственный арбитр в морали. С точки зрения Милля, такое чувство в случае разногласий с принципом пользы следовало бы назвать не «моральным», а «аморальным». Любое же совпадение его велений с принципом полезности делает его излишней метафизической гипотезой, «туманной и опасной доктриной», возвращающей этику в донаучное состояние.
Таким образом, полемика выходит за рамки академического спора и раскрывает сущностные черты раннего утилитаризма: его стремление к редукционистскому объяснению всех моральных феноменов, непримиримость к любым формам интуиционизма и решимость строить этику как строгую, почти естественнонаучную дисциплину, очищенную от психологической и эпистемологической «мистики». Жёсткая позиция Джеймса Милля в этом споре подчёркивает его роль хранителя ортодоксального бентамизма, в то время как готовность его сына, Джона Стюарта Милля, к пересмотру и усложнению этих доктрин знаменует собой следующий этап в развитии утилитаристской мысли.
6. Взгляды Джеймса Милля на познание
Теория познания Джеймса Милля предстаёт как систематическое применение и развитие методологических установок классического эмпиризма и бентамистского редукционизма. В своём «Анализе явлений человеческого ума» он предпринимает попытку свести всю сложность психической жизни к простейшим элементам – ощущениям и их копиям-идеям, объединяемым под общим термином «чувства». Эта редукция служит отправной точкой для масштабного проекта реконструкции всех познавательных способностей и процессов (памяти, веры, рассуждения, воли) исключительно на основе законов ассоциации идей.
Следуя за Юмом, но стремясь к ещё большей экономии объяснительных принципов, Милль упрощает юмовскую триаду ассоциаций (смежность, причинность, сходство), сводя причинность к частному случаю смежности во времени – к регулярному и постоянному порядку следования событий. Этот ход характерен для его общей тенденции к минимизации сущностей и устранению любых «метафизических» элементов. Наиболее показательно в этом отношении его трактовка рефлексии, которую Локк рассматривал как особую операцию ума, направленную на собственные акты. Милль отождествляет рефлексию с простым наличием ощущения или идеи в сознании, фактически растворяя акт осмысленного внимания в пассивном потоке психических состояний. Такой подход, как отмечает его сын Джон Стюарт Милль, игнорирует активный, направляющий характер внимания, что является симптомом более широкой проблемы.
Таким образом, эпистемология Джеймса Милля демонстрирует как силу, так и пределы догматического эмпиризма. Его сила – в последовательном и унифицирующем объяснении, стремящемся построить целостную картину разума из минимального набора ясных элементов и простых механистических принципов их связи. Это полностью согласуется с общим проектом бентамизма, где редуктивный анализ служит инструментом демистификации сложных понятий, будь то в этике, политике или теории познания. Однако пределы этой модели становятся очевидными в её тенденции к чрезмерному упрощению, к сведению качественно разнородных и активных психических процессов к пассивной комбинаторике атомарных «чувств». Как верно подмечается в тексте, это свидетельствует о том, что эмпиризм, столь критичный к спекулятивным построениям, может порождать собственную форму догматизма – догматизма редукции, готового пренебречь феноменами, не укладывающимися в его исходные схемы. Тем не менее, эта теоретическая работа закладывала основание для последующей, более гибкой и сложной эпистемологии Джона Стюарта Милля, который, сохраняя верность эмпиризму, попытался преодолеть узость отцовской модели.
7. Заметки о бентамистской экономике
Экономические воззрения Бентама и его последователей представляют собой любопытный синтез принципа полезности и доктрины экономического либерализма (laissez-faire), отражавший интересы промышленного среднего класса. Исходный постулат предполагал, что свободный конкурентный рынок, освобождённый от искусственных ограничений (таких как протекционистские пошлины, служившие, по их мнению, частным интересам землевладельцев), в долгосрочной перспективе сам собой обеспечивает гармонию интересов и тем самым способствует общему благу. Эта вера, заимствованная у физиократов и Адама Смита, получила классическое выражение в трудовой теории стоимости Давида Рикардо, утверждавшей, что стоимость товаров определяется количеством затраченного на их производство труда. Парадоксальным образом эта теория, из которой впоследствии Маркс вывел тезис об эксплуатации, использовалась рикардианцами для обоснования справедливости и естественности свободного рынка, где цена якобы точно отражает реальную стоимость, созданную трудом.
Однако внутри этой, казалось бы, целостной конструкции существовало внутреннее напряжение между принципом полезности, требующим активного законодательного обеспечения общего блага, и верой в автономные «естественные» экономические законы, которые не должны нарушаться. Это противоречие обнажили две ключевые проблемы. Во-первых, мальтузианский «железный закон заработной платы», согласно которому заработная плата тяготеет к прожиточному минимуму, явно противоречил утилитаристскому императиву максимизации счастья наибольшего числа. Во-вторых, критика земельной ренты (например, у Рикардо и Мальтуса), трактовавшая доходы землевладельцев как незаслуженную паразитическую ренту, подрывала идею гармонии интересов на свободном рынке и оправдывала политическое вмешательство для устранения этой несправедливости.
Таким образом, изначальное разделение сфер – политической (как области необходимого законодательного регулирования) и экономической (как области стихийной гармонии) – оказалось неустойчивым. Логика самого принципа полезности, требующая активного содействия общему благосостоянию, постепенно пробивала брешь в стене экономического либерализма. Эволюция взглядов Джона Стюарта Милля, пришедшего к идее ограниченного государственного вмешательства в распределение богатства, была не отходом от утилитаризма, а, напротив, его последовательным развитием – применением верховного критерия полезности к экономической сфере, которое сдерживалось лишь первоначальной верой в непреложность автономных экономических законов. Это движение знаменовало собой преодоление внутреннего дуализма раннего бентамизма и расширение сферы рационального, основанного на пользе социального управления.
Утилитаризм как проект Просвещения: между редукцией и реформой.
Анализ генезиса и развития британского утилитаризма от Бентама до Джеймса Милля раскрывает перед нами не просто историю философской школы, но масштабный проект рационального преобразования общества, глубоко укоренённый в методологии классического эмпиризма. Этот проект предстаёт как диалектическое единство двух импульсов: критико-редуктивного анализа, разлагающего сложные социальные и моральные абстракции на простые элементы человеческого опыта, и практико-реформаторского пафоса, стремящегося переустроить мир на основе выявленных рациональных принципов.
Истоки этого движения лежат в радикальном переосмыслении эмпиристского наследия. Если Юм обратил скептический анализ на основания познания и морали, то Бентам и его последователи совершили решительный поворот от теории к практике. Принцип полезности, воспринятый не как отвлечённая идея, а как рабочий инструмент, стал «философским скальпелем» для вскрытия социальных институтов. Его сила заключалась в кажущейся простоте и ясности: он предлагал заменить туманные апелляции к традиции, естественному праву или моральному чувству холодным расчётом последствий, измеряемых в единицах счастья и страдания. Эта демократизация этического мышления, сводившая благо к практически проверяемым параметрам, и стала идеологическим оружием восходящего среднего класса в борьбе с аристократическим «истеблишментом» и архаичными институтами.
Однако сила утилитаризма одновременно являлась и источником его фундаментальных противоречий, которые структурируют его историю.
Первое противоречие – между механистической антропологией и альтруистическим императивом. Исходная модель психологического гедонизма постулировала человека как изолированного искателя удовольствий. Но чтобы обосновать переход от этого эгоистического атома к общественному благу как цели законодательства, потребовалась сложная теоретическая конструкция. Джеймс Милль, верный догмам редукционизма, пытался разрешить это противоречие исключительно средствами ассоциативной психологии, где альтруизм есть продукт обусловливания, а не врождённое чувство. Его яростная полемика с Маккинтошем, пытавшимся примирить полезность с интуитивным моральным чувством, – яркий симптом этой борьбы за чистоту доктрины. Он отстаивал монизм объяснения, опасаясь, что любое допущение автономной моральной способности подорвет верховенство рационального расчёта и вернёт этику в царство «туманной метафизики».
Второе противоречие – между политическим радикализмом и экономическим либерализмом. В политической сфере утилитаристы были непреклонными интервенционистами: они требовали активного реформирования государства, видя в демократическом контроле единственный способ заставить правящие элиты служить общему интересу. Но в экономике они долгое время оставались апологетами laissez-faire, веря в стихийную гармонию интересов на свободном рынке. Это разделение сфер было непоследовательно с точки зрения их же верховного принципа. Логика полезности неизбежно должна была поставить вопрос: если закон может и должен гармонизировать интересы в политике, почему он не может корректировать вопиющие экономические дисгармонии, вроде «железного закона заработной платы» или паразитической земельной ренты? Именно это внутреннее напряжение проложило путь эволюции утилитаризма у Джона Стюарта Милля, который начал стирать эту искусственную границу, допуская государственное вмешательство для справедливого распределения благ.
Третье противоречие – между методологическим догматизмом и реформаторским прагматизмом. Как верно подмечено, эмпиризм может порождать свой собственный догматизм. Редуктивный анализ, будучи мощным критическим оружием против спекулятивных систем, в руках Джеймса Милля превратился в прокрустово ложе. Его попытка свести всё богатство психической жизни (включая рефлексию и волю) к ассоциациям элементарных чувств демонстрирует слепоту редукционизма к качественной специфике сложных феноменов. И здесь мы видим парадокс: в практической социальной критике утилитаристы были проницательными и гибкими, их аргументы против жестокости уголовного права или политической коррупции сохраняют силу. Но в теоретическом обосновании своей этики и психологии они часто проявляли ту самую узость, в которой упрекали оппонентов.
Таким образом, утилитаризм первой волны предстаёт перед нами как амбивалентное наследие Просвещения. С одной стороны, это триумф рациональности, научного подхода к обществу, гуманизации права через принцип минимизации страдания. С другой – это трактовка человека и общества через упрощённые, механистические модели, игнорирующие глубину мотивации, ценность традиции как хранительницы социального опыта и качественное различие видов блага.
Историческая роль Бентама и Джеймса Милля заключается не в том, что они дали окончательные ответы, а в том, что они сформулировали вопросы с беспрецедентной прямотой и создали практическую идеологию реформ. Их сила – не в глубине философской рефлексии, а в энергии преобразования. Они были не столько «великими философами», сколько «великими реформаторами философии», переведшими её из кабинетной схоластики в поле битвы за социальную справедливость. Их ограниченность стала вызовом для следующего поколения, а их главный принцип – требование оценивать каждое действие и институт по последствиям для человеческого счастья – остаётся незаменимым компасом в моральном и политическом выборе, постоянным напоминанием о том, что любая абстракция должна в конечном счёте служить конкретному человеку в его стремлении к благой жизни.
Интеллектуальное становление Джона Стюарта Милля: синтез утилитаризма и романтизма.
Джон Стюарт Милль, родившийся в 1806 году, получил уникальное и интенсивное образование под руководством своего отца, Джеймса Милля. Его раннее обучение, детально описанное в «Автобиографии», представляло собой строгий интеллектуальный курс, включавший изучение классических языков, истории, математики и, к двенадцати годам, логики. К 1819 году он уже был знаком с трудами Адама Смита и Давида Рикардо, что заложило основу его экономических взглядов. Примечательно, что Милль был воспитан вне рамок традиционной религии, хотя отец и поощрял его к изучению различных верований как социокультурных феноменов.
Поездка во Францию в 1820 году стала важным этапом его формирования. Там он не только углубил знания в естественных науках и математике, но и познакомился с французскими либеральными мыслителями. По возвращении в Англию его философский кругозор расширился благодаря изучению работ Кондильяка, Локка, Юма и, что особенно значимо, Иеремии Бентама. Милль стал активным участником утилитаристского движения, основав собственный кружок. Его ранняя карьера была связана с Ост-Индской компанией, где он со временем занял высокий пост, параллельно занимаясь литературной и редакторской работой, включая издание трудов Бентама.
Глубокий интеллектуальный и эмоциональный кризис, пережитый Миллем в 1826 году, стал поворотным моментом в его мысли. Он не отверг утилитаризм, но подверг его критическому переосмыслению. Ключевым выводом стало понимание того, что счастье не является прямым продуктом его целенаправленного поиска; оно возникает как побочный эффект деятельности, направленной на другие идеалы. Этот инсайт подорвал узкий гедонистический расчет раннего бентамизма. Вторым важным открытием стала необходимость культивирования эмоциональной и эстетической сферы, недооцененной Бентамом. Милль обратился к поэзии, искусству и идеям мыслителей, противоположных утилитаристам, таких как Колридж и Карлейль. Таким образом, его философский проект превратился в попытку синтеза: сохранения аналитической строгости и социального реформизма Просвещения с романтическим вниманием к внутреннему миру человека, чувствам и творческому началу.
Этот синтетический подход определил его дальнейшую работу. Знакомство с сен-симонистами заставило его критически пересмотреть доктрину laissez-faire, хотя он и оставался принципиальным защитником индивидуальной свободы. Его главные труды – «Система логики» (1843), «Основы политической экономии» (1848), «О свободе» (1859), «Утилитаризм» (1861) и «Размышления о представительном правлении» (1861) – отражают эту двойственную природу. В них рациональный анализ институтов сочетается с глубокой озабоченностью развитием человеческой личности, её автономии и разнообразия. Переписка и сложные отношения с Огюстом Контом также демонстрируют попытку Милля заимствовать элементы позитивистской методологии, решительно отвергая при этом тоталитарные тенденции контовской «религии человечества».
Поздний период жизни Милля был отмечен активной общественно-политической деятельностью, включая членство в парламенте (1865–1868), где он выступал за расширение избирательного права, права женщин, пропорциональное представительство и справедливую политику в отношении Ирландии. Его этические и религиозные взгляды, изложенные в посмертно изданных «Очерках о религии», эволюционировали в сторону рассмотрения идеи ограниченного божества, что согласовывалось с его общим мировоззрением, отвергающим догматизм и признающим несовершенство любых систем.
Современное звучание идей Милля заключается в его стремлении преодолеть односторонность идеологий. Его попытка уравновесить индивидуальную свободу и социальную ответственность, экономическую эффективность и заботу о справедливости, рациональный расчет и значение эмоционального опыта остаётся актуальной в контексте современных дискуссий о либерализме, благосостоянии и роли личности в сложном обществе. Милль предстаёт не просто последователем утилитаризма, а мыслителем, который, пройдя через внутренний кризис, создал гуманистическую и плюралистическую философию, центром которой является свободная, развивающаяся и ответственная человеческая личность.
Качественная трансформация утилитаризма: этика Милля между удовольствием и совершенством
В своей работе «Утилитаризм» Джон Стюарт Милль формально принимает базовый принцип утилитаристской этики, сформулированный Иеремией Бентамом: поступки правильны постольку, поскольку способствуют счастью, понимаемому как удовольствие и отсутствие страдания. Милль активно защищает эту доктрину от обвинений в эгоизме, подчеркивая, что моральный императив требует максимизации общего счастья, а не личного благополучия деятеля. Для обоснования принципа наибольшего счастья он использует характерную для бентамизма ассоциативную психологию: изначально средства к счастью, такие как добродетель или деньги, через повторяющуюся ассоциацию с удовольствием сами становятся желанными целями и частью самого счастья.
Однако подлинное новаторство и внутреннее напряжение этики Милля раскрываются в его радикальном отступлении от количественного гедонизма Бентама. Милль вводит принцип качественного различения удовольствий, утверждая, что одни виды удовольствий по своей внутренней природе ценнее других, независимо от их количества или интенсивности. Его знаменитый афоризм – «Лучше быть неудовлетворённым человеком, чем удовлетворённой свиньёй; лучше быть неудовлетворённым Сократом, чем удовлетворённым глупцом» – служит краеугольным камнем этой качественной иерархии. В этом суждении заключено фундаментальное противоречие с исходным бентамизмом. Количественный подход Бентама, опиравшийся на «гедонистическое исчисление», по своей сути не мог оперировать внутренними качественными различиями, поскольку единственным мерилом удовольствия оставалось бы само же удовольствие, измеряемое в его параметрах (интенсивность, длительность и пр.). Как только признаётся качественное превосходство, требуется внешний по отношению к удовольствию критерий оценки.
Таким критерием для Милля становится определённая концепция человеческой природы и её совершенствования. Качественно высшие удовольствия – это те, которые предпочитают существа, обладающие более развитыми способностями, и которые связаны с «высшими качествами» человека. Критикуя Бентама за узкое, сводящееся к интересу и симпатии понимание человеческой мотивации, Милль указывает на упущение стремления к «духовному совершенству как к цели». Тем самым он имплицитно апеллирует к нормативному идеалу человеческого развития, близкому к аристотелевской традиции, где добродетель – это реализация специфической человеческой природы.
Этот нормативный идеал получает дальнейшее развитие в трактате «О свободе», где Милль определяет полезность «в самом широком смысле, основанном на постоянных интересах человека как прогрессирующего существа». Целью становится «высшее и наиболее гармоничное развитие… способностей к целостному и последовательному единству», как он цитирует Гумбольдта. Индивидуальность понимается не как произвольная эксцентричность, а как культивирование и интеграция всех человеческих способностей в соответствии с этим идеалом.
Таким образом, этическая система Милля представляет собой сложный и внутренне напряжённый синтез. Он пытается сохранить формальную структуру утилитаризма с его принципом максимизации общего блага, но наполняет её качественно иным содержанием. Критерием правильного действия становится уже не просто сумма удовольствий, а способствование такому состоянию общества и таким условиям индивидуальной жизни, которые позволяют человеку реализовать свой высший потенциал как «прогрессирующего существа». Эта трансформация знаменует переход от гедонистического калькулятивного утилитаризма к его перфекционистской или эвдемонистической версии, где счастье тождественно полноценной и достойной человеческой жизни. Современное звучание этой идеи заключается в её актуальности для дискуссий о качестве жизни, человеческом достоинстве и условиях самореализации в современном обществе, выходящих за рамки простого материального благосостояния или субъективного удовлетворения.
Аристотелевские основания и социоцентризм: преодоление бентамовского эгоизма в утилитаризме Милля
Сближение этики Милля с аристотелевской традицией не является надуманным, поскольку его философия преодолевает инструментальное понимание деятельности, характерное для радикального бентамизма. Для Бентама, занятого практическими реформами, моральная ценность действий оценивалась исключительно по их внешним последствиям – произведённому удовольствию или страданию. Милль же, следуя интуиции Аристотеля, утверждает, что осуществление определённых человеческих деятельностей не является просто средством для достижения счастья как внешней цели, а составляет его внутреннюю, органическую часть. Счастье для него – не абстрактная сумма удовольствий, а «конкретное целое», включающее в себя саму деятельность и её переживание, будь то наслаждение здоровьем или восприятие музыки. Таким образом, цель (счастье) и средства (деятельность) оказываются неразрывно связанными, что трансформирует утилитаризм из чисто консеквенциалистской доктрины в теорию, признающую внутреннюю ценность определённых форм человеческого бытия.
Центральная теоретическая проблема, которую Милль наследует от Бентама, – обоснование перехода от естественного стремления индивида к личному счастью к моральному императиву максимизации всеобщего счастья. Бентамовский подход, сводящий общее благо к арифметической сумме индивидуальных благ, логически не обязывает эгоистичного агента заботиться о благе других. Милль осознаёт эту трудность и предлагает иное, органицистское решение. Всеобщее счастье предстаёт не как простая совокупность, а как целое, частью которого является счастье индивида. Ключом к преодолению разрыва между эгоизмом и альтруизмом становится апелляция к социальной природе человека. Милль утверждает, что прочное основание утилитаристской морали зиждется на «социальных чувствах человечества» – врождённом, хотя и укрепляемом цивилизацией, желании единения с себе подобными. Для человека как существа, по самой своей природе включённого в социальное тело, стремление к общему благу со временем перестаёт восприниматься как внешнее принуждение и становится естественной, внутренне приемлемой установкой. Эта «последняя санкция» морали превращает долг в органическое продолжение собственных, социально обусловленных желаний личности.
Однако даже такая социально укоренённая версия утилитаризма сталкивается с классическим возражением, восходящим к Юму: невозможно вывести нормативное суждение («должное») из сугубо фактических утверждений («сущее»). Утилитаризм, казалось бы, совершает эту ошибку, делая вывод о том, как должно действовать, из констатации того, что люди фактически стремятся к счастью. Защита теории требует признания, что в её основе лежат не только эмпирические посылки. Имплицитно утилитаристы предполагают оценочное суждение о высшей ценности счастья как конечной цели, а также нормативный принцип рациональности, согласно которому разумно и достойно одобрения действовать наиболее эффективным образом для достижения признанной цели. У Бентама эта цель – максимализация удовольствия; у Милля – гармоничное развитие человеческих способностей, составляющее подлинное счастье. Таким образом, утилитаризм опирается на комплекс предпосылок, включающих как фактологические констатации человеческой психологии, так и скрытые аксиологические и деонтологические утверждения.
Эволюция утилитаристской мысли от Бентама к Миллю демонстрирует её внутреннюю динамику и ограничения. С одной стороны, живучесть консеквенциалистского подхода подтверждается его укоренённостью в обыденном моральном рассуждении, где мы часто апеллируем к последствиям поступков. С другой стороны, неудовлетворённость узким гедонизмом, которую испытывал и преодолевал Милль, с неизбежностью подталкивает к разработке более содержательной философской антропологии. Невозможно последовательно отстаивать качественное превосходство «высших удовольствий» или социальную санкцию морали, не обращаясь к определённому представлению о сущности и предназначении человека. Реформа Милля, таким образом, выявляет фундаментальную потребность любой серьёзной этической системы: она должна быть основана на понимании человека не просто как ищущего удовольствия существа, но как личности, чьё благо реализуется в сложном переплетении деятельности, социальных связей и стремления к внутренней гармонии и совершенству. В этом заключается современное значение его этического синтеза, актуальное для поисков баланса между индивидуальным благом и общественным прогрессом в условиях сложных социальных взаимозависимостей.
Свобода, демократия и государство: диалектика индивидуализма и общего блага у Милля
Теория гражданской свободы и правления Джона Стюарта Милля органично вытекает из его этического идеала саморазвивающейся личности и представляет собой попытку примирить безусловную ценность индивидуальной свободы с требованиями общественного блага. Отвергая доктрину естественных прав как абстрактную метафизику, Милль обосновывает свободу принципом полезности, интерпретированным в широком, перфекционистском ключе: свободное развитие индивидуальности является не только главным элементом человеческого счастья, но и необходимым условием социального прогресса. Из этого следует знаменитый «вредный принцип»: единственным законным основанием для ограничения свободы индивида является предотвращение вреда другим. В сфере, касающейся только его самого, индивид суверенен. Эта максима, однако, сталкивается с фундаментальной трудностью определения границ между частным и публичным, саморегулированием и вмешательством общества. Сам Милль осознаёт эту проблему и предлагает её разрешение через максимально ограничительное толкование «вреда» как определённого и реального ущерба, а не просто морального неодобрения большинства, подчёркивая небезупречность общественного мнения в вопросах личного блага.
В политической теории Милль рассматривает демократию не просто как механизм гармонизации интересов (как у Бентама), но прежде всего как образовательный и воспитательный институт, способствующий развитию активного, ответственного и граждански сознательного характера. Идеальной формой правления для цивилизованного общества является представительная демократия, поскольку она позволяет каждому гражданину участвовать в управлении, защищает его от произвола и воспитывает заботу об общем благе. Однако Милль отчётливо видит угрозу «тирании большинства» – возможность угнетения меньшинства или навязывания единообразия со стороны масс. В качестве противовеса он предлагает не только конституционные механизмы (пропорциональное представительство, защита прав меньшинств), но и всеобщее образование, призванное воспитать подлинное уважение к свободе и достоинству каждого человека.
Отношение Милля к государственному вмешательству отражает внутреннее напряжение между его приверженностью индивидуальной свободе и стремлением к общему благу. С одной стороны, он испытывает глубокое недоверие к государственной бюрократии, видя в ней угрозу умственной активности, инициативе и разнообразию («педантократия»). С другой – принцип полезности и предотвращения вреда другим позволяет ему оправдывать широкий спектр социального законодательства. Ярким примером служит его позиция по образованию: государство должно гарантировать получение образования каждым ребёнком, но не обязательно через единую государственную систему, дабы избежать интеллектуального деспотизма. Аналогично, законы, регулирующие рабочее время или условия труда, трактуются им не как посягательство на свободу договора, а как устранение принуждения, вызванного крайней нуждой, и создание условий для подлинно свободного выбора и человеческого развития.
Эволюция взглядов Милля в сторону поддержки определённых социалистических идей (например, в области распределения богатства) и социального законодательства не является простым отступничеством от раннего либерализма, а логическим следствием его системы. Свобода понимается им не как негативное отсутствие вмешательства, а как позитивная возможность самореализации, требующая определённых материальных и социальных предпосылок. Государственная деятельность, направленная на устранение препятствий такому развитию (бедность, невежество, чрезмерная эксплуатация), становится не врагом свободы, а её необходимым условием. Таким образом, Милль намечает путь от классического либерализма к либерализму социальному, предвосхищая идею о том, что подлинная индивидуальная автономия невозможна без социальной справедливости.
Философское значение развития утилитаризма Миллем заключается в переходе от количественной модели человека как искателя удовольствия к качественной концепции личности, стремящейся к гармоничному и активному развитию своих высших способностей. Эта смена парадигмы трансформирует и политическую теорию: демократия ценится не только как эффективный инструмент, но и как среда, наиболее благоприятная для расцвета человеческой индивидуальности. Практический же импульс его мысли проявляется в стремлении найти баланс между уважением к личной свободе и ответственностью общества за создание условий, в которых эта свобода может быть осмысленно реализована всеми его членами. Несмотря на определённые неразрешённые напряжения в его системе, Милль остаётся последовательным индивидуалистом, для которого конечной ценностью является развивающийся индивид, чья полноценная жизнь возможна только в свободном и прогрессирующем обществе.
Свобода воли и психологический детерминизм: диалектика характера и предсказуемости у Милля
Проблема психологической свободы, или свободы воли, рассматривается Миллем в контексте его эмпирической философии и утилитаристской этики. Он отвергает либертарианскую концепцию свободы как беспричинного, недетерминированного выбора, считая её равнозначной утверждению о случайности и произвольности человеческих действий. Вместо этого Милль отстаивает доктрину «философской необходимости», понимаемую как универсальный причинный порядок, применимый и к человеческой психике. Согласно этой позиции, каждое волевое действие детерминировано характером индивида и совокупностью действующих мотивов; при полном знании этих факторов действие могло бы быть безошибочно предсказано в принципе.
Однако Милль стремится показать, что такой психологический детерминизм не только совместим с обыденным пониманием свободы, но и необходим для последовательной этики. Свобода, с его точки зрения, заключается не в индетерминизме, а в способности действовать в соответствии со своими желаниями и характером, а также в возможности формировать этот самый характер. Человек свободен, если мог бы поступить иначе при ином сочетании мотивов или при ином характере. Ключевым является тезис о том, что «наш характер формируется как нами, так и до нас»: хотя первоначальное становление личности обусловлено внешними факторами (воспитанием, средой), взрослый индивид способен через самоанализ, усилие воли и накопленный опыт целенаправленно изменять свои склонности и привычки. Этот процесс также причинно обусловлен (например, страданием от последствий дурного характера или восхищением добродетелью), но причина здесь не является чисто внешней; она включает в себя рефлексивное отношение личности к самой себе.
Таким образом, теория Милля представляет собой форму «детерминизма характера», которая, однако, оставляет пространство для нравственного развития и ответственности. Поскольку действия вытекают из характера, а характер поддаётся изменению через воспитание желаний и отвращений, этика сохраняет свой смысл. Санкции и наказания имеют педагогическую и защитную функции: они призваны укреплять полезные мотивы и предотвращать вред. Предсказуемость действий не отменяет ответственности, так как сама возможность влияния на мотивы через наказание или поощрение предполагает причинную связь между стимулами и поведением.
Внутреннее напряжение в позиции Милля возникает при попытке согласовать идею активного самоформирования характера с требованием универсальной причинной предсказуемости. Если каждое усилие по самосовершенствованию также детерминировано предшествующими причинами (унаследованными склонностями, прошлым опытом, актуальными мотивами), то в каком смысле индивид является подлинным автором своего развития? Милль пытается избежать жёсткого внешнего детерминизма, указывая на внутреннюю причинность, но в рамках его эмпиристского понимания причинности как «неизменной последовательности» это различие стирается. В результате его концепция свободы рискует свестись к особому виду детерминизма, где «свобода» означает лишь осознанное следование сильнейшему мотиву, который сам обусловлен характером.
Современное звучание этой дискуссии заключается в её пересечении с вопросами нейронаук, психологии и искусственного интеллекта. Детерминистский взгляд Милля предвосхищает современные дебаты о том, оставляет ли научное понимание мозговых процессов место для свободы воли. Его попытка сохранить понятия ответственности и нравственного воспитания в рамках причинного объяснения психики остаётся влиятельной моделью для компатибилистских теорий, стремящихся примирить детерминизм с моральной и правовой практикой. Однако сохраняющаяся трудность, которую Милль полностью не разрешает, – это проблема подлинного авторства и спонтанности, нередуцируемой к предшествующим условиям. Как отмечали позднейшие критики (например, Анри Бергсон), язык причинности и предсказуемости, унаследованный от естественных наук, может быть недостаточным для описания феномена человеческой свободы, требующего иного, нередуктивного концептуального аппарата, основанного на целостном понимании личности и её творческой способности к новизне.
Логика как инструмент поиска истины: между индукцией и эмпиризмом у Милля
Восстанавливая статус логики как серьёзного философского исследования, Джон Стюарт Милль, признавая заслуги Ричарда Уэйтли в её возрождении, существенно расходится с ним в понимании её природы и задач. Для Милля логика – не просто наука о формальной правильности дедуктивного вывода, а широкая дисциплина, занимающаяся всеми операциями человеческого ума в поиске истины. Критикуя узость взглядов Уэйтли, сосредоточенных на силлогизме, Милль ставит во главу угла индуктивную логику – систематизацию методов открытия и обоснования новых истин, прежде всего в естественных науках. Его амбициозный проект заключается в построении научной теории индукции, аналогичной по строгости теории дедукции, что, по мнению Уэйтли, было невозможно. Кроме того, Милль распространяет эту программу на область «нравственных наук» (психологию и социологию), стремясь применить к ним экспериментальный метод, задуманный ещё Юмом для науки о человеческой природе.
Отношение Милля к эмпиризму двойственно. С одной стороны, он решительно отвергает «эмпиризм» в уничижительном смысле – как практику поверхностных обобщений на основе простого перечисления случаев, без проникновения в причинные связи (так называемые «эмпирические законы»). Такой метод он считает ненаучным и опасным источником предрассудков. С другой стороны, в гносеологическом плане Милль является последовательным эмпиристом: вслед за Локком он утверждает, что весь материал знания поступает из опыта. Даже интуиция, которую он признаёт источником знания, понимается им не как непосредственное познание внешних сущностей, а как сознание или непосредственное восприятие наших собственных ощущений и чувств. Таким образом, его система стремится вывести всё знание из опыта, а интеллектуальные и моральные качества – из ассоциаций, формируемых под влиянием обстоятельств.
Эта эмпиристская установка имеет для Милля не только теоретическое, но и социально-критическое значение. Он видит в теории априорного или интуитивного знания, пропагандируемой немецкой философией и отчасти Уэвеллом, интеллектуальную опору для консервативных доктрин и укоренившихся предрассудков, поскольку она позволяет возводить частные убеждения в ранг самоочевидных истин, не требующих эмпирической проверки. Поэтому его попытка объяснить даже математическое знание, традиционный оплот интуиционизма, исходя из опыта, служит не только решению теоретической задачи, но и «социальной службе» – расчистке поля для рациональных реформ и прогресса.
Внутреннее напряжение в позиции Милля возникает из-за того, что, будучи методологическим эмпиристом, отрицающим абсолютные истины и настаивающим на принципиальной исправимости любого обобщения, он одновременно, строя свою теорию научной индукции, имплицитно предполагает существование устойчивой, познаваемой структуры природы, законы которой выражают необходимые связи и могут быть установлены с уверенностью. Эта двойственность отражает сложность его философской позиции: стремясь создать надёжный метод для открытия объективных истин, он остаётся в рамках традиции, для которой единственным источником знания является опыт, а все обобщения имеют вероятностный характер. Несмотря на эту неоднозначность, в историческом контексте английской философии и благодаря влиянию его идей именно эмпиристская сторона мысли Милля оказалась наиболее значимой, закрепив за ним статус одного из последних крупных систематизаторов британского эмпиризма.
Язык и познание: реальные и номинальные предложения в логике Милля
Исходным пунктом логической системы Милля является анализ языка, поскольку выводы, составляющие предмет логики, осуществляются преимущественно посредством слов. В центре этого анализа лежит теория имен, различающая денотацию (объекты, на которые имя указывает) и коннотацию (атрибуты, которые имя подразумевает). Универсальные конкретные имена (например, «человек») обладают как денотацией, так и коннотацией, причём именно коннотация составляет их смысл. Собственные имена (например, «Джон»), напротив, лишь обозначают индивидов, не коннотируя атрибутов, и потому в строгом смысле лишены значения. Интересно, что термин «Бог», даже будучи применяемым к единственному существу, Милль не считает собственным именем, поскольку он коннотирует определённый набор атрибутов, ограничивающих его референцию.
Предложение трактуется Миллем как утверждение или отрицание одного имени о другом, обычно выражаемое связкой «есть»/«не есть». Он подчёркивает важность различения экзистенциального и связочного употребления глагола «быть», чтобы избежать логических ошибок, например, приписывания существования воображаемым объектам на том основании, что о них можно что-либо утверждать.
Ключевое разграничение Милля – между реальными и номинальными предложениями. Реальные предложения (аналогичные кантовским синтетическим суждениям и юмовским суждениям о фактах) несут новую эмпирическую информацию, утверждая о субъекте предикат, не содержащийся в коннотации его имени (например, «Джон женат»). Номинальные же предложения (аналогичные аналитическим суждениям и суждениям об отношениях идей) лишь эксплицируют смысл имён, не сообщая ничего о внеязыковой реальности. Типичными номинальными предложениями являются определения, которые декларируют значение слова в соответствии с обычным употреблением или специальным замыслом говорящего. Милль подчёркивает, что определение, будучи номинальным, не является чисто произвольным: формирование определений должно учитывать опыт и фактическое употребление терминов, однако само определение лишь делает явной коннотацию имени, не утверждая существования соответствующих объектов. Смешение возникает из-за двусмысленности связки: высказывание «человек есть разумное животное» может тайно содержать два утверждения – номинальное (о значении слова «человек») и экзистенциальное (о существовании существ, обладающих этими атрибутами).
Реальные предложения, такие как универсальные обобщения («все люди смертны»), имеют, по Миллю, двоякий аспект: спекулятивный (констатация регулярной ассоциации явлений) и практический (указание на предсказательную силу признаков). В научном выводе особенно важен последний, так как он ориентирует на ожидание будущих событий.
Что касается статуса необходимой истины, Милль, будучи последовательным эмпиристом, отрицает существование синтетических априорных суждений. Все реальные предложения, сколь бы прочно ни были установлены соответствующие регулярности опыта, в принципе подлежат пересмотру. Необходимость некоторых из них (например, математических) носит психологический, а не логический характер: мы находим их отрицание невероятным, поскольку никогда не сталкивались с исключениями, но это не гарантирует их истинность во всех возможных мирах. Тем не менее, Милль осознаёт сложность этой позиции, особенно в отношении математики – традиционного оплота априоризма, что требует отдельного рассмотрения его взглядов на природу математического знания.
Эмпирические основания и гипотетическая необходимость: Милль о природе математики.
Характер математического знания представляет для Джона Стюарта Милля особую трудность в рамках его эмпиристской программы. С одной стороны, он признаёт специфику математических истин: их независимость от фактуальной последовательности, непричастность законам причинности и строго дедуктивный характер рассуждений, не допускающий введения произвольных гипотез. С другой – он отвергает интуиционистскую и априористскую трактовку математики, представленную, в частности, Уильямом Уэвеллом, согласно которой её первые принципы самоочевидны и познаются независимо от опыта.
Милль оспаривает также позицию Дугалда Стюарта, считавшего математические предложения выводными следствиями из произвольных определений, что, по мнению Милля, делает необъяснимым успешное применение математики к реальному миру. Чтобы сохранить истинность математических теорем и преодолеть разрыв между чистой и прикладной математикой, Милль предлагает оригинальный анализ: евклидовы определения суть не чистые номинальные предложения, а сложные формулировки, содержащие скрытые постулаты (гипотезы) о реальных возможностях. Например, определение круга можно разложить на два утверждения: 1) постулат о существовании фигуры, все точки которой равноудалены от центра (эмпирическая гипотеза), и 2) собственно номинальное определение, дающее имя такому объекту. Таким образом, предпосылками математической дедукции становятся не произвольные вербальные конструкции, а гипотезы, имеющие отношение к фактам.
Однако фундаментальный тезис Милля состоит в том, что все исходные принципы математики – аксиомы и постулаты – сами являются результатом наблюдения и опыта, индуктивными обобщениями, основанными на свидетельстве чувств. Необходимость математических истин имеет, согласно этой точке зрения, психологическую, а не абсолютную природу: это продукт ассоциации идей, сложившейся благодаря полному отсутствию в опыте противоречащих случаев. Так, аксиома равенства вещей, равных третьей, истинна для всех наблюдаемых линий и фигур, и наша уверенность в её необходимости объясняется униформностью опыта, а не интуитивным прозрением.
Пытаясь примирить эту эмпиристскую установку с успехами математики в познании природы, Милль в поздних работах делает замечания, подрывающие последовательность его позиции. Он говорит о законах числа как лежащих в основе законов протяжённости и силы, а последних – в основе всех законов материальной вселенной, и даже намекает на то, что феномены таковы, каковы они есть, именно вследствие определённых математических закономерностей. Это сближает его взгляды с позицией Галилея о математической структуре природы и создаёт напряжение с идеей о том, что математические аксиомы – просто эмпирические гипотезы, которые могли бы быть иными. Проблема усугубляется неясностью статуса этих «гипотез»: с одной стороны, они известны как не являющиеся буквально истинными (например, идеальная линия без ширины), с другой – в них есть нечто «достоверное». Необходимость математических выводов оказывается, таким образом, чисто гипотетической (логической следственностью из посылок), тогда как сами посылки имеют двусмысленный онтологический статус.
Таким образом, в интерпретации математики у Милля можно выделить несколько не вполне согласованных линий. Первая – последовательно эмпиристская: математические истины суть индуктивные обобщения, их необходимость – психологический феномен, а применение к реальности возможно благодаря тому, что посылки содержат эмпирические гипотезы. Вторая, имплицитно проступающая в его поздних высказываниях, тяготеет к признанию особого, фундаментального статуса математических законов в структуре реальности. Третья, потенциально возможная в рамках его системы, но им не принятая, – формалистская: математические аксиомы могли бы рассматриваться как номинальные предложения, истинные в силу соглашений о значении символов. Неразрешённое напряжение между этими подходами отражает фундаментальную трудность эмпиристской программы в объяснении необходимости, универсальности и эвристической силы математики.
Силлогизм как интерпретация: между логикой последовательности и логикой открытия.
Согласно Джону Стюарту Миллю, вывод можно разделить на два основных типа: дедуктивный, идущий от более общих положений к менее общим, и индуктивный, в котором заключение охватывает больше, чем содержится в посылках. Подлинным, «реальным» выводом, расширяющим знание, является только индукция, поскольку она приводит к новой истине. Силлогистическое же рассуждение, где заключение должно быть заранее содержаться в посылках, не может открыть ничего нового; его функция – обеспечение логической последовательности и выявление противоречий.
Однако более глубокий анализ Милля показывает, что ситуация сложнее. Рассмотрим классический силлогизм: «Все люди смертны; герцог Веллингтон – человек; следовательно, герцог Веллингтон смертен». Если большая посылка «все люди смертны» понимается как реальное предложение (синтетическое суждение, основанное на опыте), а не как номинальное (аналитическое), то знание о смертности всех конкретных людей из прошлого опыта не включает в себя знание о будущей смерти герцога Веллингтона. Следовательно, заключение логически не предсодержится в посылках, и силлогистический вывод в строгом смысле не был бы валидным.
Разрешение этого парадокса Милль находит в переосмыслении роли общей посылки. Универсальное предложение «все люди смертны» – это не предпосылка, из которой дедуцируется заключение, а сжатая «формула» или памятная запись уже сделанных индуктивных выводов о прошлых случаях. Она служит руководством для предсказания будущих событий. Таким образом, реальный логический вывод происходит не от общей посылки к частному случаю, а всегда «от частного к частному»: на основе наблюдённых в прошлом конкретных случаев смертности людей мы заключаем о смертности нового конкретного индивида. Общее предложение – это лишь удобное средство для систематизации и применения этого индуктивного опыта. Силлогистическое рассуждение в таком контексте представляет собой не вывод, а процесс «интерпретации» формулы, то есть подведение конкретного случая под общее правило, выведенное ранее индуктивным путём.
Следовательно, глубокое различие между дедуктивной и индуктивной логикой сглаживается. Силлогизм не является самостоятельным источником нового знания; это фаза в более широком индуктивном процессе или, в таких областях, как теология и право, – процедура интерпретации положений, взятых из авторитетного источника. Правила силлогистики суть правила корректной интерпретации общих положений, обеспечивающие последовательность мысли, а не правила вывода в собственном смысле. Этот анализ позволяет Миллю, с одной стороны, признать полезность формальной логики для ясности и непротиворечивости рассуждений, а с другой – утвердить примат индуктивного метода как единственного пути к открытию новых истин о мире. Таким образом, традиционная логика силлогизма включается в более широкую эпистемологическую схему, где центром тяжести становится индуктивная логика научного исследования.
Индукция и принцип единообразия природы: обоснование вывода от частного к универсальному.
Индуктивный вывод, по Миллю, есть «операция открытия и доказательства универсальных предложений», где универсалии суть не что иное, как совокупности частных случаев, определённых по своей природе, но неисчислимые по количеству. Таким образом, индукция – это умозаключение от истинности в одном или нескольких конкретных случаях к её истинности во всех сходных случаях в определённых аспектах. Этот вывод выходит за пределы непосредственных данных опыта и предполагает предсказание будущего на основе прошлого.
Фундаментальным условием, делающим такой вывод возможным, является принцип единообразия (постоянства) природы: «ход природы постоянен», все явления происходят согласно универсальным законам. Этот принцип выступает как основная аксиома или постулат индукции; если бы индуктивный вывод выражался в силлогистической форме, данный принцип составил бы его скрытую (опущенную) большую посылку. Однако Милль не считает, что этот принцип априорно самоочевиден или явно осознаётся до всякого конкретного научного исследования. Напротив, он понимает его как неявную предпосылку, которая делает научный вывод осмысленным и обоснованным, но которая сама осознаётся и формулируется эксплицитно лишь постепенно, по мере открытия всё новых конкретных закономерностей (постоянств) в природе. Таким образом, принцип единообразия природы является одновременно условием возможности индукции и её поздним, обобщающим результатом.
Содержательно этот принцип не означает, что всё в природе неизменно повторяется (время, например, не следует постоянному циклу), а указывает на то, что существуют определённые устойчивые, независимые постоянства в отношениях между явлениями – законы природы. Индуктивный вывод предполагает наличие таких постоянств в соответствующей области исследования. Его обоснованность не может быть доказана априори, но подтверждается эмпирически: каждый успешный индуктивный прогноз, каждая обнаруженная закономерность, не встречающая противоречий, укрепляет веру в существование единообразия и оправдывает методологический скачок от наблюдаемых частных случаев к универсальному утверждению.
Таким образом, Милль предлагает не абсолютное логическое обоснование индукции, а прагматическое и рефлексивное: практика научного исследования, последовательно выявляющая частные постоянства и успешно применяющая их для предсказаний, подтверждает правомерность самой предпосылки о единообразии природы. В этом смысле индукция обосновывается не извне, а изнутри научного процесса, через его когерентность и продуктивность. Этот подход позволяет Миллю сохранить последовательный эмпиризм (отказ от априорных истин) и одновременно объяснить силу научного метода как средства открытия новых знаний о мире.
Закон причинности: основание и границы научной индукции.
Закон причинности занимает центральное место в индуктивной логике Милля как наиболее фундаментальное из единообразий природы, на котором основывается возможность научного предсказания. Этот закон утверждает, что всякий факт, имеющий начало, имеет причину, и является соэкстенсивным человеческому опыту. Причинность понимается Миллем не как метафизическая необходимая связь, а как инвариантная и безусловная последовательность явлений, выявляемая через наблюдение. Причина события отождествляется не с любым предшествующим феноменом, а с совокупностью положительных и отрицательных антецедентов, необходимых и достаточных для его возникновения.
Универсальность закона причинности обеспечивает, по мнению Милля, саму возможность сведения индуктивного процесса к строгим правилам и служит опорой для установления конкретных причинных законов. Однако вопрос об обосновании этого закона ставит его в сложное положение. Как последовательный эмпирист, он отвергает априорный статус закона причинности и вынужден искать его основание в индукции. Но методы экспериментального исследования (такие как методы сходства, различия и остатков), предназначенные для выявления конкретных причинных связей, сами предполагают истинность общего закона причинности. Таким образом, Милль обращается к индукции через простое перечисление: многократное наблюдение в повседневном опыте того, что каждое событие имеет причину, порождает уверенность в универсальности этого принципа. Чем шире область наблюдения, тем достовернее закон, и он передаёт эту достоверность всем выводимым из него индуктивным положениям.
Тем не менее, Милль признаёт, что индукция через простое перечисление ненадёжна и подвержена ошибкам. Это заставляет его делать оговорки: достоверность закона причинности является полной «для любых практических целей», но с чисто теоретической точки зрения мы не можем утверждать его абсолютную истинность для областей вселенной, выходящих за пределы нашего наблюдения. Закон функционирует одновременно как обобщение прошлого опыта и как правило для будущих выводов – подобно большей посылке силлогизма, он является формулой, направляющей исследование. Научная практика постоянно подтверждает этот закон, поскольку даже ошибочные приписывания причинности лишь уточняют конкретные связи, но не ставят под сомнение сам принцип причинной обусловленности.
Таким образом, в учении Милля о причинности проявляется характерное для его философии напряжение между стремлением к эмпиристской строгости и необходимостью обеспечить надёжное основание для науки. С одной стороны, он хочет видеть в законе причинности абсолютно достоверный фундамент научного метода, с другой – его собственные гносеологические предпосылки не позволяют обосновать этот закон с безусловной необходимостью. В результате закон причинности оказывается одновременно и продуктом индукции, и её предпосылкой, а его статус колеблется между практической непогрешимостью и теоретической гипотетичностью, отражая более широкую дилемму эмпиристского обоснования научного знания.
Экспериментальные методы и дедукция: структура научного исследования у Милля.
Милль далёк от редукции научного метода к простому накоплению наблюдений («эмпиризму» в уничижительном смысле) или к чисто экспериментальной практике. Он признаёт незаменимую роль гипотез как необходимых ступеней к достоверному знанию, а также ключевое значение дедуктивного метода, который он характеризует трёхчастной схемой: индукция (выдвижение гипотезы), рассуждение (дедукция следствий) и верификация (экспериментальная проверка). Однако центральное место в его теории занимают четыре метода экспериментального исследования, призванные устанавливать причинные связи и превращать гипотезы в подтверждённые законы природы.
Эти методы основаны на логике исключения и предполагают реалистическую предпосылку о существовании объективных, устойчивых причинных закономерностей в природе. Метод сходства утверждает: если в нескольких случаях возникновения феномена есть лишь одно общее обстоятельство, это обстоятельство – причина (или следствие) феномена. Метод различия: если феномен возникает в одном случае и не возникает в другом, схожем во всём, кроме одного обстоятельства, присутствующего только в первом случае, то это обстоятельство – причина или необходимая часть причины. Совместный метод сходства и различия усиливает доказательность, комбинируя оба подхода. Метод остатков предлагает вычесть из сложного феномена части, объяснённые известными причинами; остаток будет следствием оставшихся антецедентов. Метод сопутствующих вариаций применяется, когда эксперимент невозможен: если изменение одного феномена постоянно сопровождается изменением другого, между ними существует причинная связь.
Хотя Милль иногда говорит об этих методах как о способах открытия, он в большей степени подчёркивает их функцию верификации: они являются единственными надёжными средствами проверки гипотез и установления причинных законов. В областях, где экспериментирование невозможно (как в астрономии или социологии), метод должен быть преимущественно дедуктивным, но и там выводы в конечном счёте нуждаются в эмпирической проверке. Милль отвергает позицию Уэвелла, согласно которой гипотеза может считаться приемлемой, пока она не опровергнута и является простейшей из совместимых с фактами; для Милля необходимо активное исключение альтернативных объяснений через экспериментальные методы.
Проблема обоснования индуктивного перехода от наблюдаемого к ненаблюдаемому остаётся в системе Милля не до конца разрешённой. Если строго придерживаться его номиналистической установки (все выводы идут от частного к частному, а универсалии – лишь удобные формулы), то гарантия успешности индукции оказывается шаткой. Однако Милль имплицитно опирается на реалистическое допущение о существовании объективной, устойчивой структуры природы, пронизанной причинными законами. Именно это допущение, постепенно подтверждаемое успехами науки, позволяет ему считать методы экспериментального исследования эффективным средством открытия истинных закономерностей. Таким образом, в его философии науки сосуществуют, порой вступая в напряжение, две тенденции: строгий эмпиризм, требующий проверки всего через опыт, и реалистическая вера в познаваемую упорядоченность мира, делающая сам научный поиск осмысленным.
Логика нравственных наук: между психологией, этологией и социологией.
Следуя программе Юма, Милль стремится распространить научный метод на сферу человеческого, создав логику «нравственных наук», к которым он относит психологию, этологию (науку о формировании характера) и социологию (включая историю). Ключевая задача – преодолеть «эмпиризм» в уничижительном смысле, то есть переход от чисто описательных, наблюдаемых регулярностей к установлению подлинных причинных законов, объясняющих человеческое поведение и социальные феномены.
Психология, изучающая законы последовательности психических состояний (прежде всего законы ассоциации идей), опирается, по мнению Милля, на методы наблюдения и экспериментирования, аналогичные методам естественных наук. Этология, исследующая формирование индивидуального и национального характера, уже не может полагаться на эксперимент и требует дедуктивного метода: её принципы должны выводиться из общих законов психологии, а эмпирические наблюдения над характером служат проверкой этих дедуктивных выводов. Установление этологии как науки открывает путь к искусству воспитания – практическому применению её принципов.
В социологии, изучающей коллективные действия и социальные явления, ситуация ещё сложнее. Здесь неприменимы как чисто экспериментальные методы, так и геометрическая дедукция из одного принципа (как у Бентама, выводившего всё из эгоизма). Социальные феномены определяются множеством взаимодействующих факторов. Милль выделяет два подхода: прямой дедуктивный метод (вывод следствий из законов человеческой природы, полезный для выявления тенденций, особенно в упрощённых моделях, как в политической экономии) и обратный дедуктивный (или исторический) метод, заимствованный у Конта. Последний предполагает движение от эмпирических исторических обобщений к их объяснению через законы человеческой природы, что служит проверкой самих этих обобщений.
Милль также различает социальную статику (изучение взаимосвязей и сосуществования социальных явлений в относительно статичном состоянии) и социальную динамику (изучение законов исторического изменения и прогресса). При этом он подчёркивает роль выдающихся личностей в истории, критикуя детерминистские взгляды, отрицающие их влияние. Хотя человеческие действия в принципе предсказуемы (поскольку подчиняются причинным законам), это не означает фатализма: человеческая воля сама является активной причиной. Однако сложность социальных систем, множественность факторов и роль случайных личностей делают точные исторические предсказания невозможными. По мере прогресса цивилизации и усиления роли коллективных, а не индивидуальных факторов, предсказательная сила социологии возрастает, но она остаётся наукой о тенденциях и вероятностях, а не о неизбежных законах.
Таким образом, логика нравственных наук у Милля представляет собой попытку адаптировать индуктивно-дедуктивные методы естествознания к специфике человеческой реальности, сохраняя при этом веру в существование объективных причинных законов, управляющих психикой и обществом, но признавая ограничения, налагаемые сложностью предмета и ролью человеческой свободы.
Материя как постоянная возможность ощущений: между эмпиризмом и реализмом.
В рамках своей критики философии сэра Уильяма Гамильтона, отвергавшего непосредственное интуитивное знание внешнего мира, Милль предлагает психогенетическое объяснение веры в реальность материальных объектов. Основываясь на принципах ассоциативной психологии и способности ума к ожиданию, он утверждает, что наша убеждённость в существовании устойчивого внешнего мира возникает из опыта постоянных групп возможных ощущений. Например, стол воспринимается не как совокупность мимолётных актуальных зрительных и тактильных ощущений, а как постоянная возможность их возникновения при определённых условиях (входе в комнату, приближении руки и т.д.). Эти возможности, ассоциированные в устойчивые комплексы, которые воспроизводятся при сходных обстоятельствах и воспринимаются как общие для других чувствующих существ, формируют представление о независимых физических объектах.
Однако Милль не ограничивается психологическим описанием и переходит к онтологическому определению: материя есть «постоянная возможность ощущения», а тела – группы одновременных таких возможностей. При этом он подчёркивает, что не отрицает существование материи, а лишь уточняет её понятие в духе берклианства, исключая гипотезу непознаваемого субстрата. Тем не менее, эта позиция порождает серьёзные трудности. Если понимать ощущения как субъективные состояния, то определение материальных объектов через них ведёт к солипсизму: внешний мир, включая других людей, сводится к комплексам моих собственных возможных восприятий. Это противоречит как здравому смыслу, так и реалистическим предпосылкам научного метода Милля, предполагающего объективные причинные законы, действующие независимо от воспринимающего субъекта.
Если же интерпретировать «возможности ощущений» не как психические состояния, а как диспозиционные свойства объектов вызывать ощущения, то мы возвращаемся к представлению о независимых от сознания сущностях, которые лишь проявляются в восприятии, – то есть к «вещам в себе», от которых Милль хотел отказаться. Такая двусмысленность отражает фундаментальное напряжение в его философии: с одной стороны, стремление последовательно развить эмпиристскую программу, сводящую всё знание к опыту; с другой – неявная реалистическая установка, необходимая для обоснования объективности науки и её законов. В результате анализ Милля оказывается не вполне согласованным с его же собственной концепцией науки как исследования объективных причинных связей в природе.
Феноменализм и проблема солипсизма: анализ разума у Милля.
Следуя эмпиристской традиции, Милль склоняется к феноменалистскому пониманию разума как совокупности его проявлений: мы не имеем понятия о разуме самом по себе, отдельно от последовательности сознательных состояний – чувств, мыслей, ощущений. По аналогии с определением материи как постоянной возможности ощущений, разум можно было бы определить как постоянную возможность психических состояний. Однако здесь возникает специфическая трудность: разум не просто пассивная серия явлений, но нечто, осознающее себя как непрерывное целое, обладающее памятью о прошлом и ожиданием будущего. Милль признаёт, что объяснить, как серия чувств может быть сознающей себя как серия, в рамках его теории невозможно, и предлагает принять этот факт как необъяснимый, используя язык, предполагающий теорию, с соответствующими оговорками.
Эта феноменалистская позиция сталкивается с угрозой солипсизма. Если мой разум – лишь последовательность моих собственных состояний сознания, а материальные объекты – постоянные возможности моих ощущений, то как обосновать существование других сознаний? Милль отвергает этот вывод как ошибочный. Он утверждает, что, во-первых, ничто не мешает мне мыслить другие разумы как подобные серии состояний, а во-вторых, существование других сознаний доказывается выводом по аналогии: я наблюдаю в других телах (постоянных возможностях ощущений) действия и знаки, аналогичные тем, которые в моём собственном случае сопровождают определённые психические состояния, и заключаю о наличии у них сходного внутреннего опыта.
Однако эта аргументация сталкивается с серьёзными внутренними противоречиями. Если тело другого человека анализируется как совокупность моих возможных ощущений, то вывод о существовании независимого от меня сознания становится проблематичным – он ведёт к солипсизму. Если же считать, что ощущения могут существовать независимо от какого-либо воспринимающего субъекта (что противоречит их обычному пониманию как субъективных состояний), то это ведёт к странной онтологии. Третий вариант – признать, что тело есть основание для возможных ощущений, а не они сами, – означал бы отказ от феноменалистского анализа и возврат к концепции «вещи в себе».
Таким образом, попытка Милля последовательно провести феноменалистскую программу в отношении как материи, так и сознания наталкивается на непреодолимые трудности. Угроза солипсизма оказывается призраком, преследующим феноменализм, а стремление избежать её ведёт либо к необъяснимым допущениям, либо к скрытому отказу от исходных предпосылок. Эта дилемма отражает более общую проблему эмпиристской философии: как, исходя из субъективного опыта, обосновать объективность внешнего мира и интерсубъективность знания. Последующие попытки спасти феноменализм (например, через лингвистический анализ, сводящий утверждения о физических объектах к утверждениям о чувственных данных) могут рассматриваться как развитие интуиций Милля, но также сталкиваются с критическими возражениями. В конечном счёте, напряжённость между феноменалистским редукционизмом и реалистическими предпосылками научного познания остаётся неразрешённой в его системе.
Религия между скептицизмом и надеждой: естественная теология и "религия человечества" у Милля.
Не разделяя открытой враждебности своего отца к религии, Джон Стюарт Милль подходил к вопросу о существовании Бога как к проблеме, открытой для рационального исследования. Он отвергал онтологический аргумент как устаревший, а доказательство от первопричины – как несостоятельное, поскольку причинность, по его мнению, есть отношение между феноменами, а не между феноменом и трансцендентной сущностью. Однако аргумент от замысла в природе он считал серьёзным индуктивным выводом, основанным на эмпирических фактах и аналогии с человеческим творчеством. Этот аргумент, тщательно применённый, может с определённой вероятностью указывать на существование разумного творца, но не доказывает его всемогущества: необходимость приспособления средств к цели свидетельствует, по Миллю, об ограниченности силы проектировщика.
Главное возражение Милля против традиционного теизма связано с проблемой зла: всемогущий и всеблагой Бог несовместим с наличием страдания в мире. Попытки спасти божественное всемогущество через аналогическое истолкование блага ведут, по его мнению, к пустословию, лишающему это понятие всякого содержания. Поэтому разумная вера может допускать лишь существование «конечного» Бога – существа могущественного, но ограниченного, благосклонного к человеку, но не сосредоточенного исключительно на человеческом счастье.
Несмотря на скептицизм в отношении догматических утверждений, Милль признавал прагматическую и моральную ценность религии. Она способна предоставлять возвышенные идеалы, выходящие за пределы обыденного опыта, и формировать нравственные ориентиры, как это делает, например, образ Христа в христианстве. Вместе с тем он видел будущее в «религии человечества», предложенной Огюстом Контом, – светской вере, сосредоточенной на служении человечеству как высшей ценности. Такая религия, по мнению Милля, может столь же эффективно удовлетворять эмоциональные и моральные потребности, как и сверхъестественные религии, особенно по мере улучшения земных условий жизни и ослабления страха смерти.
Однако Милль не исключал синтеза: «религия человечества» может сочетаться с верой в конечного Бога, с которым человек способен сотрудничать в деле улучшения мира. Эта вера, хоть и слабо обоснованная с индуктивной точки зрения, добавляет, по его мнению, духовное измерение к этическому идеализму. Таким образом, Милль стремился занять позицию «рационального скептицизма» – открытую для вероятностных доводов, но отвергающую догматизм, – и сохранить нравственный потенциал религии, даже переосмыслив её в гуманистическом ключе. Его подход, балансирующий между эмпиристской строгостью и признанием потребности в идеалах, отражает характерную для его философии попытку примирить научный разум с этическими и духовными устремлениями человека.
Заключение: Синтез и напряжённость в философском проекте Джона Стюарта Милля.
Философское наследие Джона Стюарта Милля представляет собой масштабную попытку синтеза, направленную на построение целостной системы мысли, охватывающей логику, этику, политическую теорию и теорию познания. Его проект пронизан фундаментальным внутренним напряжением между двумя полюсами: с одной стороны, стремлением остаться верным эмпиристской и утилитаристской традиции, унаследованной от Бентама и его отца, с другой – глубокой потребностью преодолеть её ограниченность, обогатив её идеями, заимствованными из романтизма, аристотелианской этики и историцизма. Этот динамический конфликт не является слабостью системы, а, напротив, составляет источник её продуктивности, актуальности и философской глубины.
1. Трансформация утилитаризма: от количественного гедонизма к качественному перфекционизму.
Наиболее ярко это напряжение проявилось в этике. Милль формально сохранил утилитаристский каркас, определяя добро через принцип наибольшего счастья. Однако его введение качественного различия между удовольствиями стало подлинной революцией внутри доктрины. Утверждение, что «лучше быть неудовлетворённым Сократом, чем удовлетворённым глупцом», требовало внешнего по отношению к удовольствию критерия оценки. Таким критерием стала нормативная концепция «человеческой природы как прогрессирующего существа», чья высшая цель – «гармоничное развитие всех способностей к целостному единству». Тем самым Милль неявно переориентировал утилитаризм с бентамовского гедонистического калькулятора на аристотелевскую по духу этику самореализации (эвдемонизм). Счастье перестало быть суммой удовольствий, а стало синонимом полноценной, достойной и развитой человеческой жизни. Этот сдвиг позволил ему связать принцип полезности с защитой индивидуальной свободы, гражданских прав и социального прогресса, избегая при этом упрёков в циничном эгоизме.
2. Свобода как условие развития: диалектика индивидуализма и общего блага.
В политической философии это этическое основание воплотилось в знаменитом «вредном принципе», ставшем краеугольным камнем либерализма. Свобода индивида абсолютна в сфере, касающейся только его самого, и может быть ограничена лишь для предотвращения вреда другим. Однако Милль понимал свободу не как негативное отсутствие вмешательства, а как позитивную возможность для саморазвития. Отсюда вытекала его двойственная позиция по отношению к государству: с глубоким недоверием к бюрократии и «педантократии» он сочетал поддержку социального законодательства (в области образования, регулирования труда), которое устраняет препятствия для реализации человеческого потенциала. Демократия ценилась им не только как механизм защиты интересов, но прежде всего как воспитательный институт, формирующий активный, ответственный и общественно-ориентированный характер граждан. Здесь Милль предвосхитил идеи социального либерализма, утверждая, что подлинная индивидуальная автономия требует определённых социально-экономических предпосылок.
3. Логика и эмпиризм: между номинализмом и реализмом.
В эпистемологии и философии науки напряжение приняло форму противоречия между номиналистическим феноменализмом и реалистическими предпосылками научного метода. С одной стороны, Милль, следуя традиции, сводил материю к «постоянной возможности ощущений», а разум – к «последовательности чувств», рискуя скатиться в солипсизм. С другой – его вся теория индукции была построена на вере в объективные «единообразия природы» и причинные законы, которые наука призвана открывать. Его «каноны индукции» (методы сходства, различия и др.) были методами обнаружения этих объективных связей, а не просто способами организации субъективного опыта. В математике, которую он пытался истолковать как наиболее обобщённую эмпирическую науку, это противоречие проявилось особенно остро: аксиомы одновременно объявлялись индуктивными обобщениями и при этом признавались как необходимые основания для познания физического мира.
4. Напряжённый синтез как философский метод.
Эта систематическая амбивалентность – не недостаток, а отражение глубины мысли Милля. Он отказался от догматизма любой односторонней системы:
– Он не принял редукционистский эмпиризм, отрицающий идеалы и необходимость, но и отверг априоризм и интуиционизм как опору для консервативных предрассудков.
– Он критиковал узость бентамистской модели человека, но не отказался от рационального, реформаторского пафоса утилитаризма.
– Он опасался тирании большинства и государственного патернализма, но видел в коллективном действии и социальной справедливости условия для расцвета индивидуальности.
Его философия стала мостом между Просвещением XIX века и последующими течениями мысли: его этика предвосхищала британский идеализм и перфекционистский либерализм (Т. Грин, Дж. Дьюи), анализ причинности и индукции повлиял на логический эмпиризм, а внимание к историческому методу в социальных науках сближало его с континентальной традицией.
Заключение: актуальность наследия Милля.
Сегодня философский проект Милля сохраняет актуальность именно благодаря своей внутренней напряжённости. В эпоху, когда публичная дискуссия зачастую сводится к конфликту между радикальным индивидуализмом и этатистским коллективизмом, между сциентистским редукционизмом и иррационалистическим протестом, подход Милля предлагает третий путь. Это путь критического синтеза, который:
– Настаивает на рациональности и эмпирической проверке в познании и политике, но признаёт роль идеалов, эмоций и качественных оценок в человеческой жизни.
– Бескомпромиссно защищает индивидуальную свободу как высшую ценность, но понимает, что её реализация требует не только правовых гарантий, но и социальных условий, образования и культуры диалога.
– Верит в возможность социального прогресса через реформы, основанные на научном изучении общества, но помнит об уникальности человеческой личности и непредсказуемости истории.
Джон Стюарт Милль оставил нам не законченную догматическую систему, а живой пример философского поиска – неустанного, самокритичного и ориентированного на улучшение человеческой участи. Его наследие – это приглашение к диалогу, в котором строгость анализа сочетается с широтой гуманистического видения, а верность принципам – с готовностью к их творческому переосмыслению в свете нового опыта. В этом и состоит непреходящая ценность его мысли.
Эмпирики, агностики, позитивисты.
Аналитическое изложение ключевых идей Александра Бэна и их места в эволюции психологической мысли позволяет реконструировать внутреннюю логику его системы, выявив её современное звучание. Бэн, будучи фигурой, связанной с традицией ассоцианистской психологии и эмпирической философией Милля, тем не менее предпринял попытку её радикального преобразования, стремясь утвердить психологию как самостоятельную эмпирическую науку. Его центральным устремлением было не просто применение ассоциативных принципов к решению философских задач, а построение целостной психологии, опирающейся на физиологические основания, что сближало его с наследием Гартли. Однако Бэн существенно расширил предмет исследования, включив в него эмоции и волю, что отражено в структуре его основных трудов «Чувства и интеллект» и «Эмоции и воля». Этот сдвиг позволил преодолеть редукционистскую тенденцию раннего ассоцианизма, сводившего психику к механическому комбинированию атомарных ощущений.
Ключевым пунктом отхода Бэна от классического эмпиризма стала его концепция активности субъекта. В полемике с пассивной моделью восприятия, где сознание предстаёт лишь рецептором внешних впечатлений, Бэн выдвинул тезис об изначальной активности организма. Он утверждал, что ощущение никогда не бывает полностью пассивным и всегда сопряжено с движением или готовностью к нему. Именно через мышечное усилие, через чувство сопротивления при контакте с объектом формируется базовое представление о внешнем мире. Таким образом, внешность объектов конституируется не как совокупность возможных ощущений, как у Милля, а как совокупность возможных активных реакций и проявлений энергии со стороны воспринимающего существа. Эта идея придавала восприятию телесно-деятельностный характер, предвосхищая позднейшие прагматистские и феноменологические подходы.
Из этого понимания активности естественным образом вытекала и его теория веры, тесно увязанная с действием. Вера для Бэна лишена смысла вне связи с поведением, направленным на достижение цели. Он определял первичную доверчивость как надежду на будущее событие, позволяющую упорствовать в действии. При этом Бэн постулировал существование врождённого импульса к вере, проистекающего из естественной активности органической системы и пропорционального «силе воли». Опыт, таким образом, не порождает веру из ничего, а направляет и конкретизирует этот изначальный импульс, закрепляя те убеждения, которые получают практическое подтверждение. Тем самым, Бэн соединял эмпирический принцип – роль повторяющегося непротиворечивого опыта – с признанием априорной активности волевого субъекта.
Философская позиция Бэна, однако, остаётся амбивалентной с точки зрения метафизических импликаций. С одной стороны, его упор на физиологические корреляты психических процессов может быть истолкован как движение в сторону материализма или, по крайней мере, психофизического параллелизма. С другой – его замечания о внешнем мире как «полезной фикции», выходящей за пределы непосредственного опыта, отдают дань агностицизму и субъективному идеализму. Сам Бэн, судя по всему, стремился избегать метафизических спекуляций, концентрируясь на эмпирическом и генетическом описании психических явлений, хотя его концептуальные построения неизбежно несли в себе философское содержание.
Наследие Бэна, продолженное в работах Джеймса Салли, сохраняло влияние, но одновременно содержало в себе семена преодоления старой ассоцианистской парадигмы. Акцент на воле, активности и целостности психической жизни подрывал основания атомистического ассоцианизма, подготовив почву для критики со стороны таких мыслителей, как Джеймс Уорд, и для появления новых школ – функционализма, гештальтпсихологии и других. Хотя ассоциация идей осталась признанным феноменом психики, она перестала рассматриваться как универсальный объяснительный принцип. Таким образом, вклад Александра Бэна заключается в переходе от механистической модели сознания к динамической, где центральное место занимает действующий, стремящийся и верящий субъект, что придаёт его идеям непреходящее современное звучание в контексте эволюции психологии от пассивного эмпиризма к активным моделям психики.
1. Александр Бэн и ассоцианистская психология.
Анализ эволюции ассоцианистской психологии в трудах Александра Бэна выявляет системную трансформацию этой традиции, где формальное следование принципу ассоциации идей наполняется принципиально новым содержанием. Бэн, формально находясь в русле эмпирической философии и сотрудничая с Дж. С. Миллем, осуществляет ревизию её исходных постулатов, стремясь конституировать психологию как автономную эмпирическую науку, основанную на синтезе психического и физиологического. Его программа, выраженная в структуре основных трудов, сознательно расширяет предмет психологии за пределы интеллекта и ощущений к эмоциям и воле, что означало переход от статичного, рецептивного понимания сознания к динамической модели, центрированной вокруг активности организма.
Ключевым пунктом разрыва Бэна с классическим эмпиризмом стала его концепция перцептивного опыта, в котором пассивная рецепция впечатлений заменяется идеей изначальной моторной активности. Сознание, по Бэну, не является чистым tabula rasa, ожидающим внешних воздействий; оно изначально заряжено «склонностью к движению», предшествующей сенсорному стимулу. Чувство внешней реальности рождается не из последовательности ощущений, а из акта мышечного усилия и встреченного сопротивления. Таким образом, внешний мир конституируется для субъекта не как феноменальная совокупность возможных ощущений, а как поле потенциальных действий и реакций. Этот телеологический и прагматический поворот переопределяет саму эпистемологическую проблему: знание о мире укоренено в телесном взаимодействии с ним, а не в его созерцании.
Из этой онтологии активности вытекает и новаторская теория веры, понимаемой как функциональный элемент поведения, направленного на достижение цели. Вера, лишённая связи с действием, для Бэна бессмысленна. Однако, в отличие от строго эмпирического выведения веры из повторяющегося опыта, Бэн постулирует существование первичного, спонтанного импульса доверчивости, пропорционального силе воли и органической активности субъекта. Опыт не порождает веру, а канализирует и формирует этот врождённый импульс, отсекая несостоятельные ожидания через механизм непротиворечивого практического подтверждения. Тем самым, психологический процесс формирования убеждений предстаёт как диалектика внутренней активности и внешнего опыта, где априорная волевая энергия встречается с апостериорной проверкой реальностью.
Философская позиция Бэна, сознательно избегающая метафизических крайностей, демонстрирует методологический агностицизм. С одной стороны, его постоянный акцент на физиологических коррелятах психического указывает на натуралистическую установку, близкую материалистической редукции. С другой – его трактовка внешнего мира как «полезной фикции», выходящей за пределы имманентного опыта, резонирует с кантианскими мотивами и субъективным идеализмом. Однако эта кажущаяся противоречивость снимается, если рассматривать Бэна прежде всего как методолога, стремящегося построить работающую эмпирико-генетическую модель психики без окончательных онтологических обязательств. Его агностицизм – не слабость, а осознанная методологическая позиция, отводящая метафизике роль за пределами позитивной науки.
Наследие Бэна, развитое его последователем Джеймсом Салли, стало переходным звеном, исчерпавшим потенциал классического ассоцианизма изнутри. Интеграция волевого и эмоционального начал, телесной активности и прагматического критерия веры подрывала основы атомистической и механистической модели психики. Хотя ассоциация как феномен сохранила своё значение, её статус универсального объяснительного принципа был утрачен. Таким образом, вклад Бэна состоит не в простом расширении ассоцианистской доктрины, а в её имплозивном развитии, которое через акцент на целостном, действующем и стремящемся субъекте подготовило почву для последующих революций в психологии – от функционализма и прагматизма до феноменологических и экзистенциальных подходов, сделавших активность, интенциональность и воплощённость центральными темами современной науки о сознании.
2. Утилитаризм по Бэну.
Этическая концепция Александра Бэна представляет собой переосмысление утилитаристской доктрины через призму его эмпирической и психологической методологии. Он принимает принцип полезности как ключевой внешний стандарт, противопоставляя его теории нравственного чувства и грубому психологическому эгоизму, признавая при этом роль симпатии и общественного блага. Однако Бэн отказывается рассматривать утилитаризм как исчерпывающее описание реально существующего морального сознания. С его точки зрения, этическая теория должна объяснять не только нормативный идеал, но и фактическое многообразие моральных практик, включая их иррациональные и традиционные элементы.
Бэн вносит в утилитаризм принципиальные корректировки, ослабляющие его «простую целостность», но, по его мнению, необходимые для адекватного описания моральной реальности. Он отмечает, что сфера обязательного долга не тождественна всей сфере полезного: множество общественно полезных действий остаются на уровне личного усмотрения. Кроме того, реально действующие моральные нормы часто укоренены не в расчёте последствий, а в чувстве, привычке или традиции, которая сама может быть наследием прошлой полезности или устаревшего «чувства». Таким образом, принцип полезности, хотя и существенен, не является единственным двигателем морали; его необходимо дополнить психологическим и социологическим анализом фактических мотиваций.
Центральным пунктом психологизации этики у Бэна становится генетическое объяснение совести и чувства долга. Он решительно отвергает концепцию совести как врождённой и автономной способности, предлагая вместо этого модель интернализации внешнего авторитета. Совесть, по Бэну, формируется как «внутренняя копия» управления извне – сначала родительского, затем общественного. Чувство долга возникает через ассоциативную связь между запретным действием и ожиданием санкции. Этот подход смещает фокус с внутреннего морального закона на механизмы социального conditioning, предвосхищая later социологические и поведенческие трактовки морали.
При этом Бэн сталкивается с внутренним напряжением своей теории. С одной стороны, он описывает мораль как продукт социального давления и авторитета, где норма определяется как «законы существующего общества», санкционированные сообществом. С другой – он признаёт роль выдающихся личностей, способных реформировать общественные нравы. Однако он не разрабатывает последовательного объяснения источника этой реформаторской способности, которая, казалось бы, выходит за рамки простой интернализации существующих норм. Таким образом, в его системе остаётся неразрешённым противоречие между конформистской «закрытой» моралью, формируемой обществом, и творческой «открытой» моралью, способной этот авторитет преодолевать.
В итоге, этика Бэна представляет собой своеобразный позитивистский проект в моральной философии: попытку объяснить мораль как эмпирический феномен через психологические механизмы (ассоциация, интернализация) и социальные факторы (авторитет, традиция). При этом его подход несёт в себе релятивистские импликации, поскольку моральная норма оказывается привязанной к конкретному общественному consensus. Хотя Бэн и сохраняет утилитаристский критерий полезности как рациональный ориентир, его основное внимание направлено на дескриптивный анализ того, как мораль реально работает в человеческой психике и социуме, что делает его концепцию важным переходным звеном между классическим утилитаризмом и последующими натуралистическими и социологическими теориями морали.
3. Соединение утилитаризма и интуиционизма у Генри Сиджвика.
Трансформация утилитаристской этики в трудах Генри Сиджвика представляет собой попытку её систематического обоснования через синтез с интуиционизмом, что радикально меняет её эпистемологический статус. Отталкиваясь от утилитаризма Милля, Сиджвик быстро осознаёт его ключевое слабое место – логическую непереходимость от психологического гедонизма (каждый фактически ищет собственного счастья) к этическому гедонизму (каждый должен искать всеобщего счастья). Понимая, что факт желания не может обосновать долг, и следуя юмовскому разделению «есть» и «должен», он приходит к выводу о необходимости иного, философского, а не психологического, фундамента для морали. Таким основанием для него становятся самоочевидные моральные аксиомы, постигаемые интуитивно.
Сиджвик формулирует три таких фундаментальных принципа, составляющих каркас его системы. Принцип благоразумия (разумного эгоизма) утверждает рациональную обязанность индивида предпочитать большее будущее благо меньшему настоящему. Принцип справедливости, или беспристрастности, требует, чтобы при отсутствии релевантных различий мы относились к другим так, как полагаем правильным, чтобы они относились к нам. Принцип рациональной благожелательности предписывает стремиться к общему благу, исходя из того, что с точки зрения Вселенной благо одного индивида не важнее блага другого. Эти принципы, интуитивно очевидные для разума, по мысли Сиджвика, имплицитно присутствуют в морали здравого смысла.
Затем Сиджвик осуществляет синтез: принцип благоразумия обязывает искать собственное благо, а принцип благожелательности – благо других. Их логическое согласование ведёт к предписанию стремиться к благу вообще, то есть к общему благу, частью которого является и собственное благо индивида. Если под благом понимать счастье в гедонистическом ключе (хотя и очищенном от грубого чувственного понимания и прямой погони за удовольствием), то конечным нормативным выводом оказывается универсалистский гедонизм, или утилитаризм. Таким образом, утилитаризм оказывается не исходным постулатом, а конечным результатом строгого применения интуиционистского метода к анализу и систематизации морального сознания. Сиджвик определяет свою позицию как «утилитаризм на интуиционистской основе».
Этот синтез, однако, не разрешает глубинное напряжение, которое сам Сиджвик честно признаёт, – «дуализм практического разума». Противоречие между обязанностью следовать собственному благу (разумный эгоизм) и обязанностью следовать общему благу (благожелательность) остаётся в его системе не снятым окончательно. В земном, посюстороннем контексте эти два императива могут вступать в конфликт, не разрешимый без привлечения теологических предпосылок о божественном воздаянии, гарантирующем гармонию личного и общего счастья, чего Сиджвик как философ-рационалист сделать не готов.
С методологической точки зрения вклад Сиджвика имеет прогностическое значение. Его тщательный анализ, прояснение и систематизация моральных понятий здравого смысла, стремление к концептуальной ясности и выявлению лежащих в основе аксиом предвосхищают подходы аналитической философии XX века. Хотя его апелляция к самоочевидным интуициям может казаться уязвимой, его работа по структурированию моральной аргументации и выявлению её скрытых предпосылок устанавливает новый стандарт строгости в этике. Таким образом, Сиджвик не просто модифицирует утилитаризм, а радикально меняет способ его обоснования, переводя этику из плоскости психологической и социальной детерминации в плоскость рациональной реконструкции и систематического анализа фундаментальных принципов практического разума.
4. Чарльз Дарвин и философия эволюции.
Проникновение эволюционной идеи в эмпиристскую мысль второй половины XIX века ознаменовало собой глубокий концептуальный сдвиг, хотя этот процесс был постепенным и не имел чёткой хронологической границы. Если традиционный эмпиризм, ассоцианистская психология и утилитаризм укоренены в интеллектуальном ландшафте XVIII столетия, то теория эволюции привнесла новое, историческое и процессуальное измерение в понимание природы, человека и общества. При этом важно отметить, что сама идея биологического развития не была новинкой XIX века – её спекулятивные версии возникали ещё в античности, а в Новое время её разрабатывали такие мыслители, как Бюффон и Ламарк. Однако именно работы Чарльза Дарвина придали ей статус научно обоснованной теории, оказавшей беспрецедентное воздействие на философский дискурс.
Дарвин, будучи в первую очередь натуралистом, а не философом, сосредоточился на эмпирическом обосновании механизма эволюции – естественного отбора, основанного на трёх взаимосвязанных факторах: наследственной изменчивости, борьбе за существование и выживании наиболее приспособленных. Его ключевой вклад состоял не в изобретении идеи эволюции, а в предложении убедительного и материалистического объяснительного принципа, который делал ненужным апелляцию к разумному замыслу при объяснении адаптации видов к среде. Этот механизм, одновременно и простой, и мощный, радикально дестабилизировал телеологические представления о природе. Как отмечал Т.Г. Гексли, дарвинизм наносил «смертельный удар» обыденной телеологии, поскольку адаптация возникала не как реализация предсущей цели, а как статистический итог случайных вариаций и безличного отбора.
Философское значение дарвинизма выходило далеко за рамки биологии. Он предлагал новую, нефундаменталистскую модель объяснения сложности и порядка, основанную на историческом процессе, а не на вневременных сущностях или предначертанных планах. Эта модель обладала огромным объяснительным потенциалом для переосмысления человека и его места в природе. В «Происхождении человека» Дарвин прямо применял эволюционный подход к морали, трактуя её как развитие социальных инстинктов, закреплённых в силу своей полезности для выживания группы. Таким образом, этические нормы лишались своего априорного или богооткровенного статуса и представали как продукт естественной истории человеческого вида.
Первоначальный конфликт между дарвинизмом и религиозным мировоззрением, столь острый в XIX веке, со временем значительно смягчился. Эволюционная идея была ассимилирована даже в рамках некоторых теистических и спиритуалистических систем, как это видно на примере творческой эволюции Бергсона или тейярдизма. Однако в момент своего появления дарвинизм воспринимался как вызов не столько конкретным догматам, сколько самой антропоцентрической и телеологической картине мира. Его влияние на философию было опосредованным, но глубоким: он способствовал натурализации философской антропологии, стимулировал развитие прагматизма с его акцентом на адаптивную функцию знания и подпитывал различные формы научного материализма.
Примечательно, что непосредственное распространение и философское осмысление эволюционной идеи в Британии во многом осуществлялось не академическими философами, сохранявшими сдержанную дистанцию, а учёными-натуралистами и вольными мыслителями вроде Герберта Спенсера. Дарвин же, избегая прямой философской спекуляции и теологических дебатов, тем не менее, своими трудами создал новый интеллектуальный контекст, в котором любое серьёзное размышление о человеке, познании, морали и обществе должно было так или иначе учитывать их историческое, процессуальное и естественное происхождение. Тем самым он совершил тихую, но радикальную революцию, последствия которой для философии оказались не менее значимыми, чем для естествознания.
5. Т. Г. Гексли: эволюция, этика и агностицизм.
Томас Генри Гексли представляет собой ключевую фигуру на пересечении научного эволюционизма и философской рефлексии, чья позиция отмечена глубоко оригинальным и, на первый взгляд, противоречивым синтезом. Приняв и активно пропагандируя дарвиновскую теорию эволюции как наиболее состоятельную научную гипотезу, основанную на строго индуктивном методе, Гексли одновременно предпринял её радикальное этическое ограничение, отделив сферу человеческой морали от слепого действия «космического процесса». Его мысль движется в рамках фундаментального дуализма: если природа управляется безличным механизмом борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных, то человеческое общество конституирует себя через противоположный «этический процесс», основанный на симпатии, взаимопомощи и сдерживании эгоистических инстинктов. Таким образом, прогресс цивилизации понимается не как продолжение природной эволюции, а как сознательное сопротивление её принципам, как наложение культурных ограничений на естественный отбор внутри социума.
Эта антитеза природы и культуры, однако, не основывается у Гексли на признании духовной или сверхъестественной природы человека. Он твёрдо придерживался эпифеноменалистической концепции сознания как функции высокоорганизованной материи мозга, что сближало его с материалистическим детерминизмом. Тем не менее, Гексли решительно отказывался от ярлыка материалиста, апеллируя к гносеологическим аргументам, восходящим к Декарту и Беркли. Он утверждал, что единственной непосредственной достоверностью обладают наши ментальные состояния, тогда материальный мир предстаёт лишь как вероятная гипотеза. Эта позиция, сочетающая натуралистическую онтологию сознания с феноменалистской гносеологией, может казаться непоследовательной, но она отражает его стремление избежать как редукционистского материализма, так и спекулятивного идеализма.
Аналогичный методологический скепсис определяет и религиозную позицию Гексли, который ввёл в широкий оборот термин «агностицизм». Агностицизм для него – не слабая форма атеизма, а принципиальный отказ от вынесения суждений о том, что принципиально непознаваемо и лежит за пределами научной верификации. Этот подход распространяется как на вопросы о существовании Бога, так и на конечные метафизические основания реальности. Таким образом, Гексли совмещает научный натурализм в объяснении эмпирического мира с последовательным воздержанием от любых догматических утверждений о трансцендентном, что отражает характерное для викторианской интеллектуальной культуры стремление к интеллектуальной честности и неприязнь к крайним, всеобъемлющим системам.
Вклад Гексли, при всей возможной непроработанности его философских построений, заключается, таким образом, в попытке наметить третий путь между воинствующим материализмом и религиозной ортодоксией, а также в жёстком разведении описательного закона природы (космический процесс) и предписывающей нормы культуры (этический процесс). Эта дихотомия стала важным интеллектуальным ресурсом для последующих дискуссий о природе морали в постведаровском мире, подчёркивая, что факт эволюционного происхождения человека не только не предписывает конкретных этических норм, но, напротив, требует их сознательного конструирования в противовес слепым силам природы.
6. Научный материализм и агностицизм: Джон Тиндаль и Лесли Стивен.
В рамках викторианского интеллектуального ландшафта Джон Тиндаль и Лесли Стивен олицетворяют две версии сциентистской позиции, тяготеющей к научному материализму и агностицизму, но расходящиеся в своих философских импликациях и степени системности.
Джон Тиндаль отстаивал «научный материализм» как мировоззрение, выводящее свои основания из методологических принципов естествознания. Его центральный тезис заключался в корреляции каждого ментального состояния с физическим процессом в мозге, что, по его мнению, и устанавливало позицию материалиста. Однако, в отличие от вульгарного материализма, Тиндаль признавал «непреодолимую пропасть» между субъективным опытом и объективными процессами, что делало природу связи между ними тайной. Эта позиция была тесно связана с эволюционным взглядом на материю как на носительницу потенций жизни и сознания, что требовало пересмотра её классического понимания как инертной субстанции. Агностицизм Тиндаля был не просто воздержанием от суждения, а позитивистским утверждением о компетентности науки как единственного источника знания: проблемы, неразрешимые научным методом, объявлялись принципиально неразрешимыми. Религиозный опыт допускался лишь как субъективное переживание, лишённое познавательной ценности. Таким образом, его мировоззрение предвосхищало логический позитивизм с его верификационным критерием и редукцией метафизических вопросов к бессмыслице.
Лесли Стивен, будучи историком идей, развивал агностицизм скорее как общую интеллектуальную установку, чем как стройную теорию. Он отстаивал «методологический материализм» как необходимую перспективу научного исследования, имеющего дело лишь с чувственно воспринимаемым. При этом он отвергал как материалистический, так и спиритуалистический догматизм относительно «последней реальности», считая область за феноменальным миром принципиально непознаваемой – «пустотой», обозначаемой метафизическими терминами вроде «Абсолюта». Его агностицизм был менее системен и более интуитивен: даже при решении всех научных проблем вселенная сохраняет характер неразрешимой тайны. В этике Стивен, в отличие от Гексли, стремился дать эволюционное обоснование морали, рассматривая её как социальный адаптивный механизм: моральные нормы подвержены естественному отбору по критерию повышения жизнеспособности социального организма.
Таким образом, если Тиндаль представлял собой догматизирующий сциентизм, утверждающий всеобъемлющую компетенцию науки и сводящий реальность к её объективной, материальной проекции, то Стивен олицетворял скептический агностицизм, сочетающий методологический натурализм с отказом от построения окончательной онтологии. Оба, однако, разделяли убеждение в автономии моральных ценностей от религиозных догм, хотя и предлагали разные – позитивистско-материалистическую и эволюционно-функциональную – модели их объяснения. Их позиции отражают характерный для позднего викторианства поиск светского, научно ориентированного мировоззрения, пытающегося найти баланс между радикальным эмпиризмом и признанием границ человеческого познания.
7. Дж. Дж. Романес и религия.
Интеллектуальная траектория Джорджа Джона Романеса представляет собой уникальный пример сложного и нелинейного диалога между эволюционной наукой и религиозной верой в викторианскую эпоху. Его путь от ортодоксальной веры через радикальный агностицизм и пантеизм к симпатизирующему, но незавершённому теизму отражает глубинные методологические и экзистенциальные трудности, возникшие при попытке согласовать натуралистическое мировоззрение с духовными исканиями.
Начальный, агностический этап (зафиксированный в «Откровенном рассмотрении теизма», 1878) отмечен строгим сциентизмом: Романес констатирует отсутствие эмпирических доказательств существования Бога, приходя к выводу, что вопрос о божественном существовании остаётся открытым, но неразрешимым для разума, опирающегося на научные данные. Однако впоследствии его позиция претерпевает существенную эволюцию. В своих поздних работах («Мысли о религии», 1895) он пересматривает роль науки, видя в ней не только разрушителя наивных телеологических аргументов, но и косвенного союзника религии. Наука, доказывая «единообразие естественной причинности», раскрывает вселенную как упорядоченную систему, что может служить эмпирической основой для теистической интерпретации мира как выражения божественной воли.
Ключевым поворотом становится признание Романесом ограниченности чисто спекулятивного разума и необходимости иного, целостного подхода к религиозной истине. Он допускает существование особого «органа духовного восприятия», действующего в религиозном сознании, и утверждает, что в поиске Бога должны объединиться «сердце, воля и разум». Таким образом, доступ к религиозной истине возможен не через пассивное умозрение, а через активный жизненный выбор – через действие в соответствии с верой, которое впоследствии может получить верификацию в виде «непосредственного духовного прозрения». Эта прагматическая по духу идея предвосхищает позднейшие концепции религиозного познания как укоренённого в экзистенциальной вовлечённости.
Однако, несмотря на этот концептуальный сдвиг, Романес так и не совершил решающего личного шага к вере. Он признавал, что окончательный выбор в пользу религиозного мировоззрения требует «сурового усилия воли», на которое сам он оказался неспособен. Поэтому его поздняя позиция остаётся по существу агностицизмом нового типа – не воинствующим отрицанием, а открытым, симпатизирующим сомнением. Он отказывается отвергать религиозную возможность a priori и настаивает на том, что риск веры не является безрассудным, поскольку вера обладает потенциально собственным, имманентным способом верификации, лежащим вне компетенции науки. Таким образом, Романес занимает промежуточную позицию между радикальным сциентизмом Тиндаля и уверенной религиозностью: он признаёт рациональную оправданность религиозного взгляда на мир, но экзистенциально остаётся на пороге веры, не переступая его. Его интеллектуальная эволюция демонстрирует, как эволюционная парадигма, разрушившая традиционные основания теизма, одновременно могла стимулировать поиск более сложных, нередукционистских форм религиозности, основанных на интеграции разума, опыта и волевого выбора.
8. Позитивизм: контианские группы, Дж. Г. Льюис, У. К. Клиффорд, К. Пирсон.
Развитие позитивистской мысли в Великобритании после Конта демонстрирует её внутреннюю дифференциацию: от ритуализированных контианских групп до независимых учёных, трансформировавших позитивизм в радикальную феноменалистическую философию науки.
Организованный позитивизм, представленный Ричардом Конгривом и его кругом (Джон Генри Бриджес, Фредерик Харрисон), сосредоточился на популяризации и культовом воплощении контовской «религии человечества», включая создание храмов и ритуальных практик. Этот путь, однако, оставался маргинальным, вызывая ироническую критику со стороны таких фигур, как Гексли.
Более значимым было влияние позитивистской методологии на независимых мыслителей. Джордж Генри Льюис, отойдя от догм Конта под влиянием Спенсера, ввёл важное различие между «результирующими» и «эмерджентными» феноменами, заложив терминологическую основу для будущих философских дискуссий о природе сложных систем.
Наиболее оригинальные разработки принадлежали учёным-математикам. Уильям Кингдон Клиффорд предложил теорию «ментальной материи» (mind-stuff) как решение психофизической проблемы. Эта панпсихистская модель, утверждающая соответствие психического и физического аспектов у каждого элемента реальности, позволяла избегать скачка от материи к сознанию, объясняя последнее как эмерджентное свойство определённой организации «ментальной материи». В этике Клиффорд развивал идею «племенного “я”», рассматривая мораль как подчинение личных интересов выживанию и прогрессу социального организма, что предвосхищало бергсоновскую концепцию «закрытой морали». Его воинствующий антиклерикализм и пропаганда «религии человечества» сближали его с традицией Французского Просвещения.
Карл Пирсон систематизировал позитивистский подход в философии науки. Его феноменализм, восходящий к Юму и Миллю, сводил основу знания к ощущениям, а физические объекты и научные сущности (вроде атомов) трактовал как «ментальные разработки» – конструкты, создаваемые для экономичного описания и предсказания чувственного опыта. Наука, по Пирсону, есть классификация фактов (ощущений) и установление между ними отношений последовательности. Метафизику он отвергал как замаскированную поэзию, лишённую познавательной ценности. Эта позиция, близкая воззрениям Эрнста Маха (который посвятил Пирсону свою работу), предвосхищала логический позитивизм XX века с его верификационизмом и критикой метафизики. Однако радикальный феноменализм Пирсона приводил к парадоксальному заключению: наука, призванная описывать мир, в итоге имеет дело лишь с содержаниями сознания, что ставило под вопрос существование независимой от наблюдателя реальности.
Таким образом, британский позитивизм эволюционировал от социально-религиозного проекта Конта к строгой феноменалистической и инструменталистской философии науки, где знание сводилось к организации чувственного опыта, а научные теории – к полезным инструментам для предсказания и экономии мышления. Этот путь демонстрирует внутреннюю логику эмпиризма, последовательный радикализм которого ведёт к стиранию границы между фактом и ощущением, между миром и его ментальной репрезентацией.
9. Б. Кидд; заключение.
Вообще говоря, можно сказать, что мыслители, упомянутые в этой главе, выражали живое признание роли, которую научный метод сыграл в огромном продвижении человеческого знания о мире. И понятно, что такое признание сопровождалось убеждением, что научный метод является единственным средством приобретения чего-либо, что можно было бы назвать знанием в собственном смысле. Наука, думали они, непрерывно расширяет границы человеческого знания; и если есть что-то, находящееся за пределами досягаемости науки, то оно непознаваемо. Метафизика и теология претендуют на то, чтобы делать истинные утверждения о метафеноменальном; но их притязания ложны.
Другими словами, продвижение подлинно научной точки зрения неизбежно сопровождается продвижением агностицизма. Религиозная вера принадлежит детству человеческой расы, а не действительно взрослому уму. В самом деле, мы не можем доказать, что не существует реальности за пределами феноменов, отношения между которыми изучает учёный. Наука имеет дело с описаниями, а не с окончательными объяснениями. И, насколько нам известно, возможно, такое объяснение существует. Фактически, чем больше феномены сводятся к ощущениям или чувственным впечатлениям, тем труднее избежать понятия метафеноменальной реальности. Но в любом случае такая реальность не может быть познана. И взрослый ум просто ограничивается принятием этого факта и объятием агностицизма.
С Романесом, правда, агностицизм стал означать нечто гораздо большее, чем просто формальное признание невозможности доказать несуществование Бога. Но мыслители более позитивистского склада лишили религию, в том что касается взрослого человека, её интеллектуального содержания. То есть религия должна перестать верить в истинность предложений о Боге. Религия, если взрослый ум способен её сохранить, должна быть сведена к эмоциональному элементу. Но эмоциональная установка должна относиться к космосу как объекту космического чувства или к человечеству, как в так называемой «религии человечества». В конечном итоге эмоциональный элемент религии отделяется от понятия Бога и привязывается к чему-либо ещё, а традиционная религия есть нечто, что должно быть оставлено позади по мере продвижения научного знания.
Таким образом, можно сказать, что большинство мыслителей, рассмотренных в этой главе, были предшественниками так называемых современных научных гуманистов, которые считают религиозную веру лишённой рациональной поддержки и склонны подчёркивать её якобы пагубное влияние на человеческий прогресс и мораль. Несомненно, убеждённость в том, что человек по сути обращён к Богу как к своей конечной цели, ставит вопрос об уместности использования термина «гуманизм» для атеистической философии человека. Но если рассматривать движение эволюции в человеческом обществе просто как прогресс в научном знании и в контроле человека над своей средой и самим собой, то вряд ли можно найти место для религии, поскольку она направляет внимание человека к трансцендентному. Сциентизм необходимо противопоставлен традиционной религии.
Совершенно иную точку зрения проповедовал Бенджамин Кидд (1858–1916), автор нескольких некогда популярных работ: «Социальная эволюция» (1894), «Принципы западной цивилизации» (1902) и «Наука о власти» (1918). По его мнению, естественный отбор в человеческом обществе имеет тенденцию благоприятствовать росту эмоциональных и аффективных качеств в человеке больше, чем интеллектуальных. И поскольку религия основана на эмоциональных аспектах человеческой природы, неудивительно, что религиозные люди имеют тенденцию преобладать в сообществах в борьбе за существование. Ибо религия способствует – так, как наука никогда не сможет, – альтруизму и преданности интересам сообщества. Особенно в своих этических аспектах религия есть наиболее мощная социальная сила. А высшим выражением религиозного сознания является христианство, на котором построена западная цивилизация.
Другими словами, Кидд принизил разум как созидательную силу в социальной эволюции и сделал акцент на чувстве. И поскольку он лишил религию её интеллектуального содержания и интерпретировал её как наиболее мощное выражение эмоционального аспекта человеческой природы, он считал её существенным фактором в человеческом прогрессе. Критически-враждебное отношение к религии со стороны разрушительного разума означало, таким образом, для него, атаку на прогресс.
Признание Киддом влияния религии на человеческую историю, несомненно, было полностью оправданным. Но важность, которую он придавал эмоциональным аспектам религии, сделала его уязвимым для возражения, что религиозные верования принадлежат к классу эмоционально поддерживаемых мифов, которые, действительно, оказывали большое влияние, но необходимость которых должна быть преодолена взрослым умом. Кидд, конечно, ответил бы, что такое возражение предполагает, будто прогресс обеспечивается осуществлением критического разума, тогда как, по его мнению, то, что обеспечивает прогресс, есть развитие эмоциональных и аффективных аспектов человека, а не развитие разума, более разрушительного, чем созидательного. Кажется очевидным, однако, что хотя эмоциональные аспекты человека существенны для его природы, разум должен сохранять контроль. И если религия не имеет никакого рационального обоснования, она по необходимости подозрительна. Кроме того, хотя влияние, оказываемое религиями на человеческие общества, есть несомненный факт, это никоим образом не означает, что такое влияние всегда было благотворным. Нам нужны рациональные принципы различения.
Однако существует важное убеждение, общее для Кидда и его критиков; а именно, убеждение, что в борьбе за существование принцип естественного отбора автоматически ведёт к прогрессу. И именно эта догма прогресса была поставлена под сомнение на протяжении XX века. Ввиду катаклизмов этого столетия мы едва ли можем сохранять безмятежную уверенность в благотворных эффектах коллективной эмоции. Но, равным образом, нам трудно предположить, что научный прогресс сам по себе является синонимом социального прогресса. Здесь лежит чрезвычайно важный вопрос о целях научного знания. И рассмотрение этого вопроса выводит нас за пределы сферы описательной науки. Все мы, несомненно, согласимся, что наука должна использоваться на службе человеку. Но возникает вопрос: как следует интерпретировать человека? И ответ на этот вопрос подразумевает метафизику, имплицитно или эксплицитно. В попытке уклониться от метафизики или исключить её часто можно обнаружить скрытую метафизическую гипотезу, неисповеданную теорию бытия. Иными словами, идея о том, что научный прогресс вытесняет метафизику, ошибочна. Метафизика просто появляется вновь в форме скрытых гипотез.
Глава V. Философия Герберта Спенсера.
1. Жизнь и труды.
Герберт Спенсер родился в Дерби 27 апреля 1820 года. Если Милль начал изучать греческий в три года, то Спенсер признаёт, что его познания в латыни и греческом к тринадцати годам не были выдающимися. Тем не менее, к шестнадцати он уже имел некоторые познания в математике; и после нескольких месяцев учительства в Дерби он поступил на работу инженером-строителем в железнодорожную компанию Birmingham Gloucester Railway. По завершении строительства линии в 1841 году Спенсер был уволен. «Я получил отставку с большой радостью», – пишет он в своём дневнике. Но хотя в 1843 году он переехал в Лондон, чтобы начать литературную карьеру, он ненадолго вернулся на службу в железнодорожные компании и даже попытал счастья как изобретатель.
В 1848 году Спенсер был назначен заместителем редактора «Экономиста» и завязал дружбу с Дж. Г. Льюисом, Гексли, Тиндалем и Джордж Элиот. Особенно с Льюисом он обсуждал теорию эволюции; среди анонимных статей, которые он писал для льюисовского «Лидера», есть одна под названием «Гипотеза развития», где излагалась, в ламаркианском духе, идея эволюции. В 1851 году он опубликовал «Социальную статику», а в 1855 году – «Основы психологии». К этому времени его состояние здоровья стало серьёзно беспокоить его, и он совершил несколько поездок во Францию, где познакомился с Огюстом Контом. Однако он всё же смог опубликовать сборник эссе в 1857 году.
В начале 1858 года Спенсер составил план «Системы синтетической философии», проспект которой, распространённый в 1860 году, предвещал десять томов. «Основные начала» появились одним томом в 1862 году, а «Основы биологии» – в двух томах в 1864–1867 годах. «Основы психологии», впервые опубликованные в одном томе в 1855 году, вышли в двух томах в 1870–1872 годах, тогда как три тома «Основ социологии» были опубликованы в 1876–1896 годах. «Данные этики» (1879) позже вошли вместе с двумя другими частями в первый том «Основ этики» (1892); второй том этого труда (1893) составила «Справедливость» (1891). Спенсер также опубликовал новые издания нескольких томов «Системы». Например, шестое издание «Основных начал» появилось в 1900 году, а исправленное и дополненное издание «Основ биологии» было опубликовано в 1898–1899 годах.
Система синтетической философии Спенсера представляет собой выдающееся достижение, осуществлённое несмотря на слабое здоровье и серьёзные финансовые трудности, по крайней мере в начале. Интеллектуально он был самоучкой, и написание его масштабного труда означало необходимость писать на множество тем, которые он фактически никогда систематически не изучал. Ему приходилось собирать данные из различных источников и затем интерпретировать их в свете идеи эволюции. Что касается истории философии, почти все его познания ограничивались источниками из вторых рук. Фактически, он не раз пытался читать первую «Критику» Канта; но, доходя до учения о субъективности пространства и времени, он бросал книгу. Он никогда не мог по-настоящему оценить или понять точки зрения, отличные от его собственной. Однако, если бы он не практиковал то, что можно назвать строгой экономией мышления, он, вероятно, никогда бы не завершил задачу, которую сам себе поставил.
Из остальных публикаций Спенсера можно упомянуть: «Воспитание» (1861), небольшую, но очень успешную книгу; «Человек против государства» (1884), энергичную полемику против того, что автор считал угрозой рабства; и посмертную «Автобиографию» (1904). В 1885 году Спенсер опубликовал в Америке «Природу и реальность религии», которая включала в себя полемику между самим Спенсером и позитивистом Фредериком Харрисоном. Однако книга была изъята из обращения, поскольку Харрисон протестовал против переиздания его статей без его разрешения, особенно ввиду того, что в томе была включена вводная статья некоего профессора Йоманса, поддерживающего позицию Спенсера.
За исключением членства в клубе «Атенеум» (1868), Спенсер систематически отвергал любые почести. Когда ему предложили занять кафедру ментальной философии и логики в Университетском колледже Лондона, он отказался; он также отказался от избрания в Королевское общество. Казалось, он хотел дать понять, что когда он действительно нуждался в таких предложениях, их не было, а когда они появились, они ему уже были не нужны, поскольку он уже обладал репутацией. Что касается почестей, предлагаемых правительством, его неприятие социальных отличий такого рода мешало ему принять их, не говоря уже о его раздражении из-за запоздалости предложений.
Спенсер умер 8 декабря 1903 года. К тому времени он был совершенно непопулярен в своей собственной стране, особенно из-за своей оппозиции Англо-бурской войне (1899–1902), которую он считал выражением духа милитаризма, столь ему ненавистного. За границей, однако, широко критиковали английское равнодушие к смерти одного из её главных деятелей. А в Италии парламент прервал заседание, получив известие о смерти Спенсера.
Интеллектуальная биография Герберта Спенсера неотделима от его грандиозного философского замысла. Рождённый в 1820 году в Дерби, он прошёл путь от инженера-железнодорожника, чьё формальное образование было фрагментарным, до одного из самых знаменитых мыслителей своего времени, воплотив в себе идеал самоучки. Его ранняя практическая работа сформировала приверженность системному, почти инженерному подходу к знанию, который позже нашёл выражение в «Системе синтетической философии». Уже в 1858 году, за год до публикации труда Дарвина, Спенсер набросал план этой всеобъемлющей системы, где универсальный закон эволюции, понимаемый как переход от простого и однородного к сложному и разнородному, становился ключом к объяснению всех феноменов – от образования галактик до развития общества и морали.
Осуществить этот монументальный проект ему удалось благодаря дисциплине и методологической «экономии мышления». Будучи интеллектуальным автодидактом, Спенсер сознательно избегал глубокого погружения в историю философии и чужие системы, что позволяло ему с непоколебимой последовательностью интерпретировать данные из биологии, психологии, социологии и этики исключительно сквозь призму эволюционной теории. Эта целеустремлённость, помноженная на постоянную борьбу со слабым здоровьем и финансовыми трудностями, привела к созданию десятитомного труда, ставшего апофеозом викторианской веры в научный прогресс. Его формула «выживание наиболее приспособленных», предвосхитившая дарвиновскую, обрела у него социологическое звучание, оправдывая принципы либерального индивидуализма и минимального государства, что ярко выражено в памфлете «Человек против государства».
Однако прижизненная мировая слава Спенсера сменилась в XX веке ощущением его глубокой устарелости. Его синтез, бывший символом оптимизма, не выдержал испытания катастрофами нового столетия, подорвавшими веру в автоматический прогресс. Современная философия и наука, склонные к специализации и критике «больших нарративов», отошли от его всеохватных амбиций. Тем не менее, фигура Спенсера сохраняет непреходящую историческую значимость как воплощение интеллектуального духа своей эпохи. Его попытка построения единой научной картины мира предвосхитила междисциплинарные поиски, а его социальная философия остаётся важной вехой в развитии либертарианской мысли. Непопулярный на родине в конце жизни из-за пацифистских взглядов, он, тем не менее, обеспечил себе место в ряду главных представителей философии XIX века, чьё наследие служит монументальным свидетельством веры в универсальную силу эволюционного закона.
2. Природа философии и её основные понятия и принципы.
Общие размышления Спенсера об отношении между философией и наукой весьма схожи с мыслями классических позитивистов, таких как Огюст Конт. Наука и философия имеют дело с феноменами, то есть с конечным, обусловленным и классифицируемым. Правда, по мнению Спенсера, феномены суть проявления в сознании Бесконечного, Безусловного Сущего. Но поскольку знание означает отношение и классификацию, тогда как Бесконечное, Безусловное Сущее по самой своей природе едино и не поддаётся классификации, утверждать, что такое Сущее выходит за пределы сферы феноменов, – значит утверждать, что оно выходит за пределы сферы познаваемого. Таким образом, философ не может изучать его лучше, чем учёный. Метафеноменальные или «первопричины» находятся вне досягаемости как философии, так и науки.
Тем не менее, если мы хотим провести различие между философией и наукой, мы не можем сделать это, ссылаясь только на их объекты, потому что обе деятельности занимаются феноменами. Необходимо обратиться к идее различных степеней обобщения. «Наука» – это имя, данное семье частных наук. И хотя всякая наука предполагает обобщение (это отличает её от беспорядочного знания отдельных фактов), даже её самые широкие обобщения являются частичными по сравнению с универсальными истинами философии, которые служат для объединения наук. «Истины философии, таким образом, находятся в том же отношении к высшим научным истинам, в каком каждая из последних находится к низшим научным истинам… Знание низшего типа – это необъединённое знание; наука – это частично объединённое знание; философия – это полностью объединённое знание».
Универсальные истины или максимальные обобщения, свойственные философии, могут рассматриваться либо сами по себе как «продукты исследования», составляя тогда общую философию, либо в соответствии с активной ролью, которую они играют в качестве «инструментов исследования»: то есть в качестве истин, в свете которых мы исследуем различные конкретные области феноменов, такие как данные этики и социологии. В таком случае мы говорим о специальной философии. «Основные начала» Спенсера посвящены общей философии, тогда как последующие тома «Системы» рассматривают различные части специальной философии.
Само по себе исследование Спенсера отношения между наукой и философией, основанное на идее степеней объединения, кажется, указывает на то, что, по его мнению, основные понятия философии выводятся путём обобщения из частных наук. Но это не совсем так. Ибо Спенсер настаивает, что существуют фундаментальные понятия и гипотезы, подразумеваемые в любом мышлении. Предположим, философ решает взять в качестве отправного пункта своих размышлений некий особый факт и воображает, что, поступая так, он не предполагает никакой гипотезы. На самом деле выбор особого факта предполагает существование других фактов, которые философ мог бы выбрать. Это, в свою очередь, подразумевает понятие существования, отличного от того, которое фактически утверждается. Кроме того, нельзя познать ни одну индивидуальную вещь иначе как через её сходство с другими вещами, как поддающуюся классификации в силу общего признака и как отличающуюся от других вещей. Короче говоря, выбор особого факта предполагает множество «неизвестных постулатов», которые в совокупности составляют набросок теории общей философии. «Развитый интеллект формируется на основе определённых организованных теорий и устоявшихся концепций, от которых он не может освободиться и без которых он не может сделать ни шагу вперёд, подобно тому как тело не может двигаться без помощи своих членов».
Нельзя сказать, что Спенсер полностью проясняет свою позицию. Ибо он говорит о «неявных гипотезах», «непроявленных данных», «неизвестных постулатах», «определённых организованных и устоявшихся концепциях» и «фундаментальных интуициях» так, как если бы значение таких фраз не нуждалось в дальнейшем разъяснении и было бы одинаковым для всех них. Ясно, однако, что он не претендует на кантианскую теорию априорного. Фундаментальные понятия и гипотезы имеют эмпирическое основание. И иногда Спенсер, кажется, ссылается на индивидуальный опыт или сознание. Он говорит, например, что «мы не можем не принять как истину вердикт сознания, который говорит нам, что определённые проявления равны другим, а некоторые отличны от других». Однако ситуация осложняется тем фактом, что Спенсер принимает идею относительного априорного, то есть понятий и гипотез, которые, с генетической точки зрения, являются продуктом накопленного опыта расы, но которые являются априорными по отношению к данному индивидуальному интеллекту в том смысле, что они пришли к нему с силой «интуиций».
Основные гипотезы процесса мышления должны быть временно приняты как бесспорные. Они могут быть оправданы или обрести значимость только через свои результаты, то есть показывая соответствие или согласованность между опытом, который логически можно было ожидать от таких гипотез, и опытом, который мы имеем в действительности. В самом деле, «полное утверждение согласованности оказывается тем же самым, что и полное объединение знания, цель философии». Таким образом, общая философия делает явными основные понятия и гипотезы, тогда как специальная философия показывает их соответствие реальным феноменам в различных областях или сферах опыта.
Согласно Спенсеру, «познавать – значит классифицировать, или схватывать сходное и отделять отличное». И поскольку сходство и различие суть отношения, мы можем сказать, что всякое мышление является реляционным, что «отношение есть универсальная форма мышления». Мы можем, однако, различать два типа отношений: последовательности и сосуществования. И каждый из них порождает абстрактную идею. «Абстракт всех последовательностей есть Время. Абстракт всех сосуществований есть Пространство». Время и пространство в действительности являются первоначальными формами сознания в абсолютном смысле. Но поскольку генерация таких идей происходит через организацию опыта, происходящую на протяжении всей эволюции интеллекта, они могут иметь характер относительного априорного в отношении данного индивидуального интеллекта.
Наше понятие Пространства по сути есть понятие ряда сосуществующих позиций, не оказывающих никакого сопротивления. И оно выводится путём абстракции из понятия Материи, которое в самом широком смысле понимается как ряд сосуществующих позиций, оказывающих сопротивление. В свою очередь, понятие Материи выводится из опыта силы. Ибо «определённые корреляции сил образуют всё содержание нашей идеи Материи». Подобным образом, хотя развитые понятия Движения включают в себя идеи Пространства, Времени и Материи, рудиментарное сознание Движения есть просто сознание «серии впечатлений силы».
Спенсер утверждает, однако, что психологический анализ понятий Времени, Пространства, Материи и Движения показывает, что все они основываются на опытах Силы. И вывод таков, что «мы приходим, наконец, к Силе как к последнему из последнего». Принцип сохранения материи на самом деле есть принцип сохранения силы. Подобным образом, все доказательства принципа непрерывности движения «подразумевают постулат, что количество Энергии постоянно», если под энергией понимать силу, которой обладает материя в движении. И мы приходим, наконец, к принципу постоянства Силы, «который, поскольку он является основой науки, не может быть сформулирован ею», а превосходит всякое доказательство; принцип, имеющий своим следствием постоянство закона – постоянство определённых отношений между силами.
Можно возразить, что такие принципы, как сохранение материи, принадлежат скорее науке, чем философии. Но Спенсер отвечает, что это «истины, которые объединяют конкретные феномены, принадлежащие всем областям Природы, и как таковые должны быть частью того всеобъемлющего представления о вещах, которое ищет философия». Кроме того, хотя слово Сила обычно означает «сознание мышечного напряжения», чувство усилия, которое мы испытываем, когда приводим что-либо в движение или противодействуем определённому давлению, есть символ «абсолютной силы». И когда мы говорим о постоянстве Силы, «мы в действительности понимаем постоянство Причины, которая превосходит наше знание и нашу концепцию». Как можно осмысленно утверждать постоянство непознаваемой реальности, возможно, не сразу очевидно. Но если утверждение о постоянстве Силы действительно означает то, что говорит Спенсер, оно явно становится философским принципом, независимо даже от того факта, что его характер универсальной истины позволил бы, в любом случае, причислить его к философским истинам согласно спенсеровскому исследованию отношения между философией и наукой.
3. Общий закон эволюции: чередование эволюции и диссолюции.
Вышеупомянутые общие принципы, такие как сохранение материи, непрерывность движения и постоянство силы, являются компонентами синтеза, которого стремится достичь философия, однако, взятые вместе, они ещё не составляют такого синтеза. Ибо требуется формула или закон, который конкретизирует ход трансформаций, претерпеваемых материей и движением, и таким образом послужит для объединения всех процессов изменения, исследуемых различными частными науками. То есть, исходя из того факта, что не существует абсолютного покоя или подвижности, но каждый объект постоянно подвергается изменению, либо потому что он получает или теряет движение, либо потому что меняется способ связи его частей, мы должны утверждать общий закон непрерывного перераспределения материи и движения.
Спенсер находит то, что ищет, в том, что он называет попеременно «формулой», «законом» или «определением» эволюции. «Эволюция есть интеграция материи и сопутствующая дисперсия движения, в течение которых материя переходит из относительно неопределённой и несвязанной однородности в относительно определённую и связанную разнородность, и в течение которых удерживаемое движение претерпевает параллельную трансформацию». Этот закон может быть установлен дедуктивно, путём вывода из постоянства силы. Он может также быть установлен или подтверждён индуктивно. Ибо если мы рассмотрим развитие солнечных систем из туманности, или развитие живых тел высшей организации и сложности из примитивных организмов, или развитие психологической жизни человека, или развитие языка, или эволюцию социальной организации, – везде мы находим переход от относительно неопределённого к относительно определённому, от несвязанности к связанности, наряду с движением прогрессивной дифференциации, движением от относительной однородности к относительной разнородности. Например, в эволюции живого тела мы видим прогрессирующую дифференциацию структуры и функции.
Но это лишь часть объяснения. Ибо интеграция материи сопровождается дисперсией движения. И эволюционный процесс стремится к состоянию равновесия, к балансу сил, который достигается через диссолюцию или дезинтеграцию. Например, человеческое тело рассеивает и теряет энергию, умирает и распадается; всякое общество теряет свою силу и приходит в упадок; и тепло Солнца постепенно рассеивается.
Спенсер остерегается утверждать, что мы можем правомерно распространить то, что верно для относительно замкнутой системы, на совокупность вещей, на вселенную как целое. Мы не можем, например, с уверенностью вывести из истощения (так сказать) нашей солнечной системы истощение вселенной. И, насколько нам известно, кажется возможным, что когда жизнь на нашей планете угаснет из-за рассеяния солнечного тепла, жизнь может развиваться в какой-то другой части вселенной. Короче говоря, мы не можем утверждать, что то, что происходит в части, должно происходить и в целом.
В то же время, если в совокупности вещей имеет место чередование эволюции и диссолюции, мы должны «придерживаться идеи, что определённые Эволюции заполнили несоизмеримое прошлое и что другие Эволюции заполнят несоизмеримое будущее». И если это личное мнение Спенсера, можно сказать, что он предлагает обновлённую версию некоторых ранних греческих космологий с их идеями циклического процесса. В любом случае, существует ритм эволюции и диссолюции в частях, даже если мы не можем делать догматические утверждения о целом. И хотя первоначально Спенсер говорит о законе эволюции как о законе прогресса, его убеждённость в чередовании эволюции и диссолюции, несомненно, накладывает предел на его оптимизм.
4. Социология и политика.
Идеал Спенсера о полном философском синтезе требует систематического изучения неорганического мира в свете идеи эволюции. И Спенсер указывает, что если бы такая тема была рассмотрена в «Системе философии», «она заполнила бы два тома, один посвящённый Астрогении, а другой – Геогении». Фактически, однако, Спенсер ограничивается в специальной философии биологией, психологией, социологией и этикой. Он, конечно, ссылается на некоторые темы астрономии, физики и химии, но «Система» не предлагает систематического рассмотрения эволюции в неорганическом мире.
Поскольку ограничения пространства не позволяют нам сделать обзор всех частей системы Спенсера, я намерен опустить биологию и психологию и предложить в этом разделе некоторые заметки о его социологических и политических идеях, посвятив следующий раздел этике.
Социолог изучает рост, структуру, функции и продукты человеческих обществ. Возможность социологической науки дана тем фактом, что социальные феномены представляют собой упорядоченное отношение причины и следствия, которое позволяет предсказание; что не отменяется фактом, что социальные законы являются статистическими, а предсказания в этой области приблизительными. «Только половина науки является точной наукой». Требуется возможность обобщения, а не количественная точность. Что касается полезности социологии, Спенсер утверждает, несколько расплывчато, что если возможно воспринять порядок в структурных и функциональных изменениях, через которые проходит общество, «знание такого порядка едва ли не повлияет на наши суждения о том, что является прогрессивным и ретроградным, что желательно, что выполнимо, что утопично».
Рассматривая борьбу за существование в общем эволюционном процессе, мы находим очевидные аналогии между неорганической, органической и сверхорганической (социальной) сферами. Поведение неодушевлённого объекта зависит от отношений между его собственными силами и внешними силами, которым он подвергается. Подобным образом, поведение органического тела есть результат объединённых влияний его внутренней природы и его окружения, будь то неорганическое или органическое. Кроме того, всякое человеческое общество «проявляет ряд феноменов, приписываемых характеру его индивидов и условиям, в которых они существуют».
Несомненно верно, что обе группы факторов, внутренних и внешних, не остаются статичными. Например, человеческая мощь – физическая, эмоциональная и интеллектуальная – развивалась на протяжении истории, в то время как развивающееся общество производило заметные изменения в своём органическом и неорганическом окружении. Более того, продукты развивающегося общества – его институты и культурные творения – являются причиной новых влияний. Более того, чем более развиты человеческие общества, тем больше они будут реагировать друг на друга, то есть сверхорганический фактор будет иметь ещё большее значение. Но, несмотря на возрастающую сложность ситуации, во всех трёх сферах можно различить аналогичное взаимное влияние внутренних и внешних сил.
Хотя существует преемственность между неорганической, органической и сверхорганической сферами, существует также и разрыв. Если есть сходство, есть и различие. Рассмотрим, например, идею общества как организма. Как и в случае органического тела в собственном смысле слова, рост общества сопровождается прогрессирующей дифференциацией структур, ведущей к прогрессирующей дифференциации функций. Но этот пункт сходства между органическим телом и человеческим обществом составляет также пункт расхождения между ними и неорганическим телом. Ибо, по мнению Спенсера, действия различных частей неорганического объекта не могут быть надлежащим образом рассмотрены как функции. Более того, существует важное различие между процессом дифференциации в органическом теле и тем же процессом в социальном организме. Ибо в последнем мы не находим такого типа дифференциации, который в первом приводит к превращению одной части в орган интеллекта, а других частей в органы чувств, в то время как остальные не превращаются. В органическом теле «сознание сконцентрировано в малой части целого», тогда как в социальном организме «оно рассеяно по всему целому: все единицы способны к счастью и несчастью, если не в равной степени, то по крайней мере в приблизительных степенях».
Энтузиаст интерпретации политического общества как организма мог бы, конечно, попытаться найти конкретные аналогии между дифференциацией функций в органическом теле и в обществе. Но это привело бы его к утверждению, например, что правительство аналогично мозгу и что другие части общества должны оставить функцию мышления правительству и ограничиться подчинением его решениям. И это именно тот вывод, которого Спенсер хочет избежать. Он настаивает, таким образом, на относительной независимости индивидуальных членов политического общества и отвергает аргумент, что общество есть организм в смысле того, что оно является чем-то большим, чем сумма его членов, и обладает целью, отличной от целей его членов. «И таким образом, поскольку не существует социального сенсориума, не должно искать благополучие целого, рассматриваемого отдельно от благополучия его членов. Общество существует для блага своих членов; не члены для блага общества». Другими словами, мы можем сказать, что ноги и руки существуют для блага всего тела, но в случае общества нужно сказать, что целое существует для частей. Вывод Спенсера, в любом случае, ясен. И хотя его аргументы иногда бывают туманными и сложными, ясно, что, по его мнению, аналогия организма, применённая к политическому обществу, не только приводит к ложным выводам, но и опасна.
Ситуация, фактически, такова: решение Спенсера применить идею эволюции ко всем типам феноменов заставляет его говорить о политическом обществе, о государстве как о сверхорганизме. Но поскольку он является решительным защитником индивидуальной свободы против требований и злоупотреблений государства, он пытается вырвать жало у этой аналогии, указывая на существенные различия между органическим телом и политическим телом. И он делает это, утверждая, что хотя политическое развитие есть процесс интеграции в смысле роста социальных групп и слияния индивидуальных воль, оно также есть переход от однородности к разнородности, так что дифференциация имеет тенденцию увеличиваться. Например, с прогрессом цивилизации к современному индустриальному государству классовые различия более примитивных обществ имеют тенденцию – так полагает Спенсер – становиться менее жёсткими и даже исчезать. И это признак прогресса.
Позиция Спенсера зависит частично от его тезиса, что «состояние однородности есть состояние нестабильное; и где уже есть некоторая разнородность, имеет место тенденция к большей разнородности». Принимая эту идею эволюционного движения, очевидно следует, что общество с относительно большей дифференциацией будет более развитым, чем то, где дифференциация относительно меньше. В то же время ясно, что точка зрения Спенсера зависит также от ценностного суждения, а именно, что общество, в котором индивидуальная свобода сильно развита, внутренне более достойно восхищения и признания, чем общество, где меньше индивидуальной свободы. В самом деле, Спенсер полагает, что общество, воплощающее принцип индивидуальной свободы, более достойно выживания, чем общества, которые не воплощают этот принцип. И это может быть понято как просто эмпирическое суждение. Но, в любом случае, я считаю, что Спенсер рассматривает первый тип общества как более достойный выживания потому, что его внутренняя ценность выше.
Оставляя в стороне исследования Спенсера о первобытных обществах и их развитии, можно сказать, что он сосредотачивает своё внимание главным образом на переходе от типа милитаристского или воинствующего общества к типу индустриального общества. Воинствующее общество – это в основе «то, в котором армия есть мобилизованная нация, тогда как нация есть армия в неактивном состоянии, и в котором, следовательно, армия и нация имеют общую структуру». Несомненно, что такой тип общества может испытать некоторое развитие. Например, военный лидер становится гражданским или политическим главой, как в случае римского императора; и в конечном счёте армия становится профессиональной специализированной ветвью сообщества, вместо того чтобы совпадать со взрослым мужским населением. Но в воинствующем обществе в целом доминируют элементы интеграции и сплочённости. Первоначальной целью является защита общества, тогда как защита индивидуальных членов имеет значение лишь как средство для достижения первичной цели. Кроме того, в этом типе общества требуется постоянная дисциплина, и «индивидуальность каждого члена настолько подчинена в том, что касается жизни, свободы и собственности, что в значительной степени или полностью он является собственностью государства». Более того, поскольку воинствующее общество стремится к самодостаточности, «политическая автономия стремится сопровождаться экономической автономией». Нацистская Германия, без сомнения, была бы для Спенсера хорошим примером возрождения общества воинствующего типа в новую индустриальную эпоху.
Спенсер не отрицает, что общество воинствующего типа имело существенную роль в эволюционном процессе, рассматриваемом как борьба за существование, в которой выживает наиболее приспособленный. Но он утверждает, что хотя межсоциальный конфликт был необходим для формирования и роста обществ, развитие цивилизации делает войну всё более бесполезной. Общество воинствующего типа становится, таким образом, анахронизмом, и необходим переход к тому, что Спенсер называет обществом индустриального типа. Это не означает, что борьба за существование прекращается, но она меняет форму, превращаясь в «индустриальную борьбу за существование», в которой больше шансов выжить у того общества, которое производит «наибольшее количество лучших индивидов, индивидов лучше приспособленных к жизни индустриального государства». Таким образом, Спенсер пытается избежать обвинения в том, что, дойдя до концепции индустриального общества, он покидает идею борьбы за существование и выживания наиболее приспособленного.
Было бы серьёзной ошибкой предполагать, что под обществом индустриального типа Спенсер понимает просто общество, в котором граждане заняты исключительно и главным образом экономической жизнью производства и распределения. Ибо индустриальное общество, понимаемое в этом узком смысле, могло бы быть совместимо с полным регулированием труда государством. И именно этот элемент принуждения Спенсер стремится исключить. На экономическом уровне Спенсер имеет в виду общество, управляемое принципом laissez-faire. Таким образом, с его точки зрения, коммунистическое и социалистическое государства были бы далеки от воплощения сущности общества индустриального типа. Функция государства состоит в поддержании свободы и индивидуальных прав и, в случае необходимости, в суждении между антагонистическими правами. Не функция государства – позитивно вмешиваться в жизни и поведение граждан, за исключением случаев, когда такое вмешательство требуется для сохранения внутреннего мира.
Другими словами, в индустриальном обществе идеального типа, согласно интерпретации Спенсера, члены, рассматриваемые как индивиды, приобретают большее значение, чем целое, общество как совокупность. «При индустриальном режиме индивидуальность гражданина, вместо того чтобы быть принесённой в жертву обществу, должна быть защищена им. Защита такой индивидуальности становится существенной обязанностью общества.» То есть, кардинальной функцией государства становится справедливое суждение об антагонистических правах граждан как индивидов и предотвращение нарушения свободы одного человека другим.
Тезис Спенсера о всеобщей применимости закона эволюции, очевидно, обязывает его утверждать, что эволюционное движение имеет тенденцию к развитию государства индустриального типа, рассматриваемого Спенсером – несколько оптимистично – как общество по сути мирное. Но тенденции государства к вмешательству и навязыванию правил, проявившиеся в последние десятилетия жизни Спенсера, побудили его выразить страх перед тем, что он назвал «грядущим рабством», и яростно атаковать любую тенденцию государства или какого-либо из его органов считать себя абсолютным. «Великим политическим суеверием прошлого было божественное право королей. Великим политическим суеверием настоящего является божественное право парламентов.» Более того, «функция “либерализма” в прошлом состояла в ограничении полномочий королей. Функция истинного “либерализма” в будущем будет состоять в ограничении полномочий парламентов».
Очевидно, что в этом решительном нападении на «грядущее рабство» Спенсер не мог просто ссылаться на автоматическую работу какого-либо закона эволюции. Его слова явно вдохновлены страстным убеждением в ценности свободы и индивидуальной инициативы, убеждением, которое является отражением характера и темперамента человека, который никогда и ни в какое время своей жизни не склонялся перед авторитетом просто потому, что он установлен. И примечательно, что Спенсер распространил своё нападение на то, что он считал злоупотреблениями государства в отношении частной свободы, до такой степени, что осудил фабричное законодательство, санитарный надзор правительственных чиновников, государственное управление почтой, государственную помощь бедным и государственное образование. Само собой разумеется, он не осуждал реформу как таковую, ни благотворительность, ни существование больниц и школ. Но он всегда настаивал, что такие проекты должны организовываться добровольно, выступая против действий, управления и контроля со стороны государства. Короче говоря, его идеалом было общество, в котором, как он говорил, индивид есть всё, а государство ничто, в противоположность обществу воинствующего типа, в котором государство есть всё, а индивид ничто.
Отождествление Спенсером общества индустриального типа с мирным и антимилитаристским обществом может показаться странным, если мы не утверждаем это как истину по определению. И его защита, доведённая до крайности, политики laissez-faire может показаться нам эксцентричной или, по крайней мере, пережитком устаревшей перспективы. Спенсер, кажется, не понял, как понял Милль, по крайней мере отчасти, и как более полно понял идеалист Т. Х. Грин, что социальное законодательство и так называемое вмешательство государства вполне могут быть необходимы для защиты законных притязаний каждого индивида на достойную человеческую жизнь.
В то же время, неприязнь Спенсера к социальному законодательству (которое сегодня принимается как должное подавляющим большинством граждан в Великобритании) не должна затмевать тот факт, что Спенсер, подобно Миллю, видел опасности бюрократии и любого возвеличивания власти и функций государства, которое имело бы тенденцию подавлять свободу и индивидуальную инициативу. В любом случае, я полагаю, что забота об общем благе ведёт к одобрению государственной деятельности в гораздо большей степени, чем Спенсер был готов принять. Но никогда не следует забывать, что общее благо не есть нечто совершенно отличное от индивидуального блага. И Спенсер, несомненно, был совершенно прав, полагая, что ради блага индивидов и общества в целом граждане должны иметь возможность свободно развиваться и проявлять свою инициативу. Мы можем думать, что это функция государства – создавать и поддерживать условия, позволяющие индивидам развиваться, и что это подразумевает, например, обязанность государства предоставлять все средства образования в соответствии со способностями индивидов ими воспользоваться. Но как только мы принимаем принцип, что государство должно позитивно заботиться о создании и поддержании условий, подходящих для того, чтобы каждый индивид вёл достойную человеческую жизнь в соответствии со своими способностями, мы подвергаемся сопутствующей опасности забыть, что общее благо не есть абстрактная сущность, которой должны безжалостно приноситься в жертву интересы индивидов. И отношение Спенсера, несмотря на его эксцентричные преувеличения, может послужить нам напоминанием, что государство существует для человека, а не человек для государства. Более того, государство есть лишь одна из форм социальной организации: оно не единственная законная форма общества. И Спенсер, конечно, понимал это.
Как уже указывалось, политические взгляды Спенсера были частично выражением эмпирических суждений, связанных с его интерпретацией эволюционного движения в целом, и частично выражением ценностных суждений. Например, его утверждение, что то, что он называет обществом индустриального типа, более достойно выживания, чем другие типы общества, было отчасти предсказанием, что такое общество действительно выживет в силу эволюционного процесса. Но это также было частично суждением, что индустриальный тип общества заслуживает выживания из-за своей внутренней ценности, было только частично суждением. В самом деле, вполне ясно, что в Спенсере позитивная оценка личной свободы была действительно решающим фактором для его представления о современном обществе. Также ясно, что если человек решил, чтобы, насколько это от него зависит, выжил тип общества, уважающий свободу и индивидуальную инициативу, такое решение основывается главным образом на ценностном суждении, а не на какой-либо теории об автоматическом исполнении закона эволюции.
5. Относительная и абсолютная этика.
Спенсер задумал свою этическую теорию как кульминацию своей системы. В предисловии к «Данным этики» он указывает, что его первый очерк «Собственная сфера правительства» (1842) смутно намекал на некоторые общие принципы относительно добра и зла в политическом поведении. И он добавляет, что «всё это время моей конечной целью, той, что лежит за всеми непосредственными целями, было найти научную основу для принципов добра и зла в поведении в целом». Идея сверхъестественного авторитета как основы этики ослабела. Самое насущное теперь – дать морали независимую научную основу, свободную от религиозных верований. И для Спенсера это означает обосновать этику на теории эволюции.
Поведение в целом, включая поведение животных, состоит из ряда действий, направленных на определённые цели. И чем выше мы поднимаемся по шкале эволюции, тем яснее найдём свидетельства существования целенаправленных действий, направленных на благо индивида и вида. Но мы также видим, что телеологическая деятельность такого рода является частью борьбы за существование между различными индивидами одного вида и между различными видами. То есть, каждое существо пытается сохранить себя за счёт другого, и каждый вид поддерживает себя за счёт другого.
Этот тип целенаправленного поведения, в котором проигрывает более слабый, является для Спенсера поведением несовершенно развитым. В совершенном поведении – собственно этическом поведении – антагонизмы между соперничающими группами и между индивидуальными членами одной группы будут заменены сотрудничеством и взаимопомощью. Совершенное поведение, однако, достигается лишь в той мере, в какой воинствующие общества уступают место постоянно мирным обществам. Другими словами, оно не может быть достигнуто устойчивым образом иначе как в полностью развитом обществе, единственном способном преодолеть и превзойти напряжения между эгоизмом и альтруизмом.
Это различение между совершенным и несовершенным поведением служит основой для различения относительной и абсолютной этики. Абсолютная этика есть «идеальный кодекс поведения, который формулирует способ поведения человека, полностью адаптированного к полностью развитому обществу», тогда как относительная этика имеет дело с типом поведения, который в наших нынешних обстоятельствах (то есть в более или менее несовершенных обществах) ближе всего к этому идеалу. По мнению Спенсера, просто ложно, что в любом наборе обстоятельств, требующих от нас целенаправленного действия, мы всегда сталкиваемся с дилеммой между абсолютно хорошим и абсолютно плохим действием. Например, я могу оказаться в таких обстоятельствах, что, как бы я ни поступил, я причиню вред другому человеку. А действие, причиняющее вред другому, не может быть абсолютно хорошим. В таких обстоятельствах, следовательно, я должен попытаться увидеть, какое из возможных действий является относительно хорошим, то есть которое из них, вероятно, причинит наибольшую меру добра и наименьшую меру зла. Я не могу претендовать на то, что моё суждение непогрешимо. Я могу действовать только согласно тому, что кажется мне лучшим, после того как посвятил вопросу всё размышление, которое, по-видимому, требует относительная важность дела. Правда, я могу принимать во внимание идеальный кодекс поведения абсолютной этики, но я не могу честно предположить, что эта норма послужит мне предпосылкой для безошибочного вывода того, что будет относительно лучшим в обстоятельствах, в которых я нахожусь.
Спенсер принимает утилитаристскую этику в том смысле, что он рассматривает счастье как конечную цель жизни и измеряет добро или зло действий по отношению к этой цели. По его мнению, «постепенное развитие утилитаристской этики было, в действительности, неизбежным». В самом деле, с самого начала существовал зарождающийся утилитаризм, в том смысле, что некоторые действия всегда считались хорошими, а другие – вредными для человека и общества. Но в древних обществах этические кодексы были связаны с авторитетом того или иного рода, или с идеей божественного авторитета и санкций, налагаемых обращением к божеству, тогда как со временем этика становилась независимой от неэтических верований, и возникала моральная перспектива, основанная просто на естественных и различимых последствиях действий. Другими словами, эволюционный процесс в области морали способствовал развитию утилитаризма. Следует добавить, однако, что утилитаризм должен пониматься таким образом, чтобы допускать различие между абсолютной и относительной этикой. В самом деле, сама идея эволюции указывает на процесс, ведущий к идеальному пределу. И в таком прогрессе улучшение в добродетели не может быть отделено от социального улучшения. «Невозможно сосуществование совершенного человека и несовершенного общества.»
Поскольку для Спенсера утилитаризм является этикой с научным основанием, понятно, что он желает показать, что это не просто одна из многих взаимно исключающих систем, а что он предоставляет место всем истинам, содержащимся в других системах. Так, он утверждает, например, что правильно понятый утилитаризм принимает точку зрения, настаивающую на понятиях добра, зла и долга, а не на достижении счастья. Бентам мог полагать, что нужно стремиться к счастью непосредственно, применяя гедонистический расчёт. Но он ошибался. На самом деле, он был бы прав, если бы достижение счастья не зависело от выполнения ряда условий. Но в таком случае любое действие было бы моральным, лишь бы оно производило удовольствие. И это представление несовместимо с моральным сознанием. В действительности, достижение счастья зависит от выполнения определённых условий, то есть от соблюдения определённых предписаний или моральных правил. И к чему мы должны стремиться непосредственно, так это к выполнению таких условий. Бентам полагал, что каждый знает, что такое счастье, и что оно более понятно, чем, например, принципы справедливости. Но эта идея противоречит истине. Принципы справедливости легко понятны, тогда как совсем нелегко сказать, что такое счастье. Спенсер защищает, таким образом, то, что он называет «рациональным» утилитаризмом, утилитаризм, который «имеет своей непосредственной целью соответствие определённым принципам, которые, по природе вещей, являются определяющей причиной благополучия».
Более того, тезис о том, что моральные правила могут быть установлены индуктивно путём наблюдения естественных последствий действий, не ведёт к выводу, что теория морального интуиционизма ложна. Ибо существуют так называемые моральные интуиции, хотя они состоят не в чём-то таинственном и необъяснимом, а в «медленно организованных эффектах опыта, полученного расой». То, что изначально было индукцией из опыта, может в последующих поколениях обрести для индивида силу интуиции. Индивид может видеть или чувствовать инстинктивно, что определённое действие хорошо или плохо, хотя эта инстинктивная реакция является продуктом накопленного опыта расы.
Подобным образом, утилитаризм вполне может признать некоторую истину в аргументе, что цель, к которой мы должны стремиться, есть совершенство нашей природы. Ибо эволюционный процесс имеет тенденцию вызывать к жизни высшую форму жизни. И хотя счастье есть высшая цель, «то, что всякая теория о моральном поведении ищет явно или смутно, есть сопутствующий признак этой высшей жизни». Что касается тезиса, что добродетель есть цель человеческого поведения, это не более чем способ выразить доктрину, что нашей непосредственной целью должно быть выполнение условий, необходимых для достижения высшей формы жизни, к которой стремится эволюционный процесс. Достигнув такой формы жизни, её следствием было бы счастье.
Само собой разумеется, Спенсер не мог претендовать на то, что его этическая теория основывается на теории эволюции, не признавая некоторой преемственности между биологической и моральной эволюцией. И он утверждает, например, что человеческая справедливость должна быть развитием до-человеческой справедливости. В то же время, в предисловии, позже изъятом, к частям пятой и шестой «Основ этики», он признаёт, что теория эволюции не служила руководством в желаемой мере.
Однако, кажется, он никогда не понимал, что эволюционный процесс как исторический факт сам по себе не мог установить ценностные суждения, которые он выводил из своей интерпретации. Например, даже если мы утверждаем, что эволюция движется к возникновению определённого типа человеческой жизни в обществе и что такой тип, таким образом, оказывается наиболее приспособленным к выживанию, из этого не следует с необходимостью, что он морально является наиболее совершенным типом. Как видел Т. Г. Гексли, эмпирическая приспособленность к выживанию в борьбе за существование и моральное совершенство не обязательно одно и то же.
Конечно, если мы исходим из гипотезы, что эволюция есть телеологический процесс, направленный на прогрессивное установление морального порядка, ситуация меняется. Но хотя такая гипотеза, возможно, подразумевается в перспективе Спенсера, он не претендовал на выдвижение таких метафизических гипотез.
6. Непознаваемое в религии и науке.
Явный метафизический элемент в мысли Спенсера есть, несколько парадоксальным образом, его философия Непознаваемого. Он вводит эту тему в связи с исследованием предполагаемого антагонизма между религией и наукой. «Из всех антагонизмов веры самый старый, самый распространённый, самый глубокий и самый важный – это антагонизм между религией и наукой». Конечно, если понимать религию просто как субъективный опыт, проблема конфликта между ней и наукой едва ли возникает. Но если мы принимаем во внимание различные религиозные верования, дело обстоит иначе. Что касается конкретных фактов, сверхъестественные объяснения были заменены естественными или научными объяснениями. И религия была вынуждена более или менее ограничиться предложением объяснения существования вселенной как целого. Но её аргументы неприемлемы для любого, кто обладает научной перспективой. В этом смысле, следовательно, существует конфликт между религиозными и научными умами. И он может быть разрешён, по мнению Спенсера, только философией Непознаваемого.
Если мы исходим из религиозной веры, мы можем видеть, что как пантеизм, так и теизм несостоятельны. Под пантеизмом Спенсер понимает теорию вселенной, развивающейся от потенциального существования к актуальному. И он утверждает, что такая идея непостижима. В действительности мы не знаем, что она означает. Таким образом, вопрос её истинности или ложности едва ли возникает. Что касается теизма, понимаемого как теория, что мир был создан внешним агентом, он также несостоятелен. Помимо того факта, что сотворение пространства непостижимо, потому что его несуществование нельзя мыслить, идея Творца, существующего сам по себе, так же немыслима, как идея вселенной, существующей сама по себе. Сама идея «существования самого по себе» непостижима. «Дело не в вероятности или правдоподобии, а в постижимости».
Правда, признаёт Спенсер, если мы спрашиваем о конечной причине или причинах эффектов, произведённых в наших чувствах, мы чувствуем себя неизбежно приведёнными к формулировке гипотезы о первопричине. И нам придётся определить её как бесконечную и абсолютную. Но Мэнсел доказал, что хотя идея конечной и подчинённой Первопричины содержит явные противоречия, идея бесконечной и абсолютной Первопричины также не свободна от противоречий, даже если они не столь непосредственно очевидны. Мы не можем, следовательно, сказать ничего разумного о природе Первопричины. И в конечном счёте мы остаёмся только с идеей непостижимой Силы.
Тем не менее, если мы исходим из науки, мы снова сталкиваемся с Непознаваемым. Ибо наука не может разрешить тайну вселенной. С одной стороны, она не может доказать, что вселенная существует сама по себе, потому что идея существования самого по себе, как мы видели, непостижима и неразумна. С другой стороны, конечные понятия науки «все являются представителями реальностей, которые не могут быть постигнуты». Например, мы не можем постичь, что такое сила «сама по себе». И в конечном счёте «конечные религиозные идеи и конечные научные идеи одновременно превращаются в простые символы реального, а не в знания о нём».
Такой взгляд опирается на анализ человеческого мышления. Всякое мышление, как мы видели, является реляционным. И то, что не может быть определено через свои отношения сходства и несходства с другими вещами, не является возможным объектом знания. Таким образом, невозможно познать безусловное и абсолютное. И это применимо не только к Абсолютному религии, но и к конечным научным идеям как репрезентациям метафеноменальных сущностей или «вещей в себе». В то же время, утверждать, что всякое знание является «относительным», – значит подразумевающе утверждать существование неотносительной реальности. «Если не постулировать реальное Не-относительное или Абсолютное, Относительное становится абсолютным и превращает аргумент в противоречие». Фактически, мы не можем устранить из нашего сознания идею Абсолюта за пределами явлений.
Таким образом, подходим ли мы к теме через критический анализ религиозных верований, или через размышление о наших конечных научных идеях, или через анализ природы мышления и знания, мы приходим в конце концов к идее непознаваемой реальности. И состояние постоянного мира между религией и наукой будет достигнуто «тогда, когда наука полностью убедится, что её объяснения являются приблизительными и относительными, а религия, в свою очередь, полностью убедится, что тайна, которую она созерцает, является конечной и абсолютной».
Теперь, доктрина Непознаваемого образует первую часть «Основных начал» и таким образом помещается в начале философской системы Спенсера в её формальном порядке. Этот факт может побудить неосторожного читателя придать теории фундаментальное значение. Однако, когда он обнаружит, что непостижимый Абсолют или Сила религии практически приравнивается к Силе как таковой, он, возможно, придет к выводу, что теория не более чем, если вообще является, вежливой взяткой, предложенной религиозному человеку другим человеком, который не верил в Бога и который был похоронен, или, скорее, склонён, без какой-либо религиозной церемонии. Легко понять, таким образом, что некоторые писатели отвергли первую часть «Основных начал», назвав её несчастным наростом. Спенсер рассматривает Непознаваемое с значительной подробностью. Но конечный результат не является выдающимся с метафизической точки зрения, поскольку аргументы не были тщательно обдуманы; в то время как учёный, вероятно, будет возражать против представления, что его основные идеи ускользают от всякого понимания.
Спенсер, однако, видит некую тайну во вселенной. Его доказательства существования Непознаваемого действительно несколько запутаны. Иногда он производит впечатление, что принимает феноменализм в духе Юма, утверждая, что модификации, производимые в наших чувствах, должны быть вызваны чем-то, превосходящим наше знание. В других случаях его мысль, кажется, поддерживается более или менее кантианской формой рассуждения, заимствованной у Гамильтона и Мэнсела. Внешние вещи суть феномены в том смысле, что они могут быть познаны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе человеческого мышления. «Вещи в себе» или ноумены не могут быть познаны; но поскольку идея ноумена коррелятивна идее феномена, мы не можем не постулировать её. Спенсер, однако, также полагается на то, что он называет решающим фактом: что помимо «определённого» сознания «есть также неопределённое сознание, которое не может быть сформулировано». Например, мы не можем иметь определённого сознания конечного без сопутствующего неопределённого сознания бесконечного. И такое рассуждение приводит к утверждению бесконечного Абсолюта как возможной реальности, о которой мы имеем неопределённое или смутное сознание. Мы не можем знать, что такое Абсолют. Но даже когда мы отрицаем всякую последовательную и определённую интерпретацию или описание Абсолюта, который проявляет себя, «за ним всегда остаётся элемент, который принимает новые формы».
Кажется, Спенсер серьёзно старался поддерживать такое рассуждение. И хотя могло бы показаться удобнее превратить Спенсера в полного позитивиста, отвергнув доктрину Непознаваемого как уступку религиозным людям, такое упрощённое отвержение, по-видимому, не может быть оправдано. Когда позитивист Фредерик Харрисон призвал Спенсера превратить философию Непознаваемого в контовскую религию человечества, Спенсер не захотел его слушать. Легко высмеивать его за то, что он пишет «Непознаваемое» с заглавной буквы, как если бы – как было сказано – он ожидал, что кто-то снимет перед ним шляпу. Но он, кажется, действительно был убеждён, что мир науки есть проявление реальности, превосходящей человеческое знание. Доктрина Непознаваемого вряд ли удовлетворит многих религиозных людей. Но это другой вопрос. Что касается Спенсера, он, кажется, искренне верил, что смутное сознание Абсолюта или Безусловного было неустранимым элементом человеческой мысли и, так сказать, сердцевиной религии, постоянным элементом, переживающим смену различных верований и метафизических систем.
7. Заключительные замечания.
Само собой разумеется, что в философии Спенсера есть немалая доля метафизики. В самом деле, трудно представить себе философию, которая бы обходилась без неё. Разве феноменализм не есть форма метафизики? И когда Спенсер говорит, например, что «под реальностью мы понимаем постоянство сознания», можно сказать, что это метафизическое утверждение. Мы могли бы, конечно, попытаться интерпретировать это как простое определение или утверждение об обычном употреблении языка. Но когда говорится, что «постоянство есть наше конечное подтверждение реального, будь то существующего в его неизвестной форме или в форме, известной нам», разумно квалифицировать такое утверждение как метафизическое.
Очевидно, Спенсера нельзя определить как метафизика, если под таковым понимать философа, который ставит целью раскрыть природу конечной реальности. Ибо, по его мнению, такая реальность не может быть раскрыта. И хотя он является метафизиком в той степени, в которой утверждает существование Непознаваемого, он затем посвящает себя разработке объединённой и полной интерпретации познаваемого, то есть феноменов. Но если нам нравится называть эту общую интерпретацию «дескриптивной метафизикой», мы, конечно, свободны это делать.
ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
РАННИЕ ЭТАПЫ ДВИЖЕНИЯ.
1. Историческое введение.
Во второй половине XIX века идеализм стал преобладающим философским направлением в британских университетах. Речь, конечно, шла не о субъективном идеализме. Последний, если где и возникал, то как логическое следствие феноменализма, ассоциируемого с именами Юма (XVIII век) и Дж. С. Милля (XIX век). Эмпиристы-феноменалисты пытались редуцировать физические объекты и ум к впечатлениям или ощущениям, а затем реконструировать их посредством принципа ассоциации идей. Это подразумевало тезис о том, что в основе мы познаём лишь феномены как впечатления, а метафеноменальные реальности, если и существуют, то непознаваемы. В отличие от них, идеалисты XIX века были убеждены, что «вещи в себе», будучи выражениями единой духовной реальности, проявляющейся в человеческом уме и через него, по сути своей познаваемы. Субъект и объект коррелятивны, поскольку оба укоренены в высшем духовном начале. Таким образом, это был скорее объективный, нежели субъективный идеализм[13741].
Следовательно, британский идеализм XIX века представляет собой возрождение спекулятивной метафизики[13751]. Любое проявление духа может быть, в принципе, познано человеческим духом. А весь мир в целом есть проявление духа. Наука – это лишь один из уровней познания, один аспект всеобъемлющего знания, к которому стремится ум, даже если он не может полностью его осуществить. Задача философской метафизики – завершить этот синтез.
Идеалистическая метафизика была, таким образом, метафизикой духовного, поскольку для неё конечная реальность была каким-то образом духовна. Отсюда следовало яростное противостояние идеализма материализму. Строго говоря, феноменалистов нельзя честно назвать материалистами, учитывая, что они пытались преодолеть спор между материализмом и спиритуализмом, сводя физические объекты и ум к феноменам, которые нельзя однозначно определить ни как духовные, ни как материальные. Однако эти феномены явно отличались от единой духовной реальности идеалистов. В любом случае, мы видели, что в наиболее позитивистском крыле эмпиристского движения возник как минимум методологический материализм – так называемый научный материализм, течение, не снискавшее симпатий идеалистов.
Подчёркивая духовный характер конечной реальности и связь между конечным и бесконечным духом, идеализм рассматривался как религиозная перспектива, противостоящая позитивизму и общей тенденции эмпиризма либо игнорировать религиозные проблемы, либо, в лучшем случае, допускать некий расплывчатый агностицизм. Действительно, популярность идеализма во многом объяснялась убеждённостью, что он твёрдо стоит на стороне религии. Конечно, у Брэдли, величайшего из английских идеалистов, понятие Бога трансформировалось в понятие Абсолюта, а религия определялась как уровень сознания, превзойдённый спекулятивной метафизикой; в то же время кембриджский идеалист Мак-Таггарт был атеистом. Однако у ранних идеалистов религиозный мотив был гораздо явственнее, и идеализм представал естественным прибежищем тех, кто стремился сохранить религиозное мировоззрение перед лицом угрожающих атак агностиков, позитивистов и материалистов[13761]. Позже, после Брэдли и Бозанкета, идеализм эволюционировал от абсолютного к персоналистическому и вновь проявил расположение к христианскому теизму, хотя к тому времени импульс движения уже иссяк.
Было бы, однако, ошибкой полагать, что британский идеализм XIX века представлял собой просто отход от практических интересов Бентама и Милля к метафизике Абсолюта. Он сыграл значительную роль в развитии социальной философии. В целом, этическая теория идеалистов делала акцент на идее самореализации, совершенствования человеческой личности как органического целого – идее, имевшей больше общего с аристотелизмом, нежели с бентамизмом. И она рассматривала функцию государства как создание условий, в которых индивиды могли бы развивать свои возможности как личности. Поскольку идеалисты склонны были интерпретировать создание таких условий как устранение препятствий, они, разумеется, могли – подобно утилитаристам – утверждать, что государство должно как можно меньше вмешиваться в свободу индивида. Они не были заинтересованы в замене свободы подчинением. Но поскольку они понимали свободу как возможность реализовать потенциал человеческой личности, а устранение некоторых препятствий на этом пути, по их мнению, требовало значительного объёма социального законодательства, они не стеснялись поддерживать активность государства, выходящую далеко за рамки того, что допускали самые рьяные сторонники политики laissez-faire. Можно сказать, что в конце XIX века социальная и политическая теория идеалистов в большей степени отвечала очевидным потребностям времени, чем позиция Герберта Спенсера. Бентамизм и философский радикализм, несомненно, сыграли полезную роль в первой половине столетия. Однако реформированный либерализм, пропагандируемый идеалистами конца века, никоим образом не был «реакционным». Его взор был обращён в будущее, а не в прошлое.
Возможно, предыдущие замечания создают впечатление, что идеализм XIX века в Британии был лишь естественной реакцией на эмпиризм, позитивизм, а также на экономику и политическую теорию laissez-faire. Однако на самом деле германская мысль, особенно последовательно Канта и Гегеля, оказала значительное влияние на развитие британского идеализма. Некоторые авторы, в частности Дж. Х. Мюирхед[1377], утверждали, что британские идеалисты XIX века были наследниками платоновской традиции, проявившейся в XVII веке в мысли кембриджских платоников и в философии Беркли в XVIII веке. Но хотя полезно помнить, что британская философия не носила исключительно эмпиристского характера, трудно доказать, что идеализм XIX века можно честно рассматривать как органичное развитие имманентной платоновской традиции. Влияние германской мысли, в особенности Канта и Гегеля[13781], нельзя сбрасывать со счетов как чисто случайный фактор. Верно и то, что ни один значительный британский идеалист не может быть назван, в обычном смысле слова, последователем Канта или Гегеля. Брэдли, например, был оригинальным мыслителем. Но это никоим образом не означает, что влияние германской мысли было незначительным фактором в развитии британского идеализма.
Ограниченное знакомство с Кантом было доступно английским читателям ещё при жизни философа. В 1795 году ученик Канта Ф. А. Ничш прочитал в Лондоне несколько лекций о критической философии, а в следующем году опубликовал свой перевод «Принципов критической философии» И. Я. Бека; в 1798 году А. Ф. М. Виллих издал «Элементы критической философии». Перевод «Метафизики нравов» Канта, выполненный Ричардсоном, появился в 1799 году; но первый перевод «Критики чистого разума», сделанный Ф. Хэйвудом, вышел лишь в 1883 году; серьёзные исследования Канта, такие как фундаментальный труд Э. Керда «Критический обзор философии Канта» (1877), появились значительно позже. Тем временем влияние немецкого философа, наряду со многими другими влияниями, проявилось у поэта Кольриджа, чьи идеи будут рассмотрены далее, и более явно у сэра Уильяма Гамильтона, хотя кантовский элемент в мысли Гамильтона наиболее заметен в его теории о пределах человеческого познания и в вытекающем отсюда агностицизме относительно природы конечной реальности.
Среди собственно английских идеалистов влияние Канта особенно ощутимо у Т. Х. Грина и Э. Керда. Однако оно смешивалось с влиянием Гегеля. Более конкретно, Канта рассматривали как предшественника Гегеля и читали, как уже говорилось, через гегельянские очки. Действительно, в работе Дж. Х. Стирлинга «Секрет Гегеля» (1865) прямо защищалась идея, что философия Канта, должным образом понятая и оценённая, ведёт непосредственно к гегельянству. Таким образом, хотя влияние Гегеля, и справедливо, более очевидно в абсолютном идеализме Брэдли и Бозанкета, чем в философии Грина, не следует делить британских идеалистов на кантианцев и гегельянцев. Не считая некоторых первопроходцев, влияние Гегеля ощущалось с самого начала движения. И поэтому не лишено оснований определять британский идеализм – как это часто делается – как неогегельянское движение, если только под этим не подразумевается принятие определённых черт гегельянства, а не следование Гегелю в отношениях учителя и ученика.
На ранних этапах британское идеалистическое движение характеризовалось пристальным вниманием к отношению субъект-объект. В этом смысле можно сказать, что идеализм имел эпистемологическое основание, поскольку отношение субъект-объект существенно для познания. Тем не менее, метафизика Абсолюта также присутствовала. Ибо субъект и объект рассматривались как укоренённые в конечной духовной реальности, выражением которой они являлись. Но отправная точка повлияла на метафизику в одном важном аспекте. Поскольку акцент изначально делался на конечном субъекте, это позволяло избежать соблазна интерпретировать Абсолют таким образом, что конечное оказывалось лишь «нереальной» видимостью Абсолюта. Другими словами, ранние идеалисты склонялись к интерпретации Абсолюта в более или менее теистическом или, в любом случае, панентеистическом смысле, сохраняя при этом монистический аспект метафизического идеализма. И это, несомненно, способствовало представлению идеализма как интеллектуальной опоры традиционной религии.
Постепенно, однако, на первый план всё больше выдвигалась идея всеобъемлющего органического целого. Так, у Брэдли «я» определялось как всего лишь «видимость» Абсолюта, как нечто не вполне реальное, если рассматривать его в его кажущейся независимости. И эта откровенная метафизика Абсолюта, что понятно, сопровождалась большим акцентом на государстве в области социальной философии. В то время как Герберт Спенсер, с одной стороны, пытался утвердить противостояние интересов свободного индивида и интересов государства, идеалисты стремились представить человека реализующим истинную свободу через участие в жизни целого.
Иными словами, в идеалистическом движении вплоть до Брэдли и Бозанкета мы можем видеть растущее влияние гегельянства. Как уже отмечалось, влияние Канта никогда не ощущалось в чистом виде, поскольку в критической философии видели предвосхищение метафизического идеализма. Но если учесть это, а также значительные различия между теорией Абсолюта у Брэдли и у Гегеля, можно сказать, что переход от отношения субъект-объект к идее органического целого как центральной точки означал растущее преобладание активного влияния Гегеля над влиянием критической философии Канта.
На последнем этапе идеалистического движения вновь возросло значение конечного «я», хотя на сей раз речь шла скорее об активном «я», человеческой личности, а не об эпистемологическом субъекте. И этот персоналистический идеализм сопровождался сближением с теизмом, за исключением примечательного случая Мак-Таггарта, который определял Абсолют как систему конечных «я».
Но хотя эта фаза персоналистического идеализма представляет определённый интерес как сопротивление конечного «я» поглощению безличным Абсолютом, она относится к периоду, когда идеализм в Британии уже уступал место новому течению мысли, связанному с именами Дж. Э. Мура, Бертрана Рассела и, позднее, Людвига Витгенштейна.
2. Литературные первопроходцы: Кольридж и Карлейль
В среде образованной публики влияние германской мысли первоначально проникло в Британию через сочинения поэтов и литераторов, таких как Кольридж и Карлейль.
(I) Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834), по-видимому, впервые познакомился с философией через сочинения неоплатоников, будучи учеником школы «Крайст Хоспитал». Однако это раннее увлечение мистической философией Плотина сменилось вольтеровской фазой, во время которой Кольридж на некоторое время проникся религиозным скептицизмом. Затем, в Кембридже, в нём пробудился энтузиазм, возможно, несколько неожиданный, к Дэвиду Хартли и его ассоциативной психологии[13791]. В действительности Кольридж считал себя более последовательным, чем Хартли. Если Хартли, утверждая, что психические процессы зависят от вибраций мозга и связаны с ними, не заявлял о телесности мысли, то Кольридж писал Саути в 1794 году, что верит в телесность мысли, то есть в то, что она есть движение. Кольридж одновременно сочетал энтузиазм по отношению к Хартли с религиозной верой[13801]. Впоследствии он пришёл к мысли, что научный рассудок неадекватен как ключ к реальности, и начал говорить о роли интуиции и важности морального опыта. Позднее он утверждал, что система Хартли, насколько она отличается от аристотелизма, несостоятельна[13811].
Различение Кольриджем научного рассудка и высшего разума (или, как сказали бы немцы, между Verstand и Vernunft) было выражением его бунта против духа Просвещения XVIII века. Разумеется, он не хотел сказать, что научный и критический рассудок следует отвергнуть во имя высшего, интуитивного разума. Скорее, его идея заключалась в том, что первый не всегда является полезным инструментом интерпретации реальности и нуждается в дополнении и уравновешивании вторым, то есть интуитивным разумом. Нельзя сказать, чтобы Кольридж очень ясно объяснил разницу между рассудком и разумом. Однако общее направление его мысли достаточно ясно. В работе «Помощь для размышления» (1825) он определяет рассудок как способность, судящую в соответствии с чувствами. Его собственная сфера – чувственный мир, на основе чувственного опыта он размышляет и обобщает. Разум же – это проводник идей, которые предполагаются всяким опытом, и в этом смысле предопределяет опыт и управляет им. Он также воспринимает истины, не проверяемые чувственным опытом, и интуитивно постигает духовные реальности. Впоследствии Кольридж отождествляет его с практическим разумом, включающим волевой и моральный аспекты человеческой личности. Таким образом, Дж. С. Милль был вполне прав, говоря в своём знаменитом эссе о Кольридже, что поэт расходится с «локковской» идеей, согласно которой всё знание состоит в обобщениях из опыта, и требует для разума, в отличие от рассудка, способности к прямому интуитивному восприятию реальностей и истин, находящихся вне досягаемости чувств[13821].
Для развития этого различения Кольридж получил стимул от сочинений Канта, которые начал изучать вскоре после своей поездки в Германию в 1798–1799 годах[13831]. Однако он, кажется, стремится показать, что Кант не только ограничил область рассудка познанием феноменальной реальности, но и мыслил об интуитивном постижении духовных реальностей посредством разума; тогда как на самом деле, приписывая такую силу разуму, скорее отождествляемому с практическим разумом, Кольридж явно отходит от немецкого философа. Более прочную основу он находит, демонстрируя свою близость к Якоби[13841], утверждая, что отношение между разумом и духовными реальностями аналогично отношению между глазом и материальными объектами.
Впрочем, никто не стал бы утверждать, что Кольридж был кантианцем. В Канте он нашёл стимул, а не учителя. И хотя он признавал свой долг перед немецкими мыслителями, особенно Кантом, ясно, что считал свою собственную философию фундаментально вдохновлённой платонизмом. В «Помощи для размышления» он сказал, что каждый человек рождается либо платоником, либо аристотеликом. Аристотель, великий учитель ума, был чрезмерно привязан к земле. «Он начал с чувственного и никогда не допускал ничего, находящегося сверх чувств, кроме как по необходимости, в качестве единственной сохранившейся гипотезы…»[13851] То есть Аристотель постулировал духовную реальность лишь в крайнем случае, когда его вынуждало к этому объяснение физических явлений. Платон же искал сверхчувственную реальность, которая открывается нам через разум и моральную волю. Что касается Канта, то Кольридж иногда говорит, что он по духу принадлежит к аристотеликам, в то время как в других случаях подчёркивает метафизические аспекты мысли Канта и обнаруживает в нём близость к платонизму. Другими словами, Кольридж принимает кантовское ограничение сферы рассудка феноменальной реальностью, а затем склонен интерпретировать эту теорию разума в свете платонизма, в свою очередь интерпретируемого в свете философии Плотина.
Не следует понимать эти замечания как свидетельство какого-либо пренебрежения Кольриджа к Природе. Напротив, Кольридж испытывает отвращение к «хвастливой и сверхстоической враждебности Фихте к Природе, рассматриваемой как нечто безжизненное, безбожное и вообще профанное»[13861]. И он проявляет глубокую симпатию к философии Природы Шеллинга, а также к его системе трансцендентального идеализма, в которой, как он говорит, «я впервые нашёл родственный отклик на многое из того, чего я достиг собственными усилиями, и мощную поддержку в том, что мне осталось сделать»[13871]. Строго говоря, Кольриджу нелегко отклонить обвинение в плагиате; он утверждает, что и он, и Шеллинг черпали из одних и тех же источников: сочинений Канта, философии Джордано Бруно и спекуляций Якоба Бёме. Однако влияние Шеллинга кажется вполне очевидным в той линии мысли, которую мы кратко изложим далее.
«Всякое знание покоится на совпадении объекта и субъекта»[13881]. Но хотя субъект и объект соединены в акте познания, мы можем спросить, какой из них первичен. Следует ли исходить из объекта и пытаться добавить к нему субъекта? Или исходить из субъекта и пытаться найти путь к объекту? Иными словами, следует ли утверждать приоритет Природы и пытаться добавить к ней мысль или рассудок, или утверждать приоритет мысли и пытаться вывести из неё Природу?[13891] Кольридж отвечает, что ни то, ни другое невозможно. Высший принцип следует искать в тождестве субъекта и объекта.
Где находится это тождество? «Лишь в самосознании духа обнаруживается требуемое тождество объекта и репрезентации»[13891]. Но если дух в принципе есть тождество субъекта и объекта, он каким-то образом должен растворить это тождество, чтобы стать сознающим себя в качестве объекта. Следовательно, самосознание может возникнуть только через акт воли, и «следует мыслить, что свобода должна быть принята в качестве основания философии и никогда не может быть выведена из неё»[13901]. Дух становится субъектом, познавая себя как объект, только через «акт объективации себя для себя самого»[13911].
Таким образом, кажется, что Кольридж начинает с постановки вопросов, которые задаёт Шеллинг; затем даёт ответ Шеллинга, а именно, что должна постулироваться изначальная тождественность субъекта и объекта; и, наконец, переходит к идее Фихте об «Я», которое конституирует себя как субъект и объект через изначальный акт. Однако Кольридж не намерен резко останавливаться на «Я» как конечном принципе, особенно если под этим понимать конечное «Я». На самом деле, Кольридж высмеивает «эгоизм» Фихте[13921]. Вместо этого он настаивает, что для достижения абсолютного тождества субъекта и объекта, идеального и реального, как конечного принципа не только человеческого познания, но и всей реальности, мы должны «возвысить нашу концепцию до абсолютного Я, великого и вечного Я есмь»[13931]. Кольридж критикует Cogito, ergo sum Декарта и ссылается на различение Канта между эмпирическим и трансцендентальным «Я». Но затем он утверждает, что трансцендентальное «Я» – это абсолютное «Я есмь Сущий» из Книги Исхода[13941] и Бог, в котором конечное «Я» должно одновременно и потерять себя, и обрести.
Очевидно, всё это весьма туманно и неопределённо. Однако в любом случае ясно, что Кольридж противопоставляет спиритуалистическую интерпретацию человеческого «Я» материализму и феноменализму. И очевидно, что именно эта интерпретация «Я», по его мнению, обеспечивает необходимую основу для утверждения, что разум способен постигать сверхчувственную реальность. Действительно, в своём эссе о вере Кольридж определяет её как верность нашему собственному бытию, поскольку наше бытие не является и не может стать объектом чувственного опыта. Наше моральное призвание требует подчинения аппетита и воли разуму; и именно разум постигает Бога как тождество воли и разума, как основание нашего существования и как бесконечное выражение идеала, к которому мы как моральные существа стремимся. Иными словами, перспектива Кольриджа была по сути религиозной, и он стремился соединить философию и религию. Возможно, как отмечает Милль, он пытался превратить христианские таинства в философские истины. Но важным элементом миссии идеализма, как её понимали его более религиозные последователи, было именно предоставление метафизического основания христианской традиции, которая явно казалась лишённой философской поддержки.
В области социальной и политической теории Кольридж был консерватором в том смысле, что выступал против иконоборчества радикалов и желал сохранения и реализации ценностей, присущих традиционным институтам. Правда, в течение некоторого времени он, как и Вордсворт с Саути, был увлечён идеями, вдохновлёнными Французской революцией. Однако он отошёл от радикализма своей юности, хотя его поздний консерватизм проистекал не из отвращения к переменам как таковым, а из веры в то, что институты, созданные национальным духом на протяжении истории, воплощали подлинные ценности, которые людям надлежит стремиться понять. Как говорит Милль, Бентам требовал «уничтожения существовавших до тех пор институтов и верований», тогда как Кольридж требовал, «чтобы они стали реальностью»[13951].
(II) Томас Карлейль (1795–1881) принадлежал к поколению, следующему за Кольриджем; но он был гораздо менее систематичен, чем последний, в изложении своих философских идей, и, без сомнения, многие сегодня находят совершенно нечитаемой его бурную прозу «Sartor Resartus». Тем не менее, он был одним из каналов, по которым германская мысль и литература привлекли внимание англичан.
Первоначальная реакция Карлейля на немецкую философию была не особенно благоприятной, и он высмеивал тёмность Канта и претензии Кольриджа. Однако в своём отвращении к материализму, гедонизму и утилитаризму он пришёл к тому, чтобы видеть в Канте блестящего врага Просвещения и его последствий. Так, в своём эссе «О состоянии немецкой литературы» (1827) он хвалил Канта за то, что тот шёл изнутри вовне, вместо того чтобы следовать локковскому пути, состоявшему в исхождении из чувственного опыта и попытке построить на этой основе философию. Кантианец, по Карлейлю, видит, что фундаментальные истины постигаются интуитивно в самой внутренней природе человека. Иными словами, Карлейль сближается с Кольриджем, используя кантовское ограничение мощи и границ рассудка как основание для утверждения способности разума интуитивно постигать базовые истины и духовные реальности.
Для Карлейля характерно живое чувство тайны мира и его природы как видимости чувственной реальности или как покрова, наброшенного на неё. В эссе «О состоянии немецкой литературы» он пишет, что конечная цель философии – интерпретировать феномены или видимости, перейти от символа к символизируемой реальности. И эта точка зрения выражена в «Sartor Resartus»[13961] под маркой философии одежд. Эта теория может быть применена к человеку как микрокосму. «Что есть человек для вульгарного логика? Двуногий всеядный, носящий брюки. Что есть человек для чистого разума? Душа, дух, божественное явление… Он глубоко сокрыт под этим странным одеянием»[13971]. И эта аналогия может быть применена и к макрокосму, миру в целом. Ибо мир есть, как предсказывал Гёте, «живое видимое одеяние Бога»[13981].
В эссе «О состоянии немецкой литературы» Карлейль прямо связывает свою философию символизма с Фихте, поскольку тот интерпретирует видимую вселенную как символ и чувственное проявление всепроникающей божественной Идеи, постижение которой есть необходимое условие всякой подлинной добродетели и свободы. И действительно, нетрудно понять пристрастие Карлейля к Фихте. Ибо, рассматривая – как он это делает – человеческую жизнь и историю как постоянную борьбу между светом и тьмой, между Богом и злом, борьбу, в которой каждый человек призван участвовать и сделать важнейший выбор, естественно, что он привлекается моральной серьёзностью Фихте и его идеей Природы как всего лишь поля, на котором человек осуществляет своё моральное призвание, поля препятствий – так сказать, – которые человек должен преодолеть в процессе достижения своего идеального конца.
Эта перспектива помогает понять озабоченность Карлейля героем, проявившуюся в его лекциях 1840 года «О героях, почитании героя и героическом в истории». Противопоставляя материализму и тому, что он называет «философией выгоды и потери», он утверждает идеи героизма, морального призвания и личной преданности. Действительно, он не стесняется говорить, что «живительное дыхание всякого общества [есть] не более чем эффект “культа героя”, поклонного восхищения истинно великим. Общество основано на культе героя»[13991]. Более того, «Всемирная история, история того, что человек совершил в мире, есть, в конечном счёте, история “великих людей”, которые действовали здесь»[14001].
Эта настойчивость на роли «великих людей» в истории ставит Карлейля рядом с Гегелем[14011] и предвосхищает в некоторых аспектах Ницше, хотя культ героя в политической сфере – это идея, которую мы, вероятно, рассматривали бы сегодня с иными чувствами. Тем не менее, ясно, что Карлейля особенно привлекали в его героях их серьёзность и преданность, а также их свобода от морали, основанной на гедонистическом расчёте. Например, хотя он был сознавал недостатки и дефекты характера Руссо, сделавшие его «печально умалённым героем»[14021], Карлейль настаивает, что этот маловероятный кандидат в герои обладал «первой и главной характеристикой героя: глубокой серьёзностью. Настолько серьёзный, насколько это возможно, если вообще кто-либо был таковым; серьёзный как никто из французских философов»[14031].
3. Феррье и отношение субъект-объект
Несмотря на публичные заявления обоих, было бы бесполезно искать у Кольриджа и Карлейля систематического развития идеализма. Если мы хотим найти первопроходца в этой области, нам следует обратиться к Джеймсу Фредерику Феррье (1808–1864), занимавшему кафедру моральной философии в Университете Сент-Эндрюса с 1845 года до своей смерти и чья философия принимает решительно систематический характер.
В 1838–1839 годах Феррье опубликовал в журнале Blackwood's Magazine серию статей под названием «Введение в философию сознания». В 1854 году вышла его основная работа «Основания метафизики», примечательная тем, как автор развивает свою доктрину в серии положений, каждое из которых, за исключением первого фундаментального, должно строго логически выводиться из предыдущего. В 1856 году он опубликовал «Шотландскую философию», а его «Лекции по греческой философии и другие философские работы» появились посмертно в 1866 году.
Феррье утверждал, что его философия шотландская до мозга костей. Это не означает, что он считал себя сторонником шотландской философии здравого смысла. Напротив, он резко критиковал Рида и его последователей. Во-первых, философ не должен прибегать к множеству недоказанных первых принципов, а должен использовать дедуктивный метод, присущий метафизике, а не произвольный экспозиционный приём. Во-вторых, шотландские философы здравого смысла склонны смешивать метафизику с психологией вместо обращения к строгому логическому рассуждению[14041]. Что касается сэра Уильяма Гамильтона, то его агностицизм относительно Абсолюта был неуместен.
Заявляя, что его философия шотландская до мозга костей, Феррье хотел дать понять, что не заимствовал её у немцев. Хотя его система не раз рассматривалась как гегельянская, он утверждал, что никогда не был способен понять Гегеля[14051]. Более того, он сомневался, что немецкий философ способен был понять самого себя. И в любом случае, Гегель исходит из Бытия, тогда как его собственная философия берёт в качестве отправной точки познание[14061].
Первый шаг Феррье состоит в поиске абсолютной отправной точки метафизики в положении, устанавливающем неизменный и существенный элемент всякого познания и которое не может быть отрицаемо без противоречия. Такой отправной точкой является то, что «всякий интеллект, познавая что бы то ни было, должен сопровождаться апперцепцией себя самого, как основания или условия своего познания»[14071]. Объект познания – изменчивый фактор. Но я не могу познать ничего, не зная, что это я познаю. Отрицать это – абсурдно. Утверждать это – значит признать, что не существует познания без самосознания, без определённого знания о «я».
Отсюда следует, продолжает Феррье, что ничто не может быть познано иначе как в отношении к субъекту, к «я». Иными словами, объект познания по сути есть «объект для субъекта». И Феррье приходит к выводу, что ничто не может быть мыслимо иначе как в отношении к субъекту. Откуда следует, что материальная вселенная немыслима как существующая без отношения к субъекту.
Критик, возможно, склонен заметить, что Феррье на самом деле говорит лишь то, что я не могу думать о вселенной, не думая о ней, или что я не могу познавать, не познавая её. Если он не говорит больше этого; если, в частности, он совершает переход от эпистемологического аспекта к утверждению онтологического отношения, то, кажется, следует солипсистский вывод, а именно, что существование материального мира немыслимо, если не сделать его зависящим от меня самого как субъекта.
Однако Феррье хочет удержать два положения. Первое: мы не можем мыслить вселенную как «отделённую от всякого Я. Невозможно осуществить такую абстракцию»[14081]. Второе: каждый из нас может отделить вселенную от себя самого, в частности. Из обоих положений следует, что хотя «каждый из нас может отпрячь вселенную (так сказать) от себя, он может сделать это лишь запрягая её мысленно в какое-либо другое Я»[14091]. Это существенный шаг для Феррье, потому что он хочет утверждать, что вселенная немыслима, если только она не существует в синтезе с божественным интеллектом.
Таким образом, первая часть «Оснований метафизики» призвана доказать, что абсолютным элементом познания является синтез субъекта и объекта. Однако Феррье не сразу приходит к этому окончательному выводу. Вместо этого он посвящает вторую часть «агнойологии», теории «незнания». Можно сказать, что мы пребываем в состоянии неведения относительно противоречий необходимых истинных положений. Но это, несомненно, не признак несовершенства интеллекта. Что касается незнания, нас можно назвать незнающими лишь по отношению к тому, что в принципе познаваемо. Следовательно, мы не можем быть незнающими, например, относительно материи «самой по себе» (без отношения к субъекту). Ибо она немыслима и непознаваема. Кроме того, если исходить из предположения, что мы незнающи относительно Абсолюта, то следует, что Абсолют непознаваем. Таким образом, агностицизм Гамильтона несостоятелен.
Но что такое Абсолют или, как говорит Феррье, Абсолютное Существование? Это не может быть ни материя сама по себе, ни дух сам по себе. Ибо ни то, ни другое немыслимо. Следовательно, это должен быть синтез субъекта и объекта. Тем не менее, лишь один такой синтез необходим. Ибо хотя существование вселенной немыслимо иначе как «объект для субъекта», мы уже видели, что вселенная может быть отпряжена или отделена от любого данного конечного субъекта. Таким образом, «существует одна, и не более чем одна, строго необходимая Абсолютная Сущность; и эта сущность есть высший, бесконечный и вечный Интеллект в синтезе со всеми вещами»[14101].
В качестве комментария уместно обратить внимание на достаточно очевидный факт, что утверждение «не может быть субъекта без объекта и объекта без субъекта» аналитически истинно, если термины «субъект» и «объект» понимаются в их эпистемологическом смысле. Также верно, что никакая материальная вещь не может быть помыслена иначе как «объект для субъекта», понимая под этим, что никакая материальная вещь не может быть помыслена, не будучи конституирована («интенционально», как сказали бы феноменологи) как объект. Но это, кажется, мало что добавляет к утверждению, что о вещи нельзя думать, если её не думают. И отсюда не следует, что вещь не может существовать, если о ней не думают. Феррье мог бы, конечно, возразить, что мы не можем логично говорить о вещи как существующей независимо от её осмысления. Ибо сам факт говорения о ней означает её осмысление. Если я пытаюсь мыслить материальную вещь X как существующую вне отношения субъект-объект, моя попытка терпит неудачу из-за того, что я мыслю об X. В таком случае, однако, вещь, кажется, необратимо запряжена, как говорит Феррье, в меня как субъекта. И как же я могу её отпрячь? Если я пытаюсь отпрячь её от себя самого и запрячь в какого-либо другого субъекта, конечного или бесконечного, не становится ли этот другой субъект, согласно предпосылкам Феррье, «объектом для субъекта», где субъектом являюсь я сам?
Я не намерен намекать, что материальная вселенная действительно могла бы существовать независимо от Бога. Скорее, дело в том, что вывод о невозможности такого существования на самом деле не следует из эпистемологических предпосылок Феррье. Вывод, который, кажется, следует из них, – солипсизм. И Феррье избегает этого вывода, лишь апеллируя к здравому смыслу и нашему знанию исторических фактов; то есть, поскольку я не могу всерьёз предположить, что материальная вселенная является лишь объектом для меня как субъекта, я должен постулировать вечный, бесконечный субъект: Бога. Но из предпосылок Феррье, кажется, следует, что «Бог сам по себе», будучи помысленным мной, должен быть «объектом для субъекта», где я – субъект.
4. Критика феноменализма и гедонизма Джоном Гротом
Среди современников Феррье следует упомянуть Джона Грота (1813–1866), брата историка. Профессор моральной философии в Кембридже с 1855 по 1866 год, в 1865 году он опубликовал первую часть «Философских исследований». Вторая часть вышла посмертно в 1900 году. Его «Исследование утилитарной философии» (1870) и «Трактат о моральных идеалах» (1876) также были опубликованы после его смерти. Конечно, сегодня Грот ещё менее известен, чем Феррье, хотя его критика феноменализма и утилитаристского гедонизма не лишена ценности.
Критика феноменализма, проводимая Гротом, может быть объяснена следующим образом: один из главных элементов позитивистского феноменализма – это первоначальная редукция объекта познания к ряду феноменов, а затем применение такого редуктивного анализа к субъекту, эго или «я». Таким образом, субъект сводится к своему собственному объекту. Или, если угодно, субъект и объект сводятся к ряду феноменов, принимаемых за базовую реальность, конечные сущности, из которых ментальным процессом могут быть реконструированы «я» и физические объекты. Однако можно показать, что такая редукция «я» или субъекта несостоятельна. Во-первых, нельзя разумно говорить о феноменах, не соотнося их с сознанием. Ибо то, что является, является перед субъектом внутри сферы, так сказать, сознания. Мы не можем выйти за пределы сознания; его анализ показывает, что оно по сути включает отношение субъект-объект. В примитивном сознании субъект и объект присутствуют смутно или виртуально и постепенно дифференцируются в развитии сознания, пока не возникает явного признания мира объектов, с одной стороны, и «я» или субъекта – с другой, причём особенно такое признание «я» развивается через опыт усилия. Таким образом, поскольку субъект присутствует изначально как один из существенных полюсов, даже в примитивном сознании, он не может быть правомерно сведён к объекту, к ряду феноменов. В то же время, изучение существенной структуры сознания показывает, что мы не имеем дело с «замкнутым в себе» «я», от которого, как в философии Декарта, необходимо перебросить мост к не-«я».
Во-вторых, важно отметить, как феноменалисты упускают из виду активную роль субъекта в конструировании артикулированной вселенной. Субъект или «я» характеризуется целеполагающей активностью: он имеет цели. И в преследовании этих целей он конструирует единства среди феноменов, не в том смысле, что налагает априорные формы на массу несвязанных и хаотичных данных[14111], но скорее в том смысле, что он конструирует свой мир экспериментальным путём, посредством процесса самокоррекции[14121]. Таким образом, опять же по этой причине, в силу активной роли «я» в конструировании мира объектов, ясно, что оно не может быть сведено к ряду феноменов, к его непосредственным объектам.
В области моральной философии Грот яростно выступал против эгоистического гедонизма и утилитаризма. Он критиковал их не за учёт человеческой чувствительности и стремления к счастью. Напротив, сам Грот признавал в науке о счастье – «эвдемонике», как он её называл, – часть этики. Он выступал против исключительной концентрации на поиске удовольствия и последующего пренебрежения другими аспектами человеческой личности, особенно способностью человека к концептуализации и преследованию идеалов, трансцендирующих поиск удовольствия и могущих требовать самопожертвования. Так, к «эвдемонике» он добавил «аретику», науку о добродетели. И он настаивал, что моральная задача состоит в объединении низших и высших элементов человеческой природы на службе моральным идеалам. Ибо наши действия являются моральными, когда они переходят из сферы чистой спонтанности – как при следовании импульсу к удовольствию – в сферу обдуманного и волевого, где импульс поставляет динамический элемент, а интеллектуально постигнутые принципы и идеалы – регулирующий.
Очевидно, что критика Гротом утилитаризма за забвение высших аспектов человека при исключительной концентрации на поиске удовольствия лучше применима к бентамовскому гедонизму, чем к версии утилитаризма, переработанной Дж. С. Миллем. Однако в любом случае речь шла не столько о том, чтобы указать, что утилитаристский философ не мог бы предоставить адекватную теоретическую рамку для таких идеалов. Основная идея Грота заключалась в том, что это могло быть разрешено только через радикальный пересмотр концепции человека, унаследованной Бентамом от таких авторов, как Гельвеций. Гедонизм, согласно Гроту, не мог объяснить сознание долга. Ибо такое сознание возникает, когда человек, концептуализируя моральные идеалы, чувствует необходимость подчинить свою низшую природу высшей.
5. Возрождение интереса к греческой философии и рост интереса к Гегелю: Б. Джоуэтт и Дж. Х. Стирлинг
Можно без труда увидеть связь между идеалистическим восприятием неадекватности бентамовского понятия человеческой природы и возрождением интереса к греческой философии, имевшим место в университетах, особенно в Оксфорде, на протяжении XIX века. Мы уже видели, что Кольридж считал свою философию фундаментально платонической по вдохновению и характеру. Но возрождение платоновских исследований в Оксфорде особенно ассоциируется с именем Бенджамина Джоуэтта (1817–1893), который стал членом Баллиол-колледжа в 1838 году и занимал кафедру греческого языка с 1855 по 1893 год. Недостатки его знаменитого перевода «Диалогов» Платона сейчас не важны. Факт в том, что на протяжении своей долгой педагогической карьеры он мощно способствовал возрождению интереса к греческой мысли. И не лишено значения, что Т. Х. Грин и Э. Керд, оба видные фигуры идеалистического движения, были его учениками. Интерес к Платону и Аристотелю естественно склонял мысль от гедонизма и утилитаризма к этике собственного совершенствования, основанной на метафизически структурированной теории человеческой природы.
Возрождение интереса к греческой мысли сопровождалось растущим уважением к немецкому идеалистическому мышлению. Сам Джоуэтт интересовался последним, особенно мыслью Гегеля[14131], и способствовал стимулированию изучения немецкого идеализма в Оксфорде. Однако первая масштабная попытка прояснить те, казавшиеся Феррье едва ли постижимыми, глубины Гегеля была предпринята шотландцем Джеймсом Хатчисоном Стирлингом (1820–1909) в его двухтомной работе «Секрет Гегеля», вышедшей в 1865 году[14141].
Стирлинг увлёкся Гегелем во время поездки в Германию, особенно во время пребывания в Гейдельберге в 1856 году; результатом стал «Секрет Гегеля». Несмотря на замечания, что если автор и знал секрет Гегеля, то тщательно хранил его при себе, книга знаменует в Англии начало серьёзных исследований гегельянства. По мнению Стирлинга, философия Юма была кульминацией Просвещения, тогда как Кант[14151], взяв ценное из мысли Юма и применив его к развитию новой линии размышления, довёл Просвещение до зрелости и одновременно превзошёл и трансцендировал его. Тем не менее, хотя Кант заложил основания идеализма, именно Гегель возвёл и завершил здание. И понять секрет Гегеля – значит понять, как он сделал эксплицитной доктрину конкретного универсального, которая была имплицитна в критической философии Канта.
Примечательно, что Стирлинг видел в Гегеле не только современного философа, подобно тому как Аристотель был вершиной греческой мысли, но и величайшего интеллектуального защитника христианской религии. Без сомнения, он приписывал Гегелю чрезмерно высокую степень теологической ортодоксии; но его отношение служит иллюстрацией религиозного интереса, характеризовавшего идеалистическое движение до Брэдли. По Стирлингу, Гегель стремился доказать, среди прочего, бессмертие души. И хотя мало свидетельств того, что Гегель проявлял большой интерес к этой теме, интерпретация Стирлинга может быть понята как отражение акцента, который ранние идеалисты делали на конечном духовном «я», акцента, гармонировавшего с их склонностью сохранять более или менее теистическую перспективу.
РАЗВИТИЕ ИДЕАЛИЗМА.
1. Отношение Т. Х. Грина к британскому эмпиризму и немецкой мысли
Часто философы бывают более убедительны, когда критикуют идеи других философов, чем когда излагают собственные теории. И это, возможно, несколько циничное наблюдение, кажется, применимо к Томасу Хиллу Грину (1836–1882), члену Баллиол-колледжа в Оксфорде и профессору моральной философии Уайта в том же университете с 1878 года до своей смерти. В своих «Введениях к “Трактату о человеческой природе” Юма»[14161], опубликованных в 1874 году в издании Юма, подготовленном Грином и Гроузом, он развил впечатляющую и обширную критику британского эмпиризма, хотя его собственная идеалистическая система не менее уязвима для критики, чем идеи, против которых он выдвинул ряд возражений.
С Локка и далее, согласно Грину, эмпиристы исходили из предположения, что задача философа состоит в том, чтобы свести наше знание к его примитивным элементам, исходным данным, а затем реконструировать мир обычного опыта из этих атомарных данных. Однако, если отвлечься от того факта, что не было дано удовлетворительного объяснения того, как интеллект может преодолеть отношение субъект-объект и обнаружить первичные данные, предположительно служащие основой для конструирования интеллектуальных и физических объектов, эмпиристская программа заводит нас в тупик. С одной стороны, чтобы конструировать мир интеллектуальных и физических объектов, интеллект должен вступить в отношение с атомарными первичными данными, с индивидуальными феноменами. Иными словами, он должен осуществить определённую активность. С другой стороны, активность интеллекта необъяснима с эмпиристских принципов, потому что она сама сводится к ряду феноменов. И как она может конструировать саму себя? Кроме того, хотя эмпиризм заявляет, что даёт отчёт о человеческом познании, на самом деле он ничего в этом отношении не делает, потому что интерпретирует мир обычного опыта как ментальную конструкцию из индивидуальных впечатлений; и нет способа узнать, представляет ли эта конструкция объективную реальность или нет. Иными словами, последовательный эмпиризм неизбежно ведёт к скептицизму.
Сам Юм, как его видит Грин, был замечательным мыслителем, который не пошёл на компромиссы и довёл принципы эмпиризма до их логического заключения. «Приняв предпосылки и метод Локка, он очистил их от всех их нелогичных приспособлений к народной вере и экспериментировал с ними на основе приобретённого знания. …В результате эксперимента метод, начавший с претензии объяснить знание, показал, что знание невозможно»[14171]. «Сам Юм вполне отдавал себе отчёт в этом результате, но его преемники в Англии и Шотландии до сих пор, кажется, были неспособны посмотреть ему прямо в лицо»[14181].
Некоторые философы после Юма – и здесь Грин явно имеет в виду шотландских философов здравого смысла – вновь погрузились в чащу некритической веры. Другие продолжали развивать теорию ассоциации идей Юма, по-видимому, игнорируя тот факт, что сам Юм продемонстрировал недостаточность принципа ассоциации для объяснения чего-либо, кроме естественной или почти инстинктивной веры[14191]. Иными словами, Юм представлял одновременно кульминацию и банкротство эмпиризма. И факел исследования «перешёл к более мощному немецкому течению»[14201].
Кант был, так сказать, духовным преемником Юма. «Таким образом, “Трактат о человеческой природе” и “Критика чистого разума”, взятые вместе, образуют настоящий мост между старой и новой философией. Они составляют существенную “пропедевтику”, без которой не может обойтись ни один хороший студент современной философии»[14211]. Это не означает, однако, что мы можем остановиться на философии Канта. Ибо Кант предвосхищает Гегеля или, во всяком случае, нечто подобное гегельянству. Грин согласен со Стирлингом, что Гегель правильно развил философию Канта; однако он не готов принять, что система Гегеля как таковая удовлетворительна. Как говорит Грин, она прекрасна для воскресений спекуляции, но её труднее принять в рамках обыденной мысли. Необходимо примирить суждения спекулятивной философии с нашими обычными суждениями о фактах и с науками. Гегельянство же, взятое само по себе, не может выполнить задачу синтеза различных тенденций и точек зрения современной мысли. Эту работу необходимо проделать заново.
Фактически, имя Гегеля не очень выделяется среди сочинений Грина. Имя Канта гораздо заметнее. Но Грин утверждал, что, читая Юма в свете Лейбница, а Лейбница в свете Юма, Кант смог освободиться от предпосылок обоих. И можно справедливо сказать, что хотя Грин во многом почерпнул свой подход из стимулов, полученных от Канта, он читал его с убеждением, что критическая философия нуждается в развитии, сходном – хотя и не точно таком же – с тем, которое она фактически получила от немецких метафизических идеалистов и в частности от Гегеля.
2. Теория вечного субъекта у Грина; некоторые критические замечания
Во введении к своим «Пролегоменам к этике», опубликованным посмертно в 1883 году, Грин ссылается на искушение трактовать этику как если бы она была разделом естественных наук. Действительно, такое искушение понятно. Ибо рост исторического знания и развитие теорий эволюции предполагают возможность чисто натуралистического и генетического объяснения феноменов моральной жизни. Но что же тогда с этикой как нормативной наукой? Ответ таков: философ, который «решительно принимает свои принципы, после сведения спекулятивной их части (наших этических систем) к естественным наукам, должен одновременно упразднить и практическую, или предписывающую часть»[14221]. Однако тот факт, что редукция этики к разделу естественных наук влечёт за собой упразднение этики как нормативной науки, должен побудить нас пересмотреть предпосылки или условия познания и моральной деятельности. Является ли человек просто дитя Природы? Или в нём есть духовное начало, делающее возможным познание, будь то познание Природы или моральное познание?
Таким образом, Грин считает необходимым начать своё исследование в области морали с метафизики познания. И он говорит прежде всего, что даже если бы мы решили в пользу материалистов все те вопросы о частных фактах, которые были предметом спора между ними и спиритуалистами, остался бы вопрос о том, как нам возможно объяснить факты. «Даже нам придётся признать, что логически в человеке, способном познавать Природу – для которого существует “космос опыта” – есть начало, не являющееся природным и которое не может быть объяснено без ὑστέρον πρότερον[1], как объясняются факты Природы»[14231].
По мнению Грина, сказать, что вещь реальна, значит сказать, что она является частью системы отношений: порядка Природы. Но признание или знание ряда связанных фактов не может само быть рядом фактов. Оно также не может быть естественным развитием из такого ряда. Иными словами, интеллект как активный синтезирующий принцип нередуцируем к факторам, которые он синтезирует. Правда, эмпирическое «я» принадлежит порядку Природы. Но моё признание себя как эмпирического «я» проявляет активность принципа, трансцендирующего этот порядок. В конечном счёте, «интеллект – поскольку этот термин кажется столь же подходящим, как и любой другой, для обозначения рассматриваемого принципа сознания – нередуцируемый ни к чему иному, “творит природу” для нас, в том смысле, что делает нас способными мыслить существование такой вещи»[14241].
Мы только что видели, что для Грина вещь реальна, поскольку она является частью системы связанных феноменов. В то же время он утверждает, что «связанные явления невозможны в отрыве от действия интеллекта»[14251]. Таким образом, Природа создаётся синтезирующей активностью интеллекта. Очевидно, однако, что мы не можем серьёзно мыслить, что Природа как система связанных феноменов является просто продуктом синтезирующей активности любого данного конечного интеллекта. Хотя можно сказать, что каждый конечный интеллект конституирует Природу, поскольку мыслит систему отношений, необходимо исходить из предположения, что существует простой духовный принцип, вечное сознание, которое в конечном счёте конституирует или производит Природу.
Отсюда следует, что мы должны мыслить конечный интеллект как причастный жизни вечного сознания или интеллекта, который «частично и постепенно воспроизводится в нас, связывая по частям, но в неразрывной корреляции, интеллект с интеллигибельным, опыт с испытанным миром»[14261]. Это равносильно утверждению, что Бог постепенно воспроизводит своё собственное знание в конечном интеллекте. И если таково положение дел, то что можно сказать об отношении эмпирического к происхождению и развитию познания? Ибо трудно вывести из эмпирических фактов, что наше знание навязано нам Богом. Ответ Грина заключается в том, что Бог воспроизводит своё собственное знание в конечном интеллекте, используя, так сказать, чувственную жизнь человеческого организма и его реакцию на определённые стимулы. Существуют, таким образом, два аспекта человеческого сознания. Эмпирический аспект, под которым наше сознание предстаёт как «последовательные модификации животного организма»[14271], и метафизический аспект, который рассматривает организм как то, что постепенно становится «проводником вечно реализованного сознания»[14281].
Таким образом, Грин разделяет тенденцию ранних идеалистов выбирать эпистемологическую отправную точку: отношение субъект-объект. Однако, под влиянием Канта, он описывает субъект как активный синтезатор множественности феноменов, как конституэнта порядка Природы посредством связывания различных явлений или феноменов. Этот процесс синтеза – постепенный процесс, развивающийся на протяжении истории человеческой расы к идеальной цели. И мы можем мыслить, таким образом, весь процесс как активность духовного принципа, который живёт и действует в конечных интеллектах и через них. Другими словами, кантовская идея синтезирующей активности интеллекта ведёт нас к гегелевскому понятию бесконечного духа.
В то же время религиозные интересы Грина заявляют о себе против любой редукции бесконечного духа к жизням конечных духов, рассматриваемых как простая коллективность. Правда, он хочет избежать того, что понимает как один из главных недостатков традиционного теизма, а именно представления о Боге как о Существе в противоположности миру и конечному духу. Так, он определяет духовную жизнь человека как участие в божественной жизни. Но он также хочет избежать употребления слова «Бог» как простого ярлыка для духовной жизни человека, рассматриваемой универсально – как нечто развивающееся на протяжении эволюции человеческой культуры – или для идеала тотального знания – идеала, который ещё не существует, но к которому постепенно приближается человеческое знание. Правда, он говорит о человеческом духе как «тождественном» Богу, но добавляет: «в том смысле, что Бог есть всё, чем человеческий дух может стать»[14291]. Бог есть вечный бесконечный субъект, и Его тотальное знание постепенно воспроизводится в конечном субъекте через подчинение, с эмпирической точки зрения, модификациям человеческого организма.
На вопрос, почему Бог действует таким образом, Грин ответил бы, что не может быть дано ответа. «Старый вопрос, почему Бог создал мир, никогда не имел ответа и не будет его. Мы не знаем, почему существует мир, мы только знаем, что он существует. Точно так же мы не знаем, почему вечный субъект этого мира должен воспроизводиться через определённые процессы мира как дух человечества или как частное “я” того или иного человека, в котором действует дух человечества. Мы можем только сказать, что после анализа нашего опыта как можно лучше, кажется, что обстоит дело именно так»[14301].
В идее Грина о вечном субъекте, который «воспроизводится» в конечных субъектах и который, следовательно, не может быть просто отождествлён с ними, не лишено смысла усмотреть работу религиозного интереса, заботу об идее Бога, в котором мы живём, движемся и существуем. Однако это, конечно, не явная или формальная причина для постулирования вечного субъекта. Ибо последний уже эксплицитно постулируется в качестве конечного синтезирующего агента, конституирующего систему Природы. И с этим постулатом Грин, кажется, подвергается той же самой критике, которую мы выдвинули против Феррье. Ибо если предположить, по крайней мере в порядке аргумента, что порядок Природы конституируется синтезирующей или связывающей активностью интеллекта, очевидно, что я не могу приписать такой порядок какому-либо интеллекту, или вечному субъекту, если я сначала сам не концептуализировал его, не конституировал его. И тогда трудно увидеть, как, в терминологии Феррье, я могу отпрячь от синтезирующей активности моего собственного интеллекта систему осмысленных отношений и запрячь её в какого-либо другого субъекта, вечного или какого угодно.
Можно возразить, что такая критика, хотя, возможно, и справедлива в случае Феррье, неуместна в случае Грина. Ибо Грин рассматривает индивидуальный конечный субъект как участника общей духовной жизни, духовной жизни человечества, которая постепенно синтезирует феномены в своём движении к идеальной цели тотального знания – знания, которое само было бы конституированным порядком Природы. Таким образом, речь не идёт об отпрягании синтеза от себя и запрягании его в какой-либо другой дух. Моя синтезирующая активность – всего лишь момент активности человеческой расы как целого или активности духовного принципа, живущего в множественности конечных субъектов и через неё.
В таком случае, однако, что происходит с вечным субъектом Грина? Если мы хотим представить, например, прогрессивное научное знание человечества как жизнь, в которой участвуют все учёные и которая направлена к идеальной цели, конечно, мы не можем говорить об «отпрягании» и «запрягании». Однако концепция такого рода сама по себе не требует введения какого-либо вечного субъекта, который воспроизводил бы своё тотальное знание по частям в конечном интеллекте.
Более того, как именно следует мыслить в философии Грина отношение Природы к вечному субъекту или интеллекту? Предположим, что конституирующая активность интеллекта состоит в связывании или синтезировании. Если можно адекватно утверждать, что Бог есть творец Природы, то, кажется, следует, что Природа редуцируема к системе отношений без терминов. И эта идея несколько смущает. Если же, напротив, вечный субъект вводит, так сказать, лишь определённые отношения между феноменами, то, кажется, мы имеем картину, сходную с той, что нарисована Платоном в «Тимее», в том смысле, что вечный субъект или интеллект творил бы не всю Природу из ничего, но скорее вносил бы порядок в беспорядок. В любом случае, хотя и возможно мыслить божественный интеллект, творящий мир, мысля его, термины типа «вечный субъект» и «вечное сознание» необходимо предполагают вечный коррелятивный объект. И это означало бы абсолютизацию отношения субъект-объект, подобную той, что мы видели у Феррье.
Возможно, эти возражения могут показаться придирками и свидетельством неспособности оценить общее видение Грина вечного сознания, в жизни которого мы все участвуем. Однако в любом случае возражения служат полезной цели, обращая внимание на тот факт, что часто острая критика Грина по отношению к другим философам сочетается с несколько туманными и путаными спекуляциями, которые во многом способствовали дискредитации метафизического идеализма[14311].
3. Политическая и этическая теория Грина
В своей моральной теории Грин верен традиции Платона и Аристотеля в том смысле, что для него понятие блага первично, а не понятие долга. В частности, его идея о том, что благо для человека есть полная реализация потенциала человеческой личности в гармоничном и унифицированном состоянии бытия, напоминает этику Аристотеля. Правда, Грин говорит о «самоудовлетворении» как цели человеческого поведения, но он ясно даёт понять, что самоудовлетворение означает для него самореализацию, а не удовольствие. Следует различать «стремление к самоудовлетворению, в котором можно сказать, состоит вся моральная деятельность, и стремление к удовольствию, которое не является морально доброй деятельностью»[14321]. Это не означает, что удовольствие исключается из того, что является благом для человека, но что гармоничная и интегрированная реализация потенциала человеческой личности не может быть отождествлена с поиском удовольствия. Ибо моральный агент есть духовный субъект, а не просто чувствующий организм. И в любом случае, удовольствие сопутствует реализации собственных способностей, а не является самой этой реализацией.
Разумеется, человек может реализовать себя только через действие, в том смысле, что он может актуализировать свои потенции и развивать свою личность в направлении идеального состояния гармоничной интеграции своих сил. И также очевидно, что всякое человеческое действие в собственном смысле слова мотивировано, совершается с оглядкой на непосредственную цель или предел. Но спорно, что мотивы человека детерминированы его существующим характером вместе с другими обстоятельствами, и что сам характер является результатом определённых эмпирических причин. В таком случае, не были ли бы действия человека детерминированы так, что то, чем он станет, зависело бы от того, что он есть, и, наоборот, то, что он есть, зависело бы от обстоятельств, не подвластных его свободному выбору? Правда, обстоятельства меняются, но то, как человек реагирует на различные обстоятельства, кажется, детерминировано. И если все человеческие действия детерминированы, остаётся ли место для этической теории, устанавливающей идеал человеческой личности как то, к чему мы должны стремиться через наши действия?
Грин не прочь уступить детерминистам значительную часть основания, на котором они строят свою позицию. Но в то же время он пытается вынуть жало из таких уступок. «Положения, распространённые среди “детерминистов”, согласно которым действие человека есть совместный результат его характера и обстоятельств, вполне истинны в определённом смысле, и в этом смысле они вполне совместимы с утверждением человеческой свободы»[14331]. Согласно Грину, для оправданного употребления слова «свобода» не является необходимым условием, чтобы человек был способен делать или становиться чем угодно. Чтобы оправдать определение действий человека как свободных, достаточно того, что это действия данного человека, в смысле того, что он является их истинным автором. И если поведение человека есть следствие его характера, то есть если такое поведение является ответом на ситуацию, побуждающую действовать определённым образом потому, что он есть определённый тип человека, то такая форма поведения является его собственной, подлинно его: он, а не другой, есть ответственный автор её.
Защищая эту интерпретацию свободы, Грин делает акцент на самосознании. В истории любого человека обнаруживается ряд эмпирических природных факторов того или иного рода – например, природные побуждения, – которые, согласно детерминисту, оказывают решающее влияние на человеческое поведение. Однако Грин утверждает, что такие факторы становятся морально релевантными, когда, так сказать, субъект принимает их в своё самосознание, то есть когда они рассматриваются в единстве самосознания и становятся мотивами. Таким образом, они становятся принципами поведения и, как таковые, являются принципами свободной деятельности.
Эта теория, в некоторых аспектах напоминающая теорию свободы Шеллинга, возможно, не кристально ясна. Но по крайней мере очевидно, что Грин хочет признать все эмпирические данные, на которые детерминист логически может сослаться[14341], и в то же время хочет утверждать, что такая уступка совместима с утверждением человеческой свободы. Возможно, можно сказать, что его вопрос таков: учитывая все эмпирические данные о человеческом поведении, имеют ли всё ещё какое-либо применение такие слова, как «свобода» и «свободный» в области морали? Ответ Грина утвердительный. Действия субъекта, сознающего себя, как таковые, могут быть уместно названы свободными действиями. Действия, являющиеся результатом физического принуждения, например, не проистекают от субъекта как сознающего. В самом деле, это не его действия; его нельзя считать их истинным автором. И необходимо уметь различать между действиями такого типа и теми, которые являются выражением самого человека, рассматриваемого не только как физического агента, но и как сознающего субъекта или, как сказали бы некоторые, как рационального агента.
То, что для Грина самореализация является целью человеческого поведения, может навести на мысль, что его этическая теория индивидуалистична. Но хотя он действительно настаивает на самореализации индивида, он согласен с Платоном и Аристотелем в рассмотрении человеческой личности как существа по сути социального характера.
Иными словами, «я», которое должно быть реализовано, не есть атомарное «я», чьи возможности могут быть полностью реализованы и гармонизированы без какой-либо отсылки к социальным отношениям. Напротив, только в обществе мы можем полностью реализовать наши возможности и жить подлинно как человеческие личности. Что, в действительности, означает, что частное моральное призвание каждого индивида должно интерпретироваться в рамках определённого социального контекста. Таким образом, Грин может использовать фразу, которую позднее Брэдли сделает знаменитой, указывая, что «каждый должен прежде всего исполнять обязанности своего положения»[14351].
Учитывая эту перспективу, понятно, что Грин, снова вместе с Платоном и Аристотелем, но также, конечно, с Гегелем, делает акцент на государстве и функции политического общества, государства, которое есть «для своих членов общество обществ»[14361]. Можно отметить, что эта несколько высокопарная фраза указывает на признание того факта, что существуют другие общества, такие как семья, предполагаемые государством. Но, конечно, сам Гегель признаёт этот факт. И ясно, что среди различных обществ Грин придаёт преобладающее значение государству.
Тем не менее, и именно по указанной причине, важно понимать, что Грин не отступает, явно или неявно, от своей этической теории самореализации. Он продолжает придерживаться мнения, что «наша конечная мера ценности есть идеал личностной ценности. Все прочие ценности зависят от ценности для, от или в личности»[14371]. Такой идеал, однако, может быть полностью реализован только в обществе личностей и через него. Следовательно, общество есть моральная необходимость. И это в равной степени применимо к самой широкой форме социальной организации, называемой политическим обществом или государством, как и к семье. Но никоим образом не следует из этого, что государство является самоцелью. Напротив, его миссия состоит в создании и поддержании условий для благой жизни, то есть условий, в которых человеческие существа могут наилучшим образом развиваться и жить как личности, признавая друг друга как цели, а не просто как средства. В этом смысле государство скорее инструмент, чем самоцель. Действительно, ошибочно говорить, что нация или политическое общество есть просто совокупность индивидов. Ибо слово «просто» показывает пренебрежение фактом, что моральные возможности индивида реализуются только в определённых конкретных социальных отношениях. Оно подразумевает, что индивиды могут обладать моральными и духовными качествами и исполнять моральное призвание, не будучи членами общества. В то же время, предпосылка, что нация или государство не есть «просто» совокупность индивидов, не подразумевает, что оно есть некая самосущная сущность, отдельная от составляющих её индивидов. «Жизнь нации не имеет реального существования, кроме как в жизни индивидов, составляющих нацию»[14381].
Таким образом, Грин не имеет никаких возражений против признания того, что в определённом смысле государство предполагает определённые естественные права. Ибо если мы думаем о типе полномочий, которые должны быть гарантированы индивиду с целью достижения его морального конца, мы находим, что индивид имеет определённые права, которые общество должно признать. Правда, права в полном смысле слова не существуют до того, как они социально признаны. В самом деле, термин «право» в своём полном смысле имеет мало смысла или вовсе его не имеет в отрыве от общества[14391]. В то же время, если утверждать, что существуют естественные права, предшествующие политическому обществу, означает, что человек просто в силу того, что он человек, требует определённых вещей, которые государство должно признать как права, тогда это вполне верно, что «государство предполагает права, которые суть права индивидов. Государство есть форма, которую принимает общество ради их поддержания»[14401].
Достаточно очевидно из сказанного, что, по мнению Грина, мы не можем прийти к философскому пониманию функции государства через простое историческое исследование форм, в которых фактически возникали реальные политические общества. Необходимо рассматривать природу человека и его моральное призвание. Подобным образом, чтобы иметь критерий для суждения о законах, мы должны понимать моральный конец человека, с которым связаны все права. «Закон хорош не потому, что он обеспечивает соблюдение определённых “естественных прав”, а потому, что он способствует достижению определённого конца. Мы обнаруживаем естественные права, лишь рассматривая, какие полномочия должны быть гарантированы человеку с целью осуществления этого конца. Совершенный закон будет гарантировать их в полной мере»[14411].
Из этой тесной связи политического общества и осуществления морального конца человека следует, что «мораль и политическая подчинённость имеют общий источник, при условии, что “политическая подчинённость” отличается от подчинённости раба, поскольку это подчинённость, гарантирующая ряд прав подданному. Этот общий источник есть рациональное признание определёнными человеческими существами – которые могут быть просто детьми одного отца – общего благосостояния, которое есть их собственное, и которое они осознают как своё, независимо от того, склонен ли в какой-либо момент кто-либо из них к нему или нет…»[14421]. Очевидно, что любой индивид может быть не склонен стремиться к тому, что способствует этому благосостоянию или общему благу. Таким образом, необходимы моральные правила или предписания и, в политической сфере, законы. По мнению Грина, следовательно, моральный и политический долг тесно связаны. Реальная основа обязанности подчиняться государственному закону – не страх и не простая целесообразность, но моральная обязанность человека избегать тех действий, которые несовместимы с осуществлением его морального конца, и совершать те, которые требуются для осуществления этого конца.
Это подразумевает, что не может быть права на неподчинение или восстание против государства как такового. То есть, «поскольку действующие законы в любом месте или в любое время осуществляют идею государства, не может быть права их нарушать»[14431]. Но, как признавал Гегель, отнюдь не всегда реальное государство отражает идею или идеал государства; и данный закон может быть несовместим с интересом или реальным благом общества как целого. Таким образом, гражданское неповиновение во имя блага или общего благосостояния может быть оправдано. Очевидно, люди должны принимать во внимание тот факт, что именно во имя публичного интереса законы должны соблюдаться. И защита этого публичного интереса часто будет больше способствовать тенденции к отмене спорного закона, чем к его абсолютному нарушению. Кроме того, человек должен думать, не может ли из неповиновения спорному закону произойти худшее зло, такое как анархия. Но моральное основание политического долга не подразумевает, что гражданское неповиновение никогда не может быть оправданно. Грин устанавливает довольно узкие границы для сферы гражданского неповиновения, говоря, что для его оправдания мы должны быть способны «указать на некий публичный интерес, общепризнанный как таковой»[14441]. Но из того, что он говорит далее, не кажется, что условие «общепризнанный как таковой» хочет полностью исключить возможность определённого права на гражданское неповиновение во имя идеала, большего, чем разделяемый сообществом в целом. Скорее, ссылка является призывом к общепризнанному публичному интересу против закона, принятого не в пользу общественного блага, а в частном интересе отдельной группы или класса.
Учитывая идею Грина о том, что государство существует для содействия общему благу, создавая и поддерживая условия, в которых все его граждане могут развивать свои возможности как личности, понятно, что он не соглашается с атаками на социальное законодательство за нарушение индивидуальной свободы, когда свобода означает возможность делать всё, что угодно, не принимая во внимание других. Некоторые, указывает Грин, говорят, что их права нарушаются, если им запрещают, например, строить дома без учёта санитарных требований или отправлять своих детей на работу, не получивших надлежащего образования. В действительности, однако, никакое право не нарушается. Ибо право человека зависит от социального признания с целью благосостояния общества как целого. И когда общество видит, как оно не видело раньше, что общее благо требует нового закона, например, закона, предписывающего начальное образование, оно перестаёт признавать как право то, что ранее формально считало таковым.
Без сомнения, в определённых обстоятельствах апелляция от менее адекватной к более адекватной концепции общего блага и его требований может принимать форму настаивания на большей мере индивидуальной свободы. Ибо человеческие существа не могут развиваться как личности, если у них нет простора для осуществления такой свободы. Но Грин фактически пытается противостоять догмам laissez-faire. Он не защищает ограничение индивидуальной свободы со стороны государства как таковое. Фактически, социальное законодательство, которое он одобряет, он понимает как устранение препятствий к свободе, то есть к свободе граждан развивать свои возможности как человеческих существ. Например, закон, устанавливающий минимальный возраст, с которого дети могут начать работать, устраняет препятствие к получению образования. Правда, закон ограничивает свободу родителей и потенциальных работодателей, мешая им делать то, что они хотят, без учёта общего блага. Но в этом смысле Грин не готов допускать никаких компромиссов общего блага со свободой. Частные, личные и классовые интересы, как бы они ни маскировались под апелляцию к индивидуальной свободе, не должны препятствовать созданию государством условий, дающих его гражданам возможность развиваться как человеческие существа и жить подлинно человеческими жизнями.
Таким образом, у Грина мы имеем явный пример пересмотра либерализма в соответствии с ощущением необходимости развития социального законодательства. Можно сказать, что он пытается интерпретировать действующий идеал движения, развивавшегося в последние десятилетия XIX века. Можно критиковать формулировку его теории; но, несомненно, это была теория, предпочтительная не только по сравнению с догматизмом laissez-faire, но и по сравнению с попытками сохранить этот догматизм как принцип, делая при этом ряд несовместимых с ним уступок.
В заключение следует отметить, что Грин не упускает из виду факт, что осуществление морального призвания через выполнение обязанностей, присущих нашему «положению» в обществе, может показаться идеалом несколько упрощённым и неадекватным. Ибо «могут быть основания утверждать, что определённые возможности человеческого духа не реализуемы в определённых лицах в условиях какого бы то ни было известного нам общества или общества, которое мы можем позитивно мыслить или которое может существовать на земле»[14451]. Таким образом, если только мы не считаем неразрешимой проблему, поставленную нереализуемыми возможностями, мы можем верить, что личностная жизнь, проживаемая на земле в условиях, препятствующих её полному развитию, продолжается в обществе, в котором человек может достичь своей полной совершенности, «Или мы можем удовлетвориться, говоря, что сознающее и личностное существо, приходящее от Бога, продолжается вечно в Боге»[14461]. Грин говорит так, чтобы слишком себя не обязывать. Но его личная позиция, кажется, гораздо ближе к Канту, который постулировал продолжение жизни после смерти как непрерывный процесс совершенствования, чем к Гегелю, который, кажется, не проявлял интереса к проблеме личного бессмертия, верил он в него или нет.
4. Э. Керд и единство, лежащее в основе различия между субъектом и объектом
Идея единства, лежащего в основе различия между субъектом и объектом, выходит на первый план в мысли Эдварда Керда (1835–1908), члена Мертон-колледжа в Оксфорде (1864–1866), профессора моральной философии в Университете Глазго (1866–1893) и мастера Баллиол-колледжа в Оксфорде (1893–1907). Его знаменитая работа «Критический обзор философии Канта» вышла в 1877 году; а в 1889 году появилось переработанное издание в двух томах под названием «Критическая философия Канта». В 1883 году Керд опубликовал небольшую работу о Гегеле[14471], которая до сих пор считается одной из лучших введений в изучение этого философа. Из других сочинений Керда можно упомянуть «Социальная философия и религия Конта» (1885), «Эссе о литературе и философии» (два тома, 1892), «Эволюция теологии у греческих философов» (два тома, 1904), «Эволюция религии» (два тома, 1893). Две последние работы – это опубликованные версии циклов «Гиффордских лекций».
Хотя Керд писал о Канте и Гегеле и использовал метафизический идеализм как инструмент интерпретации человеческого опыта и как оружие для борьбы с материализмом и агностицизмом, он не был и не претендовал на то, чтобы быть последователем Гегеля или какого-либо другого немецкого философа. В действительности он считал, что любая попытка импортировать философскую систему в чужую страну неуместна[14481]. Бесполезно предполагать, что то, что удовлетворило прошлое поколение в Германии, удовлетворит последующее поколение в Великобритании. Ибо интеллектуалу необходимо меняться вместе с обстоятельствами.
В современном мире, говорит Керд, мы видели, как рефлексирующий интеллект подвергает сомнению спонтанные убеждения человека и разделяет факторы, ранее соединённые. Например, у нас есть расхождение между картезианской отправной точкой, сознающим себя эго, и точкой эмпиристов, объектом как данным в опыте. И расстояние между обеими традициями возросло настолько, что нам говорят, что мы должны свести физическое к психическому или психическое к физическому. Иными словами, нас приглашают выбирать между идеализмом и материализмом, как если бы антагонистические требования обоих не могли быть примирены. Кроме того, существует углублённая пропасть между религиозным сознанием и верой, с одной стороны, и научной перспективой – с другой; пропасть, которая заставляет нас выбирать между религией и наукой, поскольку обе не могут быть примирены.
Когда такие оппозиции и конфликты возникают в культурной жизни человека, невозможно просто вернуться к унифицированному, но наивному сознанию более ранней эпохи. Также недостаточно апеллировать, как Шотландская школа, к принципам здравого смысла. Ибо именно эти принципы были поставлены под вопрос, например, юмовским скептицизмом. Таким образом, рефлексирующий интеллект вынужден обратиться к синтезу, в котором противоположные точки зрения могут быть примирены на уровне, более высоком, чем уровень наивного сознания.
Кант много способствовал выполнению этой миссии. Однако важность его вклада не была понята, по мнению Керда, главным образом по вине самого Канта. Ибо вместо того, чтобы интерпретировать различие между видимостью и реальностью, просто относя его к различным состояниям прогресса познания, немецкий философ представил его как различие между феноменами и непознаваемыми вещами в себе. И именно это понятие вещи в себе должно быть отвергнуто философией, как, в самом деле, и сделали последователи Канта. Когда мы освободились от этого понятия, мы можем увидеть, что действительная важность критической философии заключается в её прозрении того факта, что объективность существует только для сознающего субъекта. Иными словами, действительный вклад Канта состоял в том, чтобы показать, что фундаментальное отношение есть отношение между субъектом и объектом, которые вместе образуют «единство в различии». Как только человек постигает эту истину, он освобождается от искушения редуцировать субъект к объекту или объект к субъекту. Ибо такое искушение имеет своё происхождение в неудовлетворительном дуализме, который преодолевается теорией изначального синтеза. Различие между субъектом и объектом возникает из единства сознания, единства, которое является фундаментальным.
По мнению Керда, сама наука является свидетельством, своим образом, этого «единства в различии». Правда, она концентрируется на объекте. Но в то же время она стремится к открытию универсальных законов и к корреляции этих законов; и таким образом предполагает существование интеллигибельной системы, которая не может быть просто гетерогенной или чуждой мысли, её постигающей. Иными словами, наука свидетельствует о коррелятивности мысли и её объекта.
Хотя одна из миссий, которые Керд отводит философу, состоит в том, чтобы показать, что наука указывает на базовый принцип синтеза субъекта и объекта как «единства в различии», однако сам он концентрируется прежде всего на религиозном сознании. И в этой области он чувствует себя вынужденным выйти за пределы субъекта и объекта к фундаментальному единству и основе. Субъект и объект различны. В самом деле, вся наша жизнь движется между этими двумя терминами, которые существенно различны и даже противоположны друг другу[14491]. Но в то же время они связаны между собой таким образом, что один не может быть мыслим без другого[14501]. И «мы чувствуем себя вынужденными искать секрет их бытия в высшем принципе, чьим единством они в своём действии и противодействии являются выражениями, который они предполагают как свой принцип и к которому стремятся как к своему концу»[14511].
Эта всеобъемлющая единственность, описываемая платоническими фразами как «одновременно принцип бытия всех вещей, которые суть, и принцип знания всех существ, которые знают»[14521], есть гипотеза всякого сознания. И это то, что мы называем Богом. Это не означает, настаивает Керд, что все люди обладают эксплицитным знанием Бога как конечного единства бытия и познания, объективности и субъективности. Эксплицитное знание в этом случае – продукт долгого процесса развития. И в истории религии мы можем видеть главные этапы этого развития[14531].
Первый этап, этап «объективной религии», доминируется знанием объекта, не собственно объекта в абстрактном и техническом смысле слова, но в форме внешних вещей, которыми человек чувствует себя окружённым. На этом этапе человек не может сформировать идею чего-либо, «чего он не может ощупать как существующее в пространстве и времени»[14541]. Можно думать, что у него есть смутное знание единства, которое включает его самого и прочие вещи; но он не может сформировать идею божественного иначе, чем объективируя его в богах.
Второй этап в развитии религии – этап «субъективной религии». На нём человек возвращается от поглощённости Природой к самосознанию. И он мыслит Бога как духовное существо, отдельное от Природы и человека, которое открывает себя прежде всего во внутреннем голосе совести.
На третьем этапе, этапе «абсолютной религии», сознающий себя субъект и его объект, Природа, предстают как различные, хотя существенно связанные и в то же время укоренённые в конечном единстве. И Бог мыслится «как Существо, которое одновременно есть принцип, поддерживающая сила и конец наших духовных жизней»[14551]. Что, однако, не означает, что идея Бога совершенно неопределенна, так что мы чувствуем себя вынужденными принять агностицизм Герберта Спенсера. Ибо Бог открывает себя как через субъект, так и через объект, и чем лучше мы понимаем духовную жизнь человечества, с одной стороны, и мир Природы – с другой, тем больше мы знаем о Боге, «конечном единстве нашей жизни и жизни мира»[14561].
В той мере, в какой Керд выходит за пределы различия между субъектом и объектом к конечной реальности, можно сказать, что он не абсолютизирует отношение субъект-объект, как это делал Феррье. В то же время его эпистемологический подход, то есть через отношение субъект-объект, кажется, ставит проблему. Ибо Керд прямо признаёт, что «строго говоря, есть только один объект и один субъект для каждого из нас»[14571]. То есть для меня отношение субъект-объект есть, в строгом смысле, отношение между моим «я» как субъектом и моим миром как объектом. И объект должен включать других людей. Таким образом, даже если допустить, что с самого начала у меня есть смутное знание фундаментального единства, кажется, следует, что такое единство есть единство моего «я» как субъекта и моего объекта, где другие являются частью «моего объекта». И тогда трудно увидеть, как можно доказать существование других субъектов и тот факт, что существует одно и только одно общее фундаментальное единство. Здравый смысл, возможно, склоняет к мысли, что такие выводы верны. Но речь идёт не о вопросе здравого смысла, а скорее о том, как можно обосновать выводы, раз уж принят подход Керда. Взятая сама по себе, идея фундаментального единства может иметь определённую ценность[14581]. Но выводы, к которым хочет прийти Керд, не даются легко его отправной точкой. И, конечно, спорно, был ли Гегель мудр, исходя из понятия Бытия, вместо того чтобы исходить из отношения субъект-объект.
5. Дж. Керд и философия религии
Про Джона Керда (1820–1898), брата Эдварда, говорили, что он проповедовал гегельянство с кафедры. Богослов и проповедник-пресвитерианин, в 1862 году он был назначен профессором теологии в Университете Глазго, а в 1873 году стал главой университета. В 1880 году он опубликовал «Введение в философию религии», а в 1888 году – том о Спинозе в серии Blackwood's Philosophical Classics. Посмертно появились некоторые другие сочинения, в том числе его «Гиффордские лекции» «Основные идеи христианства» (1899).
В своих аргументах против материализма Джон Керд утверждает не только, что он не способен объяснить жизнь организма и сознания[14591], но также и то, что материалисты, хотя и пытаются свести интеллект к функции материи, молча и неизбежно предполагают с самого начала, что интеллект есть нечто отличное от материи. В конечном счёте, именно сам интеллект должен осуществить редукцию. Аналогичным образом он говорит, что агностик, утверждающий, что Бог непознаваем, своим самым утверждением раскрывает тот факт, что у него есть имплицитное знание о Боге. «Даже утверждая, что человеческий интеллект неспособен к абсолютному знанию, скептик предполагает в своём собственном интеллекте идеал абсолютного знания, по сравнению с которым человеческое знание объявляется несовершенным. Само отрицание абсолютного интеллекта в нас не имеет смысла, кроме как через молчаливую апелляцию к присутствию такого абсолютного интеллекта. Таким образом, имплицитное знание Бога доказывается самим попыткам отрицать его»[14601].
Выраженная в этой конкретной цитате, теория Керда туманна. Но её можно прояснить следующим образом: Керд применяет к частному случаю знания тезис Гегеля о том, что мы не можем быть сознающими конечность, не будучи имплицитно сознающими бесконечность. Опыт учит нас, что наши интеллекты конечны и несовершенны. Но мы не могли бы знать этого иначе, как в свете имплицитной идеи тотального или абсолютного знания, знания, которое было бы, фактически, единством мышления и бытия. Эта имплицитная или виртуальная идея абсолютного знания конституируется в смутно мыслимую норму, рядом с которой наши ограничения становятся для нас яснее. Более того, эта идея является для интеллекта идеальной целью. Таким образом, она действует в нас так, как если бы она была реальностью, и, фактически, является абсолютным интеллектом, чьему свету мы причастны.
Без сомнения, для Керда существенно сохранять идею, выраженную в двух последних фразах. Ибо если бы он просто сказал, что мы стремимся к полному или абсолютному знанию, конституированному как идеальная цель, мы должны были бы прийти к выводу, что абсолютное знание ещё не существует, тогда как Керд хочет прийти к выводу, что, утверждая ограниченность нашего знания, мы имплицитно утверждаем живую реальность. Он должен, следовательно, сказать, что, утверждая ограниченность моего интеллекта, я имплицитно утверждаю существование абсолютного интеллекта, который действует во мне и в чьей жизни я участвую. Таким образом, он использует гегелевский принцип, что конечное может быть понято только как момент жизни бесконечного. Открыто для обсуждения, может ли такое применение гегелевских принципов действительно служить цели, которой Керд их применяет, а именно, поддерживать христианский теизм. Но в любом случае Керд убеждён, что они могут.
Джон Керд также пишет, подобно своему брату, что взаимосвязь субъекта и объекта раскрывает конечное единство, лежащее в основе различия. Что касается традиционных доказательств существования Бога, они подвержены обычным возражениям, если их принимать как аргументы, претендующие на строгую логичность. Напротив, если их понимать как феноменологические анализы путей, «посредством которых человеческий дух приходит к знанию Бога и достигает тем самым осуществления своей высшей природы, такие доказательства имеют большую ценность»[14611]. Возможно, не совсем ясно, в чём заключается эта большая ценность. Керд вряд ли может хотеть сказать, что логически недействительные аргументы имеют большую ценность, если они показывают пути, которыми человеческий интеллект фактически приходил к выводу, рассуждая ошибочно. Возможно, он хочет сказать, что традиционные аргументы имеют ценность как иллюстративные пути того, как человеческий интеллект может стать эксплицитно сознающим знание, которым он уже обладал в имплицитной и тёмной форме. Эта перспектива позволит ему одновременно сказать, что аргументы ставят вопрос, предполагая вывод с самого начала, и что на самом деле это неважно, поскольку они являются средствами сделать имплицитное эксплицитным[14621].
Вместе с Гегелем Джон Керд настаивает на необходимости прогресса от уровня обычного религиозного мышления к идее спекулятивной религии, в которой «противоречия» преодолены. Например, противоположные и одинаково односторонние позиции пантеизма и деизма преодолеваются истинно философской концепцией отношения между конечным и бесконечным, концепцией, характерной для правильно понятого христианства. Что касается специфически христианских доктрин, таких как Воплощение, то способ, которым Керд трактует их, более ортодоксален, чем у Гегеля. Тем не менее, он слишком убеждён в ценности гегелевской философии как союзника в борьбе против материализма и агностицизма, чтобы серьёзно рассматривать опасность того, что, как позднее скажет Мак-Таггарт, союзник в конечном счёте может превратиться в замаскированного врага, поскольку применение гегельянства к интерпретации христианства по самой природе гегелевской системы склонно подразумевать подчинение содержания христианской веры спекулятивной философии и, фактически, связь с определённой системой.
Фактически, однако, Джон Керд не принимает гегелевскую систему целиком и безоговорочно. Скорее, он принимает от неё общие направления мысли, в которых видит внутреннюю ценность и которые, как он верит, могут служить поддержанию религиозной перспективы перед лицом современных тенденций материализма и позитивизма. Таким образом, он представляет собой хороший пример религиозного интереса, характеризовавшего значительную часть идеалистического движения в Великобритании.
6. У. Уоллес и Д. Г. Ритчи
Среди тех, кто способствовал распространению гегельянства в Великобритании, особого упоминания заслуживает Уильям Уоллес (1844–1897), преемник Грина на посту профессора моральной философии Уайта в Оксфорде. В 1874 году он опубликовал перевод с пролегоменами или вводным материалом «Логики» Гегеля из «Энциклопедии философских наук»[14631]. Позже он опубликовал исправленное и расширенное издание в двух томах: перевод появился в 1892 году, а «Пролегомены»[14641], щедро дополненные, в 1894 году. Уоллес также опубликовал в 1894 году перевод с пятью вводными главами «Философии духа» Гегеля, также входящей в «Энциклопедию». Кроме того, он написал том о Канте (1882) для серии Blackwood's Philosophical Classics и «Жизнь Шопенгауэра» (1890). Его «Лекции и эссе о естественной теологии и этике», вышедшие посмертно в 1898 году, ясно показывают сродство его мысли со спекулятивной интерпретацией религии вообще и христианства в частности, проводимой Джоном Кердом.
Хотя мы не можем умножать ссылки на других философов в русле идеалистического движения, есть особый повод упомянуть Дэвида Джорджа Ритчи (1853–1903), которого Грин в Оксфорде обратил в идеализм и который в 1894 году стал профессором логики и метафизики в Университете Сент-Эндрюса. Ибо в то время как идеалисты в целом не соглашались с философскими системами, основанными на дарвинизме, Ритчи поставил своей целью показать, что гегелевская философия может прекрасно ассимилировать дарвиновскую теорию эволюции[14651]. В конечном счёте, говорил он, разве дарвиновская теория выживания наиболее приспособленного не идеально гармонирует с гегелевской доктриной, что реальное разумно, а разумное реально, и что разумное, поскольку оно представляет ценность, торжествует над неразумным? И разве исчезновение наиболее слабого и менее приспособленного к выживанию не соответствует преодолению негативного фактора в гегелевской диалектике?
Правда, признаёт Ритчи, дарвинисты были так озабочены происхождением видов, что не понимали значения эволюционного движения в целом. Необходимо признать тот факт, что в человеческом обществе борьба за существование принимает формы, которые не могут быть адекватно определены биологическими категориями, и что социальный прогресс зависит от сотрудничества. Но именно здесь гегельянство может внести свет, которого не обеспечивают ни биологическая теория эволюции сама по себе, ни эмпиристские и позитивистские философские системы, которые заявляют, что основаны на такой теории.
Тем не менее, хотя Ритчи предпринял ценный попытку примирить дарвинизм и гегельянство, разработка «идеалистических» философий эволюции, «идеалистических» в том смысле, что они стремились показать, что общее эволюционное движение направлено к идеальному термину или концу, должна была осуществляться вне, а не внутри течения неогегельянской мысли.
АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛИЗМ: БРЭДЛИ
1. Вводные замечания
В философии Фрэнсиса Герберта Брэдли (1846–1924) отношение субъект-объект отошло на второй план, окончательно уступив место идее Единого, сверхреляционного, всеобъемлющего Абсолюта. О жизни Брэдли нечего много говорить. В 1870 году он был избран членом Мертон-колледжа в Оксфорде, должность, которую сохранял до своей смерти. Он не читал курсов лекций; и его литературная продукция, хотя и значительная, не была исключительной. Но как мыслитель он представляет значительный интерес, возможно, особенно тем, как сочетает радикальную критику категорий человеческого мышления как инструмента постижения конечной реальности с твёрдой верой в существование Абсолюта, в котором преодолеваются все противоречия и антиномии.
В 1874 году Брэдли опубликовал эссе «Предпосылки критической истории», к которому мы обратимся в следующем разделе. «Этические исследования» вышли в 1876 году, «Принципы логики» в 1883 году[14661], «Явление и реальность» в 1893 году[14671], и «Эссе об истине и реальности» в 1914 году. В 1935 году посмертно были собраны и опубликованы в двух томах другие эссе и статьи под названием «Собрание эссе»[14681]. В 1930 году появилась небольшая книжечка «Афоризмов».
Врагами Брэдли были враги идеалистов вообще, а именно, эмпиристы, позитивисты и материалисты, хотя в его случае следует добавить прагматистов. Как полемист, он не всегда представлял мнения своих оппонентов так, как они сочли бы справедливым; он мог быть разрушительным и порой не слишком вежливым. Его философию часто определяли как неогегельянскую, но хотя он, несомненно, находился под влиянием гегельянства, это определение не совсем адекватно. Правда, оба, Гегель и Брэдли, говорят о тотальности, об Абсолюте. Но у них явно разные взгляды на способность человеческого разума постигать Абсолют. Гегель был рационалистом, поскольку рассматривал разум (Vernunft) как отличный от рассудка (Verstand) и способный проникнуть во внутреннюю жизнь Абсолюта. Он пытался раскрыть существенную структуру саморазвивающейся вселенной, тотальности Бытия; и проявлял неодолимую уверенность в силе диалектического мышления раскрыть природу Абсолюта в себе самом и в его конкретных проявлениях в Природе и Духе. Диалектика Брэдли, напротив, в значительной степени принимала форму систематической самокритики посредством дискурсивного мышления; критики, которая, по крайней мере по мнению Брэдли, выявляла неспособность человеческого мышления адекватно постичь конечную реальность, то, что действительно реально. Мир дискурсивного мышления был для него миром явления; это демонстрировала метафизическая рефлексия, раскрывая антиномии и противоречия, порождаемые таким мышлением. Брэдли, несомненно, был убеждён, что реальность, искажённая дискурсивным мышлением, сама по себе свободна от всякого противоречия, является однородным целым, полным и полностью гармоничным актом опыта. Тем не менее, факт в том, что Брэдли не претендовал на то, чтобы диалектически продемонстрировать, что антиномии преодолены и противоречия разрешены в Абсолюте. Правда, он много говорил об Абсолюте. И учитывая его тезис, что конечная реальность трансцендирует человеческое мышление, можно утверждать, что, делая это, он проявлял некоторую непоследовательность. Но важным здесь является то, что Брэдли выразил не столько гегелевский рационализм, сколько своеобразное сочетание скептицизма и фидеизма; скептицизма через принижение человеческого мышления как инструмента постижения реальности как она есть, и фидеизма через своё явное утверждение, что вера в Единое, удовлетворяющее всем требованиям идеальной интеллигибельности, опирается на исходный акт веры, предполагаемый всякой подлинно метафизической философией.
К этой характерной позиции Брэдли пришёл под влиянием, до определённой степени, теории Гербарта о том, что противоречия принадлежат не самой реальности, но проистекают из наших неадекватных форм концептуализации реальности[14691]. Что не означает, что Брэдли был гербартианцем. Брэдли был монистом, тогда как немецкий философ был плюралистом. Но профессор А. Э. Тейлор рассказывает, что когда он был в Мертон-колледже, Брэдли рекомендовал ему изучать Гербарта как лучшее средство для того, чтобы не слишком погружаться в гегельянские формы мышления[14701]. И понимание влияния Гербарта на Брэдли помогает не придавать чрезмерного значения гегелевским элементам его философии.
Однако философию Брэдли нельзя адекватно объяснить, принимая во внимание только влияние, оказанное другими мыслителями. Это, в действительности, оригинальная философия, несмотря на стимул, полученный от таких разных немецких философов, как Гегель и Гербарт. В некоторых аспектах, например, в том, как он представляет понятие «Бога» как превзойдённое сверхличным Абсолютом, мысль Брэдли явно несёт признаки влияния немецкого абсолютного идеализма. И то, как тенденция ранних британских идеалистов абсолютизировать отношение субъект-объект уступает место идее тотальности, Единого, можно сказать, представляет собой триумф абсолютного идеализма, ассоциируемого прежде всего с именем Гегеля. Но британский абсолютный идеализм, особенно в случае Брэдли, был местной версией движения. Он может быть не столь блестящим, как гегелевская система, но это не причина представлять его как уменьшенную реплику гегельянства.
[1] ὕστερον πρότερον (более позднее – первым) – логическая ошибка, при которой в рассуждении или объяснении следствие ставится на место причины, а причина – на место следствия. В данном контексте Грин указывает, что попытка объяснить духовный принцип (сознание, интеллект) через природные факты (которые, согласно его метафизике, сами уже предполагают этот принцип для своего осмысления) является такой логической ошибкой. Дух логически и метафизически первичен, но эмпирическое исследование пытается представить его как производное от вторичной (природной) реальности.
Основы критической истории.
В своём эссе «Основы критической истории» Брэдли утверждает, что критическое понимание изначально должно сомневаться в реальности всего, что предстаёт перед ним. Одновременно «критическая история исходит из предпосылки: единообразие закона». Это означает, что «критическая история предполагает, что её мир един», где единство понимается как всеобщность закона и того, что в целом можно назвать причинно-следственной связью. История не начинает с доказательства этого единства: она принимает его как условие собственной возможности, хотя развитие истории подтверждает истинность данной гипотезы.
Здесь не упоминается Абсолют. Действительно, в метафизике Брэдли мир причинных связей относится к сфере явления. Однако в свете последующего развития его мысли в идее единства мира истории как предпосылке историографии можно усмотреть намёк на идею тотального органического единства как основы метафизики. Эта мысль, по-видимому, подкрепляется замечанием Брэдли в примечании о том, что «Вселенная, кажется, есть система; это организм (можно сказать) и нечто большее. Она обладает характером "я", личности, от которой зависит и без которой ничего не стоит. Таким образом, часть Вселенной сама по себе не может быть последовательной системой, поскольку отсылает к целому, и целое присутствует в ней. Потенциальная тотальность (поскольку она включает то, чем целое является в действительности), пытаясь соответствовать себе, достигает этого лишь акцентируя свой релятивный характер; она выходит за собственные пределы и противоречит себе». Строго говоря, это не совсем формулировка теории Абсолюта, как мы находим её в «Явлении и реальности», где Абсолют определённо не представлен как "я". Однако данный отрывок служит иллюстрацией того, как мысль Брэдли была пронизана идеей Вселенной как органической целостности.
Мораль и её преодоление в религии.
«Этические исследования» Брэдли не являются метафизическим трудом в прямом смысле. Чтение первого эссе может даже создать впечатление, что автор ближе к современному аналитическому движению, чем к тому, что ожидается от метафизического идеалиста. Брэдли анализирует, что обычный человек понимает под ответственностью и вменяемостью, а затем показывает, что определённые теории человеческого действия несовместимы с условиями моральной ответственности, которые «простой человек» имплицитно предполагает.
С одной стороны, обычный человек молчаливо полагает, что его нельзя считать морально ответственным за действие, если он не является его подлинным автором. Если принять это допущение, то исключается детерминизм, основанный на ассоциативной психологии, которая полностью отвергает постоянное тождество личности. «Лишённая личностной идентичности, ответственность есть чистая бессмыслица; а согласно психологии наших "детерминистов" личностная идентичность (и всякая идентичность вообще) есть просто бессодержательное слово». С другой стороны, обычный человек предполагает, что его нельзя честно считать ответственным за действие, автором которого он не является, за действие, которое не исходит от него как следствие из причины. Это допущение исключает любую индетерминистскую теорию, подразумевающую, что свободные действия человека не имеют причины и игнорирующую связь между человеческим поступком и "я" или личностью индивида. Поскольку агент, описываемый такой теорией, – это «лицо, которое не является ответственным, которое – если оно вообще что-то представляет – является идиотом».
Брэдли, конечно, далёк от того, чтобы предлагать принимать верования обычного человека как высшую апелляционную инстанцию. Но в данном случае его задача не в изложении метафизической теории "я", а в демонстрации того, что детерминизм и индетерминизм в указанном смысле несовместимы с предпосылками морального сознания. Позитивный вывод заключается в том, что моральное сознание обычного человека предполагает тесную связь между поступками, за которые человека можно правомерно считать ответственным, и собственным "я", понимаемым как личность.
Хотя «Этические исследования» не являются метафизическим произведением в том смысле, что Брэдли пытается вывести этические заключения из метафизических предпосылок или явно ввести свою собственную метафизическую систему, они, безусловно, имеют метафизическую направленность и значение. Итог работы состоит в том, что мораль порождает противоречия, которые не могут быть разрешены на чисто этическом уровне, и указывает за свои пределы. В этом произведении мораль действительно представлена как ведущая к религии. Однако в другом контексте религия ведёт к философии Абсолюта.
Для Брэдли цель морали, морального действия – самореализация. Следовательно, благо для человека не может отождествляться с «чувством самореализации» и, конечно, ни с каким чувством вообще. Таким образом, исключается гедонизм, считающий благом чувство удовольствия. По Брэдли, как и по Платону, последовательный гедонист должен логически утверждать, что морально любое действие, производящее больше удовольствия для агента. Поскольку последовательный гедонизм подчиняется лишь принципу количественного различения. Как только, вслед за Дж. С. Миллем, вводится качественное различие между удовольствиями, требуется иной критерий, отличный от чувства удовольствия, и, таким образом, гедонизм фактически отвергается. Суть в том, что утилитаризм Милля демонстрирует поиск этической идеи самореализации, а удержание одновременно и гедонизма мешает ему полностью её достичь. «Позволено ли нам будет, в заключение, намекнуть, что среди всех наших утилитаристов нет ни одного, кому не следовало бы многому научиться у "Этики" Аристотеля?»
Делая удовольствие единственным благом, гедонизм является безнадёжно односторонней теорией. Другой односторонней теорией является кантовская этика долга ради долга. Проблема здесь – в формализме теории. Нам говорят исполнять добрую волю, «но о том, чем добрая воля является (этика долга ради долга) ничего не говорит и оставляет нас в бесполезной абстракции». Брэдли защищается от обвинения в карикатуризации этики Канта, заявляя, что не претендует на экзегезу кантовской моральной теории. В то же время он выражает убеждённость, что кантовская этическая система «была уничтожена гегелевской критикой». Основная критика Гегеля как раз и заключалась в том, что этика Канта погрязла в пустом формализме.
Брэдли не более, чем Гегель, не согласен с тезисом, что цель морали – реализация доброй воли. Он утверждает, что этой идее следует придать содержание. Для этого нужно учитывать, что добрая воля – это всеобщая воля, воля социального организма. Это означает, что обязанности каждого определяются его принадлежностью к социальному организму, и что «чтобы быть моральным, я должен желать своего положения и свойственных ему обязанностей».
На первый взгляд, гегелевская перспектива, с её отзвуками Руссо, может показаться отличной от теории Брэдли, согласно которой цель морали – самореализация. Однако всё зависит, естественно, от того, как понимается термин "я". Для Брэдли и Гегеля всеобщая воля, представляющая собой конкретную универсалию, существующую в индивидах и через них, является «истинным» "я" индивида. В отрыве от своих социальных связей, от своего членства в социальном организме, индивид есть абстракция. «И индивид есть то, что он есть, благодаря и в силу сообщества». Таким образом, отождествление своей частной воли со всеобщей волей есть реализация собственного истинного "я".
Что это означает в менее абстрактных терминах? Всеобщая воля, очевидно, есть воля общества. И поскольку семья, фундаментальное общество, одновременно защищается и включается в политическое общество – государство – Брэдли, как и Гегель, придаёт последнему большее значение, чем первому. Моральная самореализация, следовательно, есть действие в соответствии с социальной моралью, то есть с «уже существующей и доступной моралью в законах, институтах, социальных обычаях, моральных мнениях и чувствах».
Такая точка зрения, очевидно, наполняет содержанием моральный закон, повеление разума реализовать добрую волю. Но столь же очевидно, что мораль становится относительной, соответствующей тому или иному обществу. Брэдли, действительно, пытается сохранить различие между низшими и высшими моральными кодексами. Сущность человека реализуется, хотя и несовершенно, на каждой ступени моральной эволюции. Но «с точки зрения более высокой ступени мы можем видеть, что низшие ступени не полностью реализовали истину и даже, смешанные и соединённые с их реализацией, представляли элементы, противные истинной природе человека, как мы её теперь рассматриваем». В то же время мнение Брэдли о том, что собственные обязанности определяются положением каждого, его местом и функцией в социальном организме, приводит его к утверждению, что мораль не только является, но и должна быть относительной. То есть речь идёт не просто о констатации эмпирического факта, что моральные убеждения различались в разных обществах.
Брэдли также утверждает, что моральные кодексы были бы бесполезны, если бы не были относительными, соответствующими данным обществам. Короче говоря, «моральность каждой стадии оправдана этой стадией; и требование кодекса права самого по себе, отделённого от всякой стадии, подобно требованию невозможного».
Едва ли нужно говорить, что сама идея морального кодекса содержит в себе отношение к возможному поведению, и что кодекс, не имеющий никакого отношения к исторической и социальной ситуации человека, был бы бесполезен. Но это не обязательно означает, что я должен отождествлять мораль с существующими нормами и взглядами общества, к которому принадлежу. Фактически, если, как признаёт Брэдли, член современного общества может видеть недостатки морального кодекса прошлого общества, то нет адекватной причины, по которой прозорливый член того прошлого общества не мог бы увидеть эти недостатки сам и отвергнуть социальный конформизм во имя более высоких норм и идеалов. Это, в конце концов, именно то, что происходило на протяжении истории.
Однако на деле Брэдли не ограничивается сведением морали к социальной морали. Поскольку, согласно ему, есть долг реализовать идеальное "я", и содержание этого идеального "я" не является исключительно социальным. Например, «есть моральный долг художника или исследователя вести определённую жизнь, и есть моральное преступление этого не делать». Деятельность художника или учёного может быть и обычно является благом для общества. Но «их социальная направленность косвенна и не коренится в их истинной сущности». Эта идея, несомненно, согласуется с гегелевским отнесением искусства к сфере абсолютного духа, а не к сфере объективного духа, к которой принадлежит мораль. Но тот факт, что Брэдли утверждает: «человек не человек, если он не социальный, но человек немногим превосходит зверей, если он нечто большее, чем социальное существо», – мог бы побудить его пересмотреть такие заявления, как «нет ничего лучше моего положения и свойственных ему обязанностей, ничто не является более высоким или более подлинно прекрасным». Если мораль есть самореализация, а "я" не может быть адекватно определено простыми социальными категориями, то вряд ли можно отождествить мораль и соответствие нормам общества, к которому принадлежишь.
В определённом смысле всё это лишь подтверждает позицию Брэдли. Потому что, как уже говорилось, Брэдли хочет показать, что мораль порождает антиномии и противоречия, которые не могут быть преодолены на чисто этическом уровне. Например, главное противоречие: моральный закон требует совершенного отождествления индивидуальной воли с идеально доброй и всеобщей волей, в то время как мораль может существовать лишь как преодоление низшего "я", усилие, которое предполагает, что индивидуальная воля не идентична идеально доброй воле. Другими словами, мораль по существу есть бесконечный процесс, но по самой своей природе требует, чтобы процесс не продолжался, а был заменён моральным совершенством.
Очевидно, антиномия исчезает, если отрицать, что преодоление низшего и несовершенного "я" является существенным фактом моральной жизни или что моральный закон требует прекращения этого преодоления. Но если принять оба тезиса, то следует вывод, что мораль ищет собственного исчезновения. То есть она стремится превзойти самое себя. «Мораль есть бесконечный процесс и, следовательно, самопротиворечие; и, как таковая, она не пребывает в себе, а стремится превзойти свою существующую реальность». Если моральный закон требует осуществления идеала, который не может быть достигнут, пока есть несовершенное "я", которое должно быть преодолено, и если существование в некоторой степени несовершенного "я" есть необходимая предпосылка морали, то мы должны заключить, что моральный закон требует достижения идеала или цели, осуществимой лишь в сверхэтической сфере.
Применительно к «Этическим исследованиям» такой сферой является религия. Моральный идеал «не осуществляется в объективном мире государства»; но он может осуществиться для религиозного сознания. Действительно, «согласно религии, мир отчуждён от Бога, а "я" погружено в грех». В то же время для религиозного сознания два полюса, Бог и "я", бесконечное и конечное, соединяются в вере. Посредством религиозной веры грешник примиряется с Богом, оправдывается и объединяется с другими "я" в сообществе верующих. Таким образом, в сфере религии человек достигает цели своих усилий и исполняет требование морали реализовать себя как «бесконечную целостность»; требование, которое может быть исполнено лишь несовершенно на этическом уровне в качестве члена политического общества.
Итак, мораль состоит в реализации истинного "я". Однако истинное "я" «бесконечно», что означает: мораль требует реализации "я" как члена бесконечного целого. Но это требование не может быть полностью исполнено на уровне этики «моего положения и его обязанностей». В конечном счёте, оно может быть исполнено лишь через преобразование "я" в Абсолют. И в этом смысле моральные размышления Брэдли пронизаны метафизикой: метафизикой Абсолюта. Но в «Этических исследованиях» он довольствуется тем, что доводит тему до самопревосхождения морали в религии. Самопревосхождение религии остаётся для явной метафизики «Явления и реальности».
Значение логики для метафизики.
Переходя к логическим исследованиям Брэдли, следует прежде всего отметить его стремление отделить логику от психологии. Разумеется, он не оспаривает законность изучения происхождения идей и их ассоциаций, занимавших столь важное место в эмпиристской философии от Локка до Дж. С. Милля. Но он настаивает, что они принадлежат области психологии, и что смешение логического и психологического исследований приведёт к психологическим ответам на логические вопросы, как это имело место у эмпиристов. «В Англии, во всяком случае, мы слишком долго жили в психологической установке».
Брэдли начинает свои логические исследования с рассмотрения суждения, понимаемого не как комбинация идей, которые должны быть предварительно изучены, а как акт высказывания о некотором факте. Конечно, в суждении можно различить несколько элементов. Но логика интересуется не психологическим происхождением идей или понятий, ни влиянием ментальных ассоциаций, а символической функцией, отношением, которое понятия приобретают в суждении. «Для логических целей идеи суть символы и ничто иное, кроме символов». Термины приобретают определённое значение или отношение в предложении; и оно говорит нечто истинное или ложное. Логик должен работать с этими аспектами темы, оставляя психологические вопросы психологу.
Антипсихологическая установка Брэдли в области логики снискала ему признание многих современных логиков, включая тех, чья общая философская позиция более или менее эмпиристская. Однако отношение между его логикой и метафизикой обычно рассматривается менее благосклонно. Тем не менее, здесь следует быть осторожным. С одной стороны, Брэдли не отождествляет логику с метафизикой. Его исследование форм, количества и модальности суждений, а также характеристик и типов умозаключения рассматривается им как часть логики, а не метафизики. С другой стороны, в предисловии к первому изданию «Принципов логики» он неявно признаёт: «Я не уверен, – говорит он, – где логика начинается или кончается». Некоторые его логические теории имеют очевидную связь с его метафизикой, которую можно кратко проиллюстрировать одним-двумя примерами.
Поскольку всякое суждение истинно или ложно, логически мы склонны думать, что всякое суждение утверждает или отрицает факт, а его истинность или ложность зависит от соответствия или несоответствия определённым эмпирическим ситуациям. Но хотя единичное суждение, такое как «у меня зубная боль» или «этот лист зелёный», на первый взгляд кажется отражающим отдельный факт, при рефлексии мы видим, что общее суждение есть результат умозаключения и носит гипотетический характер.
Например, если я говорю, что все млекопитающие имеют тёплую кровь, я из ограниченного числа случаев вывожу общее заключение, и что я в действительности утверждаю, так это то, что если в любое время существует нечто, обладающее всеми прочими атрибутами млекопитающего, то оно будет обладать и атрибутом тёплой крови. Суждение, следовательно, гипотетично, и есть дистанция между идеальным содержанием и реальным фактом. Потому что суждение утверждается как истинное, даже если в данный момент млекопитающих реально не существовало.
Согласно Брэдли, однако, ошибочно предполагать, что хотя общее суждение гипотетично, частноутвердительное суждение обладает привилегией быть связанным с отдельным фактом опыта, который оно отражает. Если я говорю, что у меня болит зуб, я, конечно, отсылаю к моей конкретной боли, но высказанное суждение могло бы быть совершенно так же высказано кем-то другим, кто, очевидно, отсылал бы к другой зубной боли: своей, а не моей. Конечно, мы можем фиксировать референт частных суждений с помощью таких слов, как «этот», «тот», «здесь» и «теперь». Но хотя это средство хорошо служит практическим целям, невозможно устранить все обобщающие элементы с помощью значения этих индивидуализирующих выражений. Если кто-то держит яблоко в руке и говорит «это яблоко зелёное», очевидно, я прекрасно понимаю, к какому яблоку он отсылает. Но суждение «это яблоко зелёное» не связано с этим конкретным яблоком: оно могло бы быть выражено кем-то другим или даже тем же человеком, отсылая к другому яблоку. Частноутвердительное суждение, следовательно, не обладает особой привилегией отражать существующий факт.
Вывод, к которому стремится Брэдли, заключается в том, что если понимать суждение как синтез или соединение идей, то всякое суждение общее, и тогда устанавливается дистанция между идеальным содержанием и реальностью. «Идеи универсальны, и что бы мы ни пытались смутно сказать или подразумевать, что мы в действительности выражаем и приходим к утверждению, не есть нечто индивидуальное». Следовательно, если абстрактное общее суждение гипотетично и, соответственно, в определённой степени оторвано от актуальной реальности, то бессмысленно думать, что мы найдём в частном суждении недвусмысленную отсылку к отдельному факту. Все суждения скроены по одной мерке.
В действительности же «суждение есть не синтез идей, а отнесение идеального содержания к реальности». Аргумент Брэдли состоит в том, что скрытый и конечный субъект любого суждения – это реальность как целое, Реальность, можно сказать, с большой буквы. «Мы утверждаем, что не только всякое суждение утверждает реальность, но и что в каждом суждении есть утверждение, что реальность такова, что S есть P». Если, например, я утверждаю, что этот лист зелёный, я утверждаю, что реальность как целое, вселенная, такова, что этот лист зелёный. Не существует отдельного изолированного факта. Так называемые отдельные факты суть то, что они суть, лишь потому, что реальность как целое есть то, что она есть.
Эта точка зрения имеет очевидную связь с относительной адекватностью различных типов суждений. Поскольку если реальность как целое есть скрытый конечный субъект каждого суждения, то следует, что чем более частным является суждение, тем менее адекватно оно как описание своего конечного субъекта. Более того, аналитическое суждение в смысле суждения, анализирующего данное конкретное чувственное переживание, искажает реальность, произвольно выделяя элементы из сложного целого и трактуя их как самодостаточный отдельный факт, тогда как таких фактов не существует. Единственный самодостаточный факт – это реальность как целое.
Таким образом, Брэдли отказывается от эмпиристской веры в то, что чем больше мы анализируем, тем ближе мы подходим к истине. Исходили из предположения, что «анализ ничего не изменяет и что, когда бы мы ни различали что-либо, мы имеем дело с существованием делимым». Но такое предположение есть «кардинальный принцип заблуждения и обмана». В действительности истина есть, как видел Гегель, целое.
Возможно, это указывает, что мы приблизимся к постижению реальности, если отойдём от непосредственных чувственных суждений к общим гипотезам наук. Но хотя в этой сфере фрагментация меньше, там гораздо большая степень абстракции и ментальной разработки. Если реальность есть то, что дано чувствам, то абстракции наук кажутся гораздо дальше от реальности, чем непосредственные чувственные суждения. А если реальность не состоит в богатстве чувственных явлений, можно ли в самом деле думать, что она состоит в логических конструкциях и научных абстракциях? «Быть может, это следствие ошибки в моей метафизике или слабости плоти, которая всё ещё ослепляет меня, но мысль, что существование может быть тем же самым, что и рассудок, кажется мне столь же холодной и столь же призрачной, как самый мрачный материализм. Тот факт, что слава этого мира в конечном счёте есть явление, делает мир более славным, если мы верим, что мир есть знак большего великолепия; но завеса чувств есть обман и мошенничество, если за ней скрывается некое бесцветное движение атомов, некая спектральная ткань неосязаемых абстракций или нетерrestrial танец бескровных категорий». Этот часто цитируемый пассаж направлен не только против сведения реальности к научным обобщениям, образующим паутину, сквозь сеть которой ускользает всё богатство чувственных индивидов, но и против гегелевской идеи, что логические категории раскрывают нам сущность реальности и что движение диалектической логики представляет движение реальности. Общий тезис Брэдли состоит в том, что процесс суждения и умозаключения, или, скорее, процесс дискурсивного мышления, не может постичь и представить реальность. В самом деле, для целей практической жизни и дискурсивных наук мышление – вполне адекватный инструмент. Что доказывается его успехом. Но это не обязательно означает, что оно является адекватным инструментом для постижения последней реальности в себе.
Когда Брэдли писал «Принципы логики», он старался избегать метафизики насколько возможно. Во втором издании, опубликованном через двадцать девять лет после «Явления и реальности», закономерно обнаруживается больше отсылок к метафизике, а также ряд изменений и исправлений некоторых логических идей, высказанных в первом издании. Другими словами, явная метафизика Брэдли повлияла на его логику. В любом случае, однако, совершенно ясно, что его логические теории с самого начала имеют метафизическую значимость, даже если главный вывод, возможно, является отрицательным, а именно, что дискурсивное мышление не может постичь реальность. В то же время, как утверждает Брэдли в своих дополнительных заметках, если реальность есть целое, тотальность, она должна каким-то образом включать в себя и мышление.
Основные предпосылки метафизики.
В своём введении к «Явлению и реальности» Брэдли замечает, что «мы, возможно, согласимся представлять метафизику как попытку познать реальность в противоположность простому явлению, или как исследование первых принципов или последних истин, или даже как попытку понять реальность не только по частям или фрагментам, но в некотором смысле как целое». Большинство из нас, вероятно, согласится с его тезисом, что догматическое и априорное утверждение невозможности метафизики должно быть исключено из обсуждения. «И очевидно разумно сказать, что если мы собираемся пытаться понять реальность как целое, это должно быть сделано настолько полно, насколько позволит наша природа». Однако, учитывая сказанное в предыдущем разделе о недостатках дискурсивного мышления, может показаться странным, что Брэдли вообще готов предпринять такую попытку. Тем не менее, он настаивает, что рефлексивному рассудку свойственно желание понять реальность, и что даже если такое понимание в полном смысле недостижимо, ограниченное знание Абсолюта всё же возможно.
Если мы с самого начала определим метафизику как попытку познать реальность в противоположность явлению, то мы предполагаем, что такое различие действительно и имеет смысл. И если мы скажем, что метафизика есть попытка понять реальность как целое, мы допускаем, по крайней мере в качестве гипотезы, что реальность есть целое, что есть Единое в том же самом смысле. Но Брэдли вполне готов признать, что метафизика опирается на исходную гипотезу. «Философия требует того, что можно искренне назвать верой, и в конечном счёте на неё опирается. Можно сказать, что она должна предполагать заключение, чтобы доказать его».
Какова же точная содержательность этого исходного предположения, предпосылки или акта веры? В приложении, добавленном ко второму изданию «Явления и реальности», Брэдли говорит нам, что «реальная отправная точка и основа этой работы – предположение об истине и реальности. Я исходил из того, что объект метафизики – найти общее воззрение, которое удовлетворит рассудок, что всё, что способствует достижению этого воззрения, реально и истинно, и что то, что не служит этой цели, не является ни реальным, ни истинным. Эта доктрина, как я её вижу, не может быть ни доказана, ни оспорена».
Естественная интерпретация этого пассажа, взятого самого по себе, кажется следующей. Учёный предполагает, что существует ряд закономерностей, которые могут быть открыты в его области исследования. Иначе он никогда бы их не искал. И он должен предположить, что обобщения, удовлетворяющие его рассудку, истинны. Дальнейшие исследования могут заставить его изменить или отвергнуть свои выводы; но он не мог бы продвигаться, не сформулировав некоторых гипотез. Подобным образом, мы свободны заниматься метафизикой или нет, но если мы занимаемся ею, то неизбежно предполагаем, что «общее воззрение» на реальность возможно и, следовательно, что реальность как целое, в принципе, постижима. Мы также неизбежно предполагаем, что способны распознать истину, когда встречаем её. То есть, что общее воззрение, которого ищет рассудок, истинно и общезначимо. Потому что единственная мера различения между противоположными общими воззрениями, которой мы обладаем, – это выбор того, что наиболее адекватно удовлетворяет требованиям рассудка.
Эта точка зрения сама по себе вполне разумна. Но проблемы возникают, когда мы принимаем во внимание теорию Брэдли о недостатках дискурсивного мышления. И, возможно, неудивительно обнаружить несколько иную точку зрения. Так, в дополнительном примечании к шестой главе своих «Очерков об истине и реальности» Брэдли утверждает, что Единое, которое ищется в метафизике, достигается не просто процессом умозаключения, а дано в базовом опыте чувства. «Субъект, объект и отношение между ними переживаются как элементы или аспекты Единого, которое присутствует с самого начала». То есть на дорефлексивном уровне дан опыт, «в котором нет различия между моим сознанием и фактом, которого я сознаю. Знание начинается с непосредственного чувства, одновременного знания и бытия». На самом деле «ни на одной стадии интеллектуального развития не дана простая корреляция субъекта и объекта». Даже когда в сознании возникают различия и отношения, всегда остаётся основа «ощущаемой целостности».
Возможно, эта точка зрения совместима с предыдущей, хотя обычно никто не стал бы определять базовый непосредственный опыт как «предпосылку». В любом случае, тезис о существовании такого опыта позволяет Брэдли придать некоторое содержание идее Абсолюта, несмотря на недостатки дискурсивного мышления. Метафизика фактически есть попытка помыслить Единое, данное в предполагаемом опыте чувства. В определённом смысле такая попытка заранее обречена на провал. Поскольку мышление неизбежно реляционно. Но поскольку мышление способно распознавать «противоречия», возникающие, когда реальность мыслится как «множественность», как множество взаимосвязанных вещей, оно может увидеть, что мир здравого смысла и науки есть явление. И если мы спросим: «явление чего?», то отсылка к базовому опыту чувства целостности даёт нам, пусть смутное, понятие о том, чем должен быть Абсолют, последняя реальность. Мы не можем достичь ясного видения Абсолюта. Для этого мы должны были бы быть всеобъемлющим унифицированным опытом, который и составляет Абсолют. Мы должны были бы, так сказать, выйти из собственной кожи. Но мы можем иметь ограниченное знание Абсолюта, мысля его по аналогии с базовым чувственным опытом, который лежит в основе возникновения различий между субъектом и объектом и между различными объектами. В этом смысле рассматриваемый опыт можно считать смутным и виртуальным знанием реальности, которое является «предпосылкой» метафизики и которое метафизика пытается восстановить на более высоком уровне.
Иначе говоря, Брэдли принимает как истинное возражение, что метафизика исходит из собственных заключений, но не считает это возражением, а скорее разъяснением природы метафизики. Однако, учитывая важность темы, жаль, что он не развил этот тезис более широко. В данном случае он говорит о нескольких различных вещах, используя термины «предпосылка», «предположение», «вера» и «непосредственный опыт». И хотя эти способы выражения могут быть совместимы, их точный смысл ускользает от нас. Тем не менее, мы, вероятно, вправе подчеркнуть тезис Брэдли о существовании непосредственного опыта «ощущаемой множественности как единого», и что этот опыт даёт нам смутную идею о природе Абсолюта.
Явление: вещь и её качества, отношения и их термины, пространство и время, "я".
В силу природы предмета трудно дать позитивное описание предполагаемого дорефлексивного опыта чувства целостности или бесконечного акта опыта, который составляет Абсолют. Поэтому неудивительно, что Брэдли ограничивается демонстрацией того, что наши обычные способы концептуализации реальности приводят к противоречиям и не могут достичь «общего воззрения», способного удовлетворить интеллект. Однако мы не можем здесь вдаваться во все детали этой диалектики. Мы должны ограничиться указанием на некоторые её аспекты.
(I) Мы привыкли классифицировать содержание мира на вещи и качества; или, в схоластической терминологии, на субстанции и акциденции; или, как говорит Брэдли, на субстантивное и адъективное. Но хотя такой взгляд на реальность закреплён в языке и, несомненно, имеет практическую пользу, он, по утверждению Брэдли, порождает неразрешимые проблемы.
Рассмотрим, например, кусочек сахара, которому приписываются качества белизны, твёрдости и сладости. Говоря, что сахар бел, мы явно не хотим сказать, что он тождествен качеству белизны. Потому что если бы мы хотели сказать это, мы не могли бы сказать, что кусочек сахара твёрд, если только, фактически, нам не было бы всё равно отождествить белизну с твёрдостью. Естественно, следовательно, мыслить сахар как центр единства, субстанцию с несколькими качествами.
Однако, если мы попытаемся объяснить, чем является этот центр единства сам по себе, мы оказываемся в полной растерянности. И наше недоумение заставляет нас сказать, что сахар – не сущность с качествами, не субстанция, в которой находятся акциденции, а просто сами качества, связанные между собой. Так что же означает, например, что качество белизны связано с качеством сладости? Если, с одной стороны, быть в отношении к сладости – то же самое, что быть белым, то сказать, что белизна находится в отношении к сладости, означает просто, что белизна есть белизна. Если, с другой стороны, быть в отношении к сладости – нечто иное, чем быть белым, то сказать, что белизна находится в отношении к сладости, значит приписывать ей нечто отличное от неё самой, то есть нечто, чем она не является.
Брэдли, несомненно, не утверждает, что мы не должны говорить о вещах и их качествах. Его тезис состоит в том, что когда мы пытаемся объяснить теорию, имплицированную в этом практически полезном языке, мы обнаруживаем, что вещи растворяются в своих качествах, в то же самое время будучи неспособными дать удовлетворительное объяснение тому, как качества составляют вещь. Короче говоря: нельзя дать последовательного абстрактного объяснения ни теории субстанции и акциденции, ни феноменализма.
(II) Оставим теперь теорию субстанции и акциденции и ограничимся качествами и отношениями. Во-первых, мы можем сказать, что качества без отношений непостижимы. По одной причине: мы не можем мыслить качество, не концептуализируя его как обладающее отличительным характером и, следовательно, как отличное от других качеств. А это различие есть отношение.
Во-вторых, однако, качества, взятые вместе с их отношениями, также непостижимы. С одной стороны, качества не могут быть полностью сведены к своим отношениям. Потому что отношения требуют терминов. Качества должны быть носителями отношений, которые между ними имеют место, и в этом смысле можно сказать, что качества создают свои собственные отношения. С другой стороны, определённое отношение создаёт различие в том, к чему оно относится. Таким образом, мы можем сказать только, что качества есть то, что они есть, благодаря своим отношениям. Качество должно быть «одновременно условием и результатом». Но невозможно дать удовлетворительное объяснение такой парадоксальной ситуации.
Если мы изучим вопрос с точки зрения отношений, мы можем сразу сказать, что они непостижимы без качеств. Поскольку отношения должны относить одни термины к другим. Но мы также должны сказать, что отношения непостижимы даже при рассмотрении вместе с их терминами, то есть качествами. Поскольку отношение либо есть ничто, либо должно быть чем-то. Если оно ничто, оно не может ничего соотносить. Но если оно есть нечто, оно должно быть связано с каждым из своих терминов посредством другого отношения. И так мы попадаем в бесконечный ряд отношений.
Схоластически настроенный читатель, столкнувшись с этим искусным образцом диалектики, возможно, почувствует желание указать, что отношение не есть «сущность» той же самой логической категории, что и его термины, и что бессмысленно говорить, что оно должно быть связано со своими терминами посредством других отношений. Но Брэдли, конечно, не пытается сказать, что разумно говорить об отношениях, относя их к их терминам. Его тезис состоит в том, что они должны быть отнесены или они ничто, и что обе возможности неприемлемы. И его вывод: «любая форма реляционного мышления – любая, которая действует посредством механизма терминов и отношений – должна давать отчёт о явлении, а не об истине. Это временное средство, искусственный приём, чисто практическое соглашение, очень необходимое, но в конечном счёте очень трудное для поддержания».
Прямо сказать, что мышление, использующее категории терминов и отношений, не даёт нам истины, кажется преувеличением даже в рамках предпосылок Брэдли. Потому что, как будет видно далее, Брэдли излагает теорию степеней истины, теорию, не допускающую простого различия между истиной и заблуждением. Однако ясно, что он хочет сказать, что реляционное мышление не может дать нам Истину с большой буквы. То есть, оно не может раскрыть природу реальности в противоположность явлению. Поскольку если понятие отношений и их терминов порождает неразрешимые проблемы, такой тип мышления не может служить инструментом для достижения «общего воззрения», которого ищет рассудок.
Позицию Брэдли можно прояснить следующим образом. Говорят, что Брэдли отрицает внешние отношения и признает только внутренние. Однако это утверждение может ввести в заблуждение. Безусловно, согласно Брэдли, все отношения создают различие между своими терминами. В этом смысле они являются внутренними. В то же время их нельзя просто отождествлять с терминами, которые они связывают. И в этом смысле они не только могут, но и должны быть внешними отношениями, хотя, конечно, не может существовать отношения, которое бы существовало совершенно самостоятельно и для которого было бы чисто случайным – связывать термины или нет. Поэтому Брэдли может сказать: «Я не могу понять внешние отношения, если они должны быть абсолютными, если только их не интерпретировать как необходимую альтернативу, предполагаемую при отрицании внутренних отношений. Но мне кажется несостоятельной сама дилемма "либо внешние, либо внутренние отношения"».
Однако именно отказ от дилеммы «или-или» и утверждение «и» дает Брэдли основание для критики реляционного мышления. Отношения не могут быть внешними в абсолютном смысле. Но они также не могут быть полностью внутренними, полностью слитыми со своими терминами. И трудность сочетания обеих точек зрения приводит Брэдли к выводу, что реляционное мышление имеет дело со сферой явления, а конечная реальность, Абсолют, должен быть надреляционным.
(III) Брэдли замечает, что тот, кто понял главу «Явления и реальности» об отношении и качестве, «должен был увидеть, что наш опыт, если он реляционен, не истинен; и он почти без слушания осудил бы огромную массу явлений». Поэтому нет необходимости много говорить о его критике пространства, времени, движения и причинности. Для иллюстрации его образа мысли достаточно обратиться к его критике пространства и времени.
С одной стороны, пространство не может быть просто отношением. Потому что все пространство должно состоять из частей, которые сами являются пространствами. И если бы пространство было просто отношением, нам пришлось бы абсурдным образом утверждать, что пространство есть не что иное, как отношение между различными пространствами. С другой стороны, однако, пространство неизбежно разрешается в отношения и не может быть ничем иным. Поскольку пространство бесконечно дифференцировано внутренне: оно состоит из частей, которые, в свою очередь, состоят из частей, и так до бесконечности. И такие дифференциации явно являются отношениями. Но когда мы ищем термины этих отношений, их невозможно найти. Таким образом, понятие пространства, поскольку оно порождает противоречия, должно быть отнесено к сфере явления.
Аналогичная критика применяется к понятию времени. С одной стороны, время должно быть отношением, а именно отношением между «до» и «после». С другой стороны, оно не может им быть. Если это отношение между единицами, не имеющими длительности, «тогда все время не имеет длительности и не является временем». Если же, с другой стороны, время есть отношение между единицами, которые сами обладают категорией длительности, то такие единицы на самом деле не могут быть таковыми, а растворяются в отношениях. И терминов нет. Можно было бы сказать, что время состоит из «теперь». Но поскольку понятие времени включает идеи «до» и «после», неизбежно вводится различие в «теперь», и игра начинается снова.
(IV) Некоторые, указывает Брэдли, не видят ничего плохого в том, чтобы отнести внешний пространственно-временной мир к сфере явления, но уверяют нас, что по крайней мере «я» реально. Сам Брэдли, однако, убежден, что идея «я» ставит не менее неразрешимые проблемы, чем идеи пространства и времени. Очевидно, что «я» существует в некотором смысле. Но как только мы начинаем спрашивать о природе «я», мы сразу видим, насколько малую ценность может иметь спонтанное убеждение людей, которые уверены, что прекрасно знают, что означает этот термин.
С одной стороны, невозможен феноменалистский анализ «я». Если мы попытаемся отождествить «я» определенного человека с актуальным содержанием его опыта, наше утверждение будет совершенно несовместимо с обычным употреблением слова «я». Потому что очевидно, что мы говорим о «я» как о чем-то, имеющем прошлое и будущее и, следовательно, длящемся за пределами настоящего момента. Но если мы попытаемся найти относительно устойчивое «я», отличая относительно постоянное средоточие физических состояний человека от явно преходящих состояний, мы обнаружим, что невозможно сказать, где кончается существенное «я» и где начинается случайное «я». Мы сталкиваемся с «загадкой без ответа».
С другой стороны, если мы оставим феноменализм и поместим «я» в постоянное единство или монаду, мы снова сталкиваемся с неразрешимыми проблемами. Если все изменчивые состояния сознания должны быть приписаны этому единству, то в каком смысле его можно называть единством? И как следует определять личную идентичность? Если же, наоборот, единство или монада определяются как основа таких изменчивых состояний, «то называть ее "я" человека – просто насмешка». Было бы абсурдно отождествлять человеческое «я» с чем-то метафизического порядка.
Вывод Брэдли состоит в том, что «"я", несомненно, является высшей формой опыта, который мы имеем, но именно поэтому оно не является истинной формой». Ранние идеалисты, возможно, считали отношение субъект-объект прочной скалой, на которой можно построить философию реальности, но, по мнению Брэдли, субъект не в меньшей степени, чем объект, должен быть отнесен к сфере явления.
7. Реальность: природа Абсолюта.
Для Брэдли реальность едина. Дробление реальности на конечные вещи, связанные отношениями, принадлежит сфере явления. Но сказать, что нечто есть явление, не значит отрицать его существование. «То, что является, тем самым с большей определенностью существует, и нет возможности изгнать его из бытия». Более того, поскольку явления существуют, они должны быть включены в реальность: существуют реальные явления. Действительно, «реальность, отделенная и отличная от всякого явления, конечно, не была бы ничем». Иными словами, Абсолют есть целостность своих явлений: это не некая дополнительная сущность, стоящая за ними.
В то же время явления не могут существовать в Абсолюте как таковые. То есть они не могут существовать в Абсолюте как таковые, не порождая противоречий или антиномий. Поскольку целостность, которую ищет метафизика, должна быть такой, чтобы полностью удовлетворять интеллект. Таким образом, в Абсолюте явления должны преобразовываться и гармонизироваться так, чтобы не оставалось никакого противоречия.
Чем должен быть Абсолют, или реальность, чтобы такое преобразование явлений было возможным? Брэдли отвечает, что он должен быть бесконечным актом опыта, и более того, чувствующего (sentient) опыта. «Бытие и реальность, короче говоря, суть одно и то же с чувствительностью; они не могут быть противопоставлены ей или даже, в конечном счете, отличены от нее». Более того, «Абсолют есть система, и его содержание есть не что иное, как чувствующий опыт. Он будет, таким образом, простым опытом, который включает все и охватывает в гармонии каждое из частичных различий».
Использование термина «чувствующий опыт», конечно, не следует интерпретировать в том смысле, что, по мнению Брэдли, Абсолют может быть отождествлен в видимой вселенной как нечто, одушевленное своего рода «мировой душой». Абсолют есть дух. «Таким образом, мы можем честно завершить эту работу, настаивая на том, что реальность духовна… Вне духа нет и не может быть никакой реальности, и что угодно, чем более оно духовно, тем более истинно реально».
Однако мы вполне можем спросить, что Брэдли имеет в виду, когда говорит, что реальность духовна, и совместимо ли это утверждение с определением реальности как чувствующего опыта. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к его теории опыта чувства или чувствующего опыта, в котором еще не возникло различие между субъектом и объектом, с сопутствующим отделением идеального содержания от того, о чем оно высказывается. На уровне человеческой рефлексии и мышления это базовое единство – ощущаемая целостность – растворяется, и вводится внешность. Мир множественности предстает как внешний по отношению к субъекту. Но мы можем представить возможным опыт, в котором непосредственность чувства, первоначального чувствующего опыта, так сказать, восстанавливается на более высоком уровне, уровне, на котором полностью прекращается внешность соотносимых терминов, таких как субъект и объект. Абсолют, таким образом, не является чувствующим опытом в смысле того, что он находится ниже мышления и является дореляционным: он находится выше мышления и является надреляционным, включая в себя мышление, преобразованное таким образом, что его внешность по отношению к бытию преодолена.
Таким образом, когда Абсолют определяется как чувствующий опыт, термин используется по аналогии. «Чувство, как мы видели, дает нам позитивную идею нереляционного единства. Идея несовершенна, но достаточна для того, чтобы служить позитивной основой» – то есть позитивной основой для концептуализации конечной реальности. И реальность, или Абсолют, могут быть должным образом определены как духовные, поскольку дух определяется как «единство множественности, в котором полностью прекратилась внешность множественности». В человеческом уме мы находим объединение множественности; но внешность множественности никоим образом не прекратилась полностью. Таким образом, человеческий ум лишь несовершенно духовен. «Чистый дух реализуется только в Абсолюте».
Важно понимать, что, определяя Абсолют как духовный, Брэдли не хочет сказать, что он является духом, «я». Поскольку Абсолют есть свои преобразованные явления, он должен включать в себя все элементы, так сказать, самости. «Все элементы вселенной: ощущение, чувство, мысль и воля должны быть включены в исчерпывающую чувствительность». Но было бы совершенно ошибочно применять к бесконечной вселенной такой термин, как «я», который подразумевает конечность, ограниченность. Абсолют надличен, а не недо-личен; но он не является личностью и не должен определяться как личностное существо.
Иначе говоря, Абсолют – это не низшая чувствующая жизнь, находящаяся ниже сознания. Но сознание подразумевает внешность, и хотя оно должно быть включено в Абсолют, оно должно быть преобразовано таким образом, чтобы перестать быть тем, чем оно кажется нам. Таким образом, мы не можем должным образом сказать, что Абсолют сознателен. Все, что можно сказать, это то, что он одновременно включает и превосходит сознание.
Что касается личного бессмертия, Брэдли признает, что оно возможно. Но он считает, что будущую жизнь «следует решительно считать маловероятной». Очевидно, он в нее не верит, хотя его больше интересует утверждение, что вера в личное бессмертие не нужна ни для морали, ни для религии. Конечно, конечное существо, как явление Абсолюта, должно быть включено в него. Но оно включается лишь как нечто преобразованное. И ясно, что требуемое преобразование таково, что, по мнению Брэдли, утверждение о личном бессмертии конечного «я» было бы совершенно неадекватным.
8. Степени истины и реальности.
Абсолют, таким образом, есть все свои явления, каждое из них; но «он не есть все явления в равной степени, а одни из них реальнее других». То есть определенные явления теряют свою всеобъемлющость и самосогласованность менее легко, чем другие. Таким образом, первые должны претерпеть меньшее изменение, чем последние, чтобы вписаться в гармоничную, всеобъемлющую и самосогласованную систему, которая составляет реальность. «И это мы понимаем под степенями истины и реальности».
Критериями истины являются последовательность и исчерпывающая полнота. «Истина есть идеальное выражение вселенной, одновременно последовательное и исчерпывающее. Она не должна противоречить самой себе, и не может быть ничего, что не было бы в ней. Совершенная истина, короче говоря, должна реализовать идею систематического целого». Мышление, как говорит Брэдли, отделяет «что» от «этого». Мы пытаемся восстановить единство идеального содержания и бытия, переходя от частных суждений, порожденных восприятием, ко все более исчерпывающим описаниям вселенной. Наша цель, таким образом, – полное постижение вселенной, в котором частичная истина оказывается внутренне, систематически и гармонично связанной с каждой другой частичной истиной, образуя в целом последовательную целостность.
Однако эта цель недостижима. Невозможно сочетать исчерпывающую полноту с постижением всех единичных фактов. Поскольку чем шире и исчерпывающе наша реляционная схема, тем более абстрактной она будет: ячейки сети расширятся, и единичные факты проскользнут сквозь нее. Более того, реляционное мышление, как мы видели, никоим образом не может постичь реальность такой, какова она есть, то есть как полностью последовательную и исчерпывающую целостность. «Не существует возможной реляционной схемы, которая, на мой взгляд, была бы в конечном счете истинной… Я уже давно дал понять (по крайней мере, так я считаю), что для меня никакая истина в конечном счете не является полной истиной…».
Теперь, если мы поймем, что для Брэдли нормой, по которой мы должны измерять степени истины, является идеальная истина, постоянно ускользающая от нашего постижения, может показаться, что у нас не останется никакой нормы или критерия, применимого на практике. Но мысль Брэдли, по-видимому, развивается следующим образом: «Критерий истины, сказал бы я, как и критерий чего бы то ни было еще, в конечном счете есть удовлетворение желания нашей природы». Мы заранее не знаем, что удовлетворяет интеллект. Но используя его в попытке понять мир, мы обнаруживаем, что нас удовлетворяет последовательность и исчерпывающая полнота, насколько мы способны их обнаружить. Это, таким образом, является целью, к которой мы стремимся, идеальной целью совершенной последовательности и исчерпывающей полноты. Но чтобы различать степени истины, не обязательно достигать этой цели. Поскольку изучение степеней удовлетворения, которые мы испытываем в нашей реальной попытке понять мир, позволит нам отметить различия между степенями истины.
9. Заблуждение и зло.
Если Абсолют есть свои явления, то в некотором смысле он должен быть или содержать заблуждение и зло. И хотя Брэдли не претендует на то, чтобы объяснить, как именно они преобразуются в Абсолюте, он, во всяком случае, считает своим долгом показать, что они не являются позитивно несовместимыми с его теорией конечной реальности.
Рассуждения Брэдли относительно заблуждения вытекают из его теории степеней истины. Если неразбавленная истина, так сказать, отождествляется с полной истиной, всякая частичная истина должна быть заражена определенной степенью заблуждения. Иными словами, всякое резкое различие между истиной и заблуждением исчезает. Ложное суждение не составляет особого вида суждения. Все человеческие суждения суть явления, и все они преобразуются в Абсолюте, хотя некоторые требуют более радикального преобразования, чем другие. Преобразование тех, которые мы называем ложными суждениями, таким образом, не требует специального рассмотрения. Это просто вопрос степени.
Что касается зла как боли и страдания, Брэдли намекает, что оно существует как таковое в бесконечном акте опыта, который составляет Абсолют. Возможность этого может быть в некоторой степени проверена в области нашего собственного опыта, где небольшая боль может быть, так сказать, поглощена или нейтрализована интенсивным удовольствием. Такое предположение вряд ли станет большим утешением для страдающего конечного существа; но Брэдли, логично, не хочет представлять Абсолют как лежащее в основе страдание.
Говоря о моральном зле, Брэдли прибегает к интерпретации, на которую мы уже ссылались. Моральное зло в некотором смысле является условием морали, поскольку моральная жизнь состоит в преодолении низшего «я». Но мораль, как мы видели, стремится превзойти саму себя. И в Абсолюте она более не существует как таковая. Абсолютный опыт превосходит моральный порядок, и моральное зло в нем бессмысленно.
10. Абсолют, Бог и религия.
Можно ли должным образом назвать Абсолют Брэдли «Богом»? Ответ Брэдли достаточно ясен: «для меня Абсолют – не Бог». Очевидно, что если мы понимаем под Богом просто конечную реальность без дальнейшей спецификации, то Абсолют был бы Богом. Но Брэдли имеет в виду понятие Бога как личностного существа и не собирается позволять, чтобы личность могла быть приписана Абсолюту. Конечно, называть Абсолют безличным было бы двусмысленно, поскольку это указывало бы на то, что Абсолют недо-личен. На самом деле, личность должна быть содержащейся в реальности таким образом, чтобы Абсолют не мог быть менее чем личностным. Но будучи так содержащейся в реальности, личность преображается настолько, что невозможно говорить об Абсолюте как о личностном, «если термин "личностный" понимать в его обычном смысле». Реальность «не личностна, потому что она личностна и более чем личностна. Она, одним словом, надличностна».
Некоторые теистические философы, несомненно, сказали бы, что они приписывают личность Богу в аналогическом, а не, как, по-видимому, считает Брэдли, в однозначном смысле. Как предикат Бога, термин «личностный» не подразумевает конечность или ограниченность. Но именно этот вид рассуждений отвергает Брэдли. Согласно ему, теистические философы начинают с желания удовлетворить требованиям своего религиозного сознания; то есть они хотят прийти к выводу, что Бог личностен, существо, которому человек может молиться и которое может слышать молитвы людей. Но затем они продолжают аргументацию таким образом, что постепенно устраняют из понятия личности все, что придает ему конкретное содержание или имеет для нас смысл. И должный вывод такого рассуждения состоит в том, что Бог не личностен, а надличностен, выше личности. Тем не менее, вывод, который эти философы фактически утверждают, – это вывод, к которому они хотят прийти, а не тот, который следует из их фактически представленной аргументации. Дело не в том, что они намеренно нечестны, а скорее в том, что они берут слово, имеющее определенный смысловой диапазон при применении к людям, опустошают его от содержания, а затем воображают, что могут применить его к Богу, не теряя его смысла. Фактически, если мы в принципе признаем, что такие термины, как «личностный», не могут применяться к Богу в том смысле, который они обычно имеют в нашем языке, мы создаем пропасть между личностью и Богом. «И эту пропасть нельзя преодолеть, прибегая к скользкому расширению слова. Единственный результат – создать туман, из которого можно сказать, что находишься по обе стороны одновременно. И я отказываюсь способствовать росту этого тумана».
Однако проблема не только в том, следует ли называть Бога личностным или надличностным. Не следует забывать, что Абсолют Брэдли есть свои явления. Это преобразованная вселенная. Таким образом, если мы понимаем под Богом существо, которое трансцендентно миру таким образом, что не может быть отождествлено с ним, очевидно, что Бог и Абсолют не могут быть одним и тем же. Мы могли бы назвать Абсолют «Богом». Но аргумент Брэдли состоит в том, что этот термин уже имеет в обычном языке иной смысл, чем термин «Абсолют». Таким образом, их отождествление ведет к путанице. И в защиту ясности и интеллектуальной честности предпочтительнее сказать, что Абсолют – это не «Бог».
Эта точка зрения влияет на мнение Брэдли о религии. Если мы исходим из того факта, что для религиозного сознания Бог есть существо, отличное от внешнего мира и конечного «я», мы можем прийти только к выводу, что такое сознание заключает в себе противоречие. С одной стороны, оно понимает Бога как единственную истинную реальность. И в этом случае Бог должен быть бесконечным. С другой стороны, оно понимает Бога как нечто отличное от множественности творения и, следовательно, как существо, пусть и величайшее, среди многих других. И в этом случае Бог должен быть конечным, ограниченным. «Если поэтому, говоря о религии, мы думаем о ее понятии конечной реальности, мы вынуждены сказать, что она принадлежит сфере явления и что, подобно тому как мораль становится религией, религия становится метафизикой Абсолюта. Если Абсолют отождествляется с Богом, то речь идет не о Боге религии… Вне Абсолюта Бог не может оставаться неизменным, и, достигнув этой цели, Бог теряется, а с ним и религия».
Тем не менее, Брэдли выражает и другую точку зрения. Сущность религии, говорит он, не в знании. И не в чувстве. «Религия, скорее, есть попытка выразить полную реальность блага через все аспекты нашего существа. И, следуя этим путем, она одновременно больше и выше философии». «Точный смысл такого определения религии, возможно, не сразу очевиден; но в любом случае ясно, что речь не идет о том, чтобы религия как таковая превращалась в метафизику. Религия может быть явлением, но философия тоже явление. И совершенство каждой из них может быть найдено только в Абсолюте». Очевидно из сказанного, что Брэдли никоим образом не хочет, подобно некоторым более ранним британским идеалистам, использовать метафизику для поддержки христианской религии. Но столь же очевидно, что он не разделяет возвышенной уверенности Гегеля в силе спекулятивной философии.
В заключение мы можем кратко упомянуть мимолетное замечание Брэдли о необходимости новой религии и нового религиозного вероучения. Очевидно, он не верит, что метафизика может оправдать христианство, как считал Гегель. Действительно, Брэдли, несомненно, счел бы ошибочным применение имени христианства к «абсолютной религии», как ее понимал Гегель. В то же время, возможно, было бы возможно иметь «религиозное вероучение, основанное на чем-то отличном от метафизики, и метафизику, которая каким-то образом могла бы оправдать такое вероучение… Хотя я и не надеюсь увидеть это осуществленным и хотя препятствия на этом пути, несомненно, велики, с другой стороны, я не считаю это невозможным».
11. Некоторые возражения против метафизики Брэдли.
В предисловии к «Явлению и реальности» Брэдли цитирует из своей записной книжки следующий афоризм: «Метафизика есть нахождение плохих причин для того, во что мы верим по инстинкту, но найти такие причины само по себе есть инстинкт». Это замечание, очевидно, не пытается отрицать мнение, выраженное в том же предисловии, что «метафизик, возможно, не может относиться к метафизике слишком серьезно», при условии, что в любом случае он признает ограниченность метафизики и не преувеличивает ее важность. Сам Брэдли серьезно относится к своему аргументу, что «главное требование английской философии – это, я считаю, скептическое изучение первых принципов… усилие осознать все предпосылки и поставить их под сомнение». Этот элемент скептицизма, «результат труда и образования», представлен диалектикой явления, критикой обычных форм мышления. В то же время элемент веры «по инстинкту» представлен явным утверждением Брэдли, на которое мы уже ссылались, что метафизика опирается на базовое предположение или предпосылку, или исходный акт веры, и всей теорией Абсолюта как полностью самосогласованной и исчерпывающей целостности.
Этот элемент веры «по инстинкту» занимает видное место в развитии метафизики Брэдли. Рассмотрим, например, теорию преобразования явлений в Абсолюте. Теория, конечно, не имеет эсхатологического характера. То есть Брэдли не хочет сказать, что в какую-то будущую апокалиптическую дату феномены, порождающие противоречия или антиномии, должны претерпеть преобразование. Он говорит, что они существуют здесь и сейчас в Абсолюте с существованием, отличным от того, которое мы видим. Совершенно гармоничный и всеобъемлющий опыт, составляющий Абсолют, есть настоящая реальность, а не просто нечто, что произойдет в будущем. Однако Брэдли не претендует на то, чтобы объяснить, в чем именно состоит такое преобразование. Он переходит от возможности к реальности. Можно показать, например, что преобразование заблуждения не невозможно; а если оно не невозможно, то возможно. И если возможно, то реально. «Потому что то, что возможно и что мы вынуждены утверждать как должное в силу общего принципа, несомненно, есть».
Тот же аргумент используется для объяснения преобразования боли. Мы склонны думать как реальное то, что одновременно возможно и необходимо. Точно так же о преобразовании морального зла Брэдли говорит, что «если оно возможно, тогда, как и прежде, оно, несомненно, реально». Более того, «"это" и "мое" теперь поглощены, как элементы, нашим Абсолютом. Потому что их разрешение должно быть и может быть, и, следовательно, несомненно, есть». В качестве последнего примера мы можем сослаться на преобразование конечных центров сознания, которое «явно реально, потому что согласно нашему принципу оно необходимо и потому что, опять же, нет оснований сомневаться в его возможности».
Очевидное возражение против этого способа аргументации состоит в том, что едва ли можно знать, что требуемое преобразование возможно, если мы не способны показать, как оно может произойти. Например, как мы можем законно утверждать, что конечные центры сознания могут существовать как элементы бесконечного абсолютного опыта без дисгармонии или «противоречия», если мы не способны показать, что они могут так существовать? Действительно, недостаточно сказать, что никто не может доказать невозможность нашего тезиса. В конечном счете, возникает значительная проблема, по крайней мере на первый взгляд, в понимании того, как конечные центры сознания могут существовать как элементы гармоничного и единого опыта. Бремя доказательства лежит на тех, кто утверждает, что это возможно, а не на тех, кто говорит, что это не так.
Можно ответить, что, поскольку Брэдли считает, что реальность есть бесконечный, самосогласованный и всеобъемлющий опыт, и что явления реальны, а не просто иллюзорны, он также должен верить, что требуемое преобразование явлений не только возможно, но и реально. Это совершенно верно. Но факт в том, что Брэдли чувствует себя вынужденным прийти к такому выводу только из-за исходного предположения, предпосылки или гипотезы о реальности. Диалектика явления не доказывает гипотезу. Конечно, устранение субстанции, субстанциальности, – это искусный прием, чтобы указать, что все конечные существа суть прилагательные единой реальности. Но критика субстанции Брэдли, в свою очередь, подвержена критике. И в любом случае, факт, если это факт, что обычные формы концептуализации реальности порождают противоречия и антиномии, сам по себе не доказывает, что реальность есть самосогласованное целое. Поскольку реальность могла бы быть именно тем, что раскрывает диалектика, а именно несогласованной. Если мы продолжаем утверждать, что реальность, в отличие от явления, есть последовательное целое, то это потому, что мы уже решили, что реальность должна иметь такую природу. Не очень помогает апелляция к первичному чувственному опыту «ощущаемой целостности». Идея такого опыта действительно может служить аналогом для концептуализации Абсолюта. Но вряд ли можно сказать, что она доказывает необходимость постулирования Абсолюта, как его понимает Брэдли.
Конечно, мысль Брэдли может быть представлена правдоподобным образом. Если мы пытаемся понять реальность, мы должны предположить, что реальность познаваема. Таким образом, мы должны признать, что реально то, что удовлетворяет требованиям интеллекта. Представление реальности, полное самопротиворечий, не удовлетворяет интеллект. Мы должны, следовательно, заключить, что в реальности, в отличие от явления, все противоречия преодолены. И в конечном счете это означает, что мы должны принять теорию совершенно гармоничной и всеобъемлющей целостности: Абсолюта.
Но хотя логично утверждать, что никакое объяснение реальности, в котором есть противоречия, не может быть принято как истинное, отсюда явно не следует, что мы должны принять аргумент Брэдли о том, что обычные и научные формы концептуализации реальности действительно противоречивы. Конечно, определенные понятия, такие как пространство, время и «я», на протяжении многих веков ставили перед философами проблемы или загадки. Но что понятия внутренне противоречивы, не может заставить нас принять вывод, что проблемы неразрешимы, если мы заранее не верим, что реальность отлична от того, как она нам является.
Более того, когда Брэдли утверждает что-то об Абсолюте, его утверждения могут ставить столько же проблем, сколько, скажем, понятие вечного «я». Например, он сказал нам, что «Абсолют не имеет собственной истории, хотя содержит бесчисленные истории… Абсолют не имеет сезонов, но одновременно несет свои листья, плоды и цветы». Теперь, если бы Абсолют Брэдли был трансцендентным, мы могли бы понять утверждение, что у него нет собственной истории. Но, согласно ему, явления Абсолюта внутренне присущи ему: нет ничего помимо них. Таким образом, история, изменение, развитие внутренне присущи ему. Но в то же время «он не имеет сезонов». Тезис, конечно, состоит в том, что это изменение «преобразуется» в Абсолюте. Но если оно преобразуется таким образом, что перестает быть тем, что мы называем изменением, трудно понять, как Абсолют может содержать бесчисленные истории. А если изменение не преобразуется так, чтобы перестать быть изменением, трудно понять, как Абсолют не имеет истории. Потому что, повторим, Абсолют есть свои явления.
Очевидный ответ на такую критику состоит в том, что не следует ожидать от метафизики совершенной последовательности. Поскольку, принимая во внимание интерпретацию Брэдли недостатков человеческого мышления, с необходимостью следует, что любое понятие Абсолюта, которое мы можем сформировать, принадлежит сфере явления. Действительно, вся метафизика есть явление. И Брэдли не колеблется признать это. Как мы видели, Брэдли заявляет, что философия, как и религия, достигает своего совершенства в Абсолюте. То есть философия есть явление, которое, преобразованное, включено в бесконечный опыт, составляющий Абсолют, но которое недостижимо для нас. Не следует удивляться, поэтому, если метафизические утверждения сами по себе не достигают идеала самосогласованности.
Это вполне верно. Но это лишь добавляет веса аргументу, что, в конечном счете, утверждение Абсолюта у Брэдли основывается на исходном акте веры. В конечном счете, решающим является «должно быть». Для скептической мысли Брэдли все построения человеческого мышления, включая метафизику Абсолюта, должны быть отнесены к сфере явного. Брэдли действительно говорит о степенях истины. И он убежден, что метафизика Абсолюта истиннее, чем, например, идея реальности, состоящей из множества отдельных вещей, связанных отношениями. Но это не мешает спекулятивной философии быть явлением, а не тождественной абсолютному опыту. Как уже отмечалось, Брэдли не разделяет уверенного «рационализма» Гегеля. Таким образом, мы можем сказать, что его скептицизм распространяется даже на метафизику, как, собственно, и указывает цитированный в начале этого раздела афоризм. Однако такой скептицизм сочетается с твердой верой в то, что реальность сама по себе, превосходя нашу способность понимания, есть исчерпывающая и совершенно гармоничная целостность, вечный опыт, который все объемлет и сам по себе совершенно последователен.
Неудивительно, что современные британские философы, писавшие о Брэдли, как правило, концентрировали свой интерес на проблемах, которые он ставит относительно обычных форм мышления, и довольно поверхностно относились к его теории Абсолюта. Одна из причин этого может заключаться в том, что логические проблемы, поставленные Брэдли, часто могут рассматриваться сами по себе, безотносительно к какому-либо акту веры в Единое, и в принципе могут быть окончательно решены. Например, чтобы решить, верно ли, что пространство не может и в то же время должно быть отношением или множеством отношений, нет необходимости обсуждать преобразование пространства в Абсолюте. Что нам нужно, так это прежде всего прояснить значение или значения «пространства». Более того, если мы рассмотрим тезис Брэдли о том, что понятие отношения противоречиво, поскольку, с одной стороны, все отношения устанавливают различие между своими соответствующими терминами и, следовательно, должны быть внутренними для них; в то время как, с другой стороны, они должны быть в некотором смысле между терминами и связывать их и, таким образом, быть внешними для них, мы сталкиваемся с проблемой с надеждой решить ее, если мы готовы к требуемым разъяснительным анализам. Мы можем понять, что означает тезис Брэдли и на какие вопросы нужно ответить, чтобы заключить, истинен он или нет.
В то же время ясно, что упускается из виду то, что мы могли бы назвать сущностным Брэдли, если рассматривать «Явление и реальность» просто как карьер различных логических проблем. Потому что философ, несомненно, человек, одержимый идеей Абсолюта, полностью самосознательной и всеобъемлющей целостности. И нетрудно понять, что его философия вызвала интерес у индийских мыслителей, не оставивших своих собственных традиций индуистской спекуляции, и у некоторых западных философов, проявляющих первоначальную симпатию к такому типу спекуляции. Потому что, в любом случае, есть определенное сходство между спекулятивной теорией Брэдли и индуистской доктриной Майи, феноменального мира, скрывающего единственную истинную реальность. Очевидно, что и Брэдли, и рассматриваемые индийские философы сталкиваются с одной и той же проблемой, а именно, что любое понятие конечной реальности, которое мы можем иметь, должно принадлежать миру явления. Но их исходные «видения» схожи, и это видение, которое может оказывать мощное притяжение на определенные умы. Возможно, что нам нужно, так это серьезное исследование оснований такого исходного видения или вдохновения, исследование, которое не было бы доминируемо априорной гипотезой, что то, что Брэдли утверждает как предпосылку или акт веры, должно быть лишено объективной ценности. Это исследование, имеющее значительную важность в отношении оснований спекулятивной метафизики.
Абсолютный идеализм: Бозанкета
1. Жизнь и труды.
Брэдли был одиночкой. Совершенно противоположное можно сказать о другом представителе абсолютного идеализма в Англии: Бернарде Бозанкете (1848-1923). После учебы в Баллиол-колледже Оксфорда, где он попал под влияние Т. Х. Грина и Р. Л. Неттлшипа, он был избран феллоом Юниверсити-колледжа Оксфорда в 1871 году. Но в 1881 году он переехал в Лондон с намерением посвятить себя не только писательству, но и участию в движении образования для взрослых, которое тогда только начиналось, а также общественной работе. С 1903 по 1908 год он занимал кафедру моральной философии в Университете Сент-Эндрюс.
Бозанкет был плодовитым автором. В 1883 году появился его очерк «Логика как наука о познании» в «Очерках философской критики», отредактированных А. Сетом и Р. Б. Холдейном. «Познание и реальность» были опубликованы в 1885 году, а «Логика, или Морфология познания» в двух томах появилась в 1888 году. За ними последовали в короткий промежуток времени «Очерки и речи» (1889), «История эстетики» (1892, 2-е издание 1904), «Цивилизация христианского мира и другие исследования» (1893), «Спутник "Государства" Платона» (1895), «Основы логики» (1895) и «Психология нравственного "я"» (1897). В 1899 году Бозанкет опубликовал, пожалуй, свою самую известную книгу: «Философская теория государства». В 1912 и 1915 годах соответственно появились две серии лекций, прочитанных в качестве лекций Гиффорда: «Принцип индивидуальности и ценности» и «Ценность и судьба индивида». Среди других публикаций можно упомянуть: «Различие между умом и его объектами» (1913), «Три лекции по эстетике» (1915), «Социальные и международные идеалы» (1917), «Некоторые предложения по этике» (1918), «Импликация и линейный вывод» (1920), «Что есть религия?» (1920), «Встреча крайностей в современной философии» (1921) и «Три главы о природе ума» (1923).
Несмотря на эту долгую литературную деятельность, Бозанкета, как правило, забывали, и по сравнению с Брэдли его редко упоминают в наши дни, разве что в связи с определенным типом политической теории. Объяснением могло бы быть то, что Бозанкет – мыслитель менее ясный и менее парадоксальный, чем Брэдли. Однако, по-видимому, более важным фактором является убеждение, что, помимо политической и эстетической теории, он не говорит много больше, чем можно найти в трудах его более известных современников. Действительно, в 1920 году Бозанкет писал одному итальянскому философу, что со времени публикации «Этических исследований» в 1876 году он считал Брэдли своим учителем. Но это скромное указание едва ли соответствует фактам. Например, Бозанкет резко критиковал работу Брэдли «Принципы логики», исходя из принципа, что она открывает пропасть между мышлением и реальностью. И Брэдли признал свой долг перед идеями Бозанкета относительно материала, добавленного ко второму изданию «Принципов логики». Что касается «Явления и реальности», то оно глубоко повлияло на Бозанкета; но хотя он, как и Брэдли, был монистом, он развил собственную метафизику, которая в некоторых аспектах была ближе к гегельянству. Он был убежден в истинности принципа Гегеля, что разумное действительно, а действительное разумно, и не разделял явных скептических склонностей Брэдли.
2. Логика: суждение и реальность.
В определенном смысле, говорит Бозанкет, верно, что мир для каждого индивида есть его мир, поток его сознания, состоящий из его восприятий. «Реальный мир каждого индивида изначально есть его мир: расширение и определение его актуального восприятия, которое для него фактически не есть реальность как таковая, а его точка соприкосновения с реальностью как таковой». То есть следует различать поток сознания как ряд психических феноменов и «интенциональное» сознание, поскольку оно представляет систему взаимосвязанных объектов. «Сознание есть сознание мира лишь постольку, поскольку оно представляет систему, совокупность объектов, взаимодействующих друг с другом и, следовательно, независимых от присутствия или отсутствия сознания, которое их представляет». Мы должны также различать наш объективный мир и творения нашего воображения. Таким образом, мы можем сказать, что «целостность мира, для каждого из нас, есть поток нашего сознания, насколько он интерпретируется как система объектов, о которых мы необходимо должны мыслить».
Изучение этого фактора необходимости показывает нам, что миры различных индивидов формируются посредством определенных процессов, общих для интеллекта как такового. В некотором смысле каждый из нас начинает со своего частного мира. Но чем более развивается конструктивный процесс формирования систематического мира объектов, тем более соответствуют друг другу различные миры и тем более они стремятся слиться в общий мир.
Процесс формирования мира есть процесс познания, в смысле приходить к познанию. Таким образом, познание есть ментальное конструирование реальности, среда, в которой мир существует для нас как система взаимосвязанных объектов. И логика есть анализ такого конструктивного процесса. «Функция интеллектуального конституирования той целостности, которую мы называем реальным миром, есть функция познания. Функция анализа процесса такого конституирования или определения принадлежит логике, которая может быть определена как самосознание познания или рефлексия познания на себя».
Теперь познание дано в суждении. И, следовательно, если логика есть самосознание познания, изучение суждения будет фундаментальным в логике. Конечно, мы можем сказать, что предложение, выражение суждения, имеет «части». И что высказывание предложения есть временной процесс. Но само суждение есть «тождество-в-различии»: это не «отношение между идеями, ни переход от одной идеи к другой, ни содержит третью идею, указывающую на особую связь между двумя другими идеальными содержаниями».
Конечным субъектом суждения является реальность как целое, и «сущность суждения есть отнесение идеального содержания к реальности». Таким образом, каждое суждение могло бы быть предварено такой фразой, как «реальность такова, что…» или «реальный мир характеризуется тем, что…».
Что касается умозаключения, на первый взгляд мы можем различить суждение и умозаключение, сказав, что первое есть непосредственное, а второе – опосредованное отнесение идеального содержания к реальности. Но при более внимательном рассмотрении такое различие имеет тенденцию исчезать. Потому что, строго говоря, ни о каком суждении нельзя сказать, что оно выражает знание, если оно не обладает характеристиками необходимости и «точности», точности, зависящей от явных опосредованных условий. И в этом случае невозможно никакое абсолютное различие между суждением и умозаключением. Вместо этого у нас есть идеал конечного суждения, которое бы предицировало целостность реальности – как идеальное содержание – самой себе. Такое конечное суждение, конечно, не было бы простым. Потому что оно включало бы в себя все взаимосвязанные органически и последовательно частичные истины. Оно было бы полным тождеством-в-различии в форме познания. «Целостность есть истина». И частные истины суть таковые постольку, поскольку они связаны с другими истинами внутри такой целостности.
Очевидно, что Бозанкет согласен с Брэдли во многих пунктах: в фундаментальной важности суждения в логике, в реальности как конечном субъекте всякого суждения и в истине, в ее полном смысле, как полной системе истины. Но, несмотря на согласие по различным пунктам, между ними существуют важные различия в установке. Так, для Бозанкета реальность или вселенная «не только такова, что может быть познана интеллектом, но скорее такова, что может быть познана и постигнута нашим интеллектом». Конечно, Бозанкет тщательно избегает говорить, что конечный ум может полностью постичь реальность. В то же время он хочет избежать того, что он считает явной тенденцией Брэдли установить предел между человеческим мышлением, с одной стороны, и реальностью – с другой. Каждый конечный ум приближается к реальности с особой точки зрения и формирует свое собственное понятие реальности. Но хотя верно, что существуют степени истины и, следовательно, степени заблуждения, ни одно суждение не полностью оторвано от реальности; и интеллект как таковый заставляет нас концептуализировать вселенную таким образом, что, несмотря на частные точки зрения, сознанию предлагается общий объективный мир. Более того, человеческое мышление в целом все более приближается к полному пониманию реальности, хотя конечный идеал суждения является целью, превосходящей способность любого данного конечного ума.
3. Метафизика индивидуальности.
У Бозанкета и Брэдли, очевидно, существует тесная связь между логикой и метафизикой. Поскольку оба утверждают, что конечным субъектом всякого суждения является реальность как целое. Но было бы ошибкой думать, что, поскольку Бозанкет определяет логику как самосознание познания, он хочет сказать, что логика может дать нам эмпирическое знание о мире. Бозанкет не утверждает этого тезиса, как не утверждает его и Брэдли. Логика есть морфология познания: она не дает нам содержания познания.
Действительно, ошибочно искать в философии знание фактов, неизвестных до сих пор. «Философия не может говорить о новых фактах и не может ничего открыть. Все, что она может сказать нам, это значимые отношения, существующие между уже известным. И если известно мало или ничего не известно, философии очень мало или нечего сказать». Иначе говоря, эмпирическое знание приобретается через обычный опыт, изучение физики, химии и т.д. Философия ничего не отнимает и не добавляет к такому знанию. Что она делает, так это показывает сеть отношений между уже известными фактами.
Конечно, науки не предлагают нам изолированные атомарные факты: они показывают отношения, связи, подчиняя факты тому, что мы называем законами. Таким образом, если философия должна выполнять аналогичную миссию, демонстрация «значимой связи» между уже известным должна пониматься как демонстрация того, что факты, уже известные другими средствами, кроме философии, являются членами исчерпывающей системы, в которой каждый из членов вносит вклад в общее единство в силу характеристик, отличающих его от других членов. Другими словами, философ по существу не интересуется «понятиями классов», сформированными путем абстракции отличительных характеристик, а скорее конкретной универсалией, которая есть тождество-в-различии: универсалией, существующей в и через своих индивидов.
Конкретную универсалию Бозанкет, следуя Гегелю, называет «индивидуумом». И ясно, что в полном смысле слова может быть только один индивидуум: Абсолют. Поскольку такая универсалия универсалий есть исчерпывающая система, которая одна может полностью удовлетворить нормы, предложенные Бозанкетом, а именно непротиворечивость и полноту. Эти нормы, говорит он, на самом деле суть одна. Потому что только в полном целом дано полное отсутствие противоречия.
Хотя индивидуальность принадлежит Абсолюту в выдающемся смысле, она также приписывается человеческим существам, хотя и во вторичном смысле. И, исследуя такое употребление термина, Бозанкет настаивает, что индивидуальность не должна пониматься преимущественно негативно, как если бы она состояла просто в том, чтобы быть чем-то другим. В конце концов, в случае высшего индивидуума, Абсолюта, нет никакого другого индивидуума, от которого он мог бы отличаться. Индивидуальность следует, наоборот, концептуализировать позитивно, как нечто состоящее «в богатстве и полноте самости». И именно в социальной морали, в искусстве, в религии и в философии «конечный ум начинает испытывать нечто от того, что индивидуальность должна означать в конечном счете». В социальной морали, например, человеческая личность превосходит то, что Бозанкет называет отталкивающим самосознанием, потому что частная воля находит себя соединенной с другими волями, не будучи упраздненной в процессе. Более того, в религии человеческое существо превосходит уровень малого и обедненного «я» и чувствует, что достигает более высокого уровня богатства и полноты в единении с божественным. В то же время мораль подчиняется религии.
Изучение развития индивидуального «я» может, таким образом, дать нам представление о том, как различные уровни опыта могут быть поняты и преобразованы в едином унифицированном и исчерпывающем опыте, который составляет Абсолют. И здесь Бозанкет приводит пример ума Данте, как он выражен в «Божественной комедии». Внешний мир и мир «я» присутствуют в уме поэта и выражены в поэме. Человеческие «я» действительно представлены как мыслящие и деятельные существа, как реальные существа, существующие во внешней сфере. В то же время все эти «я» живут только через участие в мыслях, эмоциях и действиях, которые решает поэт и выражает поэма.
Смысл такой аналогии не следует интерпретировать так, как если бы для Бозанкета Абсолют был умом, стоящим за вселенной, умом, сочиняющим божественную поэму. Абсолют есть целостность. Следовательно, он не может быть умом. Потому что ум есть совершенство, зависящее от определенных предварительных физических условий и составляющее определенный уровень реальности. Также Абсолют не может быть просто отождествлен с Богом религиозного сознания, который есть существо, отличное от мира и чуждое злу. «Целостность, рассматриваемая как совершенство, в котором не замечается антагонизм между добром и злом, – это не то, что религия понимает под Богом, а должно пониматься как Абсолют». Здесь Бозанкет согласен с Брэдли.
Но хотя Абсолют не может быть умом или «я», изучение самосознания, главной характеристики ума, может дать нам определенные ключи, позволяющие расшифровать природу реальности. Например, «я» достигает удовлетворения и богатства опыта именно тем, что выходит за свои пределы: оно должно умереть, так сказать, чтобы жить. И это указывает на то, что совершенный опыт воплощает характер «я», по крайней мере, до такой степени, чтобы выходить за свои пределы, чтобы восстановить себя. Другими словами, Бозанкет, в отличие от Брэдли, пытается объяснить существование конечного опыта. «Конечно, не то, чтобы бесконечное существо могло терять и восстанавливать свое совершенство, а то, что бремя конечного есть внутренняя часть или, лучше, инструмент полноты самости бесконечного. Идея знакома. Я могу только сказать, что она теряет весь свой смысл, если не принимать ее полностью всерьез». Возражение против этой гегелевской идеи Абсолюта, развивающего себя, состоит в том, что она, по-видимому, вводит временную последовательность в бесконечное существо. Но если мы не готовы сказать, что понятие Абсолюта есть для нас пустое понятие, мы не можем не приписать ему содержание, которое, с нашей точки зрения, развивается во времени.
Можно было бы возразить, что Бозанкет ничего не делает для доказательства существования Абсолюта. Он просто предполагает его существование и говорит нам, чем он должен быть. Его ответ, однако, состоит в том, что на всех уровнях опыта и мышления есть движение от противоречивого и частичного к непротиворечивому и целому, и что такое движение может закончиться только в понятии Абсолюта. «Я не знаю, в какой момент можно оправдать прерывание процесса». Идея Абсолюта, целостности, есть на самом деле движущая сила, конечная цель всего мышления и рефлексии.
Теперь индивидуальность есть норма ценности, понятие, которому Бозанкет придает гораздо большее значение, чем Брэдли. И поскольку индивидуальность в ее полной форме обнаруживается только в Абсолюте, он должен быть конечной нормой ценности, так же как и нормой истины и реальности. Отсюда следует, что невозможно приписать конечную или абсолютную ценность конечному «я». И поскольку Бозанкет понимает самосовершенствование как преодоление замкнутости в себе и сознательное вхождение в состав большего целого, от него едва ли можно ожидать, что он будет представлять личное бессмертие как судьбу конечного «я». Действительно, он говорит, что лучшее в конечном «я» сохраняется, преобразованное, в Абсолюте. Но он также признает, что то, что сохраняется от моего «я», не было бы для моего настоящего сознания продолжением «моего я». Однако это не является для Бозанкета причиной сожаления. «Я» есть, как мы знаем, смесь, так сказать, конечного и бесконечного; и только сбрасывая ограниченные одежды конечной и ограниченной самости, оно достигает своей судьбы.
Как уже говорилось, Бозанкета не так интересует, как Брэдли, показ недостатков человеческого мышления как инструмента постижения реальности; его гораздо больше интересует понимание вселенной как целого и определение степеней совершенства или ценности. Но в конечном счете оба утверждают, что вселенная есть нечто весьма отличное от того, чем она кажется. Бозанкет не придает большого значения этому аспекту, и поэтому, возможно, его мысль кажется менее интересной, чем мысль Брэдли. Но оба представляют вселенную как бесконечный опыт, то есть как нечто, что не воспринимается с первого взгляда. Хотя между ними существует существенное сродство, Бозанкет важен тем, что сделал явным базовое ценностное суждение монистического идеализма, а именно, что высшая ценность и конечная норма всякой ценности есть целостность, конкретная универсалия, все объемлющая и в которой преодолены все «противоречия».
4. Философия государства у Бозанкета.
Учитывая абсолютный идеализм Бозанкета, от него нельзя ожидать поддержки политической теории, которая рассматривает государство как искусственное устройство, позволяющее индивидам (в обычном смысле слова) преследовать свои частные цели с миром и безопасностью. Все такие теории он осуждает как поверхностные, как теории «первого взгляда». «Они составляют первое впечатление человека с улицы или путешественника, томящегося на железнодорожной станции, для которого компактная интровертность и эгоизм роя человеческих существ перед ним являются очевидным фактом, в то время как социальная логика и духовная история, лежащие за сценой, не могут сложиться в его воспринимающем воображении».
Такие теории предполагают, что каждый человек есть замкнутая в себе единица, испытывающая воздействие других подобных единиц. И правительство имеет тенденцию проявляться как воздействие других, когда оно систематизируется, регулируется и сводится к минимуму. Другими словами, государство предстает как нечто чуждое индивиду, подчиняющее его извне, и, таким образом, как зло, хотя и признанное необходимым.
Совершенно иная идея выражена в теории «общей воли» Руссо. Руссо развивает идею «тождества между моей частной волей и волей всех, кто ассоциирован со мной в политическом теле, согласно которому можно сказать, что во всяком социальном сотрудничестве и даже в подчинении принудительному запрету, когда он налагается обществом ради общего реального интереса, я подчиняюсь только самому себе и фактически достигаю своей свободы». Таким образом, в процессе выражения своего энтузиазма по поводу прямой демократии и своей враждебности к представительному правительству, Руссо фактически возвеличивает Волю Целого на место Общей Воли, которая становится не-сущностью.
Таким образом, мы должны превзойти Руссо и придать реальное содержание идее Общей Воли, фактически не сводя ее к Воле Целого. Это означает отождествление ее с государством, рассматриваемым не только как правительственная структура, а скорее как «функциональная концепция жизни…, концепция, согласно которой каждый живой член общего блага может исполнять свою функцию, как учил нас Платон». Если государство и политическое общество понимаются в этом смысле, мы можем увидеть, что отношение между индивидуальным умом и волей и умом общества и Общей Волей сравнимо с отношением между отдельным физическим объектом и Природой как целым. В обоих случаях замкнутый в себе индивид есть абстракция. Реальная воля индивида, посредством которой он хочет своей собственной природы как разумного существа, таким образом, тождественна Общей Воле. И в этом отождествлении «мы находим истинную ценность политического долга». Подчиняясь государству, индивид подчиняется своей реальной воле. И когда государство принуждает его действовать определенным образом, оно принуждает его действовать в соответствии с его реальной волей и, следовательно, действовать свободно.
Иначе говоря, предполагаемая антитеза между индивидом и государством есть для Бозанкета ложная антитеза. Отсюда следует, что проблема оправдания вмешательства государства в частную свободу на самом деле не является таковой. Что не означает, однако, что не может возникнуть никакой реальной проблемы в связи с конкретным конкретным вопросом. Поскольку конечная цель государства, как и его членов, есть моральная цель, реализация лучшей жизни, жизни, которая в наибольшей степени развивает возможности или способности человека как человеческого существа. Таким образом, мы всегда можем спросить, например, в отношении конкретного закона, «в какой степени и каким образом использование силы или чего-то подобного со стороны государства является препятствием для достижения цели, ради которой существует государство», и которая одновременно является целью каждого из его членов. Просто апеллировать к частной свободе против так называемого государственного вмешательства обычно выражает непонимание природы государства и его отношений с его членами. Но это никоим образом не означает, что использование принуждения всегда способствует цели, ради которой существует государство.
Мнение Бозанкета может быть прояснено следующим образом: поскольку цель государства есть моральная цель, такая цель не может быть достигнута, если граждане не действуют морально, что подразумевает намерение одновременно с внешним действием. Мораль в этом полном смысле, однако, не может быть продиктована законом. Можно заставить индивидов, например, воздерживаться от совершения определенных действий; но их нельзя заставить делать это по высоким моральным причинам. Действительно, ясно, что запрет убийства способствует общему благу, даже если мотивом для соблюдения такого закона является просто страх перед наказанием. Но все же верно, что использование силы, поскольку оно является определяющей причиной действия, снижает результирующие действия до уровня ниже того, который они занимали бы, если бы были результатом разума и свободного выбора. Таким образом, использование силы и принуждения должно быть ограничено настолько, насколько возможно, не потому, что считается, что оно представляет собой вмешательство общества в замкнутого в себе индивида (поскольку это ложная антитеза), а потому, что оно мешает выполнению цели, ради которой существует государство.
Другими словами, Бозанкет разделяет мнение Т. Х. Грина, что первичная функция закона – устранять препятствия для благого развития жизни. Насколько можно расширить социальное законодательство, например, – это не вопрос, на который можно ответить априори. Что касается общих принципов, можно сказать только, что принуждение оправдано, когда можно продемонстрировать, что «определенная тенденция к росту, или определенный резерв способности, расстраивается известным препятствием, устранение которого имеет мало значения по сравнению с возможностями, которые оно предлагает, если оставить его на свободе». Согласно этому принципу можно оправдать, например, обязательное обучение как устранение препятствия, мешающего более полному и широкому развитию человеческих возможностей. Конечно, само законодательство позитивно. Но цель закона в основном состоит в устранении препятствий, мешающих реализации цели, ради которой существует политическое общество, цели, которая «реально» желаема каждым членом как разумным существом.
Если предположить, что моральная цель есть наиболее полное возможное развитие человеческих способностей, и что она достигается или, во всяком случае, приближается к ней только в контексте общества, кажется логичным предвидеть за национальным государством идею универсального общества, человечества в целом. И Бозанкет, по крайней мере, признает, что идея человечества должна даваться «во всякой достаточно полной философской мысли». В то же время он утверждает, что этическая идея человечества не обеспечивает адекватной основы для эффективного сообщества. Потому что мы не можем предполагать в человечестве в целом достаточное единство опыта – как существующее в национальном государстве – для осуществления Общей Воли. Более того, Бозанкет осуждает предложения в пользу международного государства, которое заменило бы национальные языки универсальным языком; замена, которая, по его мнению, уничтожила бы литературу и поэзию и снизила бы интеллектуальную жизнь до уровня посредственности. Как и Гегель, Бозанкет, таким образом, неспособен превзойти идею национального государства, одушевленного общим духом, выражающимся в объективных институтах и подвергающим их критической оценке в свете опыта и потребностей момента.
Также, как и Гегель, Бозанкет не прочь признать, что ни одно существующее государство не избегает критики. Возможно, в принципе, что государство действует «в противоположность своей главной обязанности поддерживать условия, необходимые для наилучшей возможной жизни». Но хотя такое допущение может показаться многим вполне оправданным, оно ставит особые проблемы для любого, кто утверждает, как Бозанкет, что государство каким-то образом отождествляется с Общей Волей. Поскольку, по определению, Общая Воля хочет только блага. Таким образом, Бозанкет склонен различать государство как таковое и его агентов. Последние могут действовать аморально, но первое, государство как таковое, не может нести ответственность за ошибки своих агентов, «за исключением едва мыслимых обстоятельств».
Нельзя сказать, что такая ситуация логически удовлетворительна. Если государство как таковое означает Общую Волю, и если Общая Воля всегда хочет блага, то, по-видимому, следует, что не существует никаких мыслимых обстоятельств, при которых можно было бы сказать, что государство действует аморально. И в конечном счете все сводится к тавтологии, а именно, что воля, которая всегда хочет блага, всегда хочет блага. Фактически, сам Бозанкет, кажется, осознает это, поскольку предполагает, что при строгом определении деятельности государства следует сказать, что оно на самом деле не желает аморального действия, которое мы обычно приписывали бы «государству». В то же время логично, что он должен признать, что могут быть обстоятельства, при которых можно законно говорить об аморальной деятельности государства. Но, говоря о «едва мыслимых обстоятельствах», он не может не подразумевать, что на практике государство избегает критики. Для тех, кто утверждает, что утверждения об деятельности государства всегда сводимы к утверждениям об индивидах, нет проблемы говорить об аморальной деятельности государства. Но если мы исходим из того, что можно осмысленно говорить о «государстве как таковом», не сводя наши утверждения в принципе к набору утверждений об определенных индивидах, возникает проблема, могут ли нормы личной морали законно применяться при оценке действий этой несколько таинственной сущности.
5. Критика Л. Т. Хобхауса.
Понятно, что когда некоторые британские писатели пытались показать, что окончательная ответственность за Первую мировую войну лежит на немецких философах, таких как Гегель, политическая философия Бозанкета получила свою долю критики. Например, в «Метафизической теории государства» (1918) Л. Т. Хобхауса, хотя он в основном занимается Гегелем, содержит довольно обширную критику Бозанкета, в котором он справедливо видит британского политического философа, наиболее близкого к Гегелю.
Хобхаус суммирует то, что он называет метафизической теорией государства, в следующих трех положениях: «Индивид достигает своего истинного "я" и своей свободы в соответствии со своей реальной волей»; «такая реальная воля есть общая воля»; и «общая воля воплощена в государстве». Таким образом, государство практически отождествляется со всей социальной структурой, с обществом в целом; и оно рассматривается как хранитель и выражение морали, поскольку оно является высшей моральной сущностью. Но если государство отождествляется с обществом, следствием является поглощение индивида государством. И почему национальное государство должно рассматриваться как высший продукт социального развития? Если исходить из аргумента, что существует Общая Воля и что таковая есть реальная или истинная воля человека, то такая Воля нашла бы гораздо более адекватное выражение в международном обществе, чем в национальном государстве. Конечно, международного общества еще не существует. Но создание такого общества должно рассматриваться как идеал, к которому следует стремиться эффективно, поскольку Бозанкет, следуя Гегелю, проявляет неоправданное предубеждение в пользу национального государства. В этом смысле идеалистическая политическая теория чрезмерно консервативна. Более того, если государство рассматривается как хранитель и выражение морали, поскольку оно является высшей моральной сущностью, логическим следствием является пагубный моральный конформизм. В любом случае, если государство действительно, как считает Бозанкет, моральная сущность более высокого порядка, чем индивидуальный моральный агент, очень странно, что такие возвышенные моральные сущности, как различные государства, не смогли регулировать свои взаимные отношения, придерживаясь моральных норм. Короче говоря, «смешение государства с обществом и политического долга с моральным долгом есть центральная ошибка метафизической теории государства».
Резюмируя метафизическую теорию государства в определенное количество тезисов, Хобхаус вынужден признать, что Бозанкет иногда говорит таким образом, что его слова нелегко вписываются в эту абстрактную схему. Но он решает эту проблему, говоря, что Бозанкет виновен в непоследовательности. Он отмечает, например, что во введении ко второму изданию «Философской теории государства» Бозанкет ссылается на социальное сотрудничество, которое строго не соответствует ни государству, ни частным индивидам как таковым. И он считает это несовместимым с тезисом, что истинное «я» каждого человека находит свое адекватное воплощение в государстве. Более того, Хобхаус отмечает, что в «Социальных и международных идеалах» Бозанкет говорит о государстве так, как если бы оно было органом сообщества с функцией поддержания внешних условий, необходимых для развития лучшей жизни. И он считает эту манеру речи несовместимой с тезисом, что государство тождественно всему социальному зданию. Вывод Хобхауса, следовательно, состоит в том, что если такие пассажи выражают то, что Бозанкет на самом деле думает о государстве, он должен предпринять «реконструкцию всей своей теории».
В общем, очевидно, что Хобхаус совершенно прав, находя у Бозанкета так называемую метафизическую теорию государства. Без сомнения, это преувеличение сказать, что, согласно Бозанкету, истинное «я» человека находит свое адекватное воплощение в государстве, если под этим понимать, что возможности человека полностью реализуются в том, что обычно можно было бы считать его жизнью гражданина. Подобно Гегелю, Бозанкет рассматривает искусство, например, отдельно от государства, хотя и предполагает общество. В то же время, несомненно, верно, что он придерживается органической теории государства, согласно которой утверждения о государстве «как таковом» принципиально несводимы к утверждениям об определенных индивидах. Также верно, что Бозанкет придает национальному государству выдающуюся роль как воплощению Общей Воли, и что он не проявляет никакого интереса к идее более широкого человеческого общества. Что касается смешения моральных и политических обязанностей, которое Хобхаус упоминает как кардинальный элемент метафизической теории государства и которому он решительно противится, я думаю, необходимо одно замечание.
Если мы защищаем телеологическую интерпретацию морали, согласно которой долг понимается как требование, относящееся к действиям, необходимым для достижения определенной цели (например, реализации и гармоничной интеграции наших собственных возможностей как человеческих существ), и если в то же время мы рассматриваем жизнь в организованном обществе как одно из средств, необходимых в норме для достижения такой цели, мы едва ли сможем избежать рассмотрения политического долга как одного из выражений морального долга. Что никоим образом не означает, что мы должны смешивать моральный долг с политическим долгом, если под этим понимать сведение первого ко второму. Такое смешение возникает только в том случае, если государство рассматривается как основа и истолкователь морального закона. Если мы так рассматриваем государство, результатом будет, как отмечает Хобхаус, пагубный конформизм. Но хотя теория Бозанкета о том, что Общая Воля находит свое адекватное воплощение в государстве, несомненно, поддерживает его страстную идею моральной функции последнего, мы видели, что он также допускает, хотя и с некоторым неудовольствием, моральную критику любого реального государства. Аргумент Хобхауса, однако, состоит в том, что Бозанкет здесь виновен в непоследовательности, и что если он действительно хочет позволить моральную критику государства, он должен пересмотреть свою теорию Общей Воли. Мне кажется, этот аргумент справедлив.
6. Р. Б. Холдейн, гегельянство и теория относительности.
Мы отмечали, что Бозанкет был ближе к Гегелю, чем Брэдли. Но если мы хотим найти британского философа, который открыто разделял энтузиастическое почитание Стирлингом Гегеля как великого мастера спекулятивной мысли, мы должны обратить внимание на Ричарда Бардона Холдейна (1856-1928), выдающегося государственного деятеля, получившего в 1911 году титул виконта Холдейна Клоанского. В своей двухтомной работе «Путь к реальности» (1903-1904) Холдейн заявлял, что Гегель был величайшим учителем спекулятивного метода со времен Аристотеля, и что он сам не только готов был называться гегельянцем, но и стремился к этому. И действительно, его нескрываемое восхищение немецкой мыслью и культурой вызвало довольно постыдную атаку на него в начале Первой мировой войны.
Холдейн стремился показать, что теория относительности не только совместима с гегельянством, но и требует его. В «Пути к реальности» он предлагал философскую теорию относительности; и когда Эйнштейн опубликовал свои работы по этой теме, Холдейн увидел в них подтверждение своей собственной теории, развитой в «Царстве относительности» (1921). Короче говоря, реальность как целое едина, но знание такого единства может быть достигнуто с различных точек зрения, таких как точка зрения физика, биолога и философа. И каждая точка зрения вместе с категориями, которые она использует, представляет частичное и относительное понятие истины и не должна абсолютизироваться. Эта идея не только соответствует, но и требуется философской перспективой, которая рассматривает реальность в конечном счете как дух и понимает истину как полную систему истины: полное отражение или знание себя реальностью, цель, достигнутая через различные диалектические стадии.
Нельзя сказать, что такая общая теория относительности была сама по себе новинкой. И в любом случае было уже слишком поздно пытаться оживить гегельянство, подчеркивая релятивистские аспекты системы и призывая к покровительству Эйнштейна. Тем не менее, Холдейн заслуживает упоминания как одна из видных фигур в общественной жизни Англии, проявлявшая значительный интерес к философским проблемам.
7. Г. Г. Йоахим и теория истины как когерентности.
У нас уже была возможность ссылаться на теорию истины как когерентности, а именно, что всякая частная истина является таковой в силу места, которое она занимает в исчерпывающей системе истины. Эту теорию исследовал и защищал в «Природе истины» (1906) Гарольд Генри Йоахим (1868-1938), который занимал кафедру логики Уайкхэма в Оксфорде с 1919 по 1935 год. И не будет лишним сказать что-то об этой работе, потому что ее автор показывает в ней ясное осознание проблем, которые теория ставит, и с которыми он смело сталкивается.
Йоахим исследует теорию истины как когерентности посредством критического рассмотрения других теорий. Рассмотрим, например, теорию соответствия, согласно которой эмпирическое утверждение истинно, если оно соответствует вненаучной реальности. Если кто-то спросит нас, какова реальность, к которой относится, например, истинное научное утверждение, наш ответ неизбежно должен быть выражен в суждении или ряде суждений. Таким образом, когда мы говорим, что научное утверждение истинно, потому что оно соответствует реальности, мы на самом деле говорим, что определенное суждение истинно, потому что оно систематически когерентно с другими суждениями. То есть соответствие истины превращается в теорию когерентности.
Или возьмем теорию, что истина есть качество определенных сущностей, называемых «предложениями», качество, воспринимаемое непосредственно или интуитивно. Согласно Йоахиму, тезис о том, что непосредственный опыт есть опыт истины, может быть принят только в той мере, в какой будет показано, что интуиция есть результат рационального опосредования, то есть поскольку будет видно, что рассматриваемая истина когерентна с другими истинами. Предложение, рассматриваемое как независимая сущность, обладающая качеством истинности или ложности, есть просто абстракция. Таким образом, мы снова должны понимать истину как когерентность.
Йоахим, таким образом, убежден, что теория истины как когерентности превосходит все другие конкурирующие с ней теории. «Я никогда не сомневался в том, что истина едина, полна и завершена, и что всякая мысль и всякий опыт движутся внутри этого утверждения и подчиняются его явному авторитету». Точно так же Йоахим не сомневается в том, что различные отдельные суждения и системы частичных суждений являются «более или менее истинными, т.е. поскольку они более или менее тесно приближаются к единственной норме». Но как только мы начинаем делать теорию когерентности явной, думать о ее смысле и импликациях, возникают проблемы, которые нельзя игнорировать.
Во-первых, когерентность означает не просто формальную непротиворечивость. В конечном счете, она относится к значимой и всеобъемлющей целостности, в которой форма и материя, знание и его объект, неразрывно соединены. Иначе говоря, истина как когерентность означает абсолютный опыт. И адекватная теория истины как когерентности должна предложить понятное исследование абсолютного опыта, всеобъемлющей целостности, и показать, что различные степени неполного опыта образуют конститутивные моменты абсолютного опыта. Но невозможно, в принципе, чтобы какая-либо философская теория могла выполнить такое требование. Поскольку всякая философская теория есть результат конечного и частичного опыта и, в лучшем случае, может составлять лишь частичное проявление истины.
Во-вторых, истина, как она достигается человеческим познанием, включает два фактора: мысль и ее объект. И этот факт как раз и дает начало теории истины как соответствия. Адекватная теория истины как когерентности должна, следовательно, быть способна объяснить, как следует концептуализировать это отчуждение от целостности, от абсолютного опыта, которое вызывает относительную независимость субъекта и объекта, идеального содержания и внешней реальности, внутри человеческого познания. Но Йоахим признает, что такое объяснение никогда не давалось.
В-третьих, поскольку всякое человеческое познание подразумевает мысль о Другом (то есть другом, чем само себя), всякая теория природы истины, включая теорию когерентности, должна быть теорией об истине как ее Другом, как о чем-то, о чем мы мыслим и высказываем суждение. Что равносильно тому, чтобы сказать, что «теория истины как когерентности, как она сама признает, никогда не может превзойти уровень познания, который, в лучшем случае, достигает "истины" соответствия».
С замечательной откровенностью Йоахиму нисколько не стыдно признать «крушение» своих усилий по установлению адекватной теории истины. Иначе говоря, он не может ответить на проблемы, которые ставит теория когерентности. В то же время он убежден, что такая теория продвигает нас дальше, чем любая другая, в отношении проблемы истины, и что ее можно защищать от возражений, фатальных для других теорий, хотя теория когерентности и ставит вопросы, на которые нельзя ответить. Однако вполне ясно, что окончательная причина, по которой Йоахим придерживается теории когерентности, несмотря на проблемы, которые она решительно ставит, является метафизической, определенным убеждением о природе реальности. Действительно, он прямо говорит, что не верит, что «метафизик может согласиться с определенными логическими теориями, когда успех таких теорий требует от него принятия ряда гипотез, в области логики, которые его собственная метафизическая теория осуждает». Иначе говоря, абсолютный идеализм в метафизике требует теории истины как когерентности в области логики. И несмотря на проблемы, которые такая теория ставит, мы можем принять ее с хорошими основаниями, если другие теории истины неизбежно превращаются в теорию когерентности при попытке точно их сформулировать.
Чтобы судить, превращаются ли другие теории истины на самом деле в теорию когерентности, мы должны принять во внимание замечание самого Йоахима о том, что когерентность здесь означает не просто формальную непротиворечивость. Признание того, что два взаимно несовместимых предложения не могут быть одновременно истинными, не равносильно принятию теории истины как когерентности. Как ее представляет Йоахим, когда он говорит о проблемах, которые она ставит, теория явно является метафизической теорией, частью и принадлежностью абсолютного идеализма. Таким образом, вопрос состоит в том, рушатся ли все другие теории истины в конечном счете полностью под критическим рассмотрением или они подразумевают обоснованность абсолютного идеализма. И вряд ли кто-либо, кто уже не является абсолютным идеалистом, признает, что такова ситуация. Но я не собираюсь намекать, что когерентность не имеет ничего общего с истиной. Фактически, мы часто используем когерентность как проверку, когерентность между уже установленными истинами. И спорно, что это подразумевает метафизическое убеждение о природе реальности. Но из этого не следует с необходимостью, что это имплицитная вера абсолютного идеализма. В любом случае, как откровенно признает сам Йоахим, если предложение истинно лишь постольку, поскольку оно представляет момент абсолютного опыта, превосходящего нашу способность познания, очень трудно понять, как можно знать, что предложение истинно. И тем не менее, мы уверены, что можем иметь некоторое знание об этом. Возможно, существенным требованием для любой попытки сформулировать «теорию» истины является тщательное исследование способов, какими термины «истинный» и «истина» используются в обычном языке.
Ориентация на персоналистический идеализм
1. Прингл-Паттисон и ценность человеческой личности.
Отношение, принятое Брэдли и Бозанкетом по отношению к конечной личности, логически должно было вызвать реакцию даже внутри идеалистического движения. Одним из главных представителей такой реакции был Эндрю Сет Прингл-Паттисон (1856-1931). В своей первой работе «Развитие от Канта до Гегеля» (1882) он представил переход от критической философии Канта к метафизическому идеализму Гегеля как неизбежное движение. И он всегда придерживался тезиса, что ум не может оставаться в системе, подразумевающей теорию вещи в себе как непознаваемой. Но в 1887 году он опубликовал «Гегельянство и личность», где, к некоторому удивлению своих читателей, подверг абсолютный идеализм открытой критике.
На первый взгляд, признает Прингл-Паттисон, гегельянство, кажется, возвеличивает человека. Поскольку, какими бы туманными ни были заявления Гегеля, его философия явно указывает, что Бог или Абсолют отождествляется со всем историческим процессом как диалектическое развитие к самопознанию в и через человеческий ум. «Знание Бога, принадлежащее философу, есть знание, которое Бог имеет о себе самом». Таким образом, заложены корни для превращения теологии в антропологию левыми гегельянцами.
Более внимательное изучение показывает, однако, что гегельянство придает мало значения индивидуальной личности. Поскольку человеческие существа становятся «фокусами, в которых временно концентрируется безличная жизнь мысли, чтобы обеспечить себя собственным содержанием. Такие фокусы появляются только для того, чтобы исчезнуть в перманентном процессе ее реализации». Человеческая личность, другими словами, есть не более чем средство, посредством которого Безличная Мысль приходит к познанию себя. И с точки зрения любого, кто придает реальную ценность личности, ясно, что «гегелевское решение иметь процесс и субъект было первоначальным источником ошибки». Радикальная ошибка гегельянства и его английских производных состоит в «отождествлении человеческого и божественного самосознания или, точнее, в унификации сознания в едином "я"». Такая унификация в конечном счете разрушает реальность как Бога, так и человека.
Таким образом, Прингл-Паттисон настаивает на двух пунктах. Во-первых: должно быть признано реальное самосознание в Боге, хотя мы должны перестать приписывать ему факты конечного самосознания, рассматриваемого именно как таковое. Во-вторых: должна быть утверждена ценность и относительная независимость человеческой личности. Поскольку каждая личность имеет свой собственный центр, волю «непроницаемую» для любой другой личности, «центр, который я сохраняю даже в своих отношениях с самим Богом». Обе позиции – божественная личность и человеческое достоинство и бессмертие – являются дополнительными аспектами одной и той же экзистенциальной перспективы.
Это кажется отказом от абсолютного идеализма в пользу теизма. Но в своих поздних работах Прингл-Паттисон вновь утверждает абсолютный идеализм или, скорее, пытается пересмотреть его таким образом, чтобы позволить придать конечной личности большую ценность, чем в философиях Брэдли и Бозанкета. Результатом является неудовлетворительная амальгама абсолютного идеализма и теизма.
Во-первых, аргументами ранних английских идеалистов нельзя доказать, что мир Природы может существовать только как объект для субъекта. Аргумент Ферье, например, совершенно несостоятелен. Конечно, очевидно, что мы не можем мыслить материальные вещи, не мысля их; но «такой метод приближения не может доказать, что они не существуют независимо от этого отношения». Что касается аргумента Грина о том, что отношения не могут существовать иначе, чем через синтезирующую деятельность универсального сознания, он предполагает уже мертвую психологию, согласно которой опыт начинается с несвязанных ощущений. Фактически, отношения так же реальны, как и вещи, которые они связывают.
Это не означает, однако, что, как утверждает «низший натурализм», Природа существует отдельно от тотальной системы, которая придает ей ценность. Напротив, в Природе можно увидеть непрерывный процесс в сочетании с возникновением качественно различных уровней. Человек появляется как «орган, через который вселенная созерцает и наслаждается собой». И среди возникающих качеств, характеризующих вселенную, мы должны признать не только так называемые вторичные качества, но и «аспекты красоты и возвышенности, которые мы признаем в Природе, и те более тонкие интуиции, которыми мы обязаны поэту и художнику». Моральные ценности также должны пониматься как качества вселенной. И весь процесс Природы, с появлением качественно различных уровней, следует рассматривать как прогрессивное проявление Абсолюта или Бога.
Согласно Прингл-Паттисону, идея Бога, существовавшего «до» мира и создавшего его из ничего, философски несостоятельна. «Идея творения имеет тенденцию превращаться в идею проявления»; и бесконечное и конечное находятся в отношении взаимной импликации. Что касается человека, он «существует как орган вселенной или Абсолюта, единого Существа», которое следует концептуализировать в терминах его высшего проявления и, таким образом, как духовную жизнь или абсолютный опыт.
Несмотря на то, что «Гегельянство и личность», по-видимому, подразумевает, в поздней работе Прингл-Паттисона нет полного отказа от абсолютного идеализма. Напротив, во многих пунктах он согласен с Бозанкетом. В то же время, Прингл-Паттисон не готов принять теорию Бозанкета о судьбе человеческого индивида. Согласно ему, дифференциация составляет истинную сущность абсолютной жизни, и «каждый индивид есть уникальная природа… выражение или фокусировка вселенной, которая нигде более не повторяется». Чем выше мы поднимаемся по шкале жизни, тем яснее становится для нас уникальность индивида. И если ценность возрастает пропорционально уникальной индивидуальности, мы не можем думать, что различные «я» достигают своей судьбы, будучи поглощенными без различия в Едином. Каждое должно сохраняться в своей уникальности.
Таким образом, Прингл-Паттисон не готов сказать вместе с Брэдли, что временной мир есть явление. И поскольку он сохраняет теорию Абсолюта, он, по-видимому, вынужден сказать, что Абсолют подвержен временной последовательности. Но он также хочет утверждать, что в реальном смысле Абсолют или Бог трансцендентен времени. И поэтому он прибегает к аналогиям драмы и симфонии. В исполнении симфонии, например, ноты следуют одна за другой; однако в реальном смысле целое присутствует с самого начала, придавая смысл и объединяя отдельные единицы. «Подобным образом, мы можем, возможно, концептуализировать, что временной процесс сохраняется в Абсолюте и затем превосходится».
Если бы мы углубились в такие аналогии, естественным выводом было бы, что Абсолют есть просто Идея; или, возможно, более уместно, ценность всего космического и исторического процесса. Но Прингл-Паттисон явно хочет утверждать, что Бог есть абсолютный личностный опыт, который не может быть определен просто как смысл и ценность мира. Другими словами, он пытается сочетать абсолютный идеализм с теистическими элементами. И двусмысленный результат предполагает, что ему было бы лучше либо сохранить Абсолют и отождествить его с историческим процессом как движением к возникновению новых ценностей, либо четко порвать с абсолютным идеализмом и придерживаться теизма. Однако ясно, что в рамках общей структуры абсолютного идеализма он пытался сохранить и утвердить ценность конечной личности.
2. Плюралистический идеализм МакТаггарта.
Мы можем теперь обратиться к философу из Кембриджа, Джону МакТаггарту Эллису МакТаггарту (1866-1925), которому не ставилась и не могла ставиться проблема отношения конечных «я» к Абсолюту, поскольку для него не было Абсолюта помимо общества или системы «я». В его философии Абсолют в смысле Брэдли и Бозанкета просто исчезает со сцены.
МакТаггарт был избран феллоом Тринити-колледжа в Кембридже в 1891 году. По его мнению, Гегель проник глубже, чем любой другой философ, в природу реальности. Это побудило его посвятить себя длительному изучению гегельянства, плодом которого стали «Исследования гегелевской диалектики» (1896; 2-е издание, 1922), «Исследования гегелевской космологии» (1901; 2-е издание, 1918) и «Комментарий к логике Гегеля» (1910). Но МакТаггарт отнюдь не был просто ученым или комментатором Гегеля: он был оригинальным мыслителем. Этот факт отражается уже в комментариях, но гораздо больше в двух томах «Природы существования», которые содержат его философскую систему.
В первой части своей системы МакТаггарт пытается определить характеристики всего существующего или, как он говорит, существования как целого. Более точно, он пытается определить характеристики, которые существующее должно иметь. Таким образом, используемым методом будет метод априорной дедукции. МакТаггарт, следовательно, очень далек от того, что часто определяется как индуктивный метафизик.
Однако уже в первой части системы МакТаггарт признает две эмпирические предпосылки: что нечто существует и что это существующее дифференцировано. Истинность первой предпосылки демонстрируется непосредственным опытом, потому что каждый осознает, что он, во всяком случае, существует. И он не может отрицать это, не утверждая это имплицитно. Что касается второй предпосылки, «на самом деле было бы возможно прийти к этому выводу априори, потому что, как я скажу позже, априори верно, что никакая субстанция не может быть простой». Но «кажется более убедительным» апеллировать к восприятию. Что МакТаггарт на самом деле хочет продемонстрировать, так это то, что существование как целое дифференцировано, что существует множество субстанций. И это демонстрируется простым фактом восприятия. Если, например, понимать восприятие как отношение, должно быть более одного термина.
Возьмем, следовательно, другую предпосылку: что нечто существует. Это «нечто» не может быть самим существованием, потому что если мы скажем, что существующее есть существование, мы не говорим вообще ничего. Существующее должно иметь некоторое качество помимо существования. И полное качество, составленное из всех качеств вещи, можно назвать природой этой вещи. Теперь невозможно проанализировать вещь, не оставив ее сведенной к ее качествам. «Во главе ряда должно быть нечто существующее с определенными качествами, которое само не является качеством. Обычное имя для этого, и я считаю его лучшим именем, – субстанция». Можно возразить, что субстанция, отделенная от своих качеств, есть немыслимое ничто; но из этого не следует, что субстанция «не есть нечто вместе со своими качествами».
Таким образом, если нечто существует – и из опыта мы знаем, что это так – должна быть по крайней мере одна субстанция. Но мы уже приняли эмпирическую предпосылку плюрализма, дифференциации существования как целого. Следовательно, должны существовать отношения. Потому что если есть множество субстанций, они должны быть равными и неравными: равными как субстанции, неравными как различные. И равенство и неравенство суть отношения.
Теперь, согласно МакТаггарту, каждое отношение производит в каждом из своих терминов производное качество, а именно качество быть термином такого отношения. Более того: между всяким отношением и каждым из его терминов возникает производное отношение. Таким образом, мы сталкиваемся с бесконечными рядами. Но «такие бесконечные ряды не порочны, потому что нет необходимости завершать их, чтобы определить значение первых терминов». Таким образом, теряет силу аргумент Брэдли, демонстрирующий, что качества и отношения не могут быть истинно реальными.
Мы видели, что субстанции должны каким-то образом отличаться друг от друга. Но между ними есть некоторые сходства, которые позволяют группировать их в множества и множества множеств. Множество называется «группой», а субстанции, которые его составляют, являются его «членами». Сама идея правильна, но следует обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, группа для МакТаггарта есть субстанция. Таким образом, группа французских граждан есть субстанция со своими собственными качествами, такими как составлять нацию. Во-вторых, поскольку никакая субстанция не является абсолютно простой, составная субстанция не может иметь простых субстанций в качестве членов. В-третьих, мы не можем безоговорочно принять, что две группы обязательно являются двумя субстанциями. Если их содержания одинаковы, группы есть одна субстанция. Например, английские графства и английские приходы образуют две группы, но одну субстанцию.
Теперь должна существовать составная субстанция, которая содержит все существующее и части которой состоят из всех других субстанций. «Такая субстанция будет называться Вселенной». Это органическое единство, в котором «все существующее, субстанции и характеристики, вовлечено в систему внешнего определения». В то же время, кажется, есть серьезное возражение против идеи всеобъемлющей субстанции. С одной стороны, МакТаггарт предполагает, что в принципе должно быть возможно дать достаточное описание любой субстанции. С другой стороны, не кажется возможным дать достаточное описание вселенной. Поскольку достаточное описание, по-видимому, должно указывать части, а также отношения между ними и по отношению к целому. Но как это можно сделать, если никакая субстанция не проста и, следовательно, бесконечно делима?
Детали решения МакТаггарта этой проблемы слишком сложны, чтобы рассматривать их здесь. Его общий тезис, как он выражает его в резюме своей системы, состоит в том, что чтобы избежать противоречия между тезисом, что возможно дать достаточное описание субстанции, и тезисом, что никакая субстанция не проста, «должно быть некоторое описание некоторой субстанции А, которое подразумевает достаточные описания членов всех ее частей, которые выводятся из данных частей». Такое утверждение само по себе на самом деле мало что говорит. Но мысль МакТаггарта идет в следующем направлении. Достаточное описание субстанции возможно в принципе, если выполнены определенные условия. Рассмотрим субстанцию, которая включает все: вселенную. Эта субстанция состоит из одного или более первичных множеств, которые, в свою очередь, состоят из первичных частей. Такие части могут различаться, например, своими различными качествами. Таким образом, достаточное описание вселенной возможно в принципе, всегда, когда описания первичных частей подразумевают достаточные описания вторичных частей, серия которых продолжается бесконечно. Чтобы такая импликация имела место, однако, вторичные части должны быть связаны тем, что МакТаггарт называет отношением определяющего соответствия. Например, предположим, что А и В являются первичными частями данной субстанции, и что А и В достаточно описаны качествами x и y соответственно. Отношение определяющего соответствия требует, чтобы вторичная часть А была достаточно описываема в терминах y, и чтобы вторичная часть В была достаточно описываема в терминах x. При данных таких переплетенных определяющих соответствиях во всей иерархии рядов последующих частей, достаточные описания первичных частей будут подразумевать достаточные описания вторичных. И, таким образом, достаточное описание субстанции возможно в принципе, несмотря на то, что она бесконечно неделима.
Поскольку МакТаггарт утверждает, что должно быть возможно дать достаточное описание каждой субстанции, следует, что отношение определяющего соответствия должно иметь место между частями субстанции. И если рассматривать определяющее соответствие как ярлык для различных типов причинных отношений, можно сказать, что МакТаггарт пытается доказать априори необходимость определенной модели причинных отношений внутри вселенной. То есть, если, как он предполагает, вселенная есть понятное органическое единство, должна существовать в иерархии ее частей определенная картина определяющего соответствия.
Теперь мы ссылались, например, на графства Англии и говорили о вселенной. Но хотя в первой части системы приводятся некоторые эмпирические примеры, облегчающие понимание, достигнутые выводы хотят быть чисто абстрактными. Например, хотя и говорится априори, что, если нечто существует, должна быть всеобъемлющая субстанция, которую мы называем вселенной, ошибочно думать, что этот термин обязательно относится ко всему комплексу сущностей, которые мы обычно считаем составляющими вселенную. Первая часть системы просто устанавливает, что должна быть вселенная. Она не говорит нам, какие эмпирические сущности (если таковые есть) являются членами всеобъемлющей группы, называемой вселенной. Только во второй части системы МакТаггарт применяет выводы первой части, спрашивая, например, могут ли характеристики субстанции, которые были определены априори, принадлежать к типу вещей, которые на первый взгляд кажутся субстанциями, или, скорее, могут ли характеристики, найденные в опыте или предложенные им, на самом деле принадлежать существующему.
В этой области исследования, однако, настаивает МакТаггарт, мы не можем получить абсолютной достоверности. Фактически, мы можем продемонстрировать, что определенные характеристики, представленные или предложенные опытом, не могут принадлежать существующему и, следовательно, должны быть отнесены к сфере явления. Но мы не можем с абсолютной достоверностью доказать, что характеристики, предложенные опытом, должны принадлежать существующему. Потому что могут быть характеристики, которые никогда не были испытаны или воображены нами, и которые одинаково или лучше удовлетворяют априорным требованиям первой части системы. Тем не менее, если можно показать, что характеристики, предложенные опытом, действительно удовлетворяют таким априорным требованиям, и что никакие другие, которые мы знаем или можем вообразить, не сделают этого, мы утверждаем разумную, хотя и не абсолютную, истину. Другими словами, МакТаггарт придает абсолютную достоверность только результатам априорной демонстрации.
«Вселенная на первый взгляд, кажется, содержит субстанции двух очень различных типов: Материю и Дух». Но МакТаггарт отказывается признавать реальность материи, главным образом на том основании, что ничто, обладающее качеством быть материальным, не может иметь среди своих частей того отношения определяющего соответствия, которое должно иметь место между вторичными частями субстанции. Предположим, в качестве гипотезы, что данная материальная вещь имеет две первичные части, одна из которых может быть достаточно описана как синяя, в то время как другая может быть достаточно описана как красная. Согласно требованиям принципа определяющего соответствия, должна быть вторичная часть первичной части, описанной как синяя, которая соответствовала бы первичной части, описанной как красная. Но это логически невозможно. Потому что первичная часть не могла быть достаточно описана как синяя, если одна из ее вторичных частей была красной. И к аналогичным выводам приходят, если рассматривать такие качества, как размер и форма. Таким образом, материя не может принадлежать существующему: она не может характеризовать вселенную.
Мы остаемся, следовательно, с духом. На самом деле, нет никакой демонстрации, что не существует ничего, кроме духа. Потому что могла бы быть форма субстанции, которую мы никогда не испытывали или не воображали, и которая могла бы удовлетворять условиям субстанции, не будучи духовной. Но у нас нет достаточных оснований утверждать существование такой субстанции. Таким образом, разумно заключить, что всякая субстанция духовна.
Что касается природы духа, «я предлагаю определить качество духовности, говоря, что это качество иметь содержание, целостность которого есть содержание одного или более "я"». Таким образом, «я» духовны, и, следовательно, части «я» и группы «я», хотя, вопреки обычному употреблению, термин «дух» может быть зарезервирован для «я».
Если, следовательно, дух есть единственная форма субстанции, вселенная, или Абсолют, будет обществом или системой, которое включает все «я», будучи его первичными частями. Вторичные части, всех степеней, суть восприятия, которые образуют содержания «я». В таком случае должны существовать отношения определяющего соответствия между этими частями. Конечно, это требует выполнения определенных условий: что «"я" может воспринимать другое "я" и часть другого "я"», что восприятие есть часть воспринимающего «я» и что восприятие части множества может быть частью восприятия этого множества. Но нельзя доказать, что выполнение таких условий невозможно, и есть основания полагать, что они фактически выполняются. Таким образом, мы можем предположить, что Абсолют есть система или общество «я».
Бессмертны ли «я»? Ответ на этот вопрос зависит от точки зрения, которую мы принимаем. С одной стороны, МакТаггарт отрицает реальность времени, на том основании, что утверждение реальности временных рядов прошлого, настоящего и будущего заставляет нас приписывать любому данному событию определенные несовместимые определения. Таким образом, если мы принимаем такую точку зрения, мы должны описывать «я» как вневременные или вечные, а не как бессмертные, термин, который подразумевает бесконечную временную длительность. С другой стороны, время, конечно, принадлежит сфере явления. И окажется, что «я» сохраняется на протяжении всего будущего времени. «Как следствие чего, я думаю, можно адекватно сказать, что "я" бессмертно», хотя тогда бессмертие следует понимать как включающее предсуществование до соединения с телом.
Профессор К. Д. Брод сказал, что он не верит, что у МакТаггарта был хотя бы один ученик, хотя он оказал значительное влияние на своих студентов своей логической проницательностью, интеллектуальной честностью и борьбой за ясность. Без сомнения, неудивительно, что МакТаггарту не удалось сформировать учеников. Потому что, помимо того факта, что он объясняет ненамного больше, чем Брэдли, как сфера явления выступает на первый план, его философия представляет собой гораздо более ясный пример того, что некоторые антиметафизики понимали под метафизикой, а именно предполагаемую науку, которая претендует на то, чтобы дедуцировать природу реальности чисто априорным образом. Поскольку после указания в первой части системы характеристик, которые существование должно обладать, во второй части МакТаггарт счастливо отвергает реальность материи и времени, на том основании, что они не удовлетворяют условиям, установленным в первой части. И хотя верно, что его выводы придают его философии больший интерес и привлекательность, странность таких выводов побуждает большинство читателей просто заключить, что в его аргументах должна быть какая-то ошибка. Многим людям, во всяком случае, трудно поверить, что реальность состоит из системы «я», чьи содержания суть восприятия. «Остроумно, но неубедительно» – таков вердикт, который обычно выносится относительно аргументов МакТаггарта.
Можно подумать, что это очень филистерская точка зрения. Если аргументы МакТаггарта хороши, не имеет значения странность его выводов. И это вполне верно. Но также факт, что указанные аргументы убедили очень немногих философов в том, что реальность должна быть такой, какой говорит МакТаггарт.
3. Плюралистический спиритуализм Дж. Уорда.
МакТаггарт сочетал теорию о том, что существующая реальность состоит из духовных «я», с атеизмом. Но персоналистические идеалисты в целом придерживались определенной формы теизма, примером которой может служить Джеймс Уорд (1843-1925), натуралист, психолог и философ, который некоторое время учился в Германии, где попал под влияние Лотце, и впоследствии занимал кафедру логики и ментальной философии в Кембридже (1897-1925).
В 1886 году Уорд написал для «Британской энциклопедии» знаменитую статью по психологии, которая позже послужила основой для его «Психологических принципов» (1918), работы, явно показывающей влияние немецких философов, таких как Лотце, Вундт и Брентано. Уорд яростно выступал против ассоцианистской психологии. Согласно ему, содержание сознания состоит из «репрезентаций», но они образуют непрерывность. Они не являются отдельными и изолированными впечатлениями, на которые может быть разложена непрерывность репрезентации. Конечно, новая репрезентация вводит новый материал, но она не составляет просто дополнительный элемент ряда, потому что она модифицирует или изменяет часть существующего поля сознания. Более того, всякая репрезентация есть репрезентация для субъекта, поскольку она есть опыт субъекта. Идея «души» не является для Уорда психологическим понятием, но мы не можем обойтись без идеи субъекта. Поскольку сознание подразумевает избирательное внимание к тому или иному факту или аспекту непрерывности репрезентации, и это есть деятельность субъекта под влиянием определенных чувств удовольствия и боли. Однако ошибочно рассматривать субъект сознания как простого зрителя, чисто познающего субъекта. Поскольку конативный аспект опыта фундаментален, и избирательная деятельность в вопросе имеет телеологический характер, поскольку активный субъект выбирает и обращает внимание на данные репрезентации с определенной целью.
В первой серии своих «Лекций Гиффорда», опубликованных в 1899 году под названием «Натурализм и агностицизм», Уорд атаковал то, что он назвал натуралистической точкой зрения на мир. Следует различать естественные науки, с одной стороны, и философский натурализм, с другой. Например, механика, имеющая дело просто «с количественными аспектами физических феноменов», не должна смешиваться с механистической теорией Природы, «которая стремится свести реальный мир к реальному механизму». Философ, принимающий такую теорию, считает, что формулы и законы механики – не просто абстрактные и избирательные уловки для контакта с определенной средой под определенными аспектами – уловки, имеющие ограниченную валидность, – а адекватно раскрывают нам природу конкретной реальности. И в этом он ошибается. Спенсер, например, пытается вывести эволюционное движение из определенных механистических принципов и не видит, что в эволюционном процессе возникают различные уровни, требующие своих собственных адекватных категорий и понятий.
Дуализм, однако, как возможная альтернатива натурализму, несостоятелен. Конечно, фундаментальная структура опыта есть отношение субъект-объект. Но такое различие не равносильно дуализму между духом и материей. Поскольку даже когда объект есть то, что мы называем материальной вещью, тот факт, что он объединен с субъектом в единстве отношения субъект-объект, показывает, что он не может быть полностью гетерогенным по отношению к субъекту. Конечный дуализм материи и духа не может избежать критики.
Отвергнув, таким образом, материализм в форме механической теории Природы, и дуализм, Уорд обращается к тому, что он называет спиритуалистическим монизмом. Этот термин, однако, не подразумевает убеждения, что есть только одна субстанция или одно существо. Теория Уорда состоит в том, что все сущности в определенном смысле духовны. То есть все они обладают психическим аспектом. Его теория, таким образом, плюралистична; и во вторых своих «Лекциях Гиффорда», которые появились в 1911 году под названием «Царство целей, или Плюрализм и теизм», он говорит о плюралистическом спиритуализме, а не о спиритуалистическом монизме, хотя, если последний термин правильно понят, оба обозначения означают одно и то же.
Некоторым читателям может показаться странным, что профессор Кембриджа в относительно недавнее время придерживался теории панпсихизма. Но Уорд не утверждает – как не утверждал и Лейбниц – что каждая сущность или монада обладает тем, что мы называем сознанием. Идея скорее в том, что нет «грубой» материи, а что каждый центр деятельности имеет определенную, иногда очень низкую, степень «ментальности». Более того, Уорд говорит, что плюралистический спиритуализм – это не теория, выведенная априори, а основанная на опыте. «Мы принимаем мир таким, каким находим его: как множество активных индивидов, объединенных только в и через их взаимные взаимодействия. Такие взаимодействия, в свою очередь, интерпретируются в целом по аналогии с социальными фактами, как взаимное общение; то есть как основанные на знании и свободе».
Теперь Уорд допускает возможность остановиться на такой идее множества конечных и активных центров опыта. Поскольку Кант показал заблуждения предполагаемых демонстративных доказательств существования Бога. В то же время, теизм обладает единством, которого не хватает плюрализму без Бога. Более того, понятия творения и сохранения проливают свет на существование «множественности», хотя творение следует понимать в терминах основания и следствия, а не в терминах причины и эффекта. «Бог есть основа бытия мира, его ratio essendi». Более того, Уорд говорит несколько прагматично, что утверждение идеи Бога имеет преимущество в увеличении уверенности плюралистов в важности конечного существования и в конечной реализации идеала царства целей. Без Бога, одновременно трансцендентного и имманентно активного во вселенной, «мир, возможно, останется навсегда тем rerum concordia discors, с которым мы сталкиваемся сейчас».
4. Общие комментарии.
Мы можем рискнуть общей идеей, что одним из основных факторов персоналистического идеализма является ценностное суждение, а именно, что личность представляет высшую ценность в сфере нашего опыта. Такое утверждение может показаться неприменимым к философии МакТаггарта, который претендует на то, чтобы доказать путем априорного рассуждения, какие категории должны принадлежать существующему, а затем проверяет, среди вещей, которые являются prima facie субстанциями, какие из них обладают такими характеристиками. Но, конечно, из этого не следует с необходимостью, что ценностное суждение не является фактически имплицитным фактором даже в его философии. В любом случае, ясно, что пересмотр абсолютного идеализма Прингл-Паттисоном был вызван верой в конечную ценность личности, и что плюралистический спиритуализм Джеймса Уорда был обусловлен подобным убеждением.
Очевидно, персоналистический идеализм состоит не только в таком ценностном суждении. Он также включает идею, что личность должна приниматься как ключ к природе реальности, и упорную попытку интерпретировать реальность в свете такой идеи. Это означает, что персоналистический идеализм склоняется скорее к плюрализму, чем к монизму. В философиях МакТаггарта и Уорда явно доминирует плюралистическая концепция вселенной. Прингл-Паттисон утверждает ее, сохраняя идею Абсолюта как простого всеобъемлющего опыта. В то же время, ценность, которую он придает конечной личности, заставляет его стремиться интерпретировать теорию Единого таким образом, чтобы она не подразумевала поглощения или забвения «множественности» в Едином.
Естественным следствием в метафизике перехода от монизма к плюрализму в свете веры в ценность личности является утверждение определенного теизма. В исключительном случае МакТаггарта Абсолют фактически интерпретируется как общество или система конечных духовных «я». А у Прингл-Паттисона переход к недвусмысленному теизму демонстрируется влиянием, которое традиция абсолютного идеализма продолжает оказывать на него. Но внутренняя динамика, так сказать, персоналистического идеализма направлена на интерпретацию конечной реальности как личностной и такого рода, чтобы допускать зависимую реальность конечных личностей. Согласно абсолютным идеалистам, как мы видели, понятие Бога должно быть преобразовано в понятие Абсолюта. В персоналистическом идеализме понятие Абсолюта имеет тенденцию преобразовываться обратно в понятие Бога. Конечно, МакТаггарт считает свою идею общества или системы духовных «я» правильной интерпретацией гегелевского Абсолюта. Но у Джеймса Уорда мы находим четкий переход к теизму. И неудивительно, что он явно утверждает свое большее сродство с Кантом, чем с Гегелем.
В определенных пределах произвольно, в какой степени следует применять термин «персоналистический идеализм». Возьмем, например, Уильяма Ричи Сорли (1855-1935), который занимал кафедру моральной философии в Кембридже с 1900 по 1932 год. Он особенно интересовался проблемами, связанными с природой ценностей и ценностных суждений, и, возможно, его лучше было бы охарактеризовать как философа ценностей. Но он также пытался создать своего рода общую философскую теорию, необходимую для любого, кто серьезно учитывает ценности как факторы реальности. Таким образом, он настаивал, что личности являются «носителями ценностей», и что метафизика завершается идеей Бога, понятого не только как творец, но и как «сущность и источник всех ценностей, участия в которых Он желает для всякого свободного ума, который обязан Ему своим существованием». Конечный результат таких размышлений таков, что его действительно нельзя охарактеризовать как персоналистического идеалиста.
Однако мы не можем очертить идеи всех тех британских философов, которые могли бы быть разумно описаны как персоналистические идеалисты. Вместо этого мы можем обратить внимание на различное отношение к наукам, проявленное абсолютными и персоналистическими идеалистами. Брэдли, конечно, не отрицает валидность науки на ее уровне. Но поскольку он осуждает все дискурсивное мышление к сфере явления, он должен утверждать, что науки не могут раскрыть нам природу реальности, отличную от явной. Конечно, мы находим то же самое отношение у МакТаггарта, для которого пространственно-временной мир есть явление. И даже Джеймс Уорд, в своей полемике против натурализма и механистической теории мира, отрицает компетентность науки раскрыть нам природу реальности и подчеркивает антропоморфный характер абстрактных научных понятий, которые следует судить скорее по их полезности, чем по претензии на абсолютную истину. В то же время, он убежден, что конкретные науки, такие как биология и психология, намекают и подтверждают его плюралистическую философию. И, в общем, персоналистический идеализм не столько заинтересован в том, чтобы поставить науку на суд и осудить ее к сфере явления, сколько в том, чтобы бросить вызов претензии материалистических и механистических философий быть логическим следствием наук. В любом случае, общая тенденция персоналистического идеализма состоит в том, чтобы утверждать факт, что различные науки требуют различных категорий для работы с различными уровнями опыта или с различными аспектами реальности, и рассматривать метафизику как законное и необходимое продолжение области интерпретации, а не как единственный путь к знанию реальности, от которого эмпирические науки, ограниченные сферой явления, по необходимости исключены. Это замечание не может быть применено к МакТаггарту. Но он действительно sui generis. Общая установка персоналистического идеализма состоит в том, чтобы утверждать, что опыт и эмпирический подход к философии поддерживают скорее плюрализм, чем монизм, характерный для абсолютного идеализма, и что если мы примем во внимание различные типы наук, мы увидим, что философская метафизика не является декларацией против науки, а естественным завершением интерпретации реальности, в которой науки играют свою собственную роль.
Окончательное замечание: за исключением системы МакТаггарта, персоналистический идеализм по самой своей природе предназначен для привлечения философов религиозного склада ума, тех философов, о которых можно было бы подумать, что они подходящие люди для чтения серий «Лекций Гиффорда». Сочинения таких идеалистов были в целом назидательными в религиозном отношении. Их стиль философии был, очевидно, гораздо менее разрушительным для христианской веры, чем абсолютный идеализм Брэдли. Но хотя различные философии, которые могут считаться репрезентативными для персоналистического идеализма, достаточно назидательны с моральной и религиозной точек зрения, они, по крайней мере в своих более метафизических аспектах, склонны производить впечатление серии личных исповеданий веры, которые не столько пытаются изложить строгие аргументы, сколько подчеркнуть определенные аспекты реальности. И понятно, что во времена Уорда и Сорли другие философы Кембриджа намекали, что вместо того, чтобы спешить с созданием масштабных интерпретаций реальности, было бы лучше ставить проблемы с максимально возможной точностью и ясностью и рассматривать их по отдельности. Тем не менее, хотя такое предложение кажется очень разумным и практичным, трудность в том, что философские проблемы могут легко переплетаться. И идея сведения философии к четко определенным проблемам, которые можно решать отдельно, на практике оказалась не столь плодотворной, как предполагалось. Однако нельзя отрицать, что идеалистические системы в современном климате британской философии, кажется, принадлежат к прошлой фазе мысли. Что дает материал для изучения историку. Но это также означает, что историк не может не задаться вопросом, действительно ли оправдано посвящать пространство второстепенным системам, которые не стимулируют наше воображение в той мере, в какой это делает система Гегеля. Тем не менее, следует сказать, что персоналистический идеализм представляет повторяющийся протест конечной личности против поглощения в Единое, в какой бы то ни было форме. Легко сказать, что личность есть «явление», но никакая монистическая система никогда не объясняла, как сфера явления вообще возникает.
ИДЕАЛИЗМ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Введение.
1. Начала философии в Северной Америке: С. Джонсон и Дж. Эдвардс.
Самые отдаленные истоки философской мысли в Северной Америке могут быть прослежены до пуритан Новой Англии. Конечно, первоначальной целью пуритан было организовать свою жизнь согласно религиозным и моральным принципам, составлявшим предмет их веры. Они были идеалистами в нефилософском смысле этого слова. Они были также кальвинистами, не допускавшими никаких разногласий относительно того, что они считали принципами ортодоксии. В то же время, в них можно найти элемент философской рефлексии, стимулированный особенно мыслью Петра Рамуса, или Пьера де ла Раме (1515-1572), и «Энциклопедией» Иоганна Генриха Альштеда (1588-1638). Петр Рамус, знаменитый французский гуманист и логик, перешел в кальвинизм в 1561 году, разработал конгрегационалистскую теорию Церкви и, в конечном счете, погиб во время Варфоломеевской ночи. Он обладал, таким образом, особыми качествами, чтобы быть воспринятым как интеллектуальный покровитель конгрегационалистов Новой Англии. Альштед, последователь Меланхтона и также ученик Петра Рамуса, опубликовал в 1630 году энциклопедию искусств и наук. Эта работа, несколько платонического характера, содержала раздел, посвященный тому, что Альштед называл archeologia, системе принципов познания и бытия, и стала популярным учебником в Новой Англии.
Религиозная принадлежность раннего периода североамериканской философской мысли проявляется в том, что первые философы были священнослужителями. Сэмюэл Джонсон (1696-1772) является примером этого: сначала конгрегационалистский министр, он присоединился к Англиканской церкви в 1772 году и впоследствии получил англиканские ордена. В 1754 году он был назначен первым президентом Королевского колледжа в Нью-Йорке, ныне Колумбийского университета.
В своей автобиографии Джонсон отмечает, что, когда он учился в Йеле, уровень преподавания был низким. Действительно, он проявлял некоторый упадок по сравнению с уровнем основателей, получивших образование в Англии. Конечно, имена Декарта, Бойля, Локка и Ньютона не были неизвестны, и сочинения Локка и Ньютона медленно вводили новые формы мысли. Но была сильная тенденция отождествлять светскую мысль с некоторыми работами Рамуса и Альштеда и рассматривать новые философские течения как опасность для чистоты религиозной веры. Иными словами, «схоластика», которая в прошлом была полезной для определенных целей, служила для подавления распространения новых идей.
Сам Джонсон находился под влиянием Беркли. Он познакомился с философом во время пребывания того в Род-Айленде (1729-1731) и посвятил ему свои «Elementa Philosophica», которые появились в 1752 году.
Хотя Джонсона глубоко впечатлил имматериализм Беркли, он не был готов принять его тезис о том, что пространство и время суть отношения между индивидуальными идеями, а бесконечные пространство и время – лишь абстрактные понятия. Он стремился обосновать ньютоновско-кларковскую теорию абсолютного и бесконечного пространства и времени, исходя из допущения множественности конечных духов. Так, рассуждал он, если бы пространство не было абсолютным, все конечные духи занимали бы одно и то же место. Позднее Джонсон попытался переформулировать теорию идей Беркли в платоническом ключе, утверждая, что все идеи являются эктипами или архетипами, существующими в божественном разуме. Иными словами, принимая имматериализм Беркли, Джонсон одновременно пытался адаптировать его к платонической традиции, уже присутствовавшей в американской мысли.
Более известным представителем американской мысли XVIII века является Джонатан Эдвардс (1703–1758), выдающийся конгрегационалистский теолог. Обучаясь в Йеле, в 1717 году он познакомился с «Опытом о человеческом разумении» Локка, а в 1730 году – с «Исследованием о происхождении наших идей красоты и добродетели» Хатчесона. Хотя в основе своей он оставался кальвинистским теологом, большую часть жизни занимавшим пасторские должности, он предпринял попытку синтеза кальвинистской теологии и новой философии. Или, иначе говоря, применил идеи современной ему философии для интерпретации кальвинистского богословия. В 1757 году он стал президентом колледжа в Принстоне (Нью-Джерси), ныне Принстонского университета, но скончался от оспы год спустя.
Для Эдвардса вселенная существует исключительно в божественном разуме или духе. Пространство, необходимое, бесконечное и вечное, по сути является атрибутом Бога. Более того, строго говоря, субстанциями являются только духи. Не существует квазинезависимых материальных субстанций, осуществляющих реальную причинную деятельность. Истинно то, что природа существует как видимость; и с точки зрения учёного, изучающего феномены или явления, в природе наблюдается определённая равномерность, постоянный порядок. Учёный как таковой вправе говорить о законах природы. Однако с более глубокой, философской точки зрения, можно признать лишь одну реальную причинную деятельность: деятельность Бога. Не только божественное сохранение конечных вещей представляет собой постоянно повторяющееся творение, но и равномерность природы, с философской точки зрения, является, по выражению Эдвардса, произвольным установлением божественной воли. В действительности в природе нет необходимой связи или действующей причинности: всякая взаимозависимость в конечном счёте зависит от произвольного повеления Бога.
Тот факт, что Эдвардс, вслед за Беркли, отрицал существование материальной субстанции, но признавал существование духовных субстанций, не следует, однако, понимать так, будто, по его мнению, человеческая воля составляет исключение из общего принципа, согласно которому Бог – единственная реальная причина. С определённой точки зрения, можно без сомнения утверждать, что он проводит эмпиристский анализ отношений, особенно причинно-следственных. Но такой анализ, сочетаемый с кальвинистской идеей божественного всемогущества или причинности, порождает метафизический идеализм, в котором Бог предстаёт как единственная реальная причина. В своём труде «Свобода воли» Эдвардс прямо отвергает идею человеческой воли, определяющей саму себя. По его мнению, абсурдно и даже арминиански утверждать, что человеческая воля может выбирать вопреки преобладающему мотиву или склонности.
Выбор всегда определяется преобладающим мотивом, который, в свою очередь, определяется тем, что представляется наибольшим благом. Говоря теологически, человеческий выбор предопределён его Творцом. Но ошибочно полагать, что это снимает с человека моральную ответственность. Потому что моральное суждение о конкретном поступке зависит исключительно от природы этого поступка, а не от его причины. Дурной поступок всегда остаётся дурным, независимо от его причины.
Интересным элементом мысли Эдвардса является его теория чувства Бога, или особого знания о божественном совершенстве. В целом, он поддерживал религиозное возрождение Великого пробуждения 1740–1741 годов. И считал, что религиозные чувства – о которых он написал трактат – выражают постижение божественного совершенства, которое следует приписывать скорее сердцу, нежели разуму. В то же время он стремился провести различие между чувством Бога и высокоэмоциональными состояниями, характерными для собраний религиозного пробуждения. Тем самым он развил теорию чувства Бога, в которой можно усмотреть влияние эстетических и моральных идей Хатчесона.
Согласно Эдвардсу, подобно тому, как определённое ощущение сладости мёда предшествует и лежит в основе теоретического суждения о том, что мёд сладок, так и определённое чувство или ощущение, скажем, божественной святости лежит в основе суждения, утверждающего, что Бог свят. В общем, подобно тому, как определённое чувство красоты объекта или морального совершенства личности предполагается в суждениях, выражающих это ощущение или чувство, так и суждение о божественном совершенстве предполагается нашими «рассудочными» суждениями о Боге.
Возможно, можно критиковать использование оборота «подобно тому как»; ибо чувство Бога для Эдвардса – это согласие нашего существа с божественным существом, имеющее сверхъестественное происхождение. Но важно то, что человек может осознавать Бога через форму опыта, аналогичную чувственному опыту и удовольствию, испытываемому при созерцании прекрасного объекта или чего-либо, выражающего моральное совершенство.
Возможно, в этой теории можно увидеть влияние локковского эмпиризма. Конечно, не утверждается, что сам Локк основывал свою веру в Бога на каком-либо чувстве или интуиции. В этом аспекте его подход был рационалистическим, а его недоверие к «энтузиазму» хорошо известно. Но его общий акцент на примате чувственного опыта мог быть одним из факторов, повлиявших на мысль Эдвардса, хотя влияние Хатчесона с его идеей чувства красоты или морального совершенства ещё более очевидно.
Эдвардс не дожил до реализации своего проекта – написания полной систематической теологии, разработанной в соответствии с новым методом. Однако он оказал заметное влияние как теолог; и его попытка объединить кальвинистскую теологию, идеализм, локковский эмпиризм и ньютоновскую картину мира стала главным выражением американской мысли того периода.
2. Просвещение в Северной Америке: Б. Франклин и Т. Джефферсон
В Европе XVIII век был эпохой Просвещения. И Северная Америка также пережила то, что обычно называют её Просвещением. В философской сфере оно, безусловно, не выдерживает сравнения со своими аналогами в Англии и Франции. Тем не менее, оно имеет значение в истории американской жизни.
Первая характерная черта – попытка отделить пуританские моральные добродетели от их теологического основания, хорошо иллюстрируемая размышлениями Бенджамина Франклина (1706–1790). Поклонник английского деиста Уильяма Уолластона, Франклин явно не был тем, кто пошёл бы по стопам Сэмюэля Джонсона или Джонатана Эдвардса. Откровение, говорил он, не имело для него смысла. И он был убеждён, что мораль должна иметь утилитаристскую, а не теологическую основу. Одни действия полезны для человека и общества, другие – вредны. Первые следует считать обязательными, вторые – запрещёнными. Добродетели, такие как умеренность и трудолюбие, оправданы своей полезностью. Их противоположности порицаемы, поскольку вредят интересам общества и личному успеху.
Несмотря на свою известность, Франклина нельзя назвать глубоким философом, хотя он и был одним из основателей Американского философского общества. И легко представить его этические взгляды в карикатурном виде. В действительности Франклин восхвалял правдивость, искренность и честность – добродетели, высоко ценимые пуританами, поскольку они необходимы для человеческого благополучия. Но если эти добродетели превозносятся потому, что честные и искренние люди с большей вероятностью преуспеют в жизни, нежели лживые и обманщики, то религиозный идеализм, присущий пуританской мысли, превращается в лучшем случае в некий тривиальный прагматизм. Речь уже не идёт о том, чтобы человек стал образом Божьим, как думали более склонные к платонизму пуританские теологи. Скорее, «рано ложиться и рано вставать – делает человека здоровым, богатым и мудрым» – возможно, разумное правило, но не особенно возвышенное.
Хотя идеи Франклина и склонны приобретать несколько обыденный характер, они представляют то же движение, что стремится дать этике автономное основание и отделить её от теологии, которое мы находим в более сложных формах в европейской философии XVIII века. И сохранение пуританских добродетелей в секуляризированном виде имело значительное влияние на формирование американского мировоззрения.
Другим важным элементом американского Просвещения была секуляризация идеи общества. Кальвинизм с самого начала выступал против контроля над церковью со стороны государства. И хотя общая тенденция кальвинистов заключалась в том, чтобы обеспечить, насколько возможно, широкий контроль над обществом, в принципе они проводили различие между сообществом истинно верующих и политическим обществом. Более того, кальвинизм в Новой Англии принял форму конгрегационализма. И хотя на практике духовенство, будучи призванным, обладало большой властью, конгрегации теоретически были лишь добровольными объединениями единомышленников-верующих. Таким образом, когда эта идея общества была лишена своих теологических и религиозных ассоциаций, она оказалась пригодной для использования в целях демократического республиканизма. А теория общественного договора Локка послужила для этого инструментом.
Однако процесс секуляризации теории религиозного общества, характерной для новоанглийских конгрегационалистов, был лишь одним из факторов в более сложной ситуации. Другим фактором было возникновение в Новом Свете определённых пионерских сообществ, изначально имевших мало или вообще не имевших связи с различными религиозными группами и движениями. Общества новой границы должны были адаптировать принесённые с собой представления о законе и социальной организации к ситуациям, в которых они оказывались. И их главным желанием, очевидно, было обеспечить насколько возможно условия порядка, необходимые для предотвращения анархии и позволяющие индивидуумам достигать своих различных целей в относительном мире. Само собой разумеется, члены пионерских сообществ не сильно интересовались политической философией или философией вообще. В то же время они представляли растущее общество, которое неявно предполагало локковскую теорию свободного объединения людей, организованных и подчинённых закону с целью сохранения социальной структуры и порядка, которые сделали бы возможным мирное, хотя и конкурентное, осуществление личной инициативы. Кроме того, рост таких обществ, ставивших во главу угла временный успех, способствовал распространению идеи терпимости, которая отнюдь не была сильной стороной кальвинистских теологов и проповедников.
Идея политического общества как добровольного объединения людей с целью установления социального порядка, являющегося основой для мирного осуществления частной инициативы, закономерно сочеталась с идеей естественных прав, предшествующих любому организованному обществу и которые оно обязано защищать. Теория естественных прав, отстаиваемая Локком и другими английскими и французскими писателями, нашла выражение в «Правах человека» Томаса Пейна (1737–1809), деиста, настаивавшего на суверенитете разума и равенстве прав человека. Она также нашла мощного выразителя в лице Томаса Джефферсона (1743–1826), который, как известно, составил Декларацию независимости 1776 года. Этот знаменитый документ утверждает, что самоочевидной истиной является то, что все люди созданы равными, что их Творец наделил их определёнными неотчуждаемыми правами, среди которых – право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Далее в Декларации говорится, что цель правительств – обеспечить эти права, а их власть проистекает из согласия управляемых.
Само собой разумеется, что Декларация независимости была актом национального значения, а не упражнением в политической философии. И, совершенно не принимая во внимание тот факт, что значительная её часть состоит из обвинений в адрес британского монарха и его правительства, философия, просвечивающая в её первых фразах, не была полностью разработана в Северной Америке XVIII века. Так, сам Джефферсон просто предполагал, что утверждение о том, что все люди наделены своим Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, является здравым смыслом. То есть здравый смысл видит необходимость этой истины, не нуждаясь ни в каких доказательствах, хотя, как только её истинность признана, из неё могут быть выведены моральные и социальные следствия. В то же время философская часть Декларации прекрасно иллюстрирует дух и плоды американского Просвещения. И, конечно, её историческое значение не подлежит сомнению.
3. Влияние шотландской философии
Такие люди, как Франклин и Джефферсон, очевидно, не были профессиональными философами. Но на протяжении XIX века академическая философия получила значительное развитие в США. И среди мыслителей, повлиявших на это развитие, были Томас Рид и его последователи из Шотландской школы. В религиозных кругах шотландскую философскую традицию встречали с симпатией за её реалистический характер и как столь необходимое противоядие против материализма и позитивизма. Таким образом, она стала популярной среди протестантских теологов, осознававших отсутствие адекватного рационального основания для христианской веры.
Одним из главных представителей этой традиции был Джеймс Маккош (1811–1894), шотландский пресвитерианин, в течение шестнадцати лет занимавший кафедру логики и метафизики в Куинс-колледже в Белфасте, а позднее, в 1868 году, принявший пост президента Принстона и превративший этот университет в цитадель шотландской философии. Помимо написания ряда философских работ, таких как «Исследование философии Джона Стюарта Милля» (1866) и «Реалистическая философия» (1887), он опубликовал известное исследование «Шотландская философия» в 1875 году.
Среди последствий распространения шотландской традиции в Северной Америке – укоренившаяся привычка делить философию на теоретическую и моральную, причём первая – наука о человеческом разумении или психология – рассматривалась как основа второй – этики. Это разделение отражается в названиях широко распространённых учебников, опубликованных Ноем Портером (1811–1892), который в 1847 году был избран на кафедру моральной философии и метафизики в Йеле, а также несколько лет был его президентом. Например, в 1868 году он опубликовал «Человеческий интеллект»; в 1871 году – «Элементы интеллектуальной науки», краткое изложение предыдущей работы, а в 1885 году – «Элементы моральной науки». Однако Портер не был простым последователем Шотландской школы. Он серьёзно изучал не только английских эмпириков, таких как Дж. С. Милль и Бэйн, но и немецкую кантианскую и посткантианскую мысль. И он попытался осуществить синтез шотландской философии и немецкого идеализма. Так, он утверждал, что мир следует рассматривать скорее как мысль, чем как вещь, и что существование Абсолюта является необходимым условием возможности человеческого мышления и познания.
Попытку сочетать темы эмпиризма, шотландской философии здравого смысла и немецкого идеализма уже предпринял французский философ Виктор Кузен (1792–1867). Ректор Нормальной школы, ректор Парижского университета и, наконец, министр народного просвещения, Кузен имел возможность навязать свои идеи как выражение определённой философской ортодоксии в центре французской академической жизни. Но эклектическая философия, составленная из столь разнородных элементов, очевидно, была уязвима для серьёзной критики, основанной на её непоследовательности. Тем не менее, важно здесь то, что его мысль оказала определённое влияние в Северной Америке, особенно способствуя сочетанию идей, вдохновлённых шотландской традицией, с трансцендентализмом, вдохновлённым немецким идеализмом.
В качестве примера можно упомянуть Калеба Спрэга Генри (1804–1884), профессора Нью-Йоркского университета. Кузен всеми средствами пытался обосновать метафизику на психологии. Надлежащим образом применённое психологическое наблюдение раскрывает в человеке присутствие спонтанного разума, который служит мостом между сознанием и бытием и позволяет нам преодолеть границы субъективного идеализма, постигая, например, конечные субстанции как объективно существующие сущности. Философия, как продукт рефлексивного разума, эксплицирует и развивает объективные истины, непосредственно постигаемые спонтанным разумом. Это различие между спонтанным и рефлексивным разумом принял Генри, который, как набожный англиканец, придал ему теологическое основание и пришёл к выводу, что религиозный или духовный опыт предшествует и служит основой религиозного знания. Под духовным или религиозным опытом он, однако, понимал прежде всего моральное сознание добра и долга, сознание, проявляющее силу Бога воскрешать человека к новой жизни. Кроме того, у Генри материальная цивилизация становится плодом «рассудка», тогда как христианство, рассматриваемое исторически как искупительное деяние Бога, стремящееся к созданию идеального общества, является ответом на требования «разума» или духа.
4. Р. У. Эмерсон и трансцендентализм
В то время как шотландская философия проникала в университетские круги, знаменитый американский писатель Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882) проповедовал своё евангелие трансцендентализма. В 1829 году он стал унитарианским пастором. Но человек, вдохновлявшийся Кольриджем и Карлейлем, делавший акцент на моральном саморазвитии и стремившийся очистить религию от её исторических ассоциаций, более заботившийся о выражении своего личного видения мира, чем о передаче традиционного послания, не мог приспособиться к служению. И в 1832 году он оставил его, посвятив себя задаче развития и изложения новой идеалистической философии, которая, как он надеялся, сможет обновить мир так, как не смогли ни материализм, ни традиционная религия.
В 1836 году Эмерсон анонимно опубликовал небольшую работу «Природа», содержащую суть его послания. Его знаменитая речь, произнесённая в 1838 году на богословском факультете Гарварда, вызвала значительное противодействие со стороны тех, кто счёл её неортодоксальной. В 1841 и 1844 годах он опубликовал две серии «Эссе», а его «Стихотворения» появились в 1846 году. В 1849 году он опубликовал «Представительные люди» – сборник лекций, прочитанных в 1845–1846 годах о некоторых избранных знаменитых личностях от Платона до Наполеона и Гёте. Позднее он стал национальным институтом, «мудрецом из Конкорда», – судьба, которая иногда постигает тех, кого изначально считали носителями опасных новых идей.
В лекции, прочитанной в 1842 году в масонском храме Бостона, Эмерсон сказал, что так называемые «новые идеи» на самом деле являются очень старыми мыслями, перелитыми в форму, соответствующую современному миру. «То, что мы обычно называем “трансцендентализмом”, есть “идеализм”, “идеализм” таким, каким он предстаёт в 1842 году». Материалист опирается на чувственный опыт и на то, что он называет фактами, тогда как «идеалист исходит из своего сознания и называет мир видимостью». Таким образом, материализм и идеализм кажутся глубоко противоположными. Но как только мы начинаем спрашивать материалиста, что же на самом деле являются основными фактами, его прочный мир начинает рушиться. И при феноменализме всё в конечном счёте сводится к данным сознания. Таким образом, пройдя через критику, материализм стремится превратиться в идеализм, для которого «разумение есть единственная реальность… [а] природа, литература, история – лишь субъективные явления».
Это не означает, однако, что внешний мир является лишь творением индивидуального разума; скорее, он есть продукт единого универсального духа или сознания, «того Единства, той Сверх-Души, в которой заключено индивидуальное бытие каждого человека и объединено со всеми другими». Эта Сверх-Душа, вечное Единое или Бог, есть единственная конечная реальность, а природа – её проекция. «Мир происходит от того же духа, что и тело человека. Это более отдалённая и низшая проекция Бога, проекция Бога в бессознательное. Но он отличается от тела в одном важном отношении: он не подвержен, как тело, человеческой воле; его невозмутимый порядок не может быть нарушен нами. Следовательно, для нас он есть текущее выражение божественного разума».
На вопрос о том, откуда Эмерсону всё это известно, нельзя ответить какими-либо систематически разработанными доказательствами. Фактически, Эмерсон настаивает на том, что человеческий разум предполагает и ищет конечное единство. Но он также утверждает, что «мы познаём истину, когда видим её, что бы ни говорили скептик и насмешник». Когда глупый человек слышит то, что не хочет слышать, он спрашивает, откуда говорящий знает, что его утверждение истинно. Но «мы познаём истину, когда видим её, по мнению, точно так же, как мы знаем, что бодрствуем, когда бодрствуем». Веления души, как говорит Эмерсон, суть «влияние божественного разума на наш разум»: они являются откровением, сопровождаемым эмоцией возвышенного.
Можно было бы ожидать, что из этой теории единства человеческой души со Сверх-Душой или божественным духом Эмерсон сделает вывод о незначительности индивида как такового и о том, что духовный или моральный прогресс состоит в растворении собственной личности в Едином. Но это не полностью его точка зрения. Сверх-Душа, говорит Эмерсон, воплощается особым образом в каждом индивиде. Таким образом, «каждый человек имеет своё собственное призвание. Талант есть зов». И вывод таков: «Настаивай на том, что ты есть, никогда не подражай». Конформизм – порок; уверенность в себе – кардинальная добродетель. «Те, кто хочет быть людьми, должны быть нонконформистами». Эмерсон, фактически, даёт теоретическое обоснование для этого восхваления уверенности в себе. Божественный дух существует сам по себе, и его воплощения хороши постольку, поскольку они причастны этому атрибуту. В то же время, в моральной теории Эмерсона небеспричинно усматривают выражение молодого, сильного, развивающегося и конкурентного общества.
Согласно Эмерсону, всеобщая практика уверенности в себе привела бы к возрождению общества. Государство существует для того, чтобы наставлять благоразумного человека, человека характера; и с появлением благоразумного человека государство исчезает. Появление характера делает государство ненужным». Что, несомненно, означает, что если индивидуальный характер будет полностью развит, государство как орган силы станет ненужным, и его место займёт общество, основанное на моральном праве и любви.
Само собой разумеется, что Эмерсон, как и Карлейль, был скорее провидцем, чем систематическим философом. Он, безусловно, доходил до утверждения, что «безумная последовательность – это домовой ограниченных умов, обожаемый маленькими государственными деятелями, философами и теологами. Великая душа просто не имеет дела с последовательностью». Верно, что его главная мысль заключается в том, что человек должен сохранять свою интеллектуальную целостность и не бояться говорить то, что он действительно думает сегодня, даже если это противоречит тому, что он сказал вчера. Но он отмечает, например, что если в метафизике мы отрицаем личность Бога, это не должно мешать нам думать и говорить иначе, «когда ощущаются набожные порывы души». И хотя можно понять, что хочет сказать Эмерсон, систематический философ, придерживающийся такой точки зрения, был бы ближе к тому, чтобы следовать за Гегелем, явно указывая на различие между языком спекулятивной философии и языком религиозного сознания, нежели довольствоваться пренебрежением к последовательности как к домовому ограниченных умов. Иными словами, философия Эмерсона была импрессионистической и тем, что иногда называют «интуитивной». Она выражала личное видение реальности, но не облачалась в обычные одежды безличного аргумента и точного утверждения. Некоторые, конечно, могут считать это её достоинством; но факт в том, что если мы ищем систематического развития идеализма в Северной Америке, нам следует обратить внимание в другую сторону.
Эмерсон был главной фигурой Трансценденталистского клуба, основанного в Бостоне в 1836 году. Другим членом, высоко ценимым Эмерсоном, был Эймос Бронсон Олкотт (1799–1888), глубоко духовный человек, который, помимо попыток внедрения новых методов в образование, основал утопическую общину в Массачусетсе, хотя она просуществовала недолго. Склонный к туманным и загадочным высказываниям, он позднее был побужден гегельянцами из Сент-Луиса попытаться прояснить и определить свой идеализм. Среди других, так или иначе связанных с трансцендентализмом Новой Англии, можно упомянуть Генри Дэвида Торо (1817–1862) и Орестаса Августа Браунсона (1803–1876). Торо, знаменитая литературная фигура, был привлечён Эмерсоном, когда тот читал лекцию «Американский учёный» в обществе «Фи Бета Каппа» в Гарварде в 1857 году. Что касается Браунсона, его духовное паломничество привело его через различные стадии пресвитерианства к католичеству.
5. У. Т. Харрис и его программа спекулятивной философии
В 1867 году в Сент-Луисе (Миссури) вышел первый номер «Журнала спекулятивной философии» под редакцией Уильяма Торри Харриса (1835–1909). Харрис и его последователи внесли значительный вклад в распространение немецкого идеализма в Америке; эта группа известна как «гегельянцы Сент-Луиса». Харрис также был одним из основателей Кантовского клуба (1874). Эта группа имела определённые связи с трансценденталистами Новой Англии, и в 1880 году Харрис помог основать Конкордскую летнюю школу философии, в которой сотрудничал Олкотт. В 1889 году президент Гаррисон назначил его комиссаром по образованию США.
В первом номере Журнала спекулятивной философии Харрис говорил о необходимости спекулятивной философии, которая служила бы трем основным целям. Во-первых, обеспечить адекватную философию религии для эпохи, когда традиционные догматы и церковный авторитет теряли влияние на человеческую мысль. Во-вторых, разработать социальную философию в соответствии с новыми требованиями национального самосознания, которое заменяло чистый индивидуализм. В-третьих, раскрыть наиболее глубокие импликации новых идей в науке, в области которой, как утверждал Харрис, эпоха чистого эмпиризма определённо миновала. Поскольку под спекулятивной философией Харрис понимал традицию, начавшуюся с Платона и достигшую наиболее полного выражения в системе Гегеля, он призывал к развитию идеализма, вдохновлённого немецкой посткантианской философией, но соответствующего американским потребностям.
Было несколько попыток выполнить эту программу – от персоналистического идеализма Хоуисона и Боуна до абсолютного идеализма Джосайи Ройса. И поскольку Хоуисон и Боун родились раньше Ройса, возможно, с них и следует начать. Тем не менее, я намерен посвятить следующую главу Ройсу, а в последующей кратко рассмотреть персоналистических идеалистов и других философов, принадлежащих к идеалистической традиции, упомянув некоторых мыслителей, моложе Ройса.
Однако, возможно, стоит сразу сказать, что в американской мысли трудно провести чёткую границу между персоналистическим и абсолютным идеализмом. В определённом смысле Ройс также был персоналистическим идеалистом. Иными словами, та форма, которую абсолютный идеализм приобрёл у Брэдли с релятивизацией личности к сфере видимости в противоположность сфере реальности, не была принята американской мыслью. И в целом считалось, что само выполнение программы Харриса требует, чтобы человеческая личность не была принесена в жертву на алтарь Единого, хотя, конечно, существовали разногласия относительно того, чему следует уделять больше внимания: некоторые мыслители выбирали Множественность, другие – Единое. Таким образом, различие между персоналистическим и абсолютным идеализмом правомерно, если иметь в виду только что сделанную оговорку.
Следует также отметить, что термин «персоналистический идеализм» несколько неоднозначен в контексте американской мысли. Его использовал, например, Уильям Джеймс для своей собственной философии. Но хотя использование термина, несомненно, было оправданно, для Джеймса больше подходит название прагматиста.
Философия Ройса
1. Сочинения Ройса до «Лекций Гиффорда»
Джосайя Ройс (1855–1916) поступил в Калифорнийский университет в шестнадцать лет и окончил его в 1875 году. Работа о теологии «Прикованного Прометея» Эсхила принесла ему стипендию, позволившую провести два года в Германии, где он читал немецких философов, таких как Шеллинг и Шопенгауэр, и учился у Лотце в Гёттингене. После получения докторской степени в Университете Джонса Хопкинса в 1878 году он несколько лет преподавал в Калифорнийском университете, а затем перешёл в Гарвард в качестве преподавателя философии. В 1885 году он был назначен ассистент-профессором, а в 1892 году – профессором. В 1914 году он принял Альфордовскую кафедру философии в Гарварде.
В 1885 году Ройс опубликовал «Религиозный аспект философии», где утверждал, что невозможность доказать универсальную и абсолютную значимость морального идеала, принятого любым данным индивидом, склонна вызывать моральный скептицизм и пессимизм. Более тщательное исследование показывает, однако, что простой поиск абсолютного и универсального идеала проявляет в ищущем индивиде моральную волю, стремящуюся к гармонизации всех индивидуальных идеалов и ценностей. И тогда в индивиде возникает сознание того, что он должен жить так, чтобы его жизнь и жизни других людей образовывали единство, направленное к общей идеальной цели. С этой идеей Ройс связывал восхваление социального порядка, особенно государства.
Возвращаясь к проблеме Бога, Ройс отвергает традиционные доказательства существования Бога и развивает доказательство Абсолюта, исходя из признания ошибки. Мы привыкли думать, что ошибка возникает, когда мысль перестаёт соответствовать объекту, к которому она относится. Но очевидно, что мы не можем встать на место внешнего наблюдателя, находящегося вне отношения субъект-объект, способного увидеть, соответствует ли мысль своему объекту или нет. И рассмотрение этого факта может привести к скептицизму. Тем не менее, ясно, что мы способны распознавать ошибку. Мы не только можем выносить ошибочные суждения, но и знать, что мы их вынесли. И дальнейшее исследование показывает, что истина и ошибка имеют смысл только по отношению к полной системе истины, которая должна присутствовать в абсолютном мышлении. Иными словами, Ройс принимает теорию истины как когерентности и переходит от неё к утверждению абсолютного мышления. Как он говорил позже, мнения индивида истинны или ложны по отношению к более широкому постижению. И его аргумент состоит в тезисе о том, что мы не можем остановиться, не дойдя до идеи божественного, всеобъемлющего постижения, которое в исчерпывающем единстве включает наше мышление и его объекты и является конечной мерой истины и заблуждения.
Таким образом, в «Религиозном аспекте философии» Абсолют определяется как мысль. «Вся реальность должна присутствовать в единстве Бесконечной Мысли». Но Ройс не понимает этот термин в смысле, исключающем определения Абсолюта как воли или опыта. И в «Понятии Бога» (1897) он говорит, что существует абсолютный опыт, который по отношению к нам подобен целому органическому по отношению к его составным элементам. И хотя Ройс часто использует термин «Бог», очевидно, что божественное существо для него есть Единое, целокупность. В то же время Бог или Абсолют мыслятся как сознающие себя. И логическим следствием из этого является то, что конечные «я» суть мысли Бога в Его собственном акте самопознания. Таким образом, вполне понятно, что Ройс вызвал оппозицию со стороны персоналистических идеалистов. На самом деле, однако, он не стремился растворить Множественность в Едином так, чтобы конечное самосознание сводилось к необъяснимой иллюзии. Таким образом, он был вынужден разработать теорию отношения между Единым и Множественностью, которая не сводила бы последнее к иллюзорной видимости и не делала бы термин «Единое» совершенно неподходящим. И это была одна из главных тем «Лекций Гиффорда» Ройса, к которым мы обратимся в следующем разделе.
Идея Ройса о Боге как абсолютном, всеобъемлющем опыте логически обязывает его, как и Брэдли, обратиться к проблеме зла. В «Исследованиях добра и зла» (1898) он отвергает любую попытку уклониться от темы, утверждая, что страдание и моральное зло – иллюзии. Напротив, они реальны. Следовательно, мы не можем избежать вывода о том, что Бог страдает, когда страдаем мы. И мы должны предположить, что страдание необходимо для совершенства божественной жизни. Что касается морального зла, оно также необходимо для совершенства вселенной, потому что добрая воля предполагает зло как нечто, что должно быть преодолено. Верно, что с точки зрения Абсолюта мир, как объект бесконечной мысли, есть совершенное единство, где зло уже преодолено и подчинено добру. Но от этого оно не перестаёт быть составляющим элементом целого.
Если Бог – это имя вселенной, и если страдание и зло реальны, очевидно, что их следует локализовать в Боге. Если же, с другой стороны, существует абсолютная перспектива, с которой зло вечно преодолено и подчинено добру, вряд ли можно сказать, что Бог – просто имя вселенной. Иными словами, проблема отношения между Богом и миром обостряется. Но идеи Ройса по этому вопросу лучше видны в связи с его первоначальным изложением философии.
2. Смысл бытия и природа идей.
Двухтомник «Мир и индивид», составленный из цикла «Лекций Гиффорда», увидел свет в 1900 и 1901 годах соответственно. В них Ройс начинает с определения природы Бытия: когда мы утверждаем, что Бог есть, мир есть или конечное Я есть, всегда можно спросить о значении этого «есть». Этот термин, который Ройс называет «экзистенциальным предикатом», часто трактуется как нечто простое и неопределимое. Однако в философии простые и предельные понятия столь же важны для изучения, как и сложные, производные. Ройс, впрочем, использует термин «бытие» не в узком смысле существования; его также интересует определение «различных типов Реальности, которые мы приписываем Богу, Миру и человеческому Индивиду». Если говорить традиционным языком: он занимается как сущностью, так и существованием; на его собственном языке: и что (what), и то (that). Ибо, утверждая, что X есть или существует, мы утверждаем, что есть некий X, нечто, обладающее определенной природой.
Фактически проблема определения смысла того, что Ройс называет экзистенциальным или онтологическим предикатом, немедленно превращается для него в проблему определения природы реальности. И возникает вопрос: как следует подходить к такой проблеме? Может показаться, что лучший способ – рассмотреть реальность такой, как она дана в опыте, и попытаться понять ее. Но Ройс настаивает: реальность может быть понята только посредством идей. Таким образом, совершенно необходимо уяснить, что такое идея и как она соотносится с реальностью. «Я принадлежу к тем, – говорит он, – кто полагает, что вопрос “Что есть идея?” и “Как идеи могут иметь истинное отношение к Реальности?” – это наиболее благоприятный способ распутать главный узел мира».
То, что, объявив о намерении рассматривать проблему Бытия, Ройс переключает внимание на природу идей и их связь с реальностью, способно разочаровать и раздразнить читателя. Однако его подход легко объясним. Как мы видели, в «Религиозном аспекте философии» Ройс описывает Бога как абсолютную мысль. И его обращение к проблеме Бытия через теорию идей подсказано только что принятой им метафизической позицией: приматом мысли. Поэтому, утверждая «первенство Мира как Идеи над Миром как Фактом», он говорит на языке идеалистической традиции, как он ее видит, – традиции, согласно которой мир есть самоосуществление абсолютной Идеи.
Прежде всего, Ройс различает внешний и внутренний смысл идеи. Предположим, у меня есть идея горы Эверест. Естественно думать о такой идее как о чем-то, что указывает и репрезентирует внешнюю реальность – реальную гору. Эту репрезентативную функцию Ройс и понимает как внешний смысл идеи. Но теперь предположим, что я художник и у меня в голове есть идея картины, которую я хочу написать. Такую идею можно определить как «частичное осуществление цели». Этот аспект идеи Ройс называет ее внутренним смыслом.
Здравый смысл, несомненно, готов признать, что идея в сознании художника может быть правильно определена как частичное осуществление цели. И в этом он допускает существование внутреннего смысла. Однако сам по себе здравый смысл, вероятно, считал бы первичной репрезентативную функцию идеи, даже если речь идет о представлении чего-то еще не существующего, а именно задуманного произведения искусства. А если взять идею, например, о численности населения Лондона, здравый смысл подчеркнул бы ее репрезентативный характер и спросил, соответствует ли она внешней реальности или нет.
Ройс же утверждает, что первичен именно внутренний смысл идеи, а в конечном счете внешний смысл есть лишь «аспект полностью развитого внутреннего смысла». Предположим, я хочу выяснить количество людей или семей в определенной области. Очевидно, я хочу выяснить это для определенной цели. Возможно, мне поручен план строительства, и мне нужно узнать численность, чтобы рассчитать необходимое количество домов или квартир для уже проживающего населения в районе, подлежащем реконструкции. Очень важно, чтобы моя идея о населении была точной. Следовательно, важен внешний смысл. В то же время я пытаюсь получить точную идею ради осуществления цели. И эту идею можно рассматривать как частичное или неполное осуществление самой цели. В этом смысле первичен внутренний смысл идеи. Согласно Ройсу, внешний смысл сам по себе – это абстракция, отвлеченная от своего контекста: осуществления цели. Когда его возвращают в этот контекст, видно, что внутренний смысл первичен.
Какова же связь между этой теорией смысла идей и решением проблемы реальности? Ответ, очевидно, в том, что Ройс пытается представить мир как воплощение абсолютной системы идей, которые сами по себе являются неполным осуществлением цели. «В качестве ответа на вопрос “Что есть бытие?” мы предлагаем утверждение, что “быть значит просто выражать, воплощать полный внутренний смысл некой абсолютной системы идей: системы, которая, более того, реально подразумевается в истинном смысле, или внутренней цели, всякой конечной, хотя и фрагментарной идеи”». Ройс признает, что эта теория не нова. Например, она по сути совпадает с линией мысли, которая «привела Гегеля к тому, чтобы назвать мир воплощенной Идеей». Но, хотя теория и не нова, «я считаю ее фундаментальной и неисчерпаемой по важности».
Иными словами, Ройс сначала интерпретирует функцию человеческих идей в свете уже существующей идеалистической убежденности в примате мысли. Затем он использует эту интерпретацию как основу для развернутой метафизики. Одновременно он пытается диалектически обосновать собственное понимание смысла «бытия», последовательно рассматривая различные типы философии, чтобы выявить их несостоятельность. И хотя мы не можем вдаваться в детали, полезно обозначить общие контуры его аргументации.