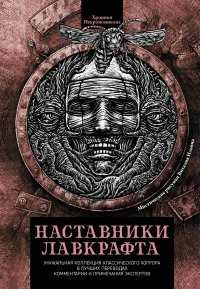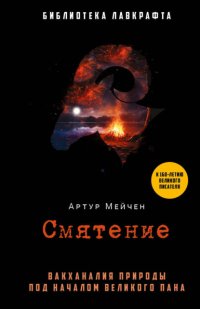
Читать онлайн Смятение бесплатно
- Все книги автора: Артур Мейчен
Arthur Machen
The Terror
Перевод с английского языка и примечания Анны Третьяковой, Елены Пучковой, Артёма Агеева
Вступительная статья А. В. Маркова
© Третьякова А. В., перевод на русский язык, примечания, 2023
© Пучкова Е. О., перевод на русский язык, примечания, 2023
© Агеев А. И., перевод на русский язык, примечания, 2023
© Марков А. В., вступительная статья, 2023
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2023
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2023
* * *
Экзорцист истории и мифотворец поэзии: об Артуре Мейчене
Артур Мейчен (при рождении – Артур Ллевеллин Джонс, 1863–1947) – писатель, которым легко увлечься; а вот определить его место в мировой литературе несколько сложнее. Он – абсолютный литературный кумир Лавкрафта, Борхеса и Стивена Кинга. Но у него вроде бы нет ни собственной вселенной с ее странными законами, как у Лавкрафта, ни всеобъемлющей игры сюжетами и словесными мирами, как у Борхеса, ни страшного гиперреализма, сливающегося вдруг с нашей жизнью, как у Кинга. Точнее, у него это все есть – но как семя, как возможность, порой – как стратегия и линия развития повествования.
Мейчен ближе к своим современникам: например, к Генри Джеймсу и технике ненадежного рассказчика в «Повороте винта» или к Артуру Конан Дойлю и дедуктивному методу Шерлока Холмса. Надо сказать, Мейчен очень чтил своих чуть более удачливых соперников и упоминает похождения Холмса в своих сочинениях. В то же время Мейчен, проживший долгую и местами счастливую жизнь, – писатель того переходного времени, когда старый готический рассказ уже превратился в инертный агрегат – да и сам валлийский писатель иногда делал из него агрегат пародии или самопародии, – а новый принцип повествования, в котором бытовая и метафизическая реальности соперничают, а борьба идет не за стиль, а за реальность, только зарождался. Поэтому Мейчена можно назвать последним готическим писателем и вместе с тем – первым фантастическим модернистом; оба эти определения будут верными.
Чтобы понять, что сделал Мейчен, следует немного сказать о том, как стал возможен кризис готической прозы. Проще всего сослаться на комбинаторику и заявить, что число комбинаций разных страхов, преступлений и неведомых вторжений духов в человеческую жизнь ограничено – и рано или поздно жанр начинает повторяться. Но это ответ столь же напрашивающийся, сколь и неверный. Ведь новый взгляд на привычное никто не отменял, можно всегда вводить новых героев или выводить из старых ситуаций более сложные – развивать готический рассказ как математику, доказывая все более сложные теоремы. Но подобно тому как в математике и любой другой науке бывает не только развитие методов, но и качественные скачки, например, появление топологии или квантовой физики, так бывает качественное преобразование и в литературе. И оно связано с языком.
В западной литературе XIX века существовало жесткое сопряжение языка и события: если ты умеешь правильно говорить, то ты можешь правильно организовывать события; если ты умеешь излагать, ты можешь как-то исправлять события. Поэтому из повествования были почти исключены, например, слуги или жители далеких стран, – и как раз русская литература, где оказались возможными реплика немого, «маленького человека», скандал по Достоевскому на грани речи и крика, высказывание слуги, иностранца, чудака или пошлого обывателя, предвосхитила мировую художественную словесность XX века. Кризис, таким образом, претерпевала система литературного повествования позапрошлого столетия: мистическое уже не могло быть просто «другим» по отношению к обыденным событиям, оно получало разные голоса, разные языки, начинало по-разному провоцировать человека и по-разному определять то тексты, то события, то отношение к событиям. Мистическое становилось не просто многоголосым, оно по-разному и совсем непредсказуемо начинало разворачивать и поворачивать к себе литературу.
В поэзии это произошло раньше: наверное, начиная с Бодлера с его мистикой большого города. В прозе это начинается в конце XIX века, одновременно с рождением психоанализа, утверждавшего, что «другое», бессознательное с его ужасами и преступлениями может определять и сюжеты нашей жизни, и наше отношение к этим сюжетам, и наш способ писать или говорить о них.
Артур Мейчен относится к этой новой ситуации с энтузиазмом первооткрывателя. Конечно, биографические перипетии способствовали такому, почти литературному, надрыву: родившись в Уэльсе, в семье провинциального священника, он превратил жизнь прихода и округа в материал для своих страшных историй. «Каков поп, таков и приход», – но если священник не может даже платить за школу сына и решает учить его самостоятельно по книгам своей библиотеки, если многие решения принимаются родителями нервически и необдуманно, то и приход, и жизнь крестьян или местных врачей будет таить в себе невероятные загадки, роковые ошибки и вызовет выстраивание собственной жизни по сказкам, потому что других сюжетов нет. На писателей давит новая промышленная революция и новые стандарты производства, все вещи становятся одинаковыми, а все бытовые сюжеты – избитыми; но давит и прошлое, потому что другого языка, позволяющего объяснить бедность и заброшенность провинции, кроме старых сказок, у тебя нет.
В этот период (последней трети XIX века), как показал Эрик Хобсбаум, и происходит «изобретение традиций»: вещи стандартны, легко всем объяснить, что такое «быть англичанином» или «быть шотландцем», «создать» национальный образ жизни и национальный дизайн. И Мейчен показывает изнанку этой стандартизации: ситуации, в которых феи, сильфиды или ожившие рыцарские доспехи вдруг заявляют, что они реальнее правил производства. Инструкции к оборудованию уже прочитаны, и сама сильфида начинает инструктировать и пугать человека. В этом смысле Мейчен напоминает Гоголя, который боялся «культурных» и бюрократических стандартов и противопоставлял им всю «страшную месть» традиции.
В библиотеке отца Мейчена имелись книги, которые навсегда определили литературные предпочтения будущего писателя: собрание сочинений Вальтера Скотта, «Сказки тысячи и одной ночи» и «Признания курильщика опиума» Де Квинси. Сложно найти сколько-нибудь значительное произведение Мейчена (не считая совсем коротких рассказов), где не давалось бы по крайней мере мимолетной отсылки ко всем трем этим литературным мирам. У Скотта Мейчен научился серьезно воспринимать местные легенды с их причудами, любовными страданиями длиной в жизнь и населять их современными людьми, с современными представлениями о достоинстве, успехе и обязанностях. Правда, для шотландского романиста «современный» человек – аристократ или подражающий аристократу буржуа; человек, связанный слишком разными обязанностями, а потому обретающий в литературе инструкцию, как хоть немного отличаться от ближайших предков и хотя бы часть обязанностей выполнять более свободным образом.
Из «Сказок тысячи и одной ночи» Мейчен усвоил, что при работе с вещами как таковыми трудно различать правду и ложь. Можно отличить подлинную монету от поддельной, если ты нумизмат, работник банка или даже внимательный покупатель, но как разобраться в них, если ты живешь в мире, где эту монету видят впервые, а если речь идет о драгоценном камне, ты должен поверить, что перед тобой именно драгоценный камень, хотя тебе не с чем его сравнивать.
Наконец, Де Квинси показал Мейчену, как вообще надо писать, как создавать достоверное повествование о недостоверном и лукавом предмете. Ты никогда не можешь описать свои измененные состояния сознания, хотя бы потому что запоминаешь их не полностью (они устроены так, что запомнить их полностью нельзя), но при этом ты можешь достоверно говорить о том, что такие состояния имели место – просто потому, что они стали частью твоей жизни и их уже не отменить. Это меланхолическое принятие последствий химического действия на организм Мейчен рассматривает на примере курения: одной из первых его публикаций было сочинение «Анатомия табака» (1884), размышление (по образцу «Анатомии меланхолии» Бёртона) о том, как медлительность курильщика делает его сверхчувствительным и не способным избавиться от своей сверхчувствительности.
Потерпев неудачу при поступлении в Лондонский медицинский колледж, Мейчен стал зарабатывать на жизнь переводами: «Гептамерон» Маргариты Наваррской и «Мемуары» Казановы. Он не отказывался ни от какой литературной работы, выступая редактором, рецензентом, библиографом, и за несколько лет добивается значительного успеха. Женившись на Эми Хогг, преподавательнице музыки, он вошел в круги театральной и музыкальной лондонской богемы, а получение наследства окончательно избавило его от страхов за будущий день, позволив не просто писать для журналов, но и выбирать литературных кумиров, тщательно продумывая, что нового можно сказать в сравнении с ними.
Первым таким кумиром стал Роберт Луис Стивенсон, автор «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда». Стивенсон привлек Мейчена сразу несколькими достоинствами: неожиданные промежуточные развязки (а не только окончательная); намеки на болезни и безумие, данные очень деликатно; любовь к контрастам и почти детская пытливость; наконец, извлечение из викторианского внимания к картинам и вообще произведений искусства настоящей эссенции – артефакта, который может определять сюжет или составлять неотвязную идею самых разных героев, ни в чем не сходных. Конечно, и у Стивенсона, и у Мейчена это было только предвестием детектива, основанного на поиске артефакта и его эффекта на людей, ничем не связанных друг с другом, то есть того жанра, к которому мы привыкли, но… стратегия которого была для своего времени революционной и скандальной.
Повесть «Великий бог Пан» (1890, доп. 1894) стала ожидаемым скандалом. Намек на то, что похотливый Пан может равно вредить женщинам и мужчинам, был вызовом для викторианского общества. Но Мейчен и желал скандала – в ту пору он подружился с Оскаром Уайльдом, а обложку для книгу сделал не кто иной как Обри Бердслей, известный иллюстратор шотландского эстета. Можно сказать, Мейчен сорвал настоящий джекпот провокации. Однако коммерческий успех модернистской литературы был тогда весьма ограничен, и даже когда друг Мейчена Жан-Поль Туле выполнил перевод «Пана» на французский, и этот текст ждал публикации несколько лет и большого энтузиазма у публики не вызвал: во Франции провокации были часты, но успех их длился недолго. В конце концов Мейчен чуть было не разочаровался в литературе и на какое-то время отправился работать актером в труппу сэра Фрэнка Бенсона.
Эта повесть – любимое произведение Стивена Кинга: он считает ее перевешивающей всю предшествующую готическую традицию, что неудивительно. Прежде всего, ключ к тайнам дается в конце произведения: до этого мы изучаем разные версии происходящего, каждая из которых не просто реалистична, но гиперреалистична. Далее, в этой повести Мейчен вводит что-то вроде конан-дойлевской техники улик, и улики эти прямо выставлены, прямо заметны, но – непонятно, как их толковать (а не как их соотнести с сюжетом); это усиливает гиперреализм.
Кроме того, в повести есть не просто «техническая» сюжетная линия, а прямое предвосхищение киберпанка и подобных условных «содружеств» человеческого организма и техники: завязкой произведения служит хирургическая операция, которая должна разблокировать третий глаз; она-то и вызывает «страшную месть» – не то самого Пана, не то дочери испытуемой; пусть с этим разберется читатель. Наконец, повесть преисполнена отсылок и к произведениям искусства, и к культурным обычаям – например, пляска жизни фавнов изображена так, что вызовет ассоциации и с античным фризом, и со средневековыми изображениями пляски смерти, и со старинными картинами родословной.
При всем своем викториански-усадебном антураже повесть вызывающе современна: например, «вуаль» можно посчитать метафорой воскрешаюшей голограммы из современной фантастики; читая, как «великая истина свалилась» на героя, – представить чип с искусственным интеллектом, безмерно расширяющий возможности мозга; читая о нервных центрах, будто не просто испытывающих укол, а словно колющих мир, вспоминать о нейросети и различных кибернетических вмешательствах в мозг – и весь известный нам киберпанк.
Кроме того, внимательный читатель откроет здесь изумительную игру артефактов: не только мраморная голова Пана, но и чернильный портрет (артефакт дополнительный) объясняет происходящее. Эта повесть при небольшом объеме – настоящее путешествие по культурам. Досье лежит в ящике работы Чиппендейла, этого Страдивари (или Вателя) английской мебели из колониального красного дерева; дальше упоминается японское бюро с его криминальной документацией; используется метафора вложенных друг в друга китайских шкатулок; наконец, расследование заканчивается за бамбуковым столиком. И это не экзотика ради экзотики, не тешащее глаз мелькание стилей, но следование очень строгой концепции: мир заколдован, заворожен преступлением, и нужно испробовать стили всех культур, которые вдруг расколдуют глухой и невосприимчивый к привычной речи мир.
При изображении Лондона используется другой код, не экзотический, а животный. Этот почти бодлеровский город, с нищетой и проституцией, может быть расколдован, хотя бы частично, с помощью животных метафор, вроде «пташка нашла червяка», или «рыбка вынырнула» (про жизнь позорных домов). В этой повести Мейчен утверждает: современный мир пал совсем низко, даже ниже звериного состояния, люди опустились до состояния «тварей», и потому расколдовывать его особенно трудно. Приходится принести в жертву и девушку, чтобы искупить ошибки христиан, и ребенка, чтобы искупить громоздкие суеверия язычества, – но как это делается, призываю читать самостоятельно.
Окрыленный успехом, в 1895 году Мейчен публикует роман в рассказах «Три самозванца», где благодаря нескольким артефактам, важнейший из которых – монета Тиберия, символ римских бесчинств, сплетаются совершенно разные сюжеты, происходящие в разных комнатах жизни; преступника же – ловят на проклятый тиберий. В этом романе упоминается Шерлок Холмс собственной персоной, да и сами основные персонажи имеют в себе что-то «холмсовское». Антураж произведения более чем меланхоличен: «тритон извлекает погребальную музыку из разбитого рожка», сама земля запустела и чуть ли не умерла, как в стихотворении Фета «Никогда», но герои – колоритны и гордятся своими характерами. Это очень «английские» герои. Дайсон, графоман и dilettante, знаток древностей – типично британское реноме, соединяющее любовь к частной собственности и частным коллекциям с имперским сознанием «новых римлян», более удачливых. Грегг, врач и химик – машина развития науки; он пишет ключевой трактат по сравнительной мифологии, как это будут делать реальные Фрэзер и другие кембриджские специалисты по древностям. Мисс Лалли, охотно растворяющаяся душой в парковых и лесных пейзажах – новая Шахерезада новой версии «Тысячи и одной ночи». Бёртон – ориенталист, любитель экзотики, создатель музея пыток и одновременно другого, воображаемого, музея – вероятно, первая, задолго до «Ориентализма» Э.-В. Саида, пародия на знатока Востока. Между этими персонажами и мечется истина – мечется на крыльях домыслов.
Лондон в этом романе иной, он состоит не из бодлеровских ужасов, а из… недостаточно оформленных метафор: это и крепость с валами и рвами, и «мир людей» (по словам Бёртона в одном из эпизодов романа), то есть место «цивилизации»: здесь и монастырь, и университет, и целая вселенная, где есть даже свой «кусочек Франции» – именно там происходит встреча с Уилкинсом, совершенно диккенсовским персонажем, американским авантюристом и одновременно разоблачителем бандитизма. Нужно заметить, что в этом романе имеет место целый ряд стандартных персонажей (например, связно излагающая цепочку событий служанка, идеальный наблюдатель-резонер), но они могут быть упомянуты вскользь, не входя в механику основного сюжета. Главные же герои постоянно переходят дорогу этой механике, наблюдая химию симпатии, взаимного влияния отдельных событий, но до поры – не понимая физики событий, с которыми сталкиваются.
В этом романе обыгрываются и некоторые мифы, например, ситуация исчезновения брата одного из героев и его последующая метаморфоза повторяет миф о близнецах, согласно которому испытания близнецов – единственный путь к обожению рода (а не отдельного человека). Эти мифы часто не видны при первом прочтении, зато обнаруживаются при перечитывании.
В 1899 году Мейчена настигает несчастье, умирает его жена, и он впадает в депрессию, часами бродя по городу и разглядывая витрины. Писателя спасает его друг – Артур Эдвард Уэйт; он приглашает Мейчена в общество «Орден Золотой Зари», где состояли поэт У. Б. Йейтс, писатели Элджернон Блэквуд, Алистер Кроули, Дион Форчун, Эвелин Андерхилл, президент Королевской академии Джеральд Келли, возлюбленная Бернарда Шоу актриса Флоренс Фарр, Констанция Мэри Уайльд, законная жена великого писателя и приятеля Мейчена. После раскола общества в 1903 году вслед за Уэйтом Мейчен переходит из «Храма Исиды-Урании» в «Независимый и Очищенный Орден R. R. et А. С.», члены которого отвернулись от постоянных дрязг и бесплодных идейных споров между Мэтерсом, Кроули и Йейтсом. Литература в ту пору не приносит Мейчену большого дохода, и, работая, как сказано, актером и заведующим литературной частью театра, он знакомится с Дороти Пьюрфой Хэдлстон (1878–1947), которая станет его второй женой.
Повесть «Белые люди» (1904), это небольшое и изящное произведение, стала одним из знаков выхода Мейчена из кризиса. Это повесть о странном (weird); о том, как странен не малый, а великий грех. Ведь великий грех – это не столько разбой или массовое убийство, сколько метафизическая кража, совершая которую преступник крадет у человечества будущее, крадет веру – стебель розы, надежду и любовь – розу расцветшую. Вот как прочитывается метафора «великого греха» как порядка вещей, при котором «розы в саду заводят странную песнь». В русской литературе я знаю только одно произведение, похожее на эту повесть, – «Антихрист» (1907) В. П. Свенцицкого, выстроенный как исповедь великого злодея. Только если для Свенцицкого источником вдохновения послужили «Бесы» Достоевского, то для Мейчена – «Макбет» и другие пьесы Шекспира. Валлийский маг показывает современный мир, в котором святые невыносимы для людей, которые проецируют на них и приписывают им свои недостатки, в силу чего мир погружается в великий антихристов грех.
При всей «фольклорности» эта повесть устроена изощренно: в ней есть и поиск края света с помощью экфрасиса, и оживление няниных сказок в современной жизни, и спектакли любительских театров, выдаваемые за тайные обряды, и магия из детских стишков, в которых все вдруг становится «вверх дном». Но главное, в ней есть сама «Зеленая книжица», как бы малый «Некрономикон», предвосхищение вымысла Лавкрафта. Такая книга как будто содержит в себе все ключи, все определения и стратегии объяснения, но на деле она оказывается системой саморазвивающихся ускользающих символов – тогда как в реальность мы должны вступить самостоятельно. «Белые люди» отчасти вдохновили Гильермо дель Торо на «Лабиринт Фавна», но если у мексиканского кинорежиссера сатирически изображается диктатура Франко, то у Мейчена, который в поздние годы как раз симпатизировал Франко как борцу против социалистов (которых считал пошляками), показана тень другого насилия. Заколдованная кукла – символ скрытого изнасилования, как она выступает у романтиков; она мстит насильнику-соблазнителю, воспользовавшемуся невинностью, – и любой внимательный читатель поймет, когда именно произошел этот великий грех. «Но горе тому, через кого соблазн приходит».
В 1907 году Мейчен публикует написанный десятилетием раньше автобиографический роман «Холм грез», где изображает себя как Люциана Тейлора, бегущего от скучного быта в мир видений и сверхчувственной меланхолии. А в 1910 году его принимают работать в газету «Вечерние новости» (Evening News) – и писатель становится одним из самых известных журналистов Британии. Он обрел счастливую семейную жизнь, профессию, в которой преуспел, и в какой-то момент кажется, что все сюжеты для художественной прозы исчерпаны – не публиковать же опять переработки черновиков 1890-х годов. Но тут начинается Первая мировая война, и Мейчен (отчасти) оказывается автором самой известной недостоверной новости, которой обычно сейчас иллюстрируют явление внушения или наведенной галлюцинации.
Двадцать девятого сентября 1914 года в газете появилось известие о том, что в битве при Монсе солдатам Британского экспедиционного корпуса в грозных облаках явились Генрих V и его лучники, обстрелявшие немцев. Хотя после этой битвы в августе сохранился паритет, солдаты Антанты не прорвали оборону, а все стороны отступили на более укрепленные позиции, эта история прозвучала как обещание грядущей победы, особенно в канун всегда пугающей зимней кампании. Газета получила сначала десятки, а потом и сотни писем от солдат, медсестер, интендантов и врачей, согласно которым респонденты действительно видели в облаках этих ангелов; авторы писем называли себя свидетелями удивительного видения. У нас нет доказательств того, что Мейчен выдумал эту историю в качестве словесного боевого плаката – возможно, он только записал репортаж об участниках битвы, которые действительно разглядели в облаках войско и даже вдохновили своим рассказом сослуживцев. Однако Мейчен открыл мощь новейших медиа: хотя репортажная фотография применялась в Первую мировую войну далеко не везде, и много информации оставалось за пределами внимания (и возможностей) прессы, здесь открылось окно возможностей – в том числе заполнить один из информационных пробелов и литературными средствами создать универсальную репортажную фотографию, которая одновременно будет иконой. Магия слова сработала здесь как никогда прежде. В каком-то смысле Мейчен стал заложником этой истории, но господствующей в его творчестве военного и послевоенного времени становится тема поисков Грааля, который должен стать иконой не одного фрагмента истории, но всей истории человечества.
Повесть «Смятение» (1916) – это одновременно остроумная военная проза и история о коллективном психозе. Завязка проста: цензура скрывает то, что и так скрыт(н)о от всех и непонятно даже опытным генералам, а именно причины, по которым энтузиастическая война перешла в тупиковую позиционную. В этой повести Мейчен обсуждает легенды об ангелах Монса и о чудесных русских в серых шинелях, явившихся на помощь тайными железнодорожными путями в тяжелый час. Но эти легенды он вписывает в реальные странности неба и земли: воздушные ямы, в которые проваливались самолеты (тогда еще только начали изучать эффект воздушных потоков), или проблемы экономических сверхзатрат и инфляции. Если воздух, земля, вода, деньги, собственность ведут себя так непредсказуемо, то почему бы и самим ангелам не повести себя непредсказуемо и не разыграть спектакль, который хоть как-то оправдает позиционную войну?
Большая часть повести – хроника антигерманской конспирологии в условном валлийском графстве в глубоком тылу, ничем не уступающей слухам о 5G-вышках во время пандемии COVID-19 на нашей памяти. Тут и немецкие шпионы на подводных лодках, и тайный немецкий город под землей в английских имениях, купленных немцами через подставных лиц, и теннисные корты как тайные фортификационные сооружения немецких агентов, и дзета-излучение, превращающее людей в маньяков-убийц, и много чего еще. Эта конспирология, при всей своей спорности, оказывается необходимой, чтобы сами фейри явились в своем блеске и показали, где надо искать настоящие тайны. Кто был виноват в серии убийств, где у англичан было алиби, которого не было у немцев, которым (слухами) приписаны скоростные подводные и подземные лодки, читатель узнает из самой повести (немцы в любом случае оказываются ни при чем). Впрочем, намекнем: Мейчен посвящает эту повесть вопросам экологии, символом которой становится метаморфоза дерева. Также назовем созданное социологом Эмилем Дюркгеймом понятие «аномия», полное расстройство всех связей, характеризующее ситуацию этой провинциальной повести. Особенное удовольствие читателю доставит герой с говорящей фамилией Ремнант, то есть Останкин, напоминающий, что в каждом человеке может быть скрыт маньяк, ведь каждый из нас может совершить грех против Природы, даже не заметив этого.
Дальнейший путь Мейчена, путь спусков и подъемов, бед и торжеств, – отдельная большая тема. Но только не будем забывать, что признание Мейчена – результат его колоссальной работы над собой, недоверия к себе, во время которой ты находишь в себе Антихриста и изгоняешь его совместными усилиями гиперреализма и гиперфантазии. Каковы бы ни были увлечения, блуждания и заблуждения Мейчена, этот его опыт остается с литературой дольше, чем он на то рассчитывал: экологические, кибернетические, биоэтические, конспирологические вопросы, все agenda наших дней, не отдалили Мейчена от нас, но приблизили к нам надолго.
Александр Марков,профессор РГГУ21 июля 2023 г.
Артур Мейчен[1]
Из всех известных мне ныне здравствующих людей ни один не занимает моих мыслей так прочно, как истинный творец, каковым является Мейчен; и под именем этим я подразумеваю певца истины – истины о том, что вселенная вакхальна и жаждет эмоций, истины, которую сама вселенная втайне решила скрыть от нас, дабы мы и впредь пребывали в скучном неведении. Ибо глаза наши лгут нам. «Перевернутая чаша», под которой мы живем, как в «клетке», по сути своей и не чаша вовсе; звезды – отнюдь не крохотные точки, а луна – не глупый кусок сыра, то целый, то надрезанный, бездумно парящий в небесах. В действительности скорость луны поистине полоумна; дерево изнутри подобно Уолл-стрит, что толпами прохожих пестрит, а взгляни на цветочный лепесток под микроскопом, и узришь в нем цепи вагонов, усердно прокладывающих себе путь вперед; и всюду звенят песнями скрипичные струны, и каждый миллиметр эфира наполнен трелями, единящими нас с Плеядами, и свет мчится сквозь пространство, и тысячи солнц содрогаются, порою сталкиваясь в суете и извергая гигантские облака газа, и луны подвергаются «разрушительному сближению», падая в пучины печей; и пока я пишу эти строки, пальцы мои и сердце со всех сторон пронзают радиоволны, однако я не вижу их, не чувствую и – о, кто избавит меня, несчастного, от проклятья скуки?
Повсюду тайны, все вокруг в сговоре!.. Кроме, быть может, метеоров – этих огненных знамен, которыми величественная планета размахивает в полете; но и они лишь слегка проливают свет на положение вещей, словно насмехаясь надо мною. И даже их я не вижу и вполовину такими, какие они есть в действительности, и как же я, должно быть, скучен, если ученый не восстанет, чтобы сказать мне: «Вселенная вакхальна! Вакхальна!» – но восклицательный знак здесь мой, ибо у него нет времени, он слишком поглощен тем, что прислушивается к чувствам; и тогда-то мне на помощь приходит поэт, ведь он слышал слова ученого, и у него было время восхититься ими и намеками поделиться со мною, и он, подмигнув, говорит: «Нет скуки и в помине! Мне известно кое-что; известен берег мне, где чабреца в избытке!»[2] – И если спросит кто его: «И это все?» – он снова подмигнет: «Добавить нечего; я дал намек: глаз не видал, сердце не ведало; звеня мелодичными нотами, сжимаясь от переполняющих чувств, кружится вихрем; волшебство! Дурман! Добавить нечего».
Так ли? Волшебство? Если это выдумка, то нет в ней ни малейшего интереса, ни значения; однако ученый кивнет – «да, факт», – и поэт, умываясь слезами, призовет Господа в свидетели. Роль ученого в искусстве, однако, Мейчен не рассматривает; он полагает, что искусство предшествовало науке, что «поэзия не имеет ничего общего с научной истиной», и не вполне понимает, что есть наука, принимая за «научный факт» утверждение «А любит Б», а потому не знает, что наука есть мать искусства – или, скажем, знает, но не осознает, ибо искусство, по его словам, достойно поклонения; но, разумеется, прежде чем поклоняться чему-то, необходимо понимать суть этого предмета, изучить его, разобраться в положении вещей; а знать что-либо о Порядке есть наука, и знать больше – значит, поклоняться истовее.
Но Мейчен принадлежит к типу исследователя-творца, к мильтоновскому типу, для которого характерна привычка к запоминанию, а не к типу ученого-творца, натренированного на восприятие, к коему типу до сих пор относился лишь Гёте, а другой, который придет на его место, все возродит – и тогда Уэллс и Верн покажутся лишь тенями, предзнаменующими явление великого последователя. Что же до исследователя-творца, то стоит вспомнить, с каким одобрением Мейчен цитирует фразу Россетти: «Я не знаю, вращается ли Земля вокруг Солнца, и меня это не волнует», – фразу, которую произнесла бы корова в перерыве между пережевыванием травы, если бы обрела дар речи.
Суть мировоззрения Мейчена отражена в его «Иероглифике»: «И золото той земли прекрасно»[3], – однако мы видим здесь не «право утверждать», но недостаток осмотрительности, циркумспекции, или скептицизма (спек-, скеп-, смотрите внимательно), которые в интеллекте воспитываются только научными упражнениями. Его тема – это тема художника, «вселенная вакхальна и жаждет эмоций», однако какие неожиданные исключения Мейчен допускает в вопросе эмоций! Высокое искусство, полагает он, не оплакивает вселенную и не насмехается над нею, а лишь вздыхает по ней. Он проводит грань между «эмоциями» и «чувствами», хотя, разумеется, в психологии подобного разделения не существует: чувство и есть эмоция. Если кто-то отправляет женщине телеграмму со словами, что ее муж мертв, и она ударяется в слезы, то неужели это, спросит он, есть художественная литература? Однако очевидно, что это – вакхальное настроение, этот плач во вселенную проистекает из веры женщины в смерть ее мужа! Если же я сумею заставить ее плакать во вселенную рассказом о некоем, скажем, Гекторе – чьем-то чужом муже, – которого, как ей доподлинно известно, в реальности не существует, – то как велик будет мой подвиг и как художественна «литература»!
Но Мейчен преисполнен «мнений», предубеждений, идиосинкразий, напоминая тем самым толстого доктора Джонсона[4], что идет вдоль железного забора и тростью стучит наудачу по каждой перекладине. Половина вселенной вызывает в нем отвращение, другую же половину он страстно прижимает к сердцу; однако благосклонность его зачастую предвзята, а ненависть – субъективна: сложно предугадать, что он обнимет, а что – отринет. И никогда он не переменится: горы рассыплются в песок, но он останется прежним. Есть люди, которые, поймав себя на тех же мыслях, что терзали их несколько лет назад, предпочли бы наложить на себя руки; но Мейчен слишком великолепен, чтобы меняться. И он спорит, и есть в этом что-то от Сократа, но мыльный пузырь его аргументов легко лопнет от укола современного интеллекта – что, впрочем, верно и в отношении Сократа; воистину, тональностью души и грузом знаний он ближе к Платону.
Он утверждает, что «литература есть выражение догм католической церкви», и на мгновение может показаться, что именно это он и имеет в виду – но нет; в этих словах его есть что-то еще, в них кроется истина, но лежит она не на поверхности. Он говорит: «Рационализм потребует от вас: либо назовите точную причину, зачем вам посещать мессу, либо откажитесь от ее посещения; но вы должны ответить так: я не могу назвать причин, почему мне нравится „Одиссея“, однако невозможно поспорить с тем, что она мне нравится; таким образом, я доказал противоречивость вашего посыла». И как же он доволен собою; враг повержен. Однако, опять же, здесь отсутствует параллелизм между «нравится („Одиссея“)» и «посещать (мессу)»; параллелизм присутствует между «нравится (идти)» и «нравится (читать)». «Посещать» мессу можно не только ради удовольствия, но и для того, чтобы «стать лучше» или что-то вроде того, – и рационалист скажет: причина тому известна. И это не единственный пример. Но не ради дискуссий читаешь Платона: он не может дискутировать, ибо сознание древних не было в достаточной степени осмотрительно, обучено скептицизму и крепко, за тем лишь исключением, когда, как в случае с Евклидом, имело место рассуждение на ученические темы.
И все же его строки завораживают, как и строки Мейчена, и сердце заходится в танце. Есть в мире существа, что бегать не способны, зато летать умеют. Когда Мэтью Арнольд[5]писал о «победоносном надбровье» (в стихотворении о Шекспире), это, разумеется, было чистой воды викторианством, ведь выдающимися бровями Шекспир похвастаться не мог – разве что на портретах, где он тщетно пытается подражать Холлу Кейну[6]. Выразительные надбровья были у Ньютона, у Эдисона; у Шекспира же, очевидно, нет, ибо, будь они столь же выдающимися, мы решили бы, что тяжкие думы терзают его; но что за думы? Нам ясно, о чем думал Эдисон, но Шекспир обладал иным: теплотой, крыльями!.. Не Гёте – у того были и брови, и крылья; то и другое само по себе достойно восхищения, а крылья без бровей зачастую по какой-то счастливой случайности тревожат самую сердцевину истины.
Таким образом, легко продемонстрировать, что душа «Иероглифики» есть истина – истина, на которой основаны в большинстве своем произведения Мейчена. Полагаю, истинным мейченизмом можно считать «Хроники Клеменди»; в «Великом боге Пане» и «Трех самозванцах» прослеживаются, пожалуй, следы По и Стивенсона. Нигде у него не найдешь ничего «заурядного» или «нечистого»; хотя забавно, что в самом возвышенном «заурядный читатель» обнаруживает бесчинство «непристойностей». Однако в действительности главной темой остается для него роза, всегда роза: даже в письмах, ибо теперь, когда я пишу эти строки, я перечитываю старое его письмо, изобилующее упоминаниями «розы»; и хотя я не знаю наверняка, о какой розе он говорит, я знаю, что есть роза – Шарона, – и ему известно о ней, ибо ее ароматом пропитались и его одежды, и страницы. Вот как он говорит: «Страстное стремление, присущее», – как опрометчиво! – «человеку, вынуждает его воздеть взгляд, высматривая в бесконечности океана мифические счастливые острова, выискивая Авалон, скрывающийся за заходящим солнцем», – что это, если не безумный танец человека, укушенного тарантулом?
Он любит Бога, он поражен глоссолалией и вместе с тем – даром к языкам; сотките хоровод тройной, смиренно взор пред ним склоняя, ибо испил он млеко Рая и вскормлен медвяной росой[7].
Мэтью Фипс Шил
Великий бог Пан[8]
Глава I
Эксперимент
– Рад, что вы пришли, Кларк; право, очень рад. Опасался, что вы не найдете времени.
– Я заранее сделал распоряжения на ближайшие несколько дней; сейчас в делах все равно небольшое затишье. Однако нет ли у вас опасений, Рэймонд? Это действительно абсолютно безопасно?
Двое мужчин медленно шагали по террасе перед домом доктора Рэймонда. Солнце все еще нависало над линией гор на западе, но источало мутное красное свечение, при котором предметы не отбрасывали теней, и в воздухе стояла тишина; сверху, с поросшего густым лесом склона холма, дул приятный ветерок, доносивший временами мягкое воркование диких голубей. Внизу по длинной живописной долине между одинокими холмами петляла река, и, по мере того как солнце медленно скрывалось за западным горизонтом, с холмов начинал подниматься прозрачный белоснежный туман. Доктор Рэймонд резко повернулся к своему другу.
– Безопасно? Разумеется. Операция по сути своей простейшая, под силу любому хирургу.
– И на всех прочих стадиях опасности тоже нет?
– Нет; абсолютно никакой физической опасности любого рода, даю вам слово. Вы вечно так нерешительны, Кларк, вечно; но вы же меня прекрасно знаете. Последние двадцать лет я посвятил себя трансцендентной медицине. Я наслушался, как меня называют проходимцем, шарлатаном и притворщиком, но все это время я знал, что на верном пути. Пять лет назад я достиг цели, и с тех пор каждый день был шагом на пути к тому, что мы с вами осуществим сегодня ночью.
– Хотелось бы верить, что все это правда. – Кларк сдвинул брови и с сомнением посмотрел на доктора Рэймонда. – Вы полностью уверены, Рэймонд, что ваша теория не является фантасмагорией? Миражом – великолепным, бесспорно, однако в конечном счете все же миражом?
Доктор Рэймонд немедленно остановился и резко развернулся. Это был мужчина средних лет, сухопарый и худой, с бледно-желтым цветом лица, на котором, однако, проступил румянец, когда он повернулся к Кларку и ответил ему.
– Оглянитесь вокруг, Кларк. Вы видите горы и холмы, они следуют один за другим, будто нагоняющие друг друга волны, видите леса и фруктовые сады, поля спелой кукурузы и долины, превращающиеся вблизи реки в тростниковые заросли. Видите меня, стоящего здесь, рядом с вами, и слышите мой голос; но я уверяю вас, что все эти предметы – вплоть до той звезды, что несколько минут назад еще освещала с небес твердую почву под нашими ступнями, – лишь наваждения и тени; тени, скрывающие истинный мир от наших глаз. Настоящий мир существует, но он сокрыт под чарами этих видений, под «погонями в Аррасе» и «мечтами во весь карьер»[9], под всем этим, как под вуалью. Не знаю, приподнимал ли хоть один человек когда-либо эту вуаль, но я уверен, Кларк, что сегодня ночью мы с вами увидим, как она спадет перед глазами другого человека. Можете считать это невероятной бессмыслицей; ибо поверить действительно трудно, однако это правда, и наши предки знали, что значит приоткрыть завесу. Они называли это «встретиться с богом Паном».
Кларк вздрогнул; собирающийся над рекой белоснежный туман принес с собою холод.
– И впрямь чудеса, – сказал он. – Если то, что вы говорите, правда, то мы стоим на пороге удивительного открытия. Полагаю, без скальпеля не обойтись?
– Да, нам нужен всего лишь легкий надрез в сером веществе; незначительное перераспределение некоторых клеток, микроскопическое изменение, на которое девяносто девять специалистов из сотни не обратят внимания. Не хочу беспокоить вас профессиональными подробностями, Кларк; я мог бы поведать вам массу технических тонкостей, чтобы придать моим речам внушительности, однако это ровным счетом ничего не прибавит к вашей текущей осведомленности. Но, полагаю, вы уже читали – быть может, вскользь, в самых неприметных газетных статьях, – о том, что в последнее время физиология мозга развивается гигантскими шагами. На днях я наткнулся на параграф, посвященный теории Дигби[10] и открытиям Броуна Фабера[11]. Теории и открытия! Тот этап, на котором они находятся сейчас, я миновал еще пятнадцать лет назад, и нет нужды уточнять, что все эти пятнадцать лет я не стоял на одном месте. Достаточно сказать, что пять лет назад я сам совершил открытие, и именно это я подразумевал, когда говорил вам, что достиг цели. Спустя годы усердного труда, годы усилий и блужданий ощупью во тьме, спустя множество дней и ночей, полных разочарования и порой отчаяния, когда меня без конца бросало то в дрожь, то в холод от мысли, что, быть может, есть и другие, кто ищет то же, что пытаюсь найти я; и вот, наконец, спустя столько лет укол внезапной радости взбудоражил мою душу, и я понял, что мой длинный путь подошел к концу. Совершенно случайно, как казалось мне тогда и как я считаю до сих пор, мимолетная, сиюминутная праздная мысль повела меня знакомыми тропами, по которым я к тому моменту проходил уже сотню раз, как вдруг великая истина обрушилась на меня, и из схематичного переплетения линий передо мною сложился целый мир, неведомое царство; континенты и острова, великие океаны, по которым (как я полагаю) не ходил ни один корабль с тех пор, как человек впервые поднял взгляд к небесам и узрел солнце, звезды и тихую землю под ними. Вы сочтете мою речь высокопарной, Кларк, но мне тяжело придерживаться сухих фактов. И все-таки я не уверен, что то, на что я намекаю, нельзя изложить простыми и скупыми терминами. К примеру, наш с вами привычный мир ныне весьма плотно опутан телеграфными проводами и кабелями; мысли со скоростью чуть меньше скорости самой мысли носятся от рассвета до заката между севером и югом, над океанами и пустынями. Предположим, что современный электромеханик вдруг осознает, что он и его друзья все это время лишь играли в камешки, ошибочно принимая их за основы мироздания; предположим, что такой человек увидит, какие безграничные просторы раскрываются перед явлением электрического тока, как человеческие слова устремляются к солнцу и дальше, в системы за его пределами, и как голоса произносящих эти слова людей эхом отзываются в пустоте, ограничивающей наше мышление. Что касается аналогий, это весьма неплохая аналогия тому открытию, что я совершил; теперь вы испытываете малую толику тех чувств, что обрушились на меня, когда я стоял здесь однажды; то был летний вечер, и долина выглядела почти так же, как теперь; я стоял здесь, как вдруг увидел перед собою неописуемую, невообразимую пропасть, зияющую между двумя мирами – миром материальным и миром духовным; я видел огромную бездну, разверзшуюся передо мной, и в этот миг мост из света устремился от земли к неведомому берегу, перехватив собою эту бездну. Можете заглянуть в книгу Броуна Фабера, если хотите; там говорится, что и по сей день ученые мужи не способны объяснить присутствие или определить функции некой группы нервных клеток мозга. Группа эта напоминает собою, если угодно, пустой участок земли, настоящее поле для самых причудливых теорий. Но я уже не в том положении, в каком находятся Броун Фабер и другие специалисты, нет, я прекрасно осведомлен о возможных функциях этих нервных центров в общей схеме вещей. Прикоснувшись к ним, я могу ввести их в игру, могу – да-да, могу – высвободить поток, завершить коммуникацию между нашим миром ощущений и… позднее мы сможем сказать, чем. Да, без скальпеля не обойтись, но подумайте о том, на что воздействует его лезвие. Оно решительно сровняет с землей прочную стену рассудка, и, быть может, впервые с момента сотворения человека душа сможет созерцать мир духов. Кларк, Мэри увидит бога Пана!
– Но вы же помните, что писали мне? Я думал, в результате она неизбежно… – Склонившись над ухом доктора, он шепотом окончил фразу.
– Вовсе нет, вовсе нет. Это чепуха. Уверяю вас. Несомненно, мой метод сработает; в этом я совершенно уверен.
– Обдумайте все как следует, Рэймонд. На вас лежит огромная ответственность. Что-то может пойти не так, и тогда остаток жизни вы проживете несчастным человеком.
– Нет, не думаю, даже если допустить наихудший вариант. Как вам известно, я спас Мэри, когда она была еще ребенком, от неминуемой голодной смерти, вытащив с самого дна общества; так что своей жизнью она обязана мне, а потому я могу распорядиться ею по своему усмотрению. Идемте же, время позднее; нам лучше вернуться в дом.
Доктор Рэймонд первым направился к входу, прошел через вестибюль и зашагал по длинному темному коридору. Вытащив из кармана ключ, он отпер тяжелую дверь и жестом пригласил Кларка войти в лабораторию. Когда-то здесь располагалась бильярдная, освещаемая при помощи стеклянного купола в центре потолка, сквозь который и теперь еще сочился унылый тусклый свет, падая на фигуру доктора, пока тот зажигал лампу с тяжелым абажуром и водружал ее на стол в середине комнаты.
Кларк огляделся по сторонам. Свободного места на стенах с трудом набралось бы с фут; все остальное было занято полками, заставленными бутылочками и склянками всевозможных форм и цветов; возле одной из стен стоял небольшой книжный шкаф в стиле Чиппендейл. Рэймонд показал на него.
– Видите, вон там лежит пергаментная рукопись Освальда Кроллиуса[12]? Он был первым, кто подсказал мне путь, хотя думаю, сам он так и не сумел его нащупать. Есть там одна удивительная фраза: «В каждом пшеничном зернышке скрывается душа звезды».
Мебели в лаборатории было немного. Стол посередине, каменная плита со сточным отверстием в одном углу, два кресла, в которых сидели Рэймонд и Кларк, и больше ничего, не считая еще одного, очень странного на вид кресла в дальнем конце комнаты. Кларк посмотрел на него, и его брови поползли вверх.
– Да, именно оно нам потребуется, – сказал Рэймонд. – Давайте сразу поставим его на место.
Он встал и выкатил кресло на свет, а затем принялся регулировать его высоту, положение сиденья, наклонять спинку под разными углами и приспосабливать подставку для ног. Оно выглядело вполне удобным, и Кларк даже провел ладонью по мягкому зеленому бархату, пока доктор возился с рычагами.
– Итак, Кларк, устраивайтесь поудобнее. Мне предстоит пара часов работы; некоторые дела я вынужден был оставить напоследок.
Рэймонд подошел к каменной плите, и Кларк угрюмо наблюдал, как тот склоняется над рядом склянок и зажигает огонь под тиглем. На полочке над инструментарием доктора стояла маленькая переносная лампа, тоже прикрытая абажуром, как лампа на столе, и Кларк, сидя в полумраке, разглядывал огромную сумрачную комнату и с изумлением подмечал диковинные эффекты, создаваемые контрастом между переливами света и таинственными тенями. Вскоре он заметил, что комната наполняется странным запахом; поначалу то был едва заметный отзвук аромата, но по мере того, как он становился все отчетливее, Кларк с удивлением отметил, что запах этот ничуть не напоминает запахи аптеки или операционной. В безотчетных вялых попытках проанализировать его Кларк, сам того не замечая, мысленно вернулся на пятнадцать лет назад, в тот день, когда он бродил по лесам и долинам рядом с собственным домом. На дворе стояло начало августа, и день выдался знойный, из-за жары очертания предметов, близких и далеких, казались размытыми, словно их окутывала легкая дымка, а люди, поглядывая на термометры, рассуждали об аномальных цифрах, о температуре едва ли не тропической. Странным образом всплыл в памяти Кларка именно тот удивительно жаркий день из пятидесятых годов; ощущение ослепительного всепроникающего солнца, казалось, вытеснило собою игры света и теней в лаборатории, и Кларк вновь ощутил на лице порывы горячего ветра, увидел поднимающееся от почвы мерцание и услышал мириады летних отголосков.
– Надеюсь, этот запах не слишком вам докучает, Кларк, он совершенно безвреден. Вызовет разве что легкую сонливость, не более.
Кларк различал слова вполне отчетливо и понимал, что Рэймонд обращается к нему, но, как ни пытался, не мог заставить себя пробудиться от летаргии. Он не мог думать ни о чем, кроме одинокой прогулки пятнадцатилетней давности; тогда он в последний раз видел поля и леса, знакомые ему с детства. Теперь все это в ярком свете, словно на картине, вновь предстало перед его глазами. В довершение ко всему его обоняния коснулся запах лета, переплетение цветочных ароматов и дыхания лесов, прохладных затененных местечек в глубинах зеленых чащоб, куда так тянет в поисках укрытия от жаркого солнца; но все прочие запахи затмило свежее благоухание земли, как если бы он лежал на ней, улыбаясь и раскинув руки. Эти фантазии заставили его мысли блуждать, как бродил он сам давным-давно среди полей, углубляясь в буковый лес по едва заметной среди сияющего подлеска тропке, и журчание воды, капающей с известковых камней, звучало чистой мелодией в этом сне. Мысли уводили его все дальше, воспоминания переплетались и путались, буковая аллея превратилась в тропинку среди падубов, тут и там между ветвями тянулись виноградные лозы, выбрасывающие ввысь покачивающиеся усики и провисающие под весом пурпурных ягодных гроздей, и редкие серо-зеленые листья дикой оливы ярко выделялись на фоне темных падубовых крон. Кларк сквозь путы многослойной ткани сна сознавал, что тропа от отцовского дома почему-то привела его в неведомый край, и изумлялся этому, как вдруг хор летних голосов сменился всепоглощающей бесконечной тишиной, лес затих, и на мгновение Кларк оказался лицом к лицу с чьим-то таинственным присутствием – то был не человек и не зверь, не живой и не мертвый, но сочетание всего сущего, форма всего, лишенная собственной формы. И в этот миг таинство тела и души рассеялось, и чей-то голос будто бы вскрикнул: «Дай же нам умереть!», а затем – пришла тьма, тьма из звездного запределья, тьма извечная.
Вздрогнув, Кларк очнулся и увидел Рэймонда; тот добавил несколько капель какой-то маслянистой жидкости в зеленый пузырек и крепко закупорил его.
– Вы задремали, – сказал он. – Должно быть, вас вымотала дорога. Теперь все готово. Я схожу за Мэри, вернусь через десять минут.
Кларк откинулся на спинку кресла и погрузился в раздумья. Ему казалось, будто из одного сна он переместился в другой. Он почти не удивился бы, если бы стены лаборатории растаяли и исчезли, а сам он миг спустя проснулся в Лондоне, ужасаясь собственным фантазиям. Наконец дверь открылась, и в лабораторию вернулся доктор, а следом за ним вошла девушка лет семнадцати, вся в белом. Она была так красива, что Кларк ничуть не удивился, вспомнив, о чем писал ему доктор. Сейчас ее лицо, шея и руки залились румянцем, однако Рэймонд оставался невозмутим.
– Мэри, – сказал он, – время пришло. Ты вольна в своем выборе. Согласна ли ты полностью довериться мне?
– Да, дорогой.
– Слышали, Кларк? Вы мой свидетель. Вот кресло, Мэри. Ничего сложного. Просто сядь и откинься на спинку. Готова?
– Да, дорогой, я готова. Поцелуй меня, прежде чем начнешь.
Доктор склонился и ласково поцеловал ее в губы.
– Теперь закрой глаза, – велел он.
Девушка опустила веки, словно устала и очень хотела спать, и Рэймонд поднес к ее ноздрям зеленый флакон. Лицо Мэри побледнело, стало белее платья; она слабо попыталась воспротивиться, однако внутренняя покорность взяла верх, и девушка скрестила руки на груди, словно маленький ребенок, готовящийся прошептать молитву перед сном. Она лежала в ярком свете ламп, и Кларк наблюдал за переменами в ее лице, подобными переменам в пейзаже холмов, когда летние облака проплывают над ними, то и дело заслоняя собою солнце. Когда она, мертвенно-бледная, совершенно затихла, доктор приподнял ей одно веко. Девушка была без сознания. Рэймонд с силой надавил на один из рычагов, и спинка кресла тут же опустилась. Под пристальным взглядом Кларка он выбрил у девушки на макушке круг наподобие монашеской тонзуры и придвинул лампу ближе. Затем он вынул из чемоданчика маленький сверкающий инструмент, и Кларк, содрогнувшись, отвернулся. Когда он снова осмелился посмотреть на доктора, тот уже перевязывал свеженанесенную им рану.
– Через пять минут она очнется. – Рэймонд по-прежнему сохранял абсолютное хладнокровие. – Все, что можно было сделать, уже сделано, теперь нам остается только ждать.
Минуты тянулись мучительно медленно; тишину нарушало лишь тяжелое тиканье часов. В коридоре стояли старые часы. Кларк ощущал тошноту и слабость; колени дрожали так, что он едва держался на ногах.
Они наблюдали за девушкой, не отводя от нее глаз, как вдруг услышали протяжный вздох. Румянец, исчезнувший было с ее щек, так же внезапно вернулся, и глаза раскрылись. Взгляд этих глаз поверг Кларка в шок. Они сверкнули жутким светом, глядя куда-то вдаль, на лице девушки отобразилось величайшее изумление, а руки потянулись вперед, словно пытаясь коснуться чего-то невидимого; но уже в следующий миг изумление угасло, уступив место невыразимому ужасу. Мускулы на ее лице стали безобразно сокращаться, вся она затряслась с головы до пят; казалось, то содрогается сама ее душа, пытаясь высвободиться из телесной клетки. Глядя на это кошмарное зрелище, Кларк подался вперед ровно в тот миг, когда девушка с криком рухнула на пол.
Три дня спустя Рэймонд привел Кларка к постели Мэри. Девушка лежала с широко раскрытыми глазами, вращала головой из стороны в сторону и бездумно улыбалась.
– Да, – сказал доктор, все такой же невозмутимый, – очень жаль. Теперь она безнадежная идиотка. Как бы то ни было, здесь мы бессильны. Так или иначе, ей все же удалось повидать Великого бога Пана.
Глава II
Записки доктора Кларка
В характере мистера Кларка, джентльмена, которого доктор Рэймонд выбрал свидетелем своего странного эксперимента с богом Паном, был человеком, любопытство странным образом переплеталось с осторожностью; будучи в трезвом уме, он относился ко всему необычному и эксцентричному с нескрываемым отвращением, и все же в глубине его души таилась наивная любознательность касательно таинственных свойств человеческой натуры, составлявших, должно быть, эзотерическую сферу знаний. Рекомое свойство и заставило мужчину принять приглашение Рэймонда, ибо, несмотря на то что логические рассуждения всегда заставляли его отвергать теории доктора как дичайший нонсенс, втайне он все же лелеял веру в чудеса и возликовал бы, случись этой вере найти подтверждение. Те ужасы, которые он наблюдал в мрачной лаборатории доктора, оказали на него эффект в некоторой степени благотворный: он осознал, что оказался вовлечен в дело не вполне достойное, и впоследствии на протяжении многих лет решительно придерживался обыденности и отвергал любые возможности оккультных изысканий. Более того, руководствуясь неким гомеопатическим принципом, он даже некоторое время посещал сеансы именитых медиумов в надежде, что эти джентльмены своими неуклюжими уловками внушат ему окончательное отвращение к любого рода мистицизму, однако средство это, сколь едким бы оно ни было, оказалось неэффективным. Кларк сознавал, что его по-прежнему тянет к неизведанному, и мало-помалу давняя страсть вновь стала овладевать им, по мере того как лицо Мэри, содрогающееся и корчащееся от неведомого ужаса, медленно тускнело в его памяти. День за днем проходил в суете серьезных и прибыльных дел, и соблазн расслабиться тем или иным вечером был слишком велик, особенно в зимние месяцы, когда огонь теплым светом озарял его уютное холостяцкое жилище, а у локтя стояла бутылка отборного кларета. Отужинав, он предпринимал тщетную попытку сделать вид, будто читает вечернюю газету, но обыденные новостные сводки быстро надоедали ему, и вскоре Кларк ловил себя на том, что посматривает с жарким нетерпением на старинное японское бюро, уютно расположенное чуть поодаль от камина. Словно мальчишка перед буфетом с вареньем, несколько минут он медлил в нерешительности, но страсть всегда брала верх, и в конце концов Кларк передвигал кресло, зажигал свечу и усаживался перед этим предметом мебели. Отделения и ящики бюро были полны документов самого мрачного содержания, а в выемке располагался массивный рукописный том, в который он старательно вносил главные жемчужины своей коллекции. К печатной литературе Кларк относился с большим презрением, самая мистическая история теряла интерес в его глазах, случись ей быть опубликованной; единственное наслаждение ему доставляло чтение, сортировка и упорядочивание своих записок, которые он называл «Доказательствами существования дьявола», и за этими делами вечер пролетал незаметно, а ночь казалась слишком короткой.
Одним таким черным от тумана и промозглым от инея уродливым декабрьским вечером Кларк спешно покончил с ужином и лишь для галочки поспешил соблюсти ритуал с газетой, которую отложил, едва взяв в руки. Два или три раза он прошелся по комнате, после чего открыл бюро, помедлил секунду и уселся в кресло. Откинувшись на спинку, он погрузился в одну из фантазий, к которым он был склонен, а затем наконец потянулся за своей книгой и открыл на том месте, где остановился в прошлый раз. Последняя запись занимала три-четыре страницы, исписанные ровным, убористым, округлым почерком Кларка. Перед началом записи чуть более крупными буквами было выведено предисловие:
«Необыкновенная история, поведанная моим другом доктором Филлипсом. Он уверяет, что все изложенные им факты абсолютно точны и верны, однако не соглашается назвать ни имен вовлеченных в эту историю людей, ни мест, где происходили описываемые экстраординарные события».
Мистер Кларк принялся в десятый раз перечитывать свои записи, то и дело поглядывая на карандашные пометки, которые он добавлял, слушая историю из уст своего друга. Собственные литературные способности неизменно вызывали у него гордость; он высоко ценил свой стиль и прилагал все усилия, чтобы изложить обстоятельства в драматической последовательности. Итак, он приступил к чтению:
«В описанных ниже событиях фигурируют следующие лица: Хелен В., женщина, которой (если она до сих пор жива) теперь должно быть двадцать три года; Рейчел М., ныне покойная, младше первой на год; и Тревор У., восемнадцати лет, страдает от слабоумия. Данные лица на момент описываемых событий проживали в деревне на границе с Уэльсом, в месте, которое обладало некоторой значимостью во времена римского завоевания, однако теперь существует в виде нескольких разбросанных по окрестностям домов с населением не более пяти сотен человек. Деревня эта располагается на возвышенности примерно в шести милях от моря и окружена густым живописным лесом.
Приблизительно одиннадцать лет назад Хелен В. появилась в деревне при весьма любопытных обстоятельствах. Имеются сведения, что осиротевшую в младенчестве девочку удочерил один дальний родственник и воспитывал в своем доме до тех пор, пока ей не исполнилось двенадцать. Однако, поразмыслив, он решил, что ребенку будет лучше расти в компании сверстников, и дал в нескольких газетах объявление с целью поиска фермерского дома, где удобно было бы поселиться двенадцатилетней девочке; на объявление откликнулся мистер Р., состоятельный фермер, проживающий в вышеупомянутой деревне. Убедившись, что кандидат соответствует требованиям, джентльмен отправил свою приемную дочь к мистеру Р., а вместе с нею и письмо с условием выделить девочке отдельную комнату и уточнением, что опекунам нет необходимости утруждать себя вопросами ее образования, поскольку она уже достаточно образована для той жизненной роли, которая ей уготована. Фактически мистеру Р. дали понять, что девочка вольна сама выбирать себе занятия и проводить время так, как пожелает. Мистер Р., как полагается, встретил ее на ближайшей станции в городке, располагавшемся в семи милях от его дома, и, судя по всему, не заметил в ребенке ничего необычного, за исключением нежелания рассказывать о своей прежней жизни и о приемном отце. Однако она весьма значительно отличалась от прочих жителей деревни: бледная кожа с явным оливковым оттенком и ярко выраженные черты лица придавали ее внешности некоторую чужеземность. По-видимому, она довольно легко обосновалась в доме фермера и стала любимицей среди местных детей, которые иногда сопровождали ее в прогулках по лесу – любимом ее развлечении. Мистер Р. утверждает, что обратил внимание на то, что она в одиночестве уходила из дома рано поутру, сразу после завтрака, и возвращалась не раньше, чем сгущались сумерки; тот факт, что юная девочка так много часов проводит вне дома совсем одна, внушал ему беспокойство, и он написал ее приемному отцу, однако в ответ получил лишь краткое сообщение, в котором тот настаивал: пусть Хелен сама решает, чем ей заниматься. Зимой, когда по лесным тропинкам ходить становилось невозможно, она проводила большую часть дня в своей комнате, где, в соответствии с указаниями ее родственника, стояла лишь одна кровать. Именно во время одной из таких лесных вылазок и произошел первый из связанных с девочкой необычных инцидентов, и случилось это спустя примерно год после ее появления в деревне. Минувшая зима выдалась на редкость суровой, снега намело чрезвычайно много, и морозы стояли невиданно долго, а последующее лето отличалось исключительно жаркой погодой. В один из самых знойных дней того лета Хелен В. покинула фермерский дом и отправилась на очередную длинную лесную прогулку, захватив с собой, по обыкновению, немного хлеба и мяса на обед. Несколько человек в полях видели, как она направляется к старой римской дороге – поросшей зеленью мостовой, пересекающей самую возвышенную часть леса; с изумлением они заметили, что девочка сняла шляпу, несмотря на почти тропическую жару от палящего солнца. Как позже выяснилось, один рабочий по имени Джозеф У. как раз трудился в лесу неподалеку от римской дороги, и в двенадцать часов его маленький сын Тревор принес отцу хлеб с сыром на обед. После обеда мальчик, которому в тот момент было около семи лет, оставил отца за работой, а сам отправился в лес – собирать цветы, как он сказал; и мужчина, слыша радостные возгласы ребенка после каждого найденного цветка, не испытывал никакого беспокойства. Но вдруг он замер от ужаса, услышав до безумия кошмарные крики – очевидно, кричавший до смерти перепугался, – раздавшиеся оттуда, куда ушел его сын, и, спешно побросав инструменты, бросился на крик, чтобы узнать, в чем дело. Ориентируясь на звуки, он столкнулся с маленьким мальчиком, который бежал ему навстречу и был, без сомнения, чудовищно напуган; расспросив его, мужчина выяснил, что мальчик, набрав букетик цветов, устал, прилег на траву и уснул. Вдруг его разбудил, по его словам, странный шум, своего рода пение; сквозь ветви кустов он разглядел Хелен В., которая играла в траве со „странным голым дядей“ – более внятного описания он дать так и не смог. Он сказал, что очень испугался, закричал и побежал к отцу. Джозеф У. проследовал в указанном сыном направлении и обнаружил Хелен В., сидящую среди травы не то на прогалине, не то на пятаке из-под кострища. Он гневно отчитал ее за то, что она напугала его маленького сына, однако девочка полностью отрицала все обвинения и посмеялась над словами о «странном дяде», которые и у самого мужчины не вызывали особого доверия. Джозеф У. пришел к выводу, что мальчику приснился кошмар, как иногда бывает у детей, но Тревор упорно повторял свою историю и никак не мог остановиться, пребывая в столь очевидном волнении, что отец в конце концов отвел его домой в надежде, что мать сумеет успокоить ребенка. Однако еще много недель после лесного происшествия мальчик внушал родителям немалое беспокойство; он стал тревожным и вел себя странно, отказывался выходить на улицу один и то и дело будил весь дом криками: „Дядя в лесу! Папа! Папа!“
Однако со временем впечатления, судя по всему, притупились, и около трех месяцев спустя Тревор отправился сопроводить отца к дому живущего по соседству джентльмена, который иногда нанимал Джозефа У. поработать. Отец зашел в кабинет, а мальчик остался сидеть в прихожей, и спустя несколько минут, пока джентльмен инструктировал У. касательно работы, оба они содрогнулись от пронзительного крика, за которым последовал глухой удар. Выскочив из кабинета, они обнаружили ребенка на полу, без чувств, с перекошенным от ужаса лицом. Немедленно послали за доктором, который, проделав некоторые манипуляции, объявил, что с мальчиком случился своего рода припадок, вызванный, по-видимому, внезапным потрясением. Ребенка перенесли в одну из спален, где по прошествии некоторого времени он пришел в чувство, но тут же впал в состояние, которое доктор определил как приступ буйной истерии. Доктор дал ребенку сильное успокоительное и спустя два часа счел его достаточно здоровым, чтобы отправить домой; однако в прихожей приступы возобновились с новой силой. Отец заметил, что мальчик показывает куда-то пальцем, услышал знакомые причитания о „дяде в лесу“ и, посмотрев в том направлении, увидел гротескного вида каменную голову, врезанную в стену над одной из дверей. Очевидно, владелец дома недавно занялся строительством и в ходе выкапывания участков под фундамент для хозяйственных сооружений нашел диковинную скульптуру, по-видимому, римского периода, которую применил для украшения жилища вышеописанным способом. Голова эта, согласно утверждениям самых опытных местных археологов, принадлежала фавну или сатиру[13].
Это второе потрясение, по какой бы причине оно ни возникло, оказалось слишком сильным для мальчика Тревора, страдающего в настоящее время от умственной неполноценности, исправить которую вряд ли представляется возможным. Этот случай наделал в свое время немало шума; девочка Хелен подверглась строжайшим расспросам со стороны мистера Р., однако безрезультатно: она настойчиво продолжала отрицать, что пугала Тревора или каким-либо образом досаждала ему.
Второе происшествие, в котором фигурирует имя Хелен, случилось около шести лет назад и в своей загадочности даже превосходит описанное выше.
В начале лета 1882 года Хелен завязала дружбу чрезвычайно тесного характера с Рейчел М., дочерью местного зажиточного фермера. Девушку эту, которая была на год младше Хелен, деревенские считали симпатичнее подруги, хотя черты лица Хелен по мере взросления существенно смягчились. Две девушки, которые каждую свободную минуту проводили вместе, представляли собою зрелище необычайно контрастное: одна с чистой оливковой кожей и почти итальянской внешностью, другая же – белокожая и румяная, пресловутая кровь с молоком, характерная для наших селений. Следует отметить, что выплаты мистеру Р. на содержание Хелен славились в деревне чрезмерной щедростью, и у жителей сложилось мнение, что однажды девушка унаследует от родственника крупную сумму. Оттого родители Рейчел нисколько не противились дружбе дочери с ней и даже поощряли их близость, хотя ныне горько о том сожалеют. Хелен по-прежнему сохраняла необычайную любовь к лесу, и Рейчел несколько раз сопровождала ее во время лесных прогулок; подруги выходили рано утром и оставались в лесу до самых сумерек. Раз или два после подобных вылазок миссис М. замечала странности в поведении дочери: девушка казалась вялой, сонной и была, выражаясь словами матери, „сама на себя не похожа“, но эти отклонения были с виду слишком незначительными, чтобы придавать им особое значение. Однако в один вечер, когда Рейчел вернулась из леса, ее мать услышала шум из комнаты девушки, похожий на сдавленные рыдания, и, войдя, обнаружила дочь лежащей на кровати, полураздетой и очевидно мучимой величайшими страданиями. Едва завидев мать, она воскликнула: „Ах, мама, мама, зачем ты позволила мне ходить в лес с Хелен?“ Миссис М. пришла в изумление от столь странного вопроса и принялась настойчиво расспрашивать Рейчел. И та поведала ей безумную историю. Она сказала, что…»
Кларк громко захлопнул книгу и повернул кресло к камину. В тот вечер, когда его друг сидел в этом самом кресле и рассказывал эту историю, Кларк перебил его спустя несколько предложений после этого, прервав рассказ возгласом ужаса. «Господи боже! – воскликнул он тогда. – Опомнитесь, опомнитесь, что вы такое говорите! Это слишком невероятно, слишком чудовищно; таких вещей просто не может быть в этом спокойном мире, где мужчины и женщины живут и умирают, где они борются и, быть может, терпят иногда неудачи и впадают в печаль, скорбят и страдают от необычайных происшествий год за годом; но только не это, Филлипс, это попросту невозможно. Должно быть какое-то объяснение, какой-то выход из этого ужаса. Боже, да ведь если бы такое было возможно, наш мир был бы сущим кошмаром».
Но Филлипс окончил свой рассказ, а в конце сказал: «Ее исчезновение остается загадкой и поныне; она попросту испарилась среди бела дня. Только что ее видели идущей по лугу, а уже в следующий миг ее и след простыл».
Теперь, сидя у камина, Кларк попытался заново осмыслить все услышанное, но опять его разум содрогнулся и отпрянул, ужаснувшись невыразимо чудовищным силам, возведенным на престол и торжествующим в человеческой плоти. Перед ним простирался обширный туманный пейзаж с зеленой мостовой в лесу, какую описывал его друг; он видел покачивающиеся листья и дрожащие тени в траве, видел солнечный свет и цветы, а впереди, на очень большом расстоянии, ему навстречу двигались две фигуры. Одна из них была Рейчел, но другая?
Кларк всеми силами пытался отрицать услышанное, и в самом конце, завершив запись в своей книге, он приписал:
Et Dɪaʙoʟuꜱ ɪɴcaʀɴatuꜱ eꜱt. Et ʜomo ꜰactuꜱ eꜱt[14].
Глава III
Город воскрешений
– Герберт! Боже правый! Как такое может быть?
– Да, меня зовут Герберт. Кажется, ваше лицо тоже мне знакомо, но я не помню вашего имени. Память часто подводит меня.
– Неужели ты не припоминаешь Вильерса из Уодхема?
– Точно, точно. Прошу прощения, Вильерс, я не знал, что протягиваю руку перед старым товарищем по колледжу. Доброй ночи.
– Мой дорогой друг, ни к чему так спешить. Я живу рядом, но пока не собирался домой. Что, если мы прогуляемся немного по Шафтсбери-авеню? Боже, Герберт, но как ты дошел до такого?
– Это долгая история, Вильерс, долгая и странная, но если хочешь, я расскажу.
– Расскажи. И держись за меня, тебе, похоже, тяжело идти.
И странная пара медленно зашагала по Руперт-стрит; один кутался в грязные уродливые лохмотья, другой же был выряжен как типичный городской франт, опрятный, лощеный и в высшей степени состоятельный. Вильерс только что вышел из ресторана после великолепного ужина из многих блюд, употребленных под бутылочку замечательного кьянти, и, пребывая в привычном своем настроении, на секунду задержался на пороге, чтобы оглядеть тускло освещенную улицу на предмет тех загадочных происшествий и персонажей, которыми ежечасно и в каждом квартале полнятся улицы Лондона. Вильерс с гордостью относил себя к опытным исследователям сумрачных лабиринтов и закоулков лондонской жизни, и в ходе этих бесприбыльных изысканий он проявлял усердие, достойное более серьезной цели. Итак, он остановился возле фонарного столба, с неприкрытым любопытством наблюдая за прохожими, и со всей весомостью, известной лишь завсегдатаям ресторанов, успел вывести в уме следующую формулу: «Лондон называют городом встреч, однако это не вполне точное определение; Лондон – это город воскрешений». И вдруг размышления его были прерваны жалобным стоном подле локтя и унизительной мольбой о милостыне. Оглянувшись с некоторой досадой, он вдруг с изумлением понял, что столкнулся лицом к лицу с воплощенным подтверждением его высокопарных соображений. Здесь, прямо перед ним, с изменившимся от нищеты и позора лицом, в едва прикрывающем тело засаленном тряпье стоял его старый друг Чарльз Герберт, с которым они когда-то в один день поступили в университет и с которым весело и с толком проучились бок о бок все двенадцать семестров. Затем их пути и интересы разошлись, дружба прервалась, и в последний раз Вильерс видел Герберта шесть лет назад; теперь же он смотрел на это подобие человека с прискорбием и разочарованием, смешанными с несомненным любопытством относительно того, что же за цепь печальных событий обрекла его однокашника на столь горькую участь. Вместе с состраданием Вильерс в полной мере испытал жажду разгадать эту тайну и гордость за свои праздные размышления у входа в ресторан.
Некоторое время они шли молча, и не раз прохожие провожали эту странную пару изумленными взглядами: хорошо одетый мужчина, на руку которого опирался явный бродяга; Вильерс, заметив это, свернул на малолюдную улицу в Сохо. Здесь он повторил свой вопрос.
– Боже, как ты дошел до такого, Герберт? Я был уверен, что ты сделаешь великолепную карьеру в Дорсетшире. Неужели отец лишил тебя наследства? Он же не мог так поступить?
– Нет, Вильерс, после смерти моего бедняги отца я унаследовал все его имущество; он умер спустя год после того, как я окончил Оксфорд. Он был прекрасным родителем, и его смерть я оплакивал совершенно искренне. Но ты же знаешь, что такое молодость; через несколько месяцев я приехал в город и постарался влиться в общество. Разумеется, я обладал прекрасными связями и в полной мере наслаждался жизнью довольно безобидными способами. Да, без азартных игр не обошлось, но я никогда не ставил на кон больших сумм, а некоторые ставки на скачках даже приносили мне выигрыш – всего несколько фунтов, конечно, но этого хватало на сигары и подобные приятные мелочи. Но спустя несколько месяцев все переменилось. Ты, разумеется, слышал о моей женитьбе?
– Нет, впервые слышу.
– Так вот, я женился, Вильерс. В доме моих знакомых я встретил девушку, девушку самой удивительной и странной красоты. Ты спросишь, сколько ей было лет, но этого я сказать тебе не могу, ибо этого мне так и не довелось узнать; но, полагаю, на момент нашего знакомства ей было около девятнадцати. Мои друзья встретили ее во Флоренции; она представилась им сиротой, дочерью англичанина и итальянки, и очаровала их так же, как очаровала меня. Впервые я увидел будущую невесту на вечернем приеме. Я стоял у выхода и беседовал с другом, как вдруг поверх шума и разговоров услышал голос, который сразу взволновал мое сердце. Она пела по-итальянски. Тем же вечером нас представили друг другу, а спустя три месяца я взял Хелен в жены. Вильерс, эта женщина, если ее можно назвать женщиной, осквернила мою душу. В ночь после свадьбы я обнаружил себя в спальне в гостинице. Она сидела в своей постели, и ее прекрасный голос доносил до моих ушей такие вещи, которые я и по сей день не осмелюсь прошептать даже самой темной ночью в самом безлюдном диком месте. Ты, Вильерс, должно быть, думаешь, будто ты знаешь эту жизнь, знаешь Лондон и то, что происходит днями и ночами в этом жутком городе; могу сказать наверняка, что тебе приходилось слышать гнуснейшие вещи, но уверяю тебя, ты не в силах даже вообразить, что пришлось узнать мне: никакие фантазии, даже самые отвратительные и немыслимые, не сравнятся и с малейшей тенью того, что мне пришлось услышать – и увидеть. Да, увидеть. Я видел непостижимые вещи, столь ужасные, что до сих пор иногда могу остановиться посреди улицы, задаваясь вопросом: неужели человек, узревший такое, способен жить дальше как ни в чем ни бывало? За какой-то год, Вильерс, она уничтожила меня, уничтожила мое тело и душу… тело и душу.
– Но что стало с твоим имуществом, Герберт? Ты же владел землей в Дорсете.
– Я все продал; поля, леса, свой старый добрый дом – все.
– А деньги?
– Она обобрала меня до нитки.
– И оставила тебя?
– Да, исчезла однажды ночью. Не знаю, куда она направилась, но уверен: если я увижу ее еще хоть раз, это меня прикончит. Остальное уже не так интересно; презренная нищета, только и всего. Ты, Вильерс, должно быть, думаешь, что я преувеличиваю, чтобы произвести впечатление, но на самом деле я не сказал тебе и половины всей правды. Я мог бы привести некоторые доказательства, которые убедили бы тебя, но тогда до конца своих дней ты не сможешь больше испытать счастья. Остаток жизни ты проведешь так же, как я, – проклятым человеком, человеком, повидавшим ад.
Вильерс привел несчастного к себе домой и накормил ужином. Герберт заставил себя немного поесть и едва притронулся к бокалу вина, поставленному перед ним хозяином. Угрюмый и молчаливый, он сидел у камина и явно испытал облегчение, когда Вильерс проводил его к выходу, снабдив на прощание небольшой суммой денег.
– Кстати, Герберт, – сказал Вильерс, когда они оказались по разные стороны порога, – как, говоришь, звали твою жену? Хелен, кажется? А фамилия?
– Когда я встретил ее, она жила под именем Хелен Воэн, но каково ее настоящее имя – этого я не знаю. Не думаю, что у нее вообще есть имя. Нет-нет, не в этом смысле. Только люди носят имена, Вильерс; большего я тебе сказать не могу. Прощай. Да-да, конечно, я обращусь к тебе, если пойму, чем ты сможешь мне помочь. Доброй ночи.
Мужчина исчез в промозглой ночи, а Вильерс вернулся к камину. Было в Герберте что-то невыразимое, что потрясло его; не ветхое тряпье, не отметины нищеты на лице, но, скорее, неопределенный ужас, сгущавшийся вокруг него, подобно туману. Он не отрицал, что и сам не безвинен; женщина, по его собственному признанию, осквернила его тело и душу, и Вильерсу казалось, что этому человеку, бывшему когда-то его другом, пришлось исполнять роли в сценах, порочность которых невозможно выразить словами. И не нужно никаких доказательств: он сам был подтверждением своей истории. Вильерс с интересом обдумывал только что услышанный рассказ и гадал, рассказал ли ему Герберт все от начала до конца. «Нет, – подумалось ему, – определенно не до конца; похоже, это только начало. Такие случаи всегда напоминают китайские шкатулки, которые вкладываются одна в другую, а каждая последующая замысловатее предыдущей. Вероятнее всего, бедняга Герберт оказался одной из самых больших шкатулок, внутри которых кроются многие другие, куда более странные».
Вильерс никак не мог выбросить из головы Герберта с его историей, которая с каждым часом казалась ему все безумнее. Огонь в камине угас, и комната наполнилась предрассветной прохладой; Вильерс встал, бросив короткий взгляд через плечо, и, слегка дрожа, лег в постель.
Спустя несколько дней в клубе он встретил знакомого джентльмена по имени Остин, славящегося глубокими познаниями в лондонской жизни – как светлой, так и мрачной ее составляющих. Вильерс, по-прежнему находящийся под впечатлением от внезапной встречи в Сохо и последующих откровений, решил, что Остин, возможно, сумеет пролить немного света на историю Герберта, а потому после короткого обмена обыденными фразами вдруг задал вопрос:
– Не знаком ли вам, случаем, человек по имени Герберт? Чарльз Герберт?
Остин резко повернулся и несколько удивленно уставился на Вильерса.
– Чарльз Герберт? Вас что же, не было в городе три года назад? Нет? Значит, вы, должно быть, не слышали о происшествии на Пол-стрит? В то время этот случай наделал немало шума.
– Что за случай?
– Один джентльмен, человек весьма влиятельный, был найден мертвым, окоченевшим, возле одного дома на Пол-стрит, неподалеку от Тоттенхэм-Корт-роуд. Разумеется, обнаружила его вовсе не полиция; случись вам засидеться ночью допоздна в собственном доме, констебль непременно позвонит вам в дверь, заметив свет в окне, но стоит вам умереть где-нибудь на улице, будьте уверены, никто вас не потревожит. В данном случае, как это часто бывает, тревогу поднял какой-то бродяга; я имею в виду не обыкновенного бездомного или попрошайку из трактира, нет, то был джентльмен, которого не то дела, не то развлечения – а может, и то, и другое – привели на улицы Лондона в пять часов утра. Субъект этот, по его собственным заверениям, «направлялся домой» (куда именно и откуда – это так и осталось невыясненным) и по случайности оказался на Пол-стрит между четырьмя и пятью часами утра. Что-то привлекло его внимание к дому под номером двадцать; он утверждал, как бы нелепо это ни звучало, что дом этот имел самую неприятную физиономию из всех, что он когда-либо наблюдал; как бы то ни было, он оглядел участок вокруг дома и с немалым изумлением увидел, что на камнях лежит человек: руки и ноги скрючены, лицо повернуто к небу. Лицо это показалось нашему джентльмену особенно жутким, и он бросился на поиски ближайшего полисмена. Констебль поначалу отнесся к делу легкомысленно, заподозрив обыкновенное пьянство, однако, оказавшись на месте и поглядев на лицо человека, он довольно быстро сменил тон. Ту раннюю пташку, что отыскала этого замечательного червячка, послали за доктором, а полисмен принялся звонить и стучать в дверь соседей, пока ему не открыла небрежно одетая заспанная служанка, спустившаяся на шум. Констебль продемонстрировал ей находку, и женщина своим криком перебудила всю улицу, однако ничего дельного сказать не смогла: мужчину этого она не знала, в доме никогда не видела и так далее. Тем временем человек, совершивший эту находку, вернулся в сопровождении доктора, и следующим шагом было решено пройти непосредственно к дому. Ворота оказались не заперты, и все четверо, спотыкаясь, поднялись по ступенькам. Доктору хватило секунды; осмотрев беднягу, он сообщил, что тот пролежал мертвым несколько часов, – и тут-то дело начало приобретать интересный оборот. Мертвеца никто не грабил, а в одном из его карманов нашли документы, согласно которым это был… в общем, это был человек из приличной и богатой семьи, пользующийся уважением в обществе и не имеющий врагов, по крайней мере, насколько было известно. Имени я не называю, Вильерс, поскольку для истории это не имеет значения, к тому же нехорошо ворошить дела покойных, если речь не идет об их живых родственниках. Следующим любопытным фактом стало то, что медики никак не могли сойтись во мнениях относительно причины смерти. На плечах у мертвеца обнаружились легкие синяки, но они были столь незначительными, что можно было разве что предположить, будто кто-то грубо вытолкал несчастного из кухни, но никак не выбросил через перила на улицу или выволок по лестнице. Однако какие-либо иные следы насилия совершенно отсутствовали – абсолютно ничего такого, что могло бы повлечь за собою смерть; а когда дело дошло до вскрытия, следов каких бы то ни было ядов также не нашлось. Само собой, полиция попыталась выяснить все о людях, проживавших в доме под номером двадцать, и здесь, опять же, всплыла парочка весьма любопытных моментов, о которых мне стало известно из частных источников. Как выяснилось, в доме проживали мистер Чарльз Герберт с женой; глава семейства, по словам соседей, являлся земельным собственником, хотя многих это удивляет, ибо Пол-стрит не кажется подходящим местом для сельского джентри. Что же касается миссис Герберт, никто, по-видимому, не знал, кто она и чем занимается, и, между нами говоря, я подозреваю, что те, кто нырнул поглубже в ее историю, обнаружили себя в весьма странных водах. Разумеется, оба они утверждали, что ничего не знали о покойном, и ввиду отсутствия каких-либо улик с них сняли все подозрения. Но всплыли и кое-какие странности. Несмотря на то что тело увозили между пятью и шестью часами утра, вокруг собралась большая толпа, и некоторые соседи прибежали посмотреть, что происходит. Они не стеснялись в выражениях, во всех смыслах, и вскоре стало ясно, что дом номер двадцать на Пол-стрит обладает весьма дурной славой. Детективы попытались распутать эти слухи и докопаться до лежащих в их основе твердых фактов, но не смогли ни за что ухватиться. Люди качали головами, вскидывали брови, называли Гербертов «подозрительными», заявляли, что «не хотели бы оказаться у них в доме» и все в таком роде, но ничего конкретного в их словах не было. Власти, по всей видимости, не сомневались, что мужчина встретил свою смерть так или иначе в доме, после чего был выброшен на улицу через кухонную дверь, однако доказать этого не могли, а отсутствие каких бы то ни было следов насилия или отравления ставило их в беспомощное положение. Удивительный случай, не так ли? Но, как ни странно, это еще не все. Так вышло, что я знаком с одним из докторов, помогавших полицейским установить причину смерти, и спустя некоторое время после расследования я встретился с ним и порасспрашивал. «Неужели вы всерьез хотите сказать, – удивлялся я, – что это дело поставило вас в тупик, что вы и впрямь не знаете, отчего умер тот несчастный?» – «Прошу прощения, – отвечал он, – я прекрасно знаю, что стало причиной смерти. Мистер Н. скончался от испуга, от искреннего непереносимого ужаса; за всю свою практику я никогда не видел столь страшной гримасы на лице покойного, а ведь покойников я повидал огромное множество». Этот доктор прежде всегда сохранял невозмутимость, и горячность его рассуждений в тот день поразила меня, но больше я от него так ничего и не добился. Полагаю, власти не смогли найти способ обвинить Гербертов в том, что те до смерти напугали человека; как бы то ни было, на этом все и закончилось, и случай постепенно забылся. А что, неужели вы что-то слышали о Герберте?
– Скажем так, – отозвался Вильерс, – он был моим другом в университетские времена.
– Да вы что! А вы были знакомы с его женой?
– Нет, не был. Я много лет назад утратил с Гербертом связь.
– Как странно, вы не находите? Разойтись с другом у ворот колледжа или, скажем, на вокзале Паддингтон, потом несколько лет не слышать о нем новостей, как вдруг его имя всплывает при таких удивительных обстоятельствах. Жаль, что я не знаком с миссис Герберт; о ней ходят самые невероятные слухи.
– Что за слухи?
– Даже не знаю, как вам сказать. Все, кому довелось встретиться с ней в полицейском суде, характеризовали ее как самую красивую женщину на свете, но в то же время самую отталкивающую из всех, что когда-либо попадались им на глаза. Я разговаривал с одним джентльменом, который видел ее лично, и уверяю вас, он буквально вздрогнул в ответ на просьбу описать ее внешность, хотя и сам не мог объяснить почему. По-видимому, в ней кроется какая-то тайна; думаю, если бы тот мертвец мог говорить, он поведал бы нам чрезвычайно любопытную историю. И вот вам еще одна загадка: что такой уважаемый джентльмен, сельский землевладелец, как господин Н. (будем называть его так, если вы не возражаете), мог делать в нехорошем доме под номером двадцать? Все в совокупности делает этот случай весьма загадочным, не так ли?
– Именно так, Остин, случай поистине экстраординарный. Интересуясь судьбой моего старого друга, я и не думал, что растревожу столь странные материи. Что ж, мне пора; хорошего вам дня.
Вильерс ушел, продолжая тешить себя метафорой о китайских шкатулках: действительно, каждая последующая – затейливее предыдущей.
Глава IV
Находка на Пол-стрит
Несколько месяцев спустя после встречи Вильерса с Гербертом мистер Кларк, отужинав, сел, по обыкновению, возле камина, решительно пресекая любые мысли о бюро. Уже больше недели он успешно избегал брать в руки свои «Доказательства» и лелеял надежду полностью забыть о них; однако, несмотря на все усилия, он не мог унять в себе то изумление и странное любопытство, которые вызвал в нем последний описанный им случай. Он пересказал эту историю, вернее, описал в общих чертах, своему ученому другу, но тот лишь покачал головой и решил, что Кларк несет вздор. В этот вечер Кларк вновь пытался отыскать в этой истории рациональное зерно, как вдруг из размышлений его вырвал внезапный стук в дверь.
– К вам мистер Вильерс, сэр.
– Боже мой, Вильерс, как хорошо, что вы решили заглянуть; мы не виделись уже столько месяцев – должно быть, около года. Проходите же, проходите. Как вы, Вильерс? Вы пришли за советом по инвестициям?
– Нет, благодарю. Думаю, с этим у меня все в полном порядке. Нет, Кларк, я действительно пришел посоветоваться, но насчет довольно необычного случая, который недавно попал в поле моего зрения. Боюсь, выслушав мою историю, вы сочтете ее абсурдной. Иногда я и сам так думаю, и именно поэтому я решил обратиться к вам, ведь вы, как мне известно, человек практичный.
Мистер Вильерс ничего не знал о «Доказательствах существования дьявола».
– Что ж, Вильерс, я с радостью дам вам совет, в меру моих сил. В чем же состоит дело?
– Все это крайне необычно. Вы меня знаете, на улицах я всегда внимательно смотрю по сторонам, и в свое время мне приходилось повидать немало странных людей и удивительных событий, однако эта история, по-моему, превзошла все это по степени загадочности. Примерно три месяца назад, промозглым зимним вечером, я вышел из ресторана после основательного ужина под бутылочку хорошего кьянти; на мгновение я остановился на тротуаре, размышляя о тайнах, которыми преисполнены лондонские улицы и гуляющие по ним компании. Бутылка красного всегда пробуждает во мне подобные мысли, Кларк, и я осмелюсь сказать, что в тот вечер мои размышления вполне могли бы вылиться на целую страницу машинописного текста, не прерви их попрошайка, который подошел ко мне сзади с обыкновенной для нищего просьбой. Я, разумеется, обернулся и узнал в этом попрошайке то, что осталось от моего давнего друга по имени Герберт. Я спросил его, как он дошел до столь убогого существования, и он кое-что рассказал мне. Мы шли, то поднимаясь в гору, то спускаясь, по одной из длинных темных улиц Сохо, и я слушал его историю. Он рассказал, что женился на прекрасной девушке на пару лет моложе, которая, как он выразился, осквернила, уничтожила его тело и душу. В подробности он не вдавался, сказал, что у него язык не повернется рассказать такое; но то, что ему довелось увидеть и услышать, преследовало его днем и ночью, и я, взглянув на его лицо, сразу понял, что он говорит правду. Было в этом человеке что-то такое, что заставило меня содрогнуться. Не знаю, что именно, но точно было. Я дал ему немного денег и проводил к выходу, а когда он ушел, уверяю вас, я едва отдышался. От одного его присутствия кровь стыла у меня в жилах.
– Но ведь в этой истории нет ничего особенно удивительного, не так ли, Вильерс? Похоже, бедняга просто неудачно женился и, выражаясь простым языком, пустился во все тяжкие.
– Что ж, тогда слушайте дальше.
Вильерс пересказал Кларку историю, услышанную от Остина.
– Видите, – сказал он в конце, – вряд ли приходится сомневаться, что этот господин Н., кем бы он ни был, умер от испуга; он увидел нечто столь ужасное, столь жуткое, что жизнь его мгновенно оборвалась. А то, что он увидел, почти наверняка находилось в том доме, который по какой бы то ни было причине обладал дурной славой среди соседей. Из любопытства я сходил туда, чтобы увидеть это место своими глазами. Улица производит удручающее впечатление, дома там такие старые, что создают впечатление ветхости и мрачности, но недостаточно древние, чтобы можно было причислить их к живописным образцам старомодной архитектуры. Насколько я понял, по большей части это дома на несколько квартир, сдаваемых внаем, с мебелью или без мебели; почти у каждой двери я насчитал по три звонка. Первые этажи некоторых зданий заняты ничем не примечательными магазинами; в целом улица мрачная во всех отношениях. Выяснив, что дом номер двадцать сдается в аренду, я отправился к агенту и получил ключ. Разумеется, мне неоткуда было знать о Гербертах, проживавших когда-то в этом доме, но я честно и открыто спросил у агента, как давно они съехали и арендовал ли кто-то квартиру после них. Он с минуту смотрел на меня с подозрением, а потом сообщил, что Герберты выехали сразу же после, выражаясь его словами, «неприятного инцидента», и с тех пор дом стоял пустым.
Мистер Вильерс на мгновение умолк.
– Я всегда любил побродить по необитаемым домам; есть что-то чарующее в обезлюдевших брошенных комнатах, где из стен торчат гвозди, а подоконники покрыты толстым слоем пыли. Но посещение дома номер двадцать на Пол-стрит не принесло мне никакого удовольствия. Едва занеся ногу над порогом, я ощутил необыкновенно тяжелую атмосферу, царившую там. Конечно, во всех нежилых квартирах без проветривания бывает душно, но здесь дело было в чем-то другом; я не могу передать вам этого ощущения, но казалось, будто что-то не дает мне дышать. Я зашел в гостиную и в дальнюю комнату, спустился на кухню; везде было довольно грязно и пыльно, что неудивительно, но со всеми этими комнатами было что-то не так. Не могу подобрать слов, чтобы описать это, но уверен в одном: мне было крайне не по себе. Но ужаснее всего дела обстояли с одним из помещений на втором этаже. То была просторная комната, и обои на ее стенах когда-то наверняка были довольно веселыми, но в тот день, когда я вошел туда, обои, краска и все прочее представляло собою наитоскливейшее зрелище. В этой комнате царил ужас; мои зубы невольно сжались, когда я взялся за ручку двери, а войдя внутрь, я едва не упал на пол без чувств. Как бы то ни было, я собрался с силами и облокотился на торцевую стену, гадая, что же такого в этой комнате, отчего мои руки и ноги дрожат, а сердце колотится так, словно час смерти близок. В одном углу на полу валялась куча газет, и я принялся их перебирать; то были газеты трех- или четырехлетней давности, некоторые наполовину изорванные, а иные помятые, словно в них что-то заворачивали. Я перерыл всю кучу и нашел среди газет любопытный рисунок; чуть позже я вам его покажу. Но оставаться в комнате я больше не мог; я чувствовал, что она вот-вот раздавит меня. Я был счастлив выйти наконец на свежий воздух целым и невредимым. Люди на улице провожали меня взглядами, а один прохожий решил, что я пьян. Меня шатало от одного края тротуара к другому, и сил хватило лишь на то, чтобы отдать ключ агенту и вернуться домой. Целую неделю я пролежал в постели, страдая от болезни, которую доктор списал на нервное потрясение и переутомление. В один из таких дней, читая вечернюю газету, я наткнулся на заметку под заголовком «Смерть от голода». Дело вполне заурядное: обыкновенный дом гостиничного типа в Мерилибоне, дверь в арендованную квартиру несколько дней никто не открывал, а когда замок выломали, обнаружили труп в кресле. «Как выяснилось, – говорилось в заметке, – усопшего звали Чарльз Герберт, и когда-то он был успешным джентльменом и землевладельцем. Его имя стало известно публике три года назад в связи с таинственным происшествием на Пол-стрит, Тоттенхэм-Корт-роуд: на участке у дома номер двадцать, который занимал усопший, был обнаружен мертвым один высокопоставленный джентльмен, чья смерть наступила при довольно подозрительных обстоятельствах». Трагичный конец истории, не так ли? Но в конце концов, если он сказал мне правду – а я уверен, что он не лгал, – вся жизнь этого человека была трагедией, и трагедией куда более странного рода, нежели те, что ставят на театральных подмостках.
– И на этом история заканчивается? – задумчиво проговорил Кларк.
– Да, это все.
– Что ж, и впрямь, Вильерс, я даже не знаю, что сказать. Несомненно, некоторые обстоятельства этого дела кажутся диковинными – взять, к примеру, то, как обнаружили покойника возле дома Герберта, или какое необычное предположение выдвинул доктор касательно причины его смерти; но, в конце концов, вполне возможно, что и этим фактам найдется разумное объяснение. Относительно ваших ощущений, возникших при осмотре дома, я бы предположил, что они стали продуктом бурного воображения; вы, должно быть, сами того не осознавая, слишком глубоко погрузились в размышления об услышанном ранее. Откровенно говоря, я не знаю, что еще может быть сказано или сделано в этой ситуации; вы, очевидно, полагаете, что здесь кроется какая-то тайна, однако Герберт уже мертв. Что же теперь вы предлагаете искать?
– Я предлагаю искать ту женщину, женщину, на которой он был женат. Именно в ней кроется тайна.
Двое мужчин молча сидели у камина; Кларк мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось сохранить облик рассудительного и практичного человека, а Вильерс с головой ушел в свои мрачные фантазии.
– Думаю, мне нужно закурить, – сказал он наконец и сунул руку в карман за портсигаром. – А! – вдруг воскликнул он, слегка вздрогнув. – Я совершенно забыл кое-что вам показать. Помните, я говорил, что нашел среди старых газет в доме на Пол-стрит довольно любопытный набросок? Вот он.
Вильерс извлек из кармана маленький тонкий сверток. Он был обернут коричневой бумагой и перевязан бечевкой, узлы на которой никак не хотели поддаваться. Кларк невольно испытал прилив любопытства; он подался вперед в своем кресле, пока Вильерс с трудом развязывал бечевку и разворачивал упаковочную бумагу. Внутри оказалась еще одна обертка, тканевая; развернув ее, Вильерс без единого слова протянул Кларку маленький листок бумаги.
Минут на пять, если не больше, в комнате воцарилась гробовая тишина: мужчины сидели так тихо, что можно было услышать тиканье высоких старинных часов, стоявших в прихожей, и в голове одного из собеседников этот медленный монотонный звук всколыхнул давние, очень давние воспоминания. Он неотрывно глядел на маленький чернильный набросок женской головы; портрет явно был выполнен настоящим художником с завидной дотошностью, ибо в глазах женщины отражалась ее душа, а на чуть приоткрытых губах играла загадочная улыбка. Кларк пристально смотрел на это лицо; оно отправило его на много лет назад, в один летний вечер; в его памяти вновь всплыли очаровательная длинная долина, петляющая среди холмов река, луга и кукурузные поля, мутное красное солнце и прохладная белая дымка, поднимающаяся над водой. Он услышал голос, который доносился до него сквозь волны прожитых лет: «Кларк, Мэри увидит бога Пана!» – и вот он уже стоит в мрачной комнате рядом с доктором, прислушиваясь к тяжелому тиканью часов, в мучительном ожидании не отводя глаз от фигуры, лежащей на зеленом раскладном кресле под светом ламп. Мэри встает, он встречается с ней взглядом, и сердце застывает у него в груди.
– Кто эта женщина? – спросил он наконец. Голос его был сдавленным и хриплым.
– Это женщина, на которой был женат Герберт.
Кларк снова опустил взгляд на рисунок; нет, это была не Мэри. У женщины с портрета определенно было похожее лицо, однако в нем сквозило что-то еще, что-то такое, чего он не замечал в чертах Мэри, когда облаченная в белое девушка вошла в лабораторию вслед за доктором, или когда она в ужасе очнулась от забытья, или когда лежала в постели, бездумно улыбаясь. Что бы это ни было – взгляд ее глаз, полнота губ или выражение лица в целом, – оно заставляло Кларка содрогнуться в глубине души и неосознанно вспомнить слова доктора Филлипса о «чрезвычайно ярком изображении жесточайшего зла». Он машинально перевернул листок в руках и посмотрел на обратную сторону.
– Господи боже! Кларк, в чем дело? Вы бледны как смерть.
Вильерс рывком вскочил с кресла, когда Кларк со стоном откинулся на спинку, выронив листок из рук.
– Мне не очень хорошо, Вильерс, со мной иногда случаются такие приступы. Налейте мне чуть-чуть вина; благодарю, достаточно. Через несколько минут мне станет лучше.
Вильерс подобрал упавший набросок и тоже посмотрел на обратную сторону.
– Вы видели, да? – спросил он. – Вот как я понял, что это портрет жены Герберта, вернее, его вдовы. Вам уже лучше?
– Лучше, благодарю вас, просто слегка закружилась голова, но теперь все прошло. Я не вполне понимаю, о чем вы. Что натолкнуло вас на мысль о том, что на рисунке изображена его жена?
– Я говорю о слове «Хелен», написанном на обороте. Разве я не сказал вам, что его жену звали Хелен? Хелен Воэн.
Кларк застонал; здесь не могло быть и тени сомнения.
– Нет, скажите, правда же, – продолжал Вильерс, – что в истории, которую я рассказал вам сегодня, и в той роли, которую играет в ней эта женщина, имеются некоторые весьма подозрительные моменты?
– Да, Вильерс, – пробормотал Кларк, – история действительно очень странная, очень. Прошу, дайте мне время поразмыслить над ней; быть может, я смогу вам чем-то помочь… а может, и нет. Вам уже пора? Что ж, доброй ночи, Вильерс, доброй ночи. Загляните ко мне на неделе.
Глава V
Письмо и дружеский совет
– А знаете, Остин, – сказал Вильерс, пока двое друзей степенно шагали по Пикадилли одним приятным майским утром, – знаете, я ведь убежден, что ваш недавний рассказ о Пол-стрит и чете Гербертов описывает лишь один эпизод из большой экстраординарной истории. Должен вам признаться, незадолго до того, как я несколько месяцев назад задал вам вопрос о Герберте, я его видел.
– Видели? Где?
– Он попросил у меня милостыню на улице однажды вечером. Вид у него был крайне жалкий, но я узнал в нем знакомого и попросил рассказать, как так вышло – хотя бы в общих чертах. Если не вдаваться в подробности, все сводилось к одному: до такого состояния его довела жена.
– Но каким образом?
– Этого он не сказал; он лишь утверждал, что она уничтожила его, испоганила тело и душу. Теперь этот человек мертв.
– А что стало с его женой?
– О, хотел бы я знать. Я намереваюсь отыскать ее рано или поздно. У меня есть знакомый по фамилии Кларк, человек сухой и деловой до мозга костей, однако довольно практичный. Вы понимаете, что я имею в виду: практичный не только в деловом отношении, но и как человек, действительно разбирающийся в этой жизни и в людях. Итак, я выложил ему все как есть, и он явно остался под впечатлением. Сказал, что ему нужно все обдумать, и попросил меня зайти еще раз на неделе. А несколько дней спустя я получил вот это любопытное письмо.
Остин взял протянутый ему конверт, вынул письмо и с интересом принялся за чтение. Содержание письма было следующим:
«Мой дорогой Вильерс!
Я поразмыслил над вопросом, касательно которого вы на днях приходили со мной посоветоваться, и рекомендую вам сделать следующее. Бросьте портрет в огонь, а всю эту историю навсегда сотрите из памяти. Никогда больше не задумывайтесь об этом, Вильерс, иначе потом вам придется горько сожалеть. Не сомневаюсь, вы решите, будто я владею неким тайным знанием, и в какой-то мере будете правы. Однако я и сам мало что знаю; я словно путешественник, который заглянул на миг в пропасть и отпрянул от нее в страхе. Те факты, которыми я располагаю, уже сами по себе чудовищны и безумны, но за границами моих познаний кроются бездны еще более жуткие, более невероятные, чем любые сказки, что звучат зимними вечерами у камина. Я принял окончательное решение: ни на йоту более не продвигаться в изучении данного вопроса, и если вам дорого ваше счастье, вы последуете моему примеру.
Я всегда жду вас в гости, однако говорить мы будем на более приятные темы».
Остин аккуратно сложил письмо и вернул его Вильерсу.
– Действительно, любопытное письмо, – сказал он. – А о каком портрете шла речь?
– А! Совсем забыл вам сказать. Я побывал на Пол-стрит и кое-что там нашел.
Вильерс поведал ему историю, которую рассказывал недавно Кларку, и Остин молча выслушал его. Он выглядел озадаченным.
– Как любопытно, что в той комнате у вас возникло столь неприятное ощущение, – сказал он после долгой паузы. – Можно только предположить, что это было лишь следствием разыгравшегося воображения; проще говоря, вы испытали чувство отвращения.
– Нет, речь, скорее, о физическом, нежели психическом ощущении. Словно с каждым вдохом в мои легкие просачивались смертоносные пары и проникали в каждый нерв, каждую кость, каждую жилу моего тела. Меня словно сковало с головы до ног, в глазах помутнело; мне казалось, что я стою на пороге смерти.
– Да-да, это и впрямь очень странно. Видите ли, судя по письму, ваш друг знает, что с той женщиной связана какая-то очень темная история. Вы не заметили, выказывал ли он какие-то особенные эмоции во время вашего рассказа?
– Да, заметил. Он очень побледнел, но уверял меня, что это лишь проходящий приступ, которым он иногда подвержен.
– И вы ему поверили?
– В ту минуту поверил, но теперь сомневаюсь. Он слушал мой рассказ почти без эмоций, но лишь до того момента, когда я показал ему портрет. И тут с ним случился упомянутый мною приступ. Ей-богу, он побледнел как смерть.
– Похоже, он видел это лицо не впервые. Однако тут может быть и другое объяснение; быть может, дело не в лице, а в имени. Как вы считаете?
– Трудно сказать. Насколько я могу судить, именно после того, как он перевернул листок с портретом, он едва не упал с кресла. А на обратной стороне портрета как раз было написано имя.
– Вот именно. В конце концов, в подобных делах невозможно прийти к какому-либо однозначному выводу. Я не выношу мелодрам, и вряд ли можно найти что-то более заурядное и скучное, чем сказки о призраках; но, Вильерс, мне действительно кажется, что за всем этим кроется что-то чрезвычайно странное.
Мужчины, сами того не заметив, свернули с Пикадилли на север и теперь шагали по Эшли-стрит. То была длинная и весьма мрачная улица, но тут и там сумрачные дома расцвечивались яркими мазками цветов, пестрыми занавесками или веселой краской на двери. Когда Остин замолчал, Вильерс поднял взгляд и посмотрел на один из домов; с каждого подоконника свисали красные и белые герани, а на всех окнах виднелись края раздвинутых занавесок цвета нарцисса.
– Какой жизнерадостный дом, вы не находите? – сказал Вильерс.
– О да, а внутри он еще ярче. По слухам, это один из самых уютных домов здесь. Сам я ни разу не был внутри, но знаю тех, кто бывал, и они говорят, что обстановка внутри необыкновенно жизнерадостная.
– Чей это дом?
– Миссис Бомон.
– А кто она?
– Не могу сказать наверняка. Я слышал, что она приехала из Южной Америки, но в конечном счете ее положение не имеет особого значения. Она очень состоятельная женщина, в этом нет никаких сомнений, и в ее окружении есть весьма влиятельные люди. Я слышал, в ее доме угощают великолепным кларетом, поистине чудесным вином, которое, должно быть, стоит баснословных денег. Мне рассказал об этом лорд Арджентин; он ужинал здесь в прошлое воскресенье. Он уверяет, что никогда в жизни не пробовал такого вина, а Арджентин, как вам известно, эксперт в этом деле. К слову о вине, эта миссис Бомон, похоже, женщина из чудаковатых. Арджентин спросил ее о выдержке вина, и знаете, что она ответила? «Думаю, около тысячи лет». Лорд Арджентин решил, что это шутка, и рассмеялся, но она заявила, что нисколько не шутит, и предложила взглянуть на кувшин. Разумеется, после этого ему нечего было сказать; но тысячелетний напиток, кажется, это уж слишком, не так ли? Надо же, а вот и мой дом. Не желаете ли зайти?
– Спасибо, не откажусь. Давненько я не заглядывал в лавку древностей.
Комната была обставлена богато, но диковинно: каждый кувшин, стол и книжный шкаф, каждый коврик и орнамент, казалось, были сами по себе, хранили индивидуальность.
– Есть что-нибудь новенькое? – спросил Вильерс спустя некоторое время.
– Нет; кажется, нет. Вы ведь уже видели вот эти необычные кувшины? Да, я так и думал. За последние несколько недель здесь ничего не прибавилось.
Взгляд Остина скользил по комнате, от буфета к буфету, от полки к полке, в поисках новых диковинок. Наконец он остановился на стоящем в темном углу комнаты странном сундуке, покрытом искусными резными узорами.
– Ах да, – сказал он, – чуть не забыл. У меня есть что вам показать. – Остин отпер сундук, вынул оттуда толстый том в четверть листа, положил его на стол и снова взялся за отложенную сигару. – Вы знаете художника Артура Мейрика, Вильерс?
– Немного; пару раз встречал его в доме одного моего друга. Где он сейчас? Я довольно давно ничего о нем не слышал.
– Он умер.
– Не может быть! Он же был совсем молод, или я ошибаюсь?
– Верно, ему было тридцать на момент смерти.
– Что же стало причиной?
– Не знаю. Он был моим близким другом и в целом прекрасным человеком. Бывало, он приходил сюда, и мы часами разговаривали; нечасто мне приходилось встречать столь замечательных собеседников. С ним можно было спокойно обсудить живопись, а это редкость для большинства живописцев. Около полутора лет назад он начал замечать, что переутомился, и – отчасти благодаря моей идее – отправился в своего рода путешествие без определенного срока и цели. Насколько мне известно, первой остановкой для него стал Нью-Йорк, хотя писем от него я ни разу не получал. Но три месяца назад мне прислали эту книгу, а вместе с ней весьма учтивое письмо от английского доктора, практикующего в Буэнос-Айресе; доктор сообщал, что он наблюдал за мистером Мейриком в ходе болезни последнего и что перед смертью мистер Мейрик настоятельно просил, чтобы этот запечатанный сверток отправили мне. И больше ничего.
– Вы не писали ответного письма? Не просили рассказать подробности?
– Я как раз думаю над этим. Вы считаете, мне следует это сделать?
– Безусловно. А что же книга?
– Я получил ее в запечатанном свертке. Вряд ли доктор ее видел.
– Это какая-то редкость? Быть может, Мейрик был коллекционером?
– Нет, я так не думаю, вряд ли он что-либо коллекционировал. Скажите, как вам эти айнские сосуды?
– Довольно необычные, но мне нравятся. Постойте, разве вы не хотели показать мне то, что завещал вам бедняга Мейрик?
– Да-да, разумеется. Дело в том, что это крайне своеобразная вещь, и я никому ее до сих пор не показывал. На вашем месте я не стал бы о ней никому рассказывать. Вот она.
Вильерс взял книгу и раскрыл на случайной странице.
– Выходит, это не печатное издание? – сказал он.
– Нет. Это сборник черно-белых рисунков авторства моего несчастного друга Мейрика.
Вильерс вернулся к первой странице, она оказалась пустой, на второй обнаружилась короткая надпись, которая гласила:
Sɪʟet peʀ dɪem uɴɪveʀꜱuꜱ, ɴec ꜱɪɴe ʜoʀʀoʀe ꜱecʀetuꜱ eꜱt; ʟucet ɴoctuʀɴɪꜱ ɪɢɴɪʙuꜱ, cʜoʀuꜱ Æɢɪpaɴum uɴdɪque peʀꜱoɴatuʀ: audɪuɴtuʀ et caɴtuꜱ tɪʙɪaʀum, et tɪɴɴɪtuꜱ cʏmʙaʟoʀum peʀ oʀam maʀɪtɪmam[15].
На третьей оказался эскиз, при виде которого Вильерс вздрогнул и поднял взгляд на Остина; хозяин рассеянно глядел в окно. Вильерс переворачивал страницу за страницей, поглощенный, вопреки собственной воле, пугающим разгульем вальпургиевой ночи и чудовищным злом, которое покойный художник запечатлел в контрастных черно-белых тонах. Перед ним плясали фигуры фавнов, сатиров и эгипан; непроглядные темные чащи, пляски на вершинах гор, сцены на пустынных берегах, в зеленых виноградниках, у подножий скал и в пустынях проплывали у него перед глазами – мир, перед которым человеческая душа, казалось, отшатывалась с содроганием. Решив, что увидел достаточно, оставшиеся страницы Вильерс пролистал, почти не глядя, однако рисунок на последнем листе привлек его внимание, когда он уже почти закрыл книгу.
– Остин!
– Да? Что такое?
– Вы знаете, кто это?
С белого листа глядело одно только женское лицо.
– Я? Нет, откуда мне знать.
– А я знаю.
– Кто же это?
– Миссис Герберт.
– Вы уверены?
– Абсолютно уверен. Бедняга Мейрик! Он стал очередной главой в ее истории.
– А как вам рисунки?
– Чудовищны. Заприте книгу в ящик, Остин. Хотя на вашем месте я сжег бы ее; это слишком жуткая вещь, чтобы хранить ее у себя, пусть даже и под замком.
– Да, картинки… весьма своеобразные. Но интересно, какая может быть связь между Мейриком и миссис Герберт и какое отношение эта женщина имеет к рисункам?
– Хотелось бы знать. Быть может, это конец истории, и мы никогда не узнаем ничего более, однако я уверен, что с этой Хелен Воэн, или, если хотите, миссис Герберт, все только начинается. Она вернется в Лондон, Остин; будьте уверены, ей придется вернуться, и тогда мы снова о ней услышим. И сомневаюсь, что эти новости будут приятными.
Глава VI
Самоубийства
Лорда Арджентина очень уважали в лондонском обществе. В возрасте двадцати лет он был бедняком, которому, несмотря на знатную фамилию, приходилось прикладывать немало усилий, чтобы заработать на жизнь, и даже самые рискованные из ростовщиков не доверили бы ему в долг и пятидесяти фунтов в расчете на то, что когда-нибудь перед его именем появится титул, а бедность сменится баснословным богатством. Его отец был когда-то довольно близок к средоточию фамильного капитала, чтобы обеспечить семейство, но сын, даже прими он сан, вряд ли получил бы больше, чем имел; к тому же он не ощущал тяги к духовному сословию. Итак, он вышел в мир, имея из оружия и доспехов лишь холостяцкое платье и смекалку внука младшего сына в семье, и с таким багажом как-то ухитрялся весьма неплохо пробивать себе дорогу в жизни. В возрасте двадцати пяти лет мистер Чарльз Обернон по-прежнему пребывал в состоянии борьбы с миром и противостояния ему, но из тех семерых, что прежде стояли между ним и богатым наследием его семьи, оставалось лишь трое. Эти трое оказались, однако, весьма живучими, но и они не смогли устоять перед зулусскими дротиками и брюшным тифом, так что в одно прекрасное утро Обернон проснулся уже лордом Арджентином – тридцатилетним мужчиной, который столкнулся с жизненными трудностями и преодолел их. Он счел эту ситуацию чрезвычайно забавной и решил, что богатая жизнь уж точно не станет для него менее приятной, чем до сих пор была жизнь в бедности. Немного поразмыслив, Арджентин пришел к выводу, что проведение званых ужинов, если рассматривать их с точки зрения искусства, является, пожалуй, самым увлекательным занятием из всех доступных грешному человечеству; вскоре его ужины прогремели на весь Лондон, а приглашение к его столу стало предметом особенно желанным. Спустя десять лет в роли лорда и устроителя званых ужинов Арджентин по-прежнему отказывался поддаваться усталости, по-прежнему упорно наслаждался жизнью и заражал своим жизнелюбием окружающих – словом, был душой общества. Неудивительно, что его внезапная и трагическая кончина вызвала у многих глубокое потрясение. Люди не могли поверить в случившееся, даже держа в руках газету с некрологом и слыша со всех улиц вести о «загадочной смерти аристократа». В газете без лишних подробностей сообщалось следующее: «Лорд Арджентин был найден мертвым сегодня утром. Тело обнаружил камердинер при крайне удручающих обстоятельствах. Установлено, что его светлость совершил самоубийство, однако мотивы случившегося остаются неизвестными. Покойный был широко известен в обществе и обладал хорошей репутацией благодаря своему радушию и непревзойденному гостеприимству. Его преемником стал…» – и проч., и проч.
Мало-помалу стали выясняться детали, однако этот случай по-прежнему оставался загадкой. Главным свидетелем в ходе расследования был камердинер покойного. Он сообщил, что вечером накануне смерти лорд Арджентин отужинал с одной знатной дамой, имя которой в газетных заметках умалчивалось. Примерно в одиннадцать часов лорд Арджентин вернулся и заявил камердинеру, что его услуги не потребуются до утра. Чуть позже камердинер, проходя через холл, с некоторым удивлением заметил, что хозяин тихонько выходит через парадную дверь. Вечерний костюм он сменил на норфолкский пиджак с бриджами и коричневую шляпу, которую он низко надвинул на глаза. У камердинера не было причин предполагать, что лорд Арджентин мог его заметить, а потому невзирая на необычность ситуации (хозяин не часто засиживался допоздна) он забыл об этом случае до самого утра, когда, по обыкновению, в четверть девятого постучал в дверь хозяйской спальни. Ответа не последовало, и, повторив стук еще два или три раза, камердинер вошел в спальню, где тут же увидел возле кровати тело лорда Арджентина, наклоненное вперед под необычным углом. Приглядевшись, он понял, что один из столбиков кровати хозяин крепко обвязал веревкой, на другом конце которой соорудил затяжную петлю и накинул себе на шею; несчастный, по-видимому, нарочно подался всем телом вперед и умер от медленного удушения. Он был одет в тот же легкий костюм, в котором камердинер видел его выходящим из дома, а незамедлительно вызванный доктор заключил, что жизнь покинула тело более четырех часов назад. Все документы, письма и прочие бумаги лорда оказались в полном порядке, и не нашлось ничего, что хотя бы отдаленно свидетельствовало о каком-либо скандале, крупном или мелком. На этом расследование и закончилось; ничего более выяснить не удалось. Опросили нескольких человек, присутствовавших на ужине с лордом Арджентином, и все они утверждали, что лорд пребывал в веселом расположении духа, как и всегда. Правда, камердинер заметил, что ему показалось, будто хозяин выглядел несколько взволнованным, когда вернулся домой, однако изменения в его поведении, по признанию слуги, были весьма незначительными и едва уловимыми. По-видимому, искать дальнейшие улики было бессмысленно, и все согласились с версией о внезапно охватившей лорда Арджентина острой мании самоубийства.
Однако все изменилось три недели спустя, когда еще трое джентльменов, один из которых был аристократом, а двое других занимали хорошее положение в обществе и обладали значительным богатством, трагически погибли почти в точности таким же образом. Лорда Суонли обнаружили утром в гардеробной свисающим с прибитого к стене крючка, а мистер Колльер-Стюарт с мистером Герриесом избрали тот же способ, что и лорд Арджентин. Ни в одном из трех случаев объяснение не было найдено; лишь сухие факты: вечером человек был жив, а утром находят его безжизненное тело с черным раздутым лицом. Полиция еще ранее была вынуждена сознаться в своем бессилии относительно гнусных убийств в Уайтчапеле, за которые никто так и не был арестован и которым так и не нашли объяснения; однако чудовищные самоубийства на Пикадилли и в Мейфере окончательно сбили с толку блюстителей порядка, поскольку даже чистая жестокость, на которую можно было списать преступления в восточной части города, совершенно не годилась в качестве мотива самоубийств на западе Лондона. Каждый из этих троих мужчин, решивших принять постыдную смерть, был богат, успешен и, с какой стороны ни посмотри, любил жизнь; и даже самые тщательные расследования не помогли отыскать и тени мотива хотя бы в одном из этих случаев. В воздухе витал ужас, люди при встрече вглядывались в лица друг друга, гадая, не станет ли этот человек пятой жертвой необъяснимой трагедии. Журналисты тщетно пытались выискивать обрывки информации, из которых можно было бы состряпать очередную статью; утренние газеты во многих домах разворачивались с замиранием сердца: никто не знал, когда и где грянет новый удар.
Вскоре после трех последних происшествий в этой жуткой цепи событий Остин зашел к мистеру Вильерсу. Ему не терпелось узнать, преуспел ли последний в поисках свежих следов миссис Герберт – через Кларка или при помощи других источников, – и, едва усевшись в кресло, сразу задал свой вопрос.
– Нет, – ответил Вильерс. – Я писал Кларку, но он непреклонен; я пробовал идти другим путем, но также безрезультатно. Мне по-прежнему неизвестно, что стало с Хелен Воэн после того, как она покинула дом на Пол-стрит, но я предполагаю, что она уехала из страны. Однако должен вам признаться, Остин, что я почти не занимался этим вопросом последние несколько недель. Бедняга Герриес был моим близким другом, и его смерть стала чудовищным потрясением для меня, чудовищным.
– Прекрасно вас понимаю, – мрачно ответил Остин. – Как вы знаете, Арджентин тоже был моим другом. Если память мне не изменяет, в тот день, когда вы заходили ко мне в гости, мы как раз говорили о нем.
– Вы правы; его имя упоминалось в связи с тем домом на Эшли-стрит, домом миссис Бомон. Вы, кажется, говорили, что Арджентин бывал там на званых ужинах.
– Совершенно верно. Вам, должно быть, известно, что именно в этом доме Арджентин ужинал вечером накануне… накануне своей смерти.
– Нет, об этом я не знал.
– Ах да, в газетах же не упоминалось имя миссис Бомон ради ее же блага. Арджентин пользовался у нее большим расположением, и некоторое время после случившегося она пребывала в ужасном состоянии.
На лице Вильерса промелькнуло любопытство; ему словно было что сказать, но он никак не мог решить, стоит ли это делать.
Остин снова заговорил:
– Никогда в жизни я не испытывал такого ужаса, как в тот день, когда прочел известие о смерти Арджентина. Я не понимал причин тогда и не понимаю до сих пор. Я прекрасно его знал, а потому никак не могу взять в толк, что могло заставить его – или остальных несчастных – решиться на хладнокровное самоубийство столь ужасным способом. Вы знаете, как в Лондоне любят перемывать друг другу кости, и можете не сомневаться, что любой замятый скандал или спрятанный в шкафу скелет вышел бы наружу в подобной ситуации; однако ничего такого не произошло. Что же до предположений о мании – это, разумеется, очень удобное объяснение для присяжных, но всем ясно, что это чушь. Мания самоубийства – это вам не оспа, она не заразна.
Остин погрузился в мрачное молчание. Вильерс не нарушал тишины и продолжал пристально смотреть на друга. В лице его по-прежнему читалось колебание; он словно взвешивал свои мысли, и пока что перевешивали аргументы в пользу молчания. Остин попытался стряхнуть воспоминания о трагедиях столь же безнадежных и запутанных, как лабиринт Дедала, и вновь заговорил, уже безразличным голосом, о более приятных событиях и приключениях недавнего времени.
– Кстати, эта миссис Бомон, – сказал он, – о которой мы с вами говорили, пользуется большим успехом; она вмиг покорила весь Лондон. На днях я повстречал ее в Фулхэме; воистину выдающаяся женщина.
– Вы встречались с миссис Бомон?
– Да; вокруг нее, можно сказать, собралась настоящая свита. Надо полагать, все находят ее весьма красивой, однако было в ее лице что-то такое, что мне не понравилось. Черты лица изысканны, но выражение при этом странное. Всякий раз, когда я смотрел на нее, и даже потом, когда я уже вернулся домой, меня не покидало необъяснимое чувство, словно это выражение лица я уже где-то раньше видел.
– Должно быть, вы видели ее среди прохожих на аллее Роу.
– Нет, я уверен, что никогда прежде не встречал эту женщину; это-то меня и озадачивает. И готов поклясться, что никого похожего на нее я тоже не видел; мои ощущения походили на смутное далекое воспоминание, туманное, но навязчивое. Единственное, с чем я могу это сравнить, – это то странное чувство, возникающее иногда во сне, когда фантастические города, диковинные земли и несуществующие личности кажутся нам знакомыми и привычными.
Вильерс кивнул и принялся бесцельно глядеть по сторонам, пытаясь, быть может, отыскать новую тему для беседы. Взгляд его упал на старинный сундук, чем-то напоминающий тот, в котором под готическими орнаментами хранилось странное наследие художника.
– Вы написали доктору о несчастном Мейрике? – спросил он.
– Да, в письме я попросил рассказать подробнее о его болезни и смерти. Вряд ли ответа стоит ждать раньше, чем недели через три, а то и месяц. Я подумал, что можно заодно поинтересоваться, не было ли среди знакомых Мейрика англичанки по фамилии Герберт, и если да, то, быть может, он мог бы что-то рассказать о ней. Однако вполне возможно, что Мейрик встретил ее в Нью-Йорке, или в Мехико, или в Сан-Франциско; я не имею представления ни о продолжительности, ни о географии его странствий.
– Да, и не исключено, что у этой женщины может быть несколько имен.
– Вот именно. Жаль, что я не догадался попросить у вас тот портрет. Тогда я бы мог приложить его к письму доктору Мэттьюсу.
– Действительно, мне тоже это не приходило в голову. Но мы можем отправить его сейчас. Постойте-ка! Что там за крики?
Пока мужчины были увлечены беседой, за окном начали кричать какие-то мальчишки, и крики эти становились все громче. Шум шел с востока, катился, нарастая, по Пикадилли, приближаясь все ближе с каждой минутой, – настоящий поток звуков; на обыкновенно спокойных улицах началось волнение, и окна домов одно за другим превращались в портреты любопытных и взволнованных лиц. Эхо возгласов и пересудов донеслось и до тихой улицы, на которой жил Вильерс. Постепенно в них стало можно различить отдельные слова, и едва Вильерс задал свой вопрос, ответ прозвучал прямо из-под окон:
– Кошмар в Вест-Энде! Очередное жуткое самоубийство! Читайте подробности!
Остин бросился вниз по лестнице, купил у мальчишки газету и, вернувшись, принялся вслух читать заметку Вильерсу под то нарастающие, то затихающие крики с улицы. Окно было открыто, и, казалось, весь воздух наполнен шумом и ужасом.
– «Еще один джентльмен пал жертвой чудовищной эпидемии самоубийств, которые в последний месяц сосредоточились в Вест-Энде. Мистер Сидни Крэшо, владелец имений Сток-Хаус в Фулхэме и Кингз-Померой в Девоне, после продолжительных поисков был обнаружен повешенным на дереве в собственном саду сегодня в час дня. Минувшим вечером покойный ужинал в клубе Карлтон и пребывал, как всегда, в здравии и в прекрасном расположении духа. Он покинул клуб около десяти часов вечера и чуть позже был замечен неспешно идущим по улице Сент-Джеймс. Дальнейшие его передвижения отследить не удалось. Как только тело было найдено, тут же пригласили доктора, но смерть, очевидно, наступила уже давно. Насколько известно, мистер Крэшо не имел каких бы то ни было проблем и не испытывал тревог. Этот удручающий случай стал пятым в череде самоубийств, произошедших за последний месяц. В Скотленд-Ярде пока не нашли какого-либо объяснения этим чудовищным происшествиям».
Остин в немом ужасе отложил газету.
– Я уеду из Лондона завтра же, – сказал он. – Это кошмарный город. Какой ужас, Вильерс!
Мистер Вильерс сидел у окна и молча смотрел на улицу. Он очень внимательно выслушал газетную заметку, и на лице его не осталось и следа сомнений.
– Не спешите, Остин, – отозвался он. – Я решил, что все-таки должен сообщить кое о чем, что случилось прошлой ночью. Если не ошибаюсь, в газете сказано, что в последний раз Крэшо видели живым на улице Сент-Джеймс в одиннадцатом часу вечера, верно?
– Кажется, так. Дайте-ка проверить. Да, вы совершенно правы.
– И впрямь. Что ж, по-видимому, я способен опровергнуть это утверждение целиком и полностью. В последний раз Крэшо видели живым позднее, да-да, гораздо позднее.
– Откуда вам это известно?
– Дело в том, что мне довелось собственными глазами видеть Крэшо сегодня около двух часов ночи.
– Вы видели Крэшо? Вы, Вильерс?
– Да, видел вполне отчетливо; истинная правда, нас разделяло лишь несколько футов.
– Где же, черт возьми, вы его видели?
– Неподалеку отсюда. На Эшли-стрит. Он выходил из одного дома.
– И вы помните, что это был за дом?
– Да. Дом миссис Бомон.
– Вильерс! Что вы такое говорите! Должно быть, вы ошиблись. Как мистер Крэшо мог оказаться в доме миссис Бомон в два часа ночи? Нет, нет, вам наверняка это привиделось во сне, Вильерс; у вас весьма живое воображение.
– Исключено: уверяю вас, я был в трезвом уме. Но даже если бы это, как вы говорите, привиделось мне во сне, то от такого зрелища я незамедлительно бы проснулся.
– Какого зрелища? Что вы видели? С Крэшо было что-то не так? Нет, не верится, быть такого не может.
– Что ж, если хотите, я расскажу вам, что видел – или думаю, что видел, тут уж как вам будет угодно, – и вы сможете судить сами.
– Хорошо, Вильерс.
Шум и гвалт на улице стихли, хотя время от времени издалека еще доносились единичные крики, и в воздухе висела глухая свинцовая тишина, словно затишье после землетрясения или бури. Вильерс отвернулся от окна и заговорил.
– Прошлым вечером я был в гостях в доме неподалеку от Риджентс-Парк, и когда я собирался домой, мне отчего-то захотелось прогуляться пешком вместо того, чтобы взять экипаж. Ночь выдалась ясная, и спустя несколько минут я обнаружил, что иду по улицам в полном одиночестве. Это так необычно, Остин, гулять по Лондону одному под покровом ночи, при свете тянущихся вдаль газовых фонарей и в мертвой тишине, лишь изредка нарушаемой хрустом камней под колесами экипажа и цокотом копыт, высекающих искры из мостовой. Я шагал довольно энергично, ибо ночная прогулка начала мне надоедать, и в ту минуту, когда часы пробили два, я свернул на Эшли-стрит, которая, как вам известно, находится как раз на пути к моему дому. Там было еще тише, а фонарей еще меньше, чем на прочих улицах; она производила такое же впечатление, как мрачный лес зимней ночью. Дойдя почти до середины улицы, я вдруг услышал, как кто-то очень тихо закрывает дверь, и, разумеется, обернулся, чтобы поглядеть, кто это решил тоже прогуляться в столь поздний час. Так вышло, что искомый дом был хорошо освещен стоящим поблизости фонарем, и я увидел мужчину, стоящего на крыльце. Он только что закрыл за собой дверь и стоял лицом ко мне, и в этом лице я тут же узнал Крэшо. Мы с ним не были знакомы лично, потому здороваться я не стал, однако я не раз видел его и совершенно уверен, что не ошибся. На мгновение я задержал взгляд на его лице, а потом – не буду таить – бросился бежать, что было сил, и не останавливался до самого своего порога.
– Но почему?
– Почему? Потому что при виде лица этого мужчины кровь застыла у меня в жилах. Я никогда не мог и представить, что глаза человека могут выражать такую дьявольскую мешанину страстей; я едва не лишился чувств при взгляде на него. Мне сразу стало ясно, Остин, что я смотрю в глаза погибшей душе; человеческая оболочка была еще цела, но внутри него разверзся ад. Эти глаза горели неистовой страстью и ненавистью, полной безысходностью и таким ужасом, от которого Крэшо, помнится, громко вскрикнул в ночи сквозь стиснутые зубы; его лицо выражало абсолютную черноту отчаяния. Я уверен, что он меня не заметил; он не видел ничего, что можем видеть мы с вами, зато видел то, чего, надеюсь, нам никогда увидеть не придется. Не знаю, в котором именно часу он умер, полагаю, это случилось спустя час или два после нашей встречи, однако уже тогда, когда я шел по Эшли-стрит и остановился на звук закрываемой двери, этот человек уже не принадлежал нашему миру. Я видел его лицо, и то было лицо самого дьявола.
Вильерс умолк, и в комнате воцарилась тишина. На улице смеркалось, и суматоха, что творилась там час назад, утихла. Выслушав рассказ, Остин опустил голову и закрыл глаза руками.
– Что все это может значить? – проговорил он наконец.
– Кто знает, Остин, кто знает. Это дело темное, но, думаю, лучше нам держать подробности при себе – по крайней мере, до поры. Я попробую что-нибудь выяснить об этом доме из частных источников, и если получится хоть немного пролить свет на эту историю, я дам вам знать.
Глава VII
Внезапная встреча в Сохо
Три недели спустя Остин получил от Вильерса записку, в которой тот просил его зайти к нему после обеда сегодня или завтра. Остин решил не откладывать визит и, придя к Вильерсу, обнаружил его сидящим, по своему обыкновению, у окна, за которым вяло двигались люди и экипажи, и явно погруженным в размышления. Сбоку от него стоял бамбуковый столик – фантастическая вещица, украшенная позолотой и расписанная удивительными сюжетами. На столике лежала небольшая стопка бумаг, разложенных и промаркированных так же аккуратно, как и документы в кабинете мистера Кларка.
– Итак, Вильерс, вам удалось сделать какие-нибудь открытия за последние три недели?
– Думаю, да. Вот здесь у меня пара заметок, которые показались мне необычными, и в них есть информация, на которую я хочу обратить ваше внимание.
– Эти документы связаны с миссис Бомон? Тем мужчиной, которого вы видели в ту ночь стоящим на крыльце ее дома на Эшли-стрит, действительно был Крэшо?
– Относительно того случая мое убеждение осталось неизменным, но ни мои исследования, ни их результаты не имеют особого отношения к Крэшо. Однако результат моих изысканий вышел весьма странным. Я выяснил, кто такая сама миссис Бомон!
– Миссис Бомон? О чем это вы?
– Я о том, что нам с вами она известна под другой фамилией.
– Что же это за фамилия?
– Герберт.
– Герберт! – ошеломленно повторил Остин.
– Да, миссис Герберт с Пол-стрит, она же Хелен Воэн, фигурировавшая в более ранних, неизвестных мне событиях. Неспроста вам показалось знакомым выражение ее лица; когда вы вернетесь домой и заглянете в жуткую книгу Мейрика, вы сразу поймете, отчего у вас возникло такое впечатление.
– И у вас есть доказательства?
– Да, наилучшие из возможных. Я собственными глазами видел миссис Бомон – или, быть может, нам следует называть ее миссис Герберт?
– Где вы ее видели?
– В месте, где вряд ли ожидаешь увидеть даму, живущую на Эшли-стрит близ Пикадилли. Я видел ее заходящей в дом на одной из самых гнусных и порочных улиц в Сохо. Если быть точнее, я условился там встретиться кое с кем, хоть и не с ней, но она явилась вовремя и в точности туда, куда было нужно.
– Все это с виду и впрямь удивительно, но вряд ли здесь есть что-то мистическое. Вы, должно быть, помните, Вильерс, я ведь тоже встречал эту женщину на одном из рядовых лондонских приемов; она беседовала, смеялась и попивала кофе в обыкновенной гостиной в компании таких же обыкновенных людей. Впрочем, вы наверняка знаете, о чем говорите.
– Верно; я не позволяю домыслам или фантазиям обмануть себя. Ища встречи с миссис Бомон, я никак не ожидал найти Хелен Воэн в темных водах лондонской жизни, однако так оно и вышло.
– Должно быть, вам пришлось побывать в странных местах, Вильерс.
– Да, я бывал в самых странных местах. Сами понимаете, было бы бесполезно заявиться на Эшли-стрит и попросить миссис Бомон поведать мне в общих чертах историю ее жизни. Нет; если допустить – а мне пришлось допустить, – что ее прошлое окутано туманом, то можно не сомневаться, что когда-то прежде она вращалась в кругах не столь приличных, как ее нынешнее окружение. Если на поверхности ручья видна грязь, значит, дно здесь не самое чистое. И я отправился на дно. Мне всегда любопытно было погружаться в средоточия лондонской нищеты из чистого интереса, и на этот раз мой опыт и знания об этом мире и его обитателях оказались весьма полезными. Думаю, нет нужды уточнять, что среди моих тамошних друзей имя миссис Бомон оказалось никому не известно, а поскольку я ни разу не встречал этой дамы и не мог описать ее внешность, мне пришлось пойти окольным путем. Но эти люди знают меня, ибо время от времени мне случалось оказывать им разного рода услуги, а потому мне не составило труда получить нужную мне информацию, ведь я не имею никаких связей со Скотленд-Ярдом – ни прямых, ни косвенных. Однако мне пришлось не раз закинуть удочку, прежде чем я получил то, что хотел, а когда рыбка показалась из воды, я не сразу понял, что это та самая рыбка. Но, поскольку по натуре своей я не привык отвергать даже самую бесполезную информацию, я внимательно выслушивал все, что мне говорили, и постепенно обнаружил, что получил весьма любопытные сведения, хотя, как мне казалось, они были никак не связаны с историей, которую я пытался разузнать. Я говорю вот о чем. Лет пять или шесть назад в районе, о котором я веду сейчас речь, появилась женщина по фамилии Рэймонд. Мне ее описывали как совсем юную девушку лет семнадцати-восемнадцати, очень красивую и на вид будто бы деревенскую. Думаю, я ошибся, когда предположил, что в этом квартале и среди живущих там людей ей было самое место, ибо, судя по тому, что мне о ней рассказывали, она осквернила бы своим присутствием даже самый мерзкий лондонский притон. Человека, от которого я получил эту информацию, святым, как вы могли догадаться, никак не назовешь, но даже он вздрагивал и бледнел, рассказывая о невыразимых гнусностях, приписываемых этой девушке. Прожив в тех местах около года, или, быть может, чуть дольше, она исчезла столь же внезапно, как когда-то появилась, и больше местные о ней не слыхали вплоть до громкого происшествия на Пол-стрит. Поначалу она лишь изредка заглядывала в свое старое пристанище, потом стала появляться все чаще, пока наконец не поселилась там, как в прежние времена. На этот раз ее пребывание продлилось шесть или восемь месяцев. Мне нет необходимости вдаваться в подробности относительно образа жизни, который вела эта женщина; если хотите, вы можете поискать их в наследии Мейрика. То, что он рисовал, было вовсе не плодом его воображения. Так или иначе, она снова исчезла, и в следующий раз местные увидели ее лишь несколько месяцев назад. Мой осведомитель сообщил, что она арендовала несколько комнат в одном из домов и завела привычку посещать их два-три раза в неделю, причем неизменно в десять часов утра.
Мне намекнули, что скоро состоится очередной визит – он действительно состоялся примерно неделю назад, – и без четверти десять я в компании моего собеседника занял наблюдательный пост. Дама явилась ровно в десять часов. Мы с моим товарищем стояли под аркой чуть поодаль на той же улице, но она заметила нас и бросила на меня такой взгляд, которого я еще долго не забуду. Одного этого взгляда мне было достаточно, я понял, что мисс Рэймонд и миссис Герберт – это одно и то же лицо; что же до миссис Бомон, она совершенно вылетела у меня из головы. Женщина вошла в дом, и я прождал до четырех часов, пока она наконец не вышла, а затем последовал за ней. Идти пришлось долго, и все это время я старался держаться как можно дальше позади нее, но при этом не выпускать из виду. Она привела меня на Стрэнд, затем в Вестминстер, вверх по улице Сент-Джеймс и дальше по Пикадилли. Я удивился, когда она свернула на Эшли-стрит, и впервые мне в голову пришла мысль, что миссис Герберт – это и есть миссис Бомон, однако это казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой. Я постоял на углу, не сводя глаз с этой женщины, и затаив дыхание следил, перед какой дверью она остановится. Это был дом с веселыми занавесками, дом, украшенный цветами, дом, из которого Крэшо вышел той злополучной ночью, прежде чем удавиться у себя в саду. Я уже хотел повернуть назад, как вдруг заметил, что к дому подъезжает пустой экипаж. Я предположил, что миссис Герберт собирается куда-то ехать, и оказался прав. Так вышло, что именно в этот момент я встретил знакомого, и мы побеседовали немного, стоя чуть поодаль от дороги, по которой проехал экипаж; я держался к нему спиной. Не прошло и десяти минут, как мой знакомый приподнял перед кем-то шляпу; оглянувшись, я увидел даму, за которой следил с самого утра. «Кто это?» – спросил я, и он ответил: «Это миссис Бомон, с Эшли-стрит». Разумеется, никаких сомнений больше не оставалось. Не знаю, заметила ли она меня, но думаю, вряд ли. Я тут же отправился домой и, поразмыслив, решил, что имею достаточно оснований зайти к Кларку.
– Почему к Кларку?
– Я уверен, что Кларку что-то известно об этой женщине, что-то такое, о чем я не знаю.
– Ну, а что дальше?
Мистер Вильерс откинулся на спинку кресла и несколько секунд задумчиво смотрел на Остина, прежде чем ответить.
– Думаю, нам с Кларком стоит заглянуть в гости к миссис Бомон.
– Но ведь вы никогда не зайдете в такой дом, правда же? Нет-нет, Вильерс, этого никак нельзя делать. Кроме того, подумайте, какого результата…
– Скоро я вам все расскажу. Но я хотел добавить, что на этом полученные мною сведения не заканчиваются; история повернулась самым неожиданным образом. Взгляните на эту пачку маленьких рукописных листов; как видите, страницы пронумерованы, а еще меня позабавило, с каким кокетством их перевязали красной ленточкой. Есть в этом что-то близкое по духу к юридическим документам, вы не находите? Пробегитесь по ним взглядом, Остин. Это список развлечений, которые миссис Бомон устраивала для своих избранных гостей. Человек, составивший этот список, умудрился остаться в живых, но не думаю, что у него впереди долгая жизнь. Доктора говорят, он подвергся суровым потрясениям, существенно пошатнувшим его нервы.
Остин взял рукопись, однако читать не стал. Листая страницы наобум, он зацепился взглядом за одно слово и следующую за ним фразу; сердце у него защемило, губы побелели, с висков градом покатился холодный пот, и он бросил бумаги на стол.
– Уберите это, Вильерс, и никогда больше не заговаривайте на эту тему. Боже, у вас что, нет сердца? Нет, даже ужас перед неминуемой смертью, мысли человека, стоящего промозглым утром на эшафоте, связанного и под звон колокола ожидающего, когда пол с лязгом выбьют у него из-под ног, – все это ничто по сравнению с тем, что вы мне показали. Я не стану этого читать – вряд ли я смогу уснуть после такого.
– Очень хорошо. Могу представить, что вы успели прочесть. Да, все это ужасно, однако, в конце концов, это очень древняя история, древняя тайна, всплывшая в наши дни на туманных улицах Лондона, хотя ей самое место в виноградниках и оливковых садах. Нам известно, что случается с теми, кому приходится повстречать Великого бога Пана, и те, в ком достаточно мудрости, понимают, что символы – это не набор случайностей, а детали единой картины. О да, существует изысканный символ, под которым человек издавна скрывает знания о самых чудовищных, самых тайных силах, лежащих в основе всего сущего; силах, перед которыми человеческие души увядают, отмирают и чернеют, как чернеют тела под действием электрического тока. У таких сил не может быть имени, о них невозможно говорить, их невозможно вообразить иначе, нежели через символ; символ, который большинство сочтет причудливой поэтической фантазией, а кто-то – глупой сказкой. Но мы с вами, как ни крути, слегка приоткрыли завесу ужаса, что скрывается в тайном месте, прячется под оболочкой из человеческой плоти; ужаса, что не имеет формы и придает себе форму самостоятельно. Ах, Остин, как такое возможно? Отчего само солнце не чернеет перед лицом этой твари, отчего земля не плавится и не вскипает под тяжестью такой ноши?
Вильерс зашагал взад и вперед по комнате, и на лбу у него поблескивали бусинки пота. Остин некоторое время сидел молча, но Вильерс заметил, как он сделал возле груди крестный знак.
– Говорю вам еще раз, Вильерс, вы ни за что не войдете в такой дом, правда же? Вам не выбраться оттуда живым.
– Нет, Остин, я выйду оттуда живым… вместе с Кларком.
– О чем вы говорите? Вы не можете, вы не посмеете…
– Послушайте еще немного. Нынешнее утро выдалось очень приятным, воздух был удивительно свеж, дул легкий ветерок, задувая даже сюда, на эту безжизненную улицу, и я решил, что стоит выйти прогуляться. Передо мной простиралась широкая светлая Пикадилли, солнце сверкало, отражаясь от экипажей и подрагивающих листьев в парке. Стояло поистине прекрасное утро; мужчины и женщины то и дело поднимали лица к небу и улыбались, идя по своим делам или гуляя ради удовольствия, а блаженный ветерок навевал мысли о цветущих долинах и душистом утеснике. Однако я, сам того не замечая, вскоре выпал из всеобщей радостной суеты и обнаружил себя медленно шагающим по тихой мрачной улице, где, казалось, не было ни солнца, ни воздуха, а немногочисленные прохожие, шатающиеся без дела, застывали в нерешительности на углах улиц и под арками. Я шел дальше, сам толком не понимая, куда иду и зачем, но чувствуя непонятную тягу; так бывает иногда, когда идешь куда-то и чувствуешь, что надо двигаться дальше, имея в уме лишь туманный образ некой неведомой цели. Итак, я шагал по этой улице, где оказалось на удивление мало молочных лавок и отчего-то слишком много разномастных курительных трубок, сладостей, газет и шуточных песен, которые тут и там заглушали друг друга, доносясь иногда разом из одного и того же окна. Кажется, в один момент я вздрогнул, будто бы от холода, и тогда вдруг понял, что я нашел то, что мне нужно. Оторвав взгляд от мостовой, я увидел перед собой пыльный магазин, вывеска над которым выцвела от старости, а двухсотлетние красные кирпичи, из которых он был сложен, почернели от сажи; окна этого магазина хранили на себе пыль бесчисленных минувших зим. Я сразу увидел то, за чем пришел, но мне потребовалось, кажется, минут пять, прежде чем я успокоился и смог войти внутрь и спокойным голосом и с непроницаемым лицом спросить у продавца требуемое. Думаю, мне все-таки не удалось скрыть дрожь в голосе, ибо старик, показавшийся из дальней комнаты, услышав мою просьбу, как-то странно поглядывал на меня, отыскивая нужную мне вещь и завязывая сверток. Я заплатил названную им сумму и стоял, опершись о прилавок, испытывая странное нежелание забрать приобретенный мною товар и уйти. Я спросил старика, как у него идут дела, и узнал, что торговля движется плохо и что прибыль сильно упала; но ведь и улица уже не та, какой была прежде, пока основной поток движения не переместили на другую улицу, а произошло это еще сорок лет назад. «Незадолго до того, как умер мой отец» – так он сказал. Я наконец ушел и решительно зашагал прочь; улица и впрямь производила гнетущее впечатление, и я рад был вернуться в шум и суматоху. Хотите взглянуть на мое приобретение?
Остин ничего не ответил, лишь едва заметно кивнул головой; он по-прежнему был бледен и выглядел нездоровым. Вильерс выдвинул ящик бамбукового стола и продемонстрировал Остину длинный моток веревки, прочной и новой; на свободном конце ее была затяжная петля.
– Это лучшая пеньковая веревка, – сказал Вильерс, – такая, какой торговали в прежние времена, если верить старику. Ни дюйма джута от начала и до конца.
Остин крепко сжал зубы и уставился на Вильерса, побледнев еще сильнее.
– Вы этого не сделаете, – пробормотал он наконец. – Вы не станете пятнать свои руки кровью. Господи боже! – воскликнул он вдруг, поддавшись внезапному приступу гнева. – Вы же это не всерьез, Вильерс? Вы же не станете палачом?
– Нет. Я предложу Хелен Воэн выбор и оставлю ее в запертой комнате наедине с этой веревкой. И если, войдя туда через пятнадцать минут, мы обнаружим, что дело не сделано, я позову ближайшего полисмена. Вот и все.
– Я ухожу. Я больше не могу здесь оставаться, это невыносимо. Доброй ночи.
– Доброй ночи, Остин.
Дверь захлопнулась, но спустя мгновение распахнулась снова, и в проеме вновь возникло мертвенно-бледное лицо Остина.
– Чуть не забыл, – сказал он. – У меня ведь тоже есть новости. Я получил письмо от доктора Хардинга из Буэнос-Айреса. Он говорит, что наблюдал Мейрика в течение трех недель перед его смертью.
– И что же оборвало его жизнь в самом расцвете лет? Дело не в лихорадке?
– Нет, не в лихорадке. По словам доктора, у Мейрика случился коллапс всего организма, вызванный, вероятно, сильным потрясением. Но он утверждает, что пациент что-то от него утаил, следовательно, он находился в заведомо невыгодном положении, берясь за его лечение.
– Он сообщил что-нибудь еще?
– Да. Доктор Хардинг закончил свое письмо следующими словами: «Думаю, это вся информация, которую я могу вам предоставить относительно вашего несчастного друга. Он прожил в Буэнос-Айресе совсем недолго и почти ни с кем не успел завести знакомств, за исключением одной женщины, которая не пользовалась хорошей репутацией и которая с тех пор покинула город. Ее звали миссис Воэн».
Глава VIII
Фрагменты
[Среди документов известного терапевта, доктора Роберта Мэтесона, проживавшего на Эшли-стрит, Пикадилли, и скоропостижно скончавшегося от апоплексического удара в начале 1892 года, был найден рукописный лист, покрытый карандашными заметками. Заметки эти были сделаны на латыни, зачастую в сокращении и, очевидно, в большой спешке. Данная рукопись была расшифрована с большим трудом, а некоторые слова и по сей день не поддаются разгадке, несмотря на все усилия приглашенных специально для этого экспертов. В правом верхнем углу листа указана дата – 25 июля 1888 года. Далее приводится перевод рукописи доктора Мэтесона.]
«Принесут ли эти записки пользу науке, если их когда-либо опубликуют, я не знаю, но очень в этом сомневаюсь. Однако я уверен, что никогда не возьму на себя ответственности за публикацию или разглашение хоть слова из того, что написано здесь, и не только из-за клятвы, добровольно данной тем двум лицам, что описаны ниже, но и потому, что подробности этой истории поистине отвратительны. Возможно, поразмыслив как следует и взвесив все за и против, я однажды уничтожу эти бумаги или по меньшей мере запечатаю их и передам моему другу Д., оставив за ним выбор – сжечь их или как-то использовать по своему усмотрению.
Как подобает в таких случаях, я сделал все возможное, чтобы удостовериться, что не стал жертвой бредовых иллюзий. Поначалу увиденное так меня ошеломило, что я с трудом мог соображать, но уже через минуту я убедился, что мое сердце бьется ровно и спокойно и что зрение меня не подводит. Затем я мужественно сосредоточил взгляд на том, что предстало передо мной.
Несмотря на нарастающие во мне ужас и тошноту, несмотря на вонь разложения, от которой перехватывало дыхание, я оставался непреклонен. Я был избран – или проклят, не берусь судить, – стать свидетелем тому, как лежащая на кровати черная, как смоль, масса преображается прямо у меня на глазах. Кожа, плоть, мышцы, кости, твердые структуры человеческого тела, которые я считал неизменными и постоянными, как адамант, начали таять и распадаться.
Мне известно, что тело способно разлагаться на составляющие элементы под воздействием внешней среды, но я решительно отказывался верить в то, что видел. Ибо воздействие шло изнутри, и я не знал, какая внутренняя сила может вызвать такие изменения и заставить тело разлагаться.
Перед глазами моими разворачивался процесс формирования человека. Я видел, как черная масса в постели принимает попеременно то мужскую, то женскую форму, отделяет себя от себя же, а затем вновь сливается воедино. Потом организм стал принимать формы тварей, от которых он произошел, снисходя от наивысших к низшим, постепенно опускаясь на самое дно, в бездны всего сущего. Механизмы, лежащие в основе биологической жизни, не нарушались, менялась лишь внешняя форма.
Свет в комнате сменился чернотой – не сумраком ночи, в котором можно разглядеть лишь очертания предметов, ибо я продолжал видеть отчетливо и без труда. То был как бы свет наоборот, я видел все предметы без пелены, если так можно выразиться; думаю, окажись у меня под рукой призма, я не увидел бы на выходе никаких цветов.
Я продолжал наблюдать, пока черная субстанция не превратилась в подобие студня. Затем, словно по лестнице спускаясь к еще более низшей… [здесь рукопись неразборчива] …на мгновение я узрел форму, сложившуюся передо мною в мутном пространстве, но описывать ее я не стану. Однако символическое отображение этой формы можно отыскать в древних скульптурах и в картинах, сохранившихся под лавой, слишком гнусных, чтобы их обсуждать… Когда эта чудовищная неописуемая форма, не человек и не зверь, вновь приняла человеческий облик, тогда наконец наступила смерть.
Я, как свидетель всего этого, не без величайшего ужаса и отвращения в душе оставляю ниже свое имя, тем самым ручаясь, что все вышеописанное – правда.
Роберт Мэтесон,
доктор медицины».
«…Такова, Рэймонд, история, какой я ее знаю и видел собственными глазами. Эта ноша была слишком тяжела для меня, чтобы нести ее в одиночку, и все же я не могу рассказать этого никому, кроме вас. Вильерс, который под конец был со мной, ничего не знает о той жуткой лесной тайне, о том, как тварь, за смертью которой мы с ним наблюдали, лежала на гладкой мягкой траве среди летних цветов, наполовину освещенная солнцем, наполовину скрытая в тени, и держала Рейчел за руку, как она воззвала к своим компаньонам, как обрела твердую форму, воплотилась на земле, по которой мы ходим, – ужас, который возможно описать лишь намеками и выразить который мы можем лишь символами. Я не стану рассказывать всего этого Вильерсу, как и о чувстве узнавания, поразившем меня ударом в самое сердце при взгляде на портрет, который в конце концов переполнил чашу ужаса. Я не смею даже предположить, что все это значит. Я уверен, что существо, за смертью которого я наблюдал, было вовсе не Мэри, и все же в последний миг агонии именно ее глаза встретились с моими. Не знаю, есть ли в мире хоть кто-то, кто мог бы раскрыть последнее звено в этой цепи чудовищных тайн, однако если такой человек есть, то это вы, Рэймонд. И если эта тайна вам известна, то лишь вам решать, как с ней поступить.
Едва вернувшись в город, я взялся писать вам это письмо. Последние несколько дней я провел в деревне; полагаю, вы догадываетесь, в какой именно. Во времена, когда страх и недоумение в Лондоне находились на своем пике, ибо «миссис Бомон», как я вам уже говорил, была широко известна в обществе, я написал моему другу, доктору Филлипсу. В своем письме я в общих чертах, вернее, даже намеками обрисовал случившееся и спросил, как называлась та деревня, где происходили события, которые мы с ним обсуждали ранее. Он сообщил мне это название, причем, по его словам, без малейших колебаний, поскольку отец и мать Рейчел умерли, а остальная родня еще полгода тому назад переехала к родственнику в штат Вашингтон. Причиной смерти ее родителей, утверждал он, стали ужас и горе, вызванные трагической смертью их дочери и событиями, непосредственно этой смерти предшествовавшими. Вечером того дня, когда я получил ответное письмо от Филлипса, я отправился в Кэрмен и остановился у истлевших римских стен, выбеленных зимами семнадцати сотен лет. Я окинул взглядом долину, где стоял когда-то древний храм «бога глубин», и увидел сияющий в лучах солнца дом. То был дом, в котором когда-то жила Хелен. Я пробыл в Кэрмене несколько дней. Местные жители, как оказалось, мало что знали и еще меньше задумывались о волнующих меня вопросах. Те, с кем мне довелось побеседовать на эту тему, удивлялись тому, что антиквар (так я представился им) интересуется местной трагедией, которой они нашли самое обыденное объяснение, и, как вы, должно быть, догадались, я никому не рассказал того, что мне известно. Большую часть времени я провел в большом лесу, что начинается сразу за деревней и тянется вверх по склону холма, а затем уходит вниз, к долине реки; это такая же чудесная длинная долина, Рэймонд, как и та, которая простиралась перед нами в тот незабвенный летний вечер, когда мы прогуливались по террасе перед вашим домом. Много часов я блуждал по лесному лабиринту, сворачивая то направо, то налево, медленно шагая по длинным аллеям подлеска, где даже под полуденным солнцем царили тень и прохлада, и останавливаясь передохнуть под огромными дубами; лежал в невысокой траве на поляне, куда ветер доносил едва заметный аромат диких роз, смешанный с тяжелым благоуханием бузины, и это тяжелое сочетание запахов напоминало смрад комнаты покойника, пропитанной парами ладана вперемешку с вонью разложения. Я стоял на опушке, разглядывая великолепный парад наперстянок, чьи возвышающиеся над зарослями папоротника головы горели красным в ярком солнечном свете, и вглядывался поверх них в густые заросли подлеска, где бурные ручьи стекали с камней, напитывая водой зловещие стебли элодеи. Но все это время я старался избегать одной части леса; не далее чем вчера я взобрался на вершину холма и оказался над той самой римской дорогой, что тянется по самому высокому месту леса. Здесь когда-то проходили они, Хелен и Рейчел, шагали по тихой насыпной дороге, по мостовой из зеленого дерна, укрытой по обе стороны высокими глинистыми берегами и живыми изгородями из лоснящегося бука; и я прошел их маршрутом, то и дело заглядывая в просветы между ветвей и видя с одной стороны необъятный лес, тянущийся справа налево и плавно уходящий вниз, сливаясь с широкой равниной, за которой маячили бескрайние желтые моря рапсовых полей и полоска земли у самого горизонта. С другой стороны я видел долину и реку, холмы, нагоняющие друг друга, подобно морским волнам, леса и луга, и кукурузное поле, и яркие пятна белых домов, и колоссальную стену гор, и голубые пики далеко на севере. Наконец я оказался на месте. Тропа вела вверх по пологому склону, сворачивала к поляне, окруженной стеной густых зарослей, а затем, снова сужаясь, терялась вдали среди легкой голубоватой дымки летнего зноя. Сюда, на эту прекрасную летнюю поляну, Рейчел пришла невинной девушкой, а ушла… кто знает кем? Я не стал задерживаться там надолго».
«В маленьком городке близ деревни Кэрмен есть музей, где хранятся почти все римские древности, которые находили в этих местах в разные времена. На следующий день после моего прибытия в Кэрмен я пешком отправился в вышеупомянутый городок и не мог упустить возможности посетить музей. После того как я осмотрел выставленные на обозрение каменные скульптуры, гробы, кольца, монеты и фрагменты мозаичных мостовых, мне показали небольшую квадратную колонну из белого камня, найденную в лесу (том самом, о котором я писал выше) совсем недавно и, как выяснилось, на том самом месте, где расширяется римская дорога. Сбоку на колонне виднелась надпись, которую я переписал себе. Некоторые буквы со временем стерлись, но думаю, мне верно удалось восстановить смысл. Вот эта надпись:
DEVOMNODENTI
FLAVIVSSENILISPOSSVIT
PROPTERNVPTIAS
QUASVIDITSVBVMBRA
Что значит:
„Эта колонна воздвигнута Великому богу Ноденсу (богу Великой Глубины или Бездны) Флавием Сенилием по случаю свадьбы, которую он созерцал в тени“.
Хранитель музея сообщил мне, что местные антиквары были весьма озадачены, но не надписью и не сложностью ее перевода, а самим ритуалом или обрядом, который упоминался в ней».
«…Итак, мой дорогой Кларк, что касается вашего сообщения о Хелен Воэн, смерть которой вы, по вашим словам, наблюдали при обстоятельствах крайне ужасных и практически невероятных. Ваш отчет меня заинтересовал, однако из того, что вы рассказали, большая часть (не все) была мне уже известна. Я прекрасно понимаю, почему вы заметили странное сходство портрета с лицом Хелен: ранее вы видели ее мать. Помните ту тихую летнюю ночь много лет назад, когда я рассказывал вам о мире, сокрытом в тени, и о боге Пане? Помните Мэри? Она и стала матерью Хелен Воэн, родившейся спустя девять месяцев после той ночи.
Мэри так и не пришла в рассудок. Она все это время пролежала в постели, такая, какой вы видели ее в последний раз, а спустя несколько дней после родов умерла. Любопытно, что лишь на смертном одре она узнала меня; я стоял у изголовья, и на мгновение в ее глазах мелькнуло прежнее выражение, а затем она содрогнулась всем телом, застонала и умерла. Той ночью, при вас, я совершил ужасный поступок: я силой распахнул дверь в царство жизни, не зная и не заботясь о том, что может выйти оттуда или войти туда. Помнится, тогда вы обвинили меня, довольно резко и вполне справедливо, в том, что я своим глупым экспериментом, основанным на абсурдной теории, уничтожил рассудок живого человека. Я заслуживал вашего порицания, вот только теория моя вовсе не была абсурдной. Мэри действительно увидела то, что я предполагал, однако я забыл, что ни один человек не может смотреть на такие вещи и оставаться безнаказанным. Я также забыл, что сквозь распахнутую таким образом дверь в царство жизни, уже упомянутую мной, может просочиться то, чему в нашем мире нет имени, и что человеческая плоть может стать сосудом для ужаса, который никто не осмелится выразить словами. Я играл с силами, которых сам не понимал, и вы видели, чем все это закончилось. Хелен Воэн поступила правильно, когда накинула петлю себе на шею и убила себя, хотя смерть ее была ужасной. Почерневшее лицо, омерзительная масса, которая плавилась в постели на ваших глазах, меняющаяся от женщины к мужчине, от мужчины к зверю, а от зверя к тварям еще хуже, – все эти необъяснимые кошмары, свидетелем которым вы стали, не очень удивляют меня. То, что, по вашим словам, заметил приглашенный вами доктор и при виде чего он содрогнулся, я заметил уже давно; я понял, что натворил, в тот миг, когда дитя появилось на свет, а к тому моменту, когда девочке исполнилось пять, я уже не раз и не два заставал ее играющей с другом – сами понимаете, какого рода. Этот воплощенный ужас стал для меня ежедневной реальностью, и спустя несколько лет, когда чаша моего терпения переполнилась, я отослал Хелен Воэн из дома. Теперь вы знаете, чего испугался в лесу тот мальчик. Все прочие события, связанные с этой противоестественной историей, включая то, что рассказали мне вы, узнав, в свою очередь, от вашего друга, время от времени теми или иными способами доходили до моих ушей, практически все до последней главы. И теперь Хелен воссоединилась со своими спутниками…»
Примечание. Хелен Воэн родилась 5 августа 1865 года в Ред-Хаус, Бреконшир, и умерла 25 июля 1888 года в своем доме, расположенном на улице, именуемой в этой истории Эшли-стрит, что неподалеку от Пикадилли.
Три самозванца[16]
Пролог
– Так что же, мистер Джозеф Уолтерс останется здесь на ночь? – спросил опрятный, гладко выбритый джентльмен у своего спутника, человека не самой приятной наружности, избравшего для своих рыжих усов такую форму, что они плавно переходили в пару коротких бакенбард на подбородке.
Двое мужчин стояли в холле возле выхода, глядя друг на друга со злобной ухмылкой; наконец, по лестнице вниз проворно сбежала девушка. Она была довольно молода, с лицом скорее причудливым и оригинальным, нежели красивым, и сияющими ореховыми глазами. В одной руке она держала аккуратный бумажный сверток. Девушка присоединилась к друзьям, и все трое рассмеялись.
– Дверь не запирай, – сказал опрятный мужчина другому, когда они выходили на улицу. – Да, чтоб… – Он грязно выругался. – Оставим ее приоткрытой. Наверное, он будет не против, если кто-нибудь заглянет к нему в гости, если ты понимаешь, о чем я.
Другой поглядел на него с опаской.
– А не слишком ли это рискованно, Дэвис? – усомнился он, задержав ладонь на проржавелом дверном кольце. – Вряд ли Липсиусу это понравится. Как ты думаешь, Хелен?
– Я согласна с Дэвисом. Дэвис – творческая личность, а ты, Ричмонд, посредственность, да к тому же еще и трусоват. Не закрывай дверь. Как же все-таки жаль, что Липсиусу пришлось уйти! Он бы знатно повеселился.
– Да, – отозвался опрятный мистер Дэвис, – вызов на запад дался доктору очень тяжело.
Втроем они вышли на улицу, оставив потрескавшуюся и облупившуюся от сырости и мороза входную дверь приоткрытой, и на мгновение остановились под полуразрушенным козырьком на крыльце.
– Что ж, – сказала девушка после непродолжительной паузы, – дело сделано. Больше мне не придется преследовать молодого человека в очках.
– Мы перед тобой в неоплатном долгу, – вежливо отозвался мистер Дэвис. – Доктор сказал то же самое, прежде чем уйти. Но не пора ли нам всем сказать несколько прощальных слов? Что касается меня, то я предлагаю попрощаться здесь, перед этой живописной, но заплесневелой обителью, с моим другом мистером Бёртоном, торговцем старинными и любопытными вещицами. – С этими словами мужчина приподнял шляпу и театрально поклонился.
– А я, – подхватил Ричмонд, – хочу проститься с мистером Уилкинсом, личным секретарем, чье общество, должен признаться, стало в последнее время слегка утомительным.
– Прощайте, мисс Лалли и мисс Лестер, – сказала девушка и сделала изящный реверанс. – Прощай, оккультное приключение; фарс окончен.
Как и мистер Дэвис, она явно была преисполнена мрачного удовольствия, Ричмонд же нервно пощипывал бакенбарды.
– Меня бросает в дрожь, – сказал он. – В Штатах я видал вещи и похуже, но от этих его шумных рыданий меня затошнило. Вдобавок этот запах… Хотя мой желудок никогда не отличался крепостью.
Трое друзей отошли от двери и принялись медленно расхаживать взад и вперед по гравийной дорожке, когда-то ухоженной, но ныне покрытой зеленой мясистой порослью мха. Стоял погожий осенний вечер, мягкие солнечные лучи слегка подсвечивали пожелтевшие стены ветхого заброшенного дома, подчеркивая поразившие их очаги гангренозного разложения, разводы, черные дождевые потеки вдоль прохудившихся труб, шероховатые пятна в тех местах, где под облупившейся штукатуркой проглядывала обнаженная кирпичная кладка, зеленые слезы иссохшего бобовника у крыльца и шероховатые отметины возле самой земли, там, где испорченная глиняная штукатурка встречалась с обшарпанным фундаментом. Центральная часть этого диковинного старинного дома была построена по меньшей мере две сотни лет назад, на черепичной крыше громоздились мансардные окна, а по бокам были пристроены два георгианских крыла; эркерные окна перенесли на нижний этаж, а два больших купола, когда-то ярко-зеленые, со временем стали серыми и безликими. На дорожке лежали разбитые цветочные вазы, и над маслянистыми черепками стелился густой туман; от запущенных кустарников, переросших, спутавшихся и потерявших форму, веяло сыростью и угрозой, и в целом заброшенный особняк окружала атмосфера, навевающая мысли о разрытой могиле. Трое друзей окинули мрачными взглядами лужайку и цветочные клумбы, покрытые густыми зарослями сорняков и крапивы, и удручающий водоем в окружении сорных трав. Там над зеленой маслянистой пеной, которая заняла место, принадлежавшее в давние времена цветущим водяным лилиям, на камнях возвышался ржавый Тритон, извлекая погребальную музыку из разбитого рожка; а вдалеке, за затонувшей изгородью, за далекими лугами, сквозь стволы вязов пробивалось красное сияние медленно сползающего к горизонту солнца.
Ричмонд поежился и топнул ногой.
– Лучше бы нам уходить как можно скорее, – сказал он. – Больше тут делать нечего.
– Нет, – возразил Дэвис. – Наконец-то все кончено. Одно время мне казалось, что мы никогда не достанем этого джентльмена в очках. Он был умным малым, но Господи боже! В конце концов дал слабину. Говорю тебе, когда я подошел к нему в баре и прикоснулся к его плечу, он побелел от ужаса. Но куда же он мог его спрятать? Мы же все видели, что при нем ничего не было.
Девушка рассмеялась, и друзья повернулись к ней, как вдруг Ричмонд подскочил от неожиданности.
– Ах! – вскрикнул он, уставившись на нее. – Что у тебя там? Гляди, Дэвис, гляди! Оно сочится и течет!
Молодая женщина опустила взгляд на маленький сверток, который по-прежнему держала в руках, и слегка отогнула бумажную обертку.
– Да, смотрите, смотрите оба, – сказала она. – Я сама это придумала. Вам не кажется, что это станет прекрасным экспонатом в музее доктора? Он с правой руки, той самой, что украла золотой тиберий.
Мистер Дэвис кивнул с явным одобрением, Ричмонд же приподнял свой уродливый котелок с высокой тульей и вытер лоб грязным платком.
– Я ухожу, – заявил он. – Вы двое можете оставаться, если хотите.
Все трое зашагали по ведущей к конюшне тропе, обогнули дом, прошли мимо запущенного и иссохшего старого огорода и свернули возле дальней изгороди, направляясь к определенному месту дороги. Примерно пятью минутами позже на погруженной в тень подъездной дорожке для экипажей появились двое неспешных джентльменов, которых скука сподвигла исследовать всеми забытые окраины Лондона. Идя мимо по главной дороге, они увидели этот заброшенный дом и, глядя на царящий вокруг упадок, пустились в назидательные и высокопарные рассуждения со значительным уклоном в проповеди Джереми Тейлора[17].
– Глядите, Дайсон, – сказал один из прохожих, когда они подошли ближе. – Посмотрите на те окна вверху; солнце садится, и хотя стекла покрыты пылью, все же… «И пылают эркеры грязные огнем…»[18]
– Филлипс, – отозвался второй джентльмен, постарше и, следует отметить, более напыщенный, нежели первый. – Я склонен предаваться фантазиям и не способен противостоять влиянию гротеска. Здесь, в этом царстве мрака и разложения, когда повсюду нас окружает кедровая меланхолия и сам воздух небесный, едва оказавшись в наших легких, начинает гнить, я не в силах думать о заурядных вещах. Я вглядываюсь в глубокое сияние оконных стекол, и весь этот дом видится мне заколдованным; в той комнате, говорю вам, царствуют кровь и огонь.
Приключения золотого Тиберия
Знакомство между мистером Дайсоном и мистером Чарльзом Филлипсом зародилось в результате одной из мириад случайностей, которые ежедневно разыгрываются на улицах Лондона. Мистер Дайсон был литератором и, к несчастью, являл собою пример человека, направившего свои таланты в неверное русло. Обладая даром, который мог бы помочь ему в расцвете юности занять место среди самых ценных романистов Бентли[19], он избрал извращенный путь; да, действительно, он был знаком со схоластической логикой, однако ничего не смыслил в логике повседневной жизни; он льстил себе, наделяя себя титулом творца, хотя в действительности был всего лишь праздным и любопытным наблюдателем за воплощением чужих стремлений. Из множества иллюзий одну он лелеял особенно нежно: он считал себя усердным тружеником. Напустив на себя чрезвычайно усталый вид, он входил в свое любимое прибежище – в маленькую табачную лавку на Грейт-Квин-стрит – и рассказывал любому, кто не воспротивится его выслушать, что минуло уже два рассвета и два заката с тех пор, как он в последний раз прилег отдохнуть. Владелец лавки, исключительно вежливый джентльмен средних лет, терпел поведение Дайсона отчасти в силу доброты своего характера и отчасти благодаря тому, что тот был его постоянным покупателем; Дайсону позволялось даже присаживаться на пустой бочонок и разглагольствовать о литературных и художественных материях до тех пор, пока он не устанет сам или пока не придет время закрываться; и хотя новых покупателей он вряд ли привлекал в заведение своим красноречием, но, во всяком случае, считается, что никого из тех, кто уже намеревался сделать покупку, он от нее не отвратил. Дайсон страстно любил экспериментировать с табаком; ему никогда не надоедало пробовать новые сочетания, и вот как-то вечером, едва он явился в лавку и успел описать табачнику свою новейшую экстравагантную формулу, рядом возник молодой мужчина примерно его возраста и, вежливо улыбнувшись мистеру Дайсону, попросил продавца отмерить и ему того же. Это глубоко польстило Дайсону, он что-то ответил незнакомцу, между ними завязался разговор, и спустя час торговец табаком обнаружил новоиспеченных друзей сидящими бок о бок на соседних бочонках и глубоко увлеченными беседой.
– Послушайте, уважаемый сэр, – сказал Дайсон, – сейчас я вам одной-единственной фразой опишу задачу, стоящую перед литератором. Он должен всего лишь придумать превосходную историю, а затем изложить ее не менее превосходным образом.
– В этом вопросе я вам полностью доверяю, – отвечал мистер Филлипс, – однако позволю себе утверждать, что в руках истинного художника словесности любая история становится изумительной и любое обстоятельство становится предметом восхищения. Предмет не столь важен, способ же изложения – первостепенен. Поистине, высочайшее мастерство проявляется в случаях, когда берется предмет на первый взгляд заурядный и под действием мастерской стилистической алхимии преобразуется в истинное сокровище искусства.
– Описанное вами действительно является проявлением величайшего мастерства, однако мастерства, примененного глупо или по меньшей мере бездумно. Вообразите талантливого скрипача, который решил вдруг поразить нас чудесной музыкой, извлекаемой из детского банджо.
– Нет-нет, вы глубоко заблуждаетесь. Я вижу, что ваш взгляд на жизнь чрезвычайно искажен. Мы просто обязаны это исправить. Идемте ко мне, я живу совсем рядом.
Вот так мистер Дайсон сдружился с мистером Чарльзом Филлипсом, жившим в тихом квартале близ улицы Холборн. С тех пор они постоянно наведывались друг к другу в гости, иногда чаще, иногда реже, и время от времени назначали встречи в лавке на Квин-стрит, своими разговорами лишая торговца табаком доброй половины прибыли. Воздух беспрерывно сотрясался от литературных формул, причем Дайсон пел оды чистому воображению, в то время как Филлипс, который изучал естествознание и мог в какой-то мере называть себя этнологом, настаивал на том, что любая литература должна иметь под собой научное основание. Благодаря опрометчивой щедрости почивших родственников оба молодых человека не испытывали необходимости зарабатывать себе на пропитание, а потому, разглагольствуя о высоких материях, наслаждались приятной праздностью и упивались беспечными радостями богемы, лишенными острой приправы невзгод.
Как-то раз июньским вечером мистер Филлипс находился у себя в комнате, в доме, расположенном на тихой уединенной площади Ред-Лайон. Сидя у открытого окна, он безмятежно курил сигару и наблюдал за движением жизни внизу. Чистое небо еще долго хранило послевкусие заката; румяные сумерки летнего вечера, соперничающие с газовыми фонарями на площади, создавали светотеневой контраст, в котором было что-то неземное; и в этом эфемерном свете ребятишки, бегающие по мостовой туда и сюда, эти праздношатающиеся бездельники, и ничем не примечательные прохожие казались не материальными фигурами, а призраками, парящими над землей. В фасадах домов напротив мало-помалу один за другим вспыхивали квадраты света, то и дело за шторой появлялись и тут же исчезали силуэты, и подходящим аккомпанементом всему этому полутеатральному действу служили аккорды и рулады торжественной итальянской оперы, исполняемой на одной из соседних улиц под несмолкающий глубокий бас городского движения, доносящийся с улицы Холборн. Филлипсу доставлял удовольствие и сам спектакль, и его эффекты; свет в небесах угасал, постепенно погружая улицы во тьму, шум на площади постепенно стих, а он все сидел у окна и предавался раздумьям, пока пронзительный звон дверного колокольчика не выдернул его из забытья. Согласно наручным часам, время уже перевалило за десять. Вскоре раздался стук в дверь, в комнату вошел его друг мистер Дайсон и по своему обыкновению уселся в кресло и закурил, не нарушая тишины.
– Как вам известно, Филлипс, – сказал он после долгого молчания, – я всегда был и остаюсь защитником чудес. Помню, как вы, сидя в этом самом кресле, уверяли меня, что нет никакого смысла обращаться в литературе к чудесам, к невероятным событиям и странным совпадениям; вы утверждали, что это неверный путь, поскольку, в сущности, чудес и невероятных событий не бывает, а совпадения вряд ли оказывают значительное влияние на формирование человеческих жизней. Итак, прошу заметить, что, будь это в действительности так, я не согласился бы с вашим выводом, поскольку считаю теорию «критики жизни» полной чепухой; однако же я хочу оспорить сами предпосылки. Этим вечером со мною произошел чрезвычайно необычный случай.
– Замечательно, Дайсон, я очень рад это слышать. Разумеется, я найду опровержение вашему аргументу, каким бы он ни был, но если вы будете любезны поведать мне о вашем приключении, я с удовольствием послушаю.
– Что ж, дело обстояло вот как. Весь день я усердно трудился; сказать по правде, я не отходил от своего старого бюро с семи часов вчерашнего вечера. Мне хотелось проработать ту идею, что мы с вами обсуждали в прошлый вторник, помните? О поклонении идолам.
– Да, я помню. И вы в этом преуспели?
– О да, вышло даже лучше, чем я ожидал; но не обошлось без серьезных трудностей – как всегда, путь от задумки к исполнению оказался мучительным. Как бы то ни было, сегодня около семи часов вечера все было готово, и мне захотелось глотнуть свежего воздуха. Я вышел из дома и принялся бесцельно бродить по улицам; мои мысли были целиком заняты моим сочинением, и я почти не замечал, куда меня несут ноги. Так я оказался в одном из тихих районов к северу от Оксфорд-стрит и к западу отсюда и погрузился в атмосферу благородства, процветания и лепных фасадов. Сам того не замечая, я повернул опять на восток и в уже прилично сгустившихся сумерках зашагал по мрачному переулку, пустому и скудно освещенному. В ту минуту я не имел ни малейшего представления о том, где я нахожусь, но, как выяснилось впоследствии, я не так далеко отошел от Тоттенхэм-Корт-роуд. Я шел неспешным прогулочным шагом и наслаждался покоем; с одной стороны располагались, по-видимому, задние помещения какого-то крупного магазина: длинные ряды пыльных окон тянулись ввысь на много этажей, исчезая в ночной темноте; рядом с ними виднелись похожие на виселицу приспособления для подъема тяжелых грузов, а под ними темнели глухие массивные двери, плотно закрытые и запертые на засовы. Дальше начинался огромный склад, а по другую сторону дороги возвышалась мрачная сплошная стена, неприступная, как тюремное ограждение; за нею располагался штаб какого-то добровольческого полка, а чуть дальше виднелся проход к площадке, где стояли в ожидании пустые повозки. Этот переулок вполне можно было бы назвать необитаемым, ибо едва ли хоть в одном из окон я заметил проблеск света. Я дивился тому, что совсем рядом с ревущей лондонской магистралью нашлось такое тихое и умиротворенное местечко, как вдруг до моих ушей донесся торопливый топот – по тротуару кто-то бежал во весь опор; из узкого закоулка, который вел к конюшням или вроде того, стремительно, словно снаряд катапульты, прямо мне под ноги выскочил мужчина и бросился прочь, швырнув что-то на землю на бегу. Уже в следующую секунду он скрылся из виду, затерялся среди соседних улиц едва ли не прежде, чем я успел осознать происходящее; однако судьба этого человека меня мало беспокоила, ибо внимание мое было поглощено совсем иным. Как я уже сказал, убегая, незнакомец выбросил какой-то предмет; так вот, на моих глазах воздух расчертила огненная вспышка и что-то, подскакивая, покатилось по мостовой. Не в силах совладать с любопытством, я ринулся следом. Постепенно таинственный сверкающий предмет утратил первоначальное ускорение, и я разглядел в нем что-то вроде монеты в полпенса, которая катилась по дороге все медленнее и медленнее, мало-помалу клонясь к водостоку. На мгновение задержавшись у самого края канавы, монета, танцуя, упала. Я, кажется, даже вскрикнул от неподдельного отчаяния, хотя не имел ни малейшего понятия, за чем именно я охотился; однако по воле счастливого случая желанная мною добыча не упала в канаву, а легла плашмя на две перекладины решетки. Я наклонился, поднял предмет, сунул в карман и собрался было уходить, как вдруг снова услышал звук торопливых шагов. Сам не знаю, что сподвигло меня так поступить, но я поспешно спрятался в ведущем к конюшням – или что там было – закоулке, стараясь по возможности оставаться в тени. Всего в нескольких шагах от того места, где я стоял, стремительно пронесся какой-то мужчина, и я был неимоверно рад тому, что догадался спрятаться. Разглядеть мне удалось не так уж много, но я успел заметить огонь ярости в глазах незнакомца и звериный оскал на его лице; в одной руке он сжимал уродливый нож, и мне подумалось, что для первого джентльмена ситуация могла сложиться крайне неприятным образом, если бы этот второй грабитель – или ограбленный, если хотите, – настиг его. Я скажу вам так, Филлипс, весьма увлекательна охота на лисиц, когда зимним утром раздается протяжный звук рога, собаки подают голос, и бестии в рыжих мундирах бросаются наутек; но все это не имеет ничего общего с человеческой охотой, за которой мне довелось краем глаза наблюдать нынешним вечером. В глазах преследователя с ножом я увидел саму смерть, а с жертвой его разделяло вряд ли больше пятидесяти секунд. Могу лишь надеяться, что первому хватило этой форы.
Дайсон откинулся на спинку кресла, заново зажег трубку и принялся задумчиво потягивать дым. Филлипс вскочил и зашагал по комнате взад и вперед, размышляя над историей о жестокой смерти, пустившейся в погоню за жертвой по пустынному переулку, о сверкнувшем в свете фонарей лезвии, о ярости преследователя и ужасе преследуемого.
– Ну, – сказал он наконец, – и что же за вещицу вы спасли из сточной канавы?
Дайсон подскочил, очевидно застигнутый вопросом врасплох.
– А ведь я не знаю. Мне даже в голову не пришло посмотреть. Давайте выясним.
Пошарив в жилетном кармане, он извлек оттуда маленький блестящий предмет и положил его на стол. Там, в свете лампы, таинственный предмет так и лучился сиянием редкого старинного золота; изображение и буквы выступали на нем высоким рельефом, отчетливые и ясные, как будто с момента чеканки прошло не больше месяца. Друзья склонились над находкой, и Филлипс взял ее в руки, чтобы изучить повнимательнее.
– Imp. Tiberius Cæsar Augustus, – прочел он легенду, а затем перевернул монету и застыл в изумлении. Когда он смог наконец отвести от нее взгляд, лицо его так и сияло от восторга. – Понимаете ли вы, что вы нашли? – спросил он.
– Очевидно, это золотая монета некоторой степени древности, – равнодушно ответил Дайсон.
– О да, это золотой тиберий. Хотя нет, неверно. Это не просто тиберий, а тот самый тиберий. Поглядите на обратную сторону.
Дайсон подчинился и увидел, что на монете выгравирована фигура фавна, стоящего в зарослях тростника среди потоков воды. Черты его, хоть и миниатюрные, были тонкими и ясно различимыми; лицо было приятным, но в то же время устрашающим, и Дайсону вспомнился известный отрывок о мальчике и его друге, который рос и взрослел вместе с ним, пока в конце концов воздух не наполнился мерзким козлиным смрадом.
– Да, – сказал он, – любопытный экземпляр. Вам о нем что-то известно?
– Да. Это один из сравнительно немногих существующих исторических артефактов; он описывается в различных источниках, как те драгоценности, о которых мы с вами читали. Вокруг этой монеты сложился целый пласт легенд; считается, что она была частью серии, выпущенной императором Тиберием в память о печально известных бесчинствах. Видите, на обороте написано: Victoria. Говорят, что по невероятному стечению обстоятельств вся партия была брошена в плавильный котел и лишь одной монете удалось избежать уничтожения. И с тех пор она вспыхивает иногда в истории и в легендах, появляясь примерно раз в столетие в совершенно случайной части света и вновь исчезая. Она была открыта одним итальянским гуманитарием, потом утеряна и открыта вновь. В последний раз о ней слышали в 1727 году, когда сэр Джошуа Берд, турецкий торговец, привез ее из Алеппо, показал ее некоторым знатокам древностей, а месяц спустя исчез вместе с монетой, и никто по сей день не знает, что с ним произошло. И вот она перед нами!
Повисла пауза.
– Спрячьте ее в карман, Дайсон, – снова заговорил Филлипс. – На вашем месте я бы никому не позволял даже мельком взглянуть на эту вещицу. И никому бы о ней не рассказывал. Те джентльмены, которых вы наблюдали в переулке, видели вас?
– Кажется, нет. Не думаю, что тот, первый, которого темный проулок выплюнул прямо мне под ноги, хоть что-то замечал вокруг себя; насчет второго же я уверен: он точно не мог меня видеть.
– И вы тоже их толком не разглядели. Если бы завтра на улице вам довелось столкнуться с кем-то из них, вы бы их опознали?
– Нет, вряд ли. Уличное освещение, как я уже сказал, было весьма тусклым, а эти двое неслись, словно безумцы.
Некоторое время друзья сидели молча, и каждый по-своему размышлял об этой удивительной истории; поначалу Дайсон рассуждал трезво, однако вскоре жажда необычного мало-помалу взяла верх над рациональными мыслями.
– Значит, в этой истории еще больше загадок, чем мне представлялось поначалу, – сказал он наконец. – Увиденное сразу показалось мне странным; человек прогуливается по тихой, спокойной, самой обыкновенной лондонской улице, улице, обрамленной серыми домами и глухими стенами, как вдруг на мгновение словно приоткрывается таинственная вуаль, меж каменных плит начинает сочиться пар, мостовая под его ногами раскаляется докрасна, и он уже, кажется, слышит шипение адского котла. Мимо в безумном страхе за свою жизнь проносится незнакомец, а по пятам за ним мчится неистовая ненависть с ножом наготове; вот где истинный ужас. Но как все это связано с тем, что вы мне рассказали? Говорю вам, Филлипс, я вижу, как сгущаются краски сюжета; отныне и впредь тайна будет следовать за нами по пятам, и даже самые обыкновенные происшествия будут преисполнены значения. Вы можете протестовать, можете закрывать глаза, но вас принудят их открыть; попомните мои слова, вам придется покориться неизбежному. К нам в руки попал хоть и замысловатый, но все же ключ к тайне; и теперь наша задача – следовать за ним, куда бы он нас ни привел. Что же касается виновника или виновников этой странной истории, они не смогут укрыться от нас, ибо во всем этом огромном городе не останется ни единого места, не охваченного нашими сетями, и рано или поздно, на улице ли или в ином общественном месте, мы так или иначе поймем, что нашли неизвестного преступника. Воистину, я уже воображаю, как он медленно приближается к вашему тихому кварталу; он околачивается на каждом углу, ошивается поблизости будто бы без всякой цели, отходит иногда до самой магистрали, но при этом неуклонно приближается, влекомый непреодолимым притяжением, подобно кораблям из восточных преданий, которые притягивает к себе подводная скала[20].
– Я определенно считаю, – отозвался Филлипс, – что если вы начнете вынимать эту монету из кармана на публике и размахивать ею у людей под носом – чем вы и занимаетесь в настоящий момент, – то в скором времени непременно столкнетесь с тем самым преступником или с любым другим преступником. Вне всяких сомнений, вы станете жертвой жестокого ограбления. Иных же причин для беспокойства у нас, на мой взгляд, нет. Никто не видел, как вы подобрали монету, и никто не знает, что она находится у вас. Что до меня, то я буду спать спокойно и продолжу заниматься своими делами, чувствуя себя в полной безопасности и твердо подчиняясь естественному порядку вещей. Случившееся с вами этим вечером на улице, было странно, согласен, но я решительно отказываюсь предпринимать какие бы то ни было дальнейшие шаги в связи с этим делом и не премину, если потребуется, обратиться в полицию. Я не позволю поработить меня какому-то золотому тиберию, даже такому, который проник в мое жилище образом отчасти даже мелодраматичным.
– Что же касается меня, – сказал Дайсон, – то я намерен идти до конца, как странствующий рыцарь в поисках приключений. Вряд ли мне придется их искать – скорее приключение найдет меня само; я же буду пауком посреди сети, ответственным за каждое движение и всегда начеку.
Вскоре Дайсон ушел, а мистер Филлипс провел остаток ночи за изучением нескольких кремневых наконечников стрел, приобретенных им недавно. У него были все причины полагать, что эти наконечники создал современный мастер, а не человек эпохи палеолита, однако тщательный осмотр образцов совершенно его не удовлетворил, ибо в ходе его выявились весьма серьезные основания для сомнений. В гневе на самого себя за недостойные, по его мнению, этнолога мысли он совершенно забыл о Дайсоне и золотом тиберии; и к тому времени, когда он, уже с первыми лучами солнца, ложился в постель, вся эта история окончательно поблекла в его голове.
Встреча на мостовой
Неспешно прогуливаясь по Оксфорд-стрит и невозмутимо разглядывая все, что так или иначе привлекало внимание, мистер Дайсон наслаждался во всех его редчайших оттенках ощущением, будто он выполняет поистине важную работу. Наблюдения за людьми, экипажами и витринами магазинов щекотали его чувства, словно ароматы изысканного букета; он напустил на себя серьезный вид, какой бывает у человека, на которого возложен груз величайшей ответственности, и беспрестанно переводил взгляд то вправо, то влево, опасаясь упустить какое-нибудь значимое обстоятельство. На перекрестке он едва не угодил под колеса экипажа, ибо терпеть не мог ускорять шаг, а день к тому же стоял почти жаркий; едва он остановился у буфета, пользующегося в этот час большим спросом, как его внимание привлек хорошо одетый мужчина на противоположном тротуаре; глядя на то, что вытворяет незнакомец, Дайсон замер в изумлении, раскрыв рот, словно выброшенная на берег рыба. Двухколесные экипажи, кареты, дилижансы, кэбы и омнибусы с грохотом носились по мостовой в три ряда на восток и на запад, и даже самый отчаянный авантюрист не рискнул бы испытывать свое везение на этом перекрестке; но человек, привлекший внимание Дайсона, неистово метался на самом краю тротуара, то и дело порываясь броситься через дорогу, невзирая на опасность гибели под колесами, и после каждой неудачной попытки чуть ли не приплясывал от нетерпения, чем немало развлекал прохожих. Наконец в потоке экипажей возник просвет, которого хватило бы беспризорному мальчишке, чтобы перебежать дорогу, и незнакомец ринулся вперед, пересек мостовую, побывав на волоске от верной смерти, и накинулся на Дайсона, будто тигр на добычу.
– Я видел, как вы озирались, – выпалил он с жаром, – значит, вы можете мне помочь! Вы заметили человека, который три минуты назад вышел из лавки с воздушной выпечкой и сразу вскочил в экипаж? Скажите, он был молодой, с темными бакенбардами, в очках? Эй, вы что, язык проглотили? Господи боже, ответите вы или нет? Это вопрос жизни и смерти!
Мужчина просто кипел от эмоций, слова бурлили и клокотали, срываясь с его губ, лицо то краснело, то бледнело, на лбу выступили бусинки пота; он переминался с ноги на ногу и поминутно хватался за собственное пальто, словно что-то вздулось у него в груди и душило изнутри, преграждая путь воздуху.
– Уважаемый сэр, – сказал Дайсон, – я ценю точность во всем. Ваши наблюдения совершенно верны. Как вы и сказали, молодой мужчина – мужчина, я бы сказал, с несколько робкими манерами – поспешно выбежал из вот этой булочной и запрыгнул в экипаж, судя по всему, поджидавший его заранее, поскольку он тут же тронулся и отбыл на восток. Глаза вашего приятеля, как вы и сказали, были скрыты за очками. Быть может, вы бы хотели, чтобы я остановил для вас экипаж, чтобы вы могли последовать за тем джентльменом?
– Нет, благодарю, это будет пустой тратой времени.
Незнакомец шумно сглотнул, будто что-то подступило к его горлу, и Дайсон с тревогой наблюдал, как мужчина содрогается в приступе истерического смеха, крепко вцепившись в фонарный столб и качаясь из стороны в сторону, словно корабль, застигнутый мощным штормом.
– Что же я скажу доктору? – бормотал он себе под нос. – Надо же, упустил в последний момент. – Затем он взял себя в руки, выпрямился и снова повернулся к Дайсону. – Я должен попросить у вас прощения за столь грубое нарушение вашего спокойствия, – сказал он наконец. – Мало кто отреагировал бы так же хладнокровно, как вы. Вы не против прибавить к списку ваших благодетелей еще одну услугу? Я попросил бы вас проводить меня. Мне что-то нехорошо; думаю, это все из-за солнца.
Дайсон утвердительно кивнул и всю дорогу исподтишка рассматривал своего странного попутчика, стараясь не упустить ни единой детали. Одежда на нем была вполне приличная, и даже самый щепетильный наблюдатель не смог бы обнаружить изъяна в покрое или фасоне, однако же все, от шляпы до ботинок, казалось на нем неуместным. Вместо цилиндра, подумалось Дайсону, на нем уместнее бы смотрелся котелок одиозного кроя, какой носят с бесформенным сюртуком; кроме того, он интуитивно чувствовал, что этот человек не из тех, кто привык носить в кармане всегда чистый носовой платок. Лицо незнакомца не отличалось привлекательностью, и положение это лишь усугублялось парой округлых рыжих бакенбард на подбородке, в которые незаметно перетекали его светлого оттенка усы. Однако, несмотря на все эти сигналы, подаваемые самой природой, Дайсон чувствовал, что личность этого человека представляет собой нечто большее, нежели средоточие вульгарщины. Он боролся с собой, стараясь удержать свои чувства в узде, но лицо его то и дело омрачалось тенью гнева, и немалых усилий стоило ему сохранить самообладание и не взорваться в приступе сумасшедшей ярости. Дайсону казался забавным и в какой-то мере жутким этот спектакль затаенных эмоций, стремящихся взять верх и грозящих в любой миг яростно прорваться наружу, и они некоторое время шли молча, пока человек, знакомство с которым произошло при таких странных и рискованных обстоятельствах, не отважился заговорить.
– Вы действительно очень добры, – негромко проговорил он. – Еще раз прошу прощения, моя грубость была в высшей мере неоправданной. Думаю, я должен объяснить мое поведение, и я с радостью расскажу вам о его причинах. Быть может, вам известно какое-нибудь местечко неподалеку, где мы могли бы присесть и поговорить? Я был бы весьма признателен.
– Уважаемый сэр, – торжественно отозвался Дайсон, – неподалеку находится одно из лучших лондонских кафе. Прошу вас, не думайте, будто вы обязаны предоставлять мне какие бы то ни было объяснения, однако, если хотите, я с величайшим удовольствием готов вас выслушать. Извольте сюда.
С тихой улицы они свернули в узкий проход за распахнутыми воротами с железными решетками. Проход этот был вымощен каменными плитами и с обеих сторон украшен живописными цветами в горшках, а тень от высоких стен создавала прохладу, весьма приятную после жаркого дыхания опаленных солнцем улиц. Вскоре проход вывел их на крохотную площадь, очаровательное местечко, кусочек Франции, посаженный в самое сердце Лондона. Со всех сторон возвышались внушительные стены, увитые ползучими растениями, клумбы у их подножий пестрели настурциями, геранями и бархатцами и наполняли воздух ароматом резеды, а в центре площади журчал скрытый зеленью фонтан, низвергая струи прохладной воды в каменную чашу, и беспрестанный шум воды только добавлял очарования этому чудесному местечку. Стулья и столы располагались на удобном расстоянии друг от друга, а в дальнем конце двора зияли широко распахнутые двери; за ним виднелся темный продолговатый зал, из которого доносился гул далеких голосов. В зале за столами сидела всего пара человек, они записывали что-то в книжки, попивая напитки, во дворе же посетителей не наблюдалось.
– Вот видите, нас никто не побеспокоит, – сказал Дайсон. – Прошу вас, садитесь здесь, мистер…
– Уилкинс. Меня зовут Генри Уилкинс.
– Садитесь сюда, мистер Уилкинс. Полагаю, здесь вам будет удобно. Вы раньше тут не бывали, не так ли? В это время дня здесь довольно тихо, зато к шести вечера народ набьется сюда, как пчелы в улей, а столики и стулья дойдут вон до того маленького переулка.
На звон колокольчика явился официант, и Дайсон, вежливо осведомившись у него о здоровье месье Аннибо, владельца ресторана, заказал бутылку «Шампиньи».
– «Шампиньи», – пояснил он мистеру Уилкинсу, который под влиянием обстановки явно успокоился, – это одно из прекраснейших вин, какими славится Турень. А, вот и оно; позвольте мне наполнить ваш бокал. Что скажете?
– Действительно, – сказал мистер Уилкинс. – Я бы подумал, что это отличное бургундское. Тончайший букет. Все-таки мне необычайно повезло столкнуться с таким добрым самаритянином, как вы. Удивительно, как вы не сочли меня безумцем. Но если бы вы знали, какие ужасные обстоятельства преследовали меня, то, я уверен, вас ничуть не удивило бы мое поведение, оправданий коему, разумеется, быть не может.