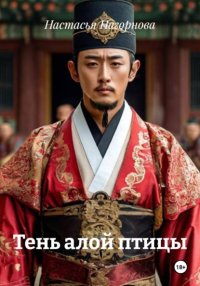
Читать онлайн Тень алой птицы бесплатно
- Все книги автора: Настасья Нагорнова
Глава 1. Ваше Величество Тишина.
Дождь стучал по фигурной черепице крыш королевского дворца Кёнбоккун, словно тысяча нетерпеливых пальцев, пытающихся проникнуть внутрь. Вода стекала по каменным желобам, превращаясь в серебристые завесы, сквозь которые дворец казался призрачным, нереальным. Внутри тронного зала Кынджонджон царила тишина, густая и тягучая, как старый мед. Воздух был наполнен запахом старого дерева, ладана и влажного шелка, смешанного с едва уловимым ароматом человеческого пота и страха.
Король Ли Джин сидел на троне.
Его поза была безупречна: прямая спина, руки, покоящиеся на резных подлокотниках из черного дерева, взгляд, устремленный в пространство над головами собравшихся сановников. На нем был парадный гонёнпо – красный халат из тяжелого шелка, с вышитыми на груди и спине золотыми драконами о пяти когтях. Каждый коготь, каждая чешуйка были свидетельством его неземного статуса. И каждый грамм шелка и вышивки давил на плечи невыносимой тяжестью, впиваясь в кожу через тонкую нижнюю рубаху.
Он чувствовал, как влажный воздух прилипает к лицу. Как тяжелая корона, украшенная нефритом и жемчугом, врезается в лоб. Как ноги затекают в положении, которое нельзя было изменить уже два часа.
– Ваше Величество, – голос, высокий и плавный, как масло, разрезал тишину. Это был Главный придворный евнух, Ким. Он стоял чуть в стороне и ниже трона, но его положение в зале было центровым. Его тучная фигура в темно-синем халате казалась монолитом, вокруг которого вращалось все. – Вопрос о восстановлении дамбы в провинции Чолла. Министерство общественных работ предоставило смету.
Ли Джин медленно перевел взгляд на министра – полного, нервного мужчину лет пятидесяти, с жирным блеском на лбу и дрожащими руками. Тот тут же уткнулся лбом в полированный пол так сильно, что раздался глухой стук кости о камень.
– Государь, сумма необходима, ибо прошлогодние наводнения разрушили три шлюза полностью, а основание дамбы подмыто на протяжении ста двадцати шагов, – голос министра дрожал, слова лились слишком быстро. – Нам потребуется двести тысяч мешков цемента, пятьдесят тысяч бревен твердой древесины, и конечно, рабочая сила – три тысячи крестьян на три месяца…
Министр говорил долго, путано, сыпал цифрами, названиями материалов, цитировал древние трактаты по гидротехнике. Ли Джин слушал, не двигаясь. Он видел, как советники по обе стороны зала прятали зевоту в широкие рукава. Видел, как молодой чиновник из министерства финансов едва заметно покачал головой, услышав цифру. Видел, как взгляд евнуха Кима блуждал по позолоченным сводам потолка, полный скучающего превосходства.
Когда министр закончил, в зале вновь повисла пауза. Все ждали. Казалось, даже дождь затих на мгновение.
Евнух Ким мягко кашлянул в кулак, украшенный массивным нефритовым кольцом.
– Проект важен для урожая и спокойствия в провинции, – произнес он, и его слова повисли в воздухе не предложением, а приговором. Голос был тихим, но каждый слог отчеканивался с ледяной четкостью. – Необходимо утвердить выделение средств.
Ли Джин почувствовал, как сжимаются его пальцы под складками халата. Ногти впились в ладони так, что под кожей появились красные полумесяцы. Он знал, что половина указанной суммы осядет в карманах министра и его покровителей. Знал, что качественный известковый раствор заменят глиной, смешанной с соломой, что бревна будут не дубовыми, а сосновыми, сгнившими изнутри. Знал, что дамбу построят кое-как, и ее смоет первым же паводком, унеся с собой не только вложения, но и жизни десятков крестьян, которых заставят работать за миску риса.
Он открыл рот, чтобы задать вопрос – всего один, технический, о качестве известкового раствора и происхождении бревен. Вопрос, который показал бы, что он не совсем спящая кукла на троне.
Но прежде чем звук сорвался с губ, он встретил взгляд своей бабушки, Вдовствующей королевы.
Она восседала на небольшом возвышении слева от него, за тонкой шелковой ширмой с вышитыми журавлями, но сквозь ажурную решетку он видел ее лицо – высеченное из слоновой кости, холодное, непроницаемое. Ее тонкие, как нарисованные тушью, брови были слегка приподняты, всего на волос. Это было не выражение удивления, не вопрос, не совет. Это был приказ, отточенный за шестьдесят лет жизни при дворе. Молчи.
Горло Ли Джина сжалось. Он проглотил слова вместе с комком беспомощной ярости, который подкатил к самому горлу, горький и обжигающий. Слюна была словно смешана с пеплом.
– Пусть будет так, – произнес он. Его собственный голос показался ему чужим, плоским, лишенным тембра, словно говорил кто-то другой, сидящий внутри него. – Утверждаю.
Евнух Ким склонил голову, уголки его тонких, бескровных губ тронула едва уловимая улыбка удовлетворения, похожая на трещину на фарфоровой вазе. Министр забился в благодарственном поклоне, его тучное тело колыхалось, словно желе. Дело было решено. Король сказал.
Так проходило утро. Вопрос о налогах на соль, где львиная доля уходила в карман родственнику евнуха. Доклад о беспорядках на границе, который умалчивал о том, что командир гарнизона продавал оружие контрабандистам. Прошение о помиловании невинно осужденного чиновника, которое было отвергнуто без обсуждения – человек этот когда-то осмелился критиковать клан Ким.
Так проходили дни, месяцы, два долгих года с момента его восшествия на престол после скоропостижной кончины отца. Отца, который кашлял кровью в этих самых покоях, пока придворные врачи, подкупленные евнухом, лечили его пиявками и заговорами. Ли Джину было восемнадцать, когда его короновали. Восемнадцать, когда он понял, что трон – это золотая клетка, а корона – ее замок.
Он был пешкой в руках евнуха, который контролировал доступ ко всему и ко всем: к докладам, к казне, даже к наложницам. И марионеткой на виду у своей бабушки, для которой он был лишь живым символом, продолжением династии, не более одушевленным, чем нефритовая печать на его столе. Его мысли, желания, страх – все это было неважно. Важно было лишь его тело на троне и его кровь в будущем наследнике.
Когда аудиенция наконец завершилась, и сановники, шурша шелком, покинули зал, Ли Джин остался сидеть. Слуги у стен, замершие в почтительных позах, не смели пошевелиться, пока он не двинется с места. Только евнух Ким задержался, его тень, отбрасываемая низким послеполуденным светом, проникающим сквозь бумажные окна, легла на ступени трона, длинная и уродливая.
– Ваше Величество выглядит утомленным, – сказал он, подходя так близко, что Ли Джин уловил сладковатый, приторный запах женьшеня, которым всегда была пропитана его одежда, смешанный с запахом старческой кожи и какой-то пряной мази. – Долгие заседания тяготят молодого государя. Вам необходимы… отвлечения. Может быть, прогулка в саду? Или музыка?
Ли Джин не ответил. Он смотрел прямо перед собой, на пустующее теперь пространство зала, где только что кипели ложь и лицемерие. Его взгляд упал на одну из массивных колонн, поддерживавших потолок. На ней на высоте человеческого роста была едва заметная царапина. Он помнил, как сделал ее в семь лет, зацепившись за колонну рукоятью деревянного меча, играя в воинов. Тогда его отец, еще полный сил, рассмеялся и потрепал его по голове. Теперь эта царапина казалась шрамом на теле чего-то давно мертвого.
– Вдовствующая королева и ваши преданные слуги обеспокоены будущим династии, – продолжил евнух, его голос стал медовым, ядовитым, словно сироп из испорченных фруктов. – Престол не может оставаться без наследника. Это вопрос стабильности всего Чосона. Народ ропщет. Духи предков беспокоятся.
Вот оно: Ли Джин чувствовал, как по спине пробегает холодок, словно кто-то провел по позвонкам лезвием ножа. Он знал, к чему клонит евнух. Говорили об этом уже полгода намеками, а последний месяц – все прямее.
– Мы нашли идеальное решение, которое укрепит вашу власть и принесет гармонию во дворец, – евнух сделал паузу, наслаждаясь моментом, как кот, играющий с мышью. Его пальцы с длинными, ухоженными ногтями перебирали нефритовые четки на поясе. Младшая дочь Правого советника Ким Ми Ён. Девушка редкой красоты и кроткого нрава, воспитанная в строжайших конфуцианских традициях. Ей всего шестнадцать. Цветок, готовый распуститься. Ее семья… лояльна. Брак будет заключен в следующем месяце. Уже выбраны благоприятные дни астрологами.
Это был не вопрос. Даже не предложение. Это был указ, завернутый в шелк учтивости. Причем удар был двойным: Правый советник – не просто правая рука евнуха Кима, а его кровный брат. Женившись на его дочери, Ли Джин навечно приковывал себя к ним цепью из плоти и крови. Он становился не просто марионеткой, а членом семьи. Собственностью. Его будущий сын будет наполовину Ким, и клан сможет править от его имени долгие годы.
Ли Джин медленно, с огромным усилием, поднял глаза и встретился взглядом с евнухом. В темных, как чернильные лужицы, глазах старика он увидел торжество и предупреждение. Увидел там насмешку и абсолютную уверенность в своей безнаказанности. Любое сопротивление будет сломлено. Все уже решено. Вдовствующая королева дала свое благословение. Совет министров приготовил поздравления. Оставалось только поставить печать.
– Я… понимаю, – наконец выдавил из себя Ли Джин. Каждое слово резало горло, как осколок стекла.
– Рад, что Ваше Величество столь благоразумно, – евнух склонился в почтительном, но неглубоком поклоне, который был оскорблением сам по себе, и удалился, его мягкие туфли бесшумно скользили по полированному полу, отражавшему, как в мутном зеркале, изогнутые своды потолка.
Ли Джин сидел еще долго, пока слуги не начали бросать на него тревожные взгляды. Он чувствовал, как немеет все тело, как холод от мраморного трона проникает сквозь слои шелка в кости. Наконец он поднялся. Его движения были механическими, как у хорошо отлаженной куклы на пружинах. Свита тут же окружила его плотным кольцом, и он покинул тронный зал, шествуя по бесконечным, похожим на лабиринт коридорам в свои личные покои. Шел молча, глядя прямо перед собой, не видя роскошных фресок на стенах, изображавших сцены из мифов, не слыша почтительного шороха шагов позади.
Его покои, расположенные в самой защищенной части дворца, были убежищем, которое тоже не было его. Здесь каждый предмет, каждый слуга, каждый запах был подобран, одобрен и подконтролен либо бабушке, либо евнуху.
Двери из твердого дуба закрылись за ним с глухим, окончательным стуком, оставив снаружи придворных и стражу. Только тут, в полумраке комнаты, где единственным светом были последние лучи дня, пробивавшиеся сквозь бумажные окна, его плечи сгорбились на мгновение, будто с них сняли ту самую каменную дамбу. Он стянул с головы тяжелую царскую корону и швырнул ее на груду шелковых подушек у стены. Золото и нефрит со стуком ударились о деревянную раму кровати. Красный халат, вдруг ставший символом позора, он срывал с себя, не обращая внимания на дорогие застежки. Шелк рвался с тихим шипением. Одежда упала на пол бесформенным багровым пятном, похожим на лужу крови.
На нем осталась только тонкая белая нижняя рубаха и свободные штаны. В покоях было тихо. Запахло сандалом из курительницы и чем-то еще – острым, горьким запахом одиночества.
– Можно войти? – раздался спокойный, низкий голос из-за резной ширмы, отделявшей спальную зону от кабинета.
Ли Джин не обернулся. Он знал этот голос лучше, чем собственный.
– Входи, Ин.
За ширму шагнул мужчина в темно-синем, почти черном мундире начальника королевской стражи. Хан Со Ин был почти ровесником короля, но казался старше своей сдержанностью и шрамом, пересекавшим левую бровь – подарок от пьяного янбана, которого он однажды обезоружил, защищая еще принца Ли Джина. Его лицо с резкими, угловатыми чертами было спокойно, но глаза, острые и наблюдательные, как у ястреба, сразу заметили следы унижения на лице друга: тонкую белую линию сжатых губ, тень в глубине темных глаз, легкую дрожь в пальцах.
– Слышал, сегодняшнее заседание было… продуктивным, – осторожно начал Со Ин, подходя ближе. Его походка была бесшумной, как у кошки, результат долгих лет тренировок.
– Продуктивным? – Ли Джин горько рассмеялся, звук вышел резким и сухим, как треск ломающейся ветки. – Они утвердили воровство, а меня женили. В один день. Очень эффективно. Настоящие мастера своего дела.
Со Ин помолчал, изучая друга. Он видел не короля в парадных одеждах, а того мальчика, с которым когда-то тайком ловил сверчков в дворцовом саду, того юношу, что мечтал читать книги по государственному управлению, а не трактаты по этикету, чьи мечты о справедливом правлении разбились о каменные стены реальности, возведенные вокруг него с детства.
– На ком? – спросил он просто, без церемоний. Здесь, наедине, церемоний не было. Здесь был только Ли Джин и Со Ин. Так было с тех пор, как они оба помнили себя.
– На младшей дочери Правого советника, Ким Ми Ён. – Ли Джин выговорил это имя, как проклятие, с ненавистью, которая обжигала ему губы.
– Евнух Ким хочет привязать меня к своей семье навеки. Сделать своей собственностью. А бабушка… – он закусил губу до боли, чтобы не вырвалось что-то лишнее, чтобы не посыпались слова, полные давней, детской обиды, которая никогда не заживала. Старая рана, воспоминание о том, как она в детстве отстранила его, выбрав церемонию встречи китайских послов вместо его постели, где он лежал с горячкой и бредил, заныла с новой силой.
– Бабушка согласна. Для нее я всего лишь сосуд для продолжения династии. Чистая кровь Ли, которую нужно смешать с выгодной кровью, чтобы получить наследника. Мое сердце, моя душа – пустой звук.
Он подошел к окну, смотрящему на внутренний двор, где уже зажигали первые фонари. Дождь стих, оставляя на темном камне двора блестящие, как ртуть, лужи, отражавшие багровое закатное небо. Они казались темными, как слезы, пятнами на лице дворца.
– Она будет их глазами и ушами в моей спальне, Ин, – прошептал он, касаясь лбом прозрачной бумажной перегородки. – Она будет доносить каждый мой вздох, каждое слово, сказанное во сне. Она будет вынюхивать каждую мою мысль. И ночью… – он замолчал, глотнув воздух. – Ночью она будет их орудием. Ее тело будет ловушкой, а мой долг – попасть в нее, чтобы произвести на свет нового узника для этой клетки.
Со Ин стоял рядом, его молчание было красноречивее слов. Он не касался друга, не пытался утешить пустыми фразами. Он был просто здесь. Он всегда был здесь. Внебрачный сын знатного воина, чье происхождение закрывало для него любые карьерные высоты, кроме одной – быть тенью короля. Его преданность была единственной не купленной, не вынужденной вещью во всем дворце, а настоящей, твердой, как сталь его меча.
– Что будешь делать? – наконец спросил Со Ин, его голос был тихим, но в нем чувствовалась готовность. Готовность слушать, повиноваться, убивать, если нужно.
Ли Джин отвернулся от окна. В его глазах, еще минуту назад полных отчаяния и усталости, теперь разгорался холодный, жесткий огонь. Огонь человека, который слишком долго глотал унижения и понял, что может обратить его в топливо. Топливо для мести.
– То, что от меня ждут, – тихо сказал он, и его голос обрел странную, леденящую ровность. – Буду марионеткой. Послушной, тихой, покорной. Буду ненавидеть свою жену так открыто, чтобы они это видели и считали это слабостью. Буду презирать бабушку так осторожно, чтобы она чувствовала, но не могла доказать. Буду бояться евнуха так очевидно, чтобы он пресытился своим могуществом. Буду таким ничтожным, таким незначительным, таким предсказуемым в своей покорности, что они перестанут видеть во мне даже потенциальную угрозу. Перестанут смотреть на меня вовсе. Стану частью интерьера. Тенью на стене.
Он повернулся к Со Ину, и его лицо было маской ледяного спокойствия. Ни тени сомнения, ни искры прежнего отчаяния. Только расчет и решимость, выкованные в горниле унижения.
– А ты, мой друг, будешь моими глазами и ушами там, куда я не могу пройти. Моими руками там, где мои должны дрожать. Мы будем слушать. Мы будем ждать. Мы будем изучать каждого слугу, каждую щель в стене, каждую слабость наших врагов. Мы найдем их тайны. Их долги. Их преступления. И однажды, – он наклонился ближе, и его шепот был едва слышен, но в нем вибрировала сталь, – когда они решат, что тень не может укусить, что марионетка смирилась со своими ниточками, мы разорвем им глотки. Не метафорически, Ин. Буквально. Евнух, его брат, вся их паутина. Мы вырежем ее с корнем.
Со Ин медленно кивнул. Ни страха, ни сомнений, ни моральных терзаний. Только принятие, полное и безоговорочное. Для него Ли Джин был не просто королем. Он был другом, братом, единственным человеком, который видел в нем не «бастарда», а Хан Со Ина. И за это он был готов на все.
– Всегда, – произнес он одно слово, и в нем была клятва, крепче любой, скрепленной печатью.
– А теперь оставь меня, – Ли Джин вздохнул, и маска на мгновение дрогнула, показав невыносимую усталость, тяжесть, которая давила на него два года и теперь должна была давить всю жизнь, до самого конца, до самого акта мести или гибели. – Мне нужно… подготовиться к роли жениха. Выучить улыбку. Отразить в зеркале нужный взгляд. Придумать, как ненавидеть девушку, которую я даже не видел, но которая уже обречена разделить эту клетку со мной.
Когда Со Ин исчез за ширмой так же бесшумно, как появился, Ли Джин остался один в наступающих сумерках покоев. Слуги не смели войти без зова. Он был наконец по-настоящему один.
Он подошел к лаковому столику черного цвета, где лежали кисти, тушь и стопка тонкой, почти прозрачной бумаги. Рука сама потянулась к кисти. Он не стал писать стихов о тоске или планов действий. Он окунул кисть в тушь, смешанную с водой до серого оттенка, и начал рисовать карикатуру.
Сначала появился толстый, самодовольный евнух с лысой головой и хищной улыбкой. Затем от его пальцев потянулись толстые, похожие на кишечник, ниточки. Они опутывали маленькую, тщательно прорисованную королевскую фигурку в миниатюрной короне. Фигурка висела в воздухе, ее руки и ноги были скручены нитями. А рядом, чуть в стороне, он нарисовал старую женщину с лицом, похожим на маску театра, но – бесстрастным, с узкими щелями глаз. В ее костлявых руках были огромные ножницы, лезвия которых были направлены к нитям. Она не перерезала их, но была готова это сделать в любой момент, если кукла вздумает пошевелиться не так.
Он смотрел на рисунок, и его губы искривились в беззвучной, горькой усмешке. Тушь сохла, впитываясь в бумагу, делая линии вечными.
Пусть думают, что дергают за ниточки. Они даже не подозревают, что марионетка видит руки кукловода. Видит каждую морщину на них, каждое пятно, каждый нервный тик. И считает каждый его палец. Запоминает. И ждет того дня, когда сможет эти пальцы один за другим сломать.
За окном, в сумеречном багрово-синем небе над дворцом, пролетела одинокая черная птица, спеша укрыться от надвигающейся ночи. Ли Джин наблюдал за ней, пока она не растворилась в темноте, словно ее и не было.
Завтра начнется новая игра. Игра, где ставкой была его жизнь, его душа и будущее целого королевства. А у него не было права проиграть. Не было права даже на ошибку.
Он отложил кисть, взял листок с рисунком, поднес к пламени свечи. Бумага вспыхнула ярко, осветив на мгновение его каменное лицо, и превратилась в пепел, который он стряхнул в бронзовую жаровню.
В воздухе остался лишь запах гари и решимости, холодной и безжалостной, как клинок, спрятанный в складках одежды. Ваше Величество Тишина готовилось к войне. И первым полем битвы станет его собственная свадьба.
***
За ширмами и шелком, в самом сердце женской половины дворца Кёнбоккун, покои Вдовствующей королевы казались миром, законсервированным в янтаре. Здесь время текло иначе: медленно, тягуче, подчиняясь не часам, а ритуалам. Воздух был густым от аромата выдержанного сандала, сушеных лепестков хризантемы и чего-то неуловимого – запаха безграничной, холодной власти, от которой стыла кровь.
Пак Ми Хи, Вдовствующая королева, сидела на низкой платформе у окна, выходящего на внутренний сад. Ей было семьдесят два года, и каждый из них был отчеканен на ее лице, как на старой монете – не морщинами слабости, а тонкими, четкими линиями решений, принятых и не принятых, обид, нанесенных и полученных, тайн, унесенных в могилу и сохраненных в сердце. Ее поза, несмотря на возраст, была безупречно прямой, словно позвоночник сросся с нефритовой палочкой, которую она держала в руках.
Она наблюдала, как последние капли дождя, скатываются с листа бамбука за окном. Но ее взгляд был обращен внутрь, на иную сцену.
– Он молчал? – спросила она голосом, сухим и тихим, как шелест шелковой бумаги.
– Как рыба, Ваше Величество, – ответил из глубины комнаты Главный евнух Ким. Он стоял в почтительной позе, но в ней не было ни капли подобострастия. Это была позиция партнера, пусть и младшего. – Проглотил и дамбу, и новость о браке. Лишь на мгновение в глазах вспыхнуло… что-то. Но он подавил. Словно вы научили его это делать.
– Я и научила, – отозвалась Ми Хи, не меняя выражения. Ее пальцы, длинные и узкие, с ногтями, тщательно покрытыми золотой краской, перебирали нефритовые четки. Каждый шарик был холодным и гладким, как ее мысли. – Его отец слишком много чувствовал. Слишком много хотел. Это свело его в могилу. Чосону нужен не пылкий правитель, а стабильный символ. Тихий центр, вокруг которого вращаются дела государства.
– Стабильность… – евнух Ким мягко произнес слово, делая в нем едва уловимую паузу. – Она стоит дорого. Проект дамбы…
– …обеспечит лояльность твоих людей в Чолла и наполнит твои сундуки, – закончила за него Ми Хи, наконец повернув к нему голову. Ее глаза, темные и проницательные, как горные источники, уставились на него без всякой теплоты. – Не играй со мной в слова, Ким. Ты получишь свою долю. Я получаю гарантии, что мой внук останется на троне, а твоя семья получит королевскую кровь. Это сделка. Чистая, как горный хрусталь. Без лишних сантиментов.
Уголки губ евнуха дрогнули в подобии улыбки. Ему нравилась ее прямолинейность. В ней не было лицемерия придворных дам, которые говорили одно, а думали другое. Королева-Вдова думала вслух, потому что была уверена – ее не посмеют осудить.
– Молодой король может… воспротивиться в брачную ночь, – заметил евнух, искушая судьбу. – Ненависть – плохое лекало для зачатия наследника.
Ми Хи усмехнулась. Звук был коротким, беззвучным, больше похожим на выдох.
– Ненависть, страх, долг – лучшие стимулы, чем любовь. Любовь делает человека слабым, заставляет идти на глупости. Ненависть заставляет подчиняться, чтобы выжить. Он будет выполнять свой долг. Он умный мальчик. Он понял сегодня в тронном зале. Понял, что его воля ничего не стоит. Что его чувства – роскошь, которую он не может себе позволить. Он будет ненавидеть эту девушку, будет холоден с ней, но он ляжет с ней. Потому что от этого зависит его выживание. А инстинкт выживания – самый сильный.
Она замолчала, глядя в окно, где уже загорались первые вечерние звезды.
– А девушка? Ми Ён? – спросила она, как будто вспомнив о незначительной детали.
– Кроткая, послушная, воспитанная в страхе перед отцом и перед Богом. Идеальная глина. Она будет боготворить его как короля и бояться, как мужа. Будет видеть в нем солнце и трепетать от его холода. Она не осмелится даже подумать о предательстве семьи – мы позаботимся, чтобы ее мать и младшая сестра оставались… в поле ее зрения.
Ми Хи кивнула. Все было продумано. Все, кроме одного. Глаза ее на мгновение затуманились, уходя в прошлое. Она видела не покои, а другой дворец, шестьдесят лет назад. Сама она, шестнадцатилетняя наложница, поднесенная ко двору могущественным кланом. Ночь страха, боли и отчуждения. Старый король, от которого пахло лекарствами и смертью. И ее собственная решимость – выжить любой ценой. Родить сына. Возвыситься. И вот теперь она здесь. На вершине. И ее внук повторяет ее путь, только в зеркальном отражении. Он – король-жертва. Она была наложницей-победительницей. Разные роли, одна цена.
– Он рисует, – внезапно сказала она, возвращаясь в настоящее.
– Ваше Величество?
– По вечерам. Когда думает, что за ним не наблюдают. Карикатуры. На тебя, на меня, на министров. – Она произнесла это без осуждения, даже с оттенком любопытства.
– Выплескивает яд на бумагу. Это хорошо. Значит, у яда есть выход. Значит, он не копит его внутри, где он может просочиться в дела. Пусть рисует. Следи, чтобы эти рисунки сжигались. И чтобы он об этом знал.
Евнух Ким слегка склонил голову, восхищенный ее осведомленностью. Ничто не ускользало от старухи. Ее сеть шпионов была тоньше и обширнее, чем его собственная.
– А как же… его друг? Хан Со Ин? – спросил евнух, и в его голосе впервые прозвучала легкая, тщательно скрываемая озабоченность. – Тень короля. Она становится слишком длинной.
Ми Хи замерла. Да, тень. Внебрачный сын. Преданный, как пес, и опасный, как голодный волк. Он был единственной неподконтрольной переменной в уравнении. Единственным человеком во дворце, чьи мотивы она не могла до конца вычислить. Преданность – самая непредсказуемая из сил.
– Со Ин… – она протянула имя, пробуя его на вкус. – Он полезен. Он – громоотвод для ненависти моего внука. Пока у Ли Джина есть он, ему есть на кого изливать свои истинные чувства. Он не чувствует себя в полном одиночестве. А одиночество… одиночество толкает на отчаянные поступки. Пусть пока остается. Но приготовь кого-нибудь. Молодую, красивую служанку для его покоев. Или нового офицера в страже, амбициозного и жадного. Нам нужны глаза и внутри этой тени. И возможность эту тень… укоротить, если она начнет отбрасываться не в ту сторону.
Евнух кивнул, мысленно составляя список кандидатов. Он наслаждался этими беседами. Они были как сложная игра в падук, где каждая фигура имела цену и потенциал.
– Ты думаешь, он способен на большее? – вдруг спросила Ми Хи, и в ее голосе впервые зазвучал оттенок чего-то, что не было ни холодным расчетом, ни властью. Было что-то вроде… профессионального любопытства скульптора к куску мрамора.
– Король? – уточнил евнух.
– Король, – подтвердила она.
Ким помолчал, подбирая слова.
– В нем есть сталь. Но она скрыта глубоко, под слоями учтивости, страха и… чужой воли. Вашей, моей. Он научился ее прятать. Опасно ли это? Возможно. Но пока он считает, что играет в покорность, мы можем направлять его ярость в безопасное русло. На карикатуры. На холодность с будущей женой. Даже на тихое презрение к вам. Главное – чтобы он не нашел союзников. Не нашел тех, кто увидит в этой стали клинок, а не просто украшение.
– Он найдет, – тихо сказала Ми Хи, и ее взгляд снова стал отстраненным, устремленным в будущее. – Рано или поздно. У каждого правителя, даже марионетки, находится свой рыцарь или свой палач. Вопрос в том, кем окажется для него этот Хан Со Ин. И успеем ли мы сделать его палачом для самого себя.
Она взмахнула рукой – легкое, изящное движение, полное неоспоримой власти.
– Достаточно. Я устала. Принеси мне чай. И позови ко мне лекаря. Старые кости ноют от этой влажности.
Евнух Ким поклонился и бесшумно удалился, скрывшись за многослойными шелковыми портьерами.
Когда он ушел, Ми Хи не двинулась с места. Она продолжала смотреть в сад, погруженная в свои мысли. Ее разум, острый и безжалостный, анализировал ситуацию, как генерал анализирует карту перед битвой.
Ее внук был не просто марионеткой. Он был тигренком в клетке. Можно держать его голодным и слабым, но однажды, если клетка даст трещину, инстинкты возьмут свое. Ее задача была в том, чтобы клетка оставалась прочной. Брак – один из ее прутьев. Страх – другой. Ощущение тотального одиночества – третий.
Но в глубине души, в той ее части, что не была полностью выжжена дворцовыми интригами, жила странная, почти извращенная надежда. Надежда, что сталь в нем окажется крепче, чем она рассчитывала. Что однажды он сумеет вырваться. Не для того, чтобы свергнуть ее – она слишком стара для борьбы. А для того, чтобы доказать. Доказать ей, мертвому отцу, всему миру, что он – не просто тень. Что он чего-то стоит.
И если этот день настанет, она, возможно, даже испытает нечто вроде гордости. Прежде чем сделать все, чтобы снова загнать его обратно в клетку. Потому что стабильность Чосона была важнее судьбы одного человека. Даже если этот человек – ее кровь.
Она закрыла глаза, вдыхая аромат сандала. В ушах стояла тишина дворца – тишина, которую она создала и которой правила. Тишина, сквозь которую вот-вот должно было прорваться эхо будущей бури. И она, Пак Ми Хи, вдовствующая королева, будет слушать это эхо, готовясь встретить бурю во всеоружии, как встречала все бури за свои долгие семьдесят два года. Без страха. Без сожалений. Только с холодной, непоколебимой волей к власти.
В саду за окном на ветку сосны села сова. Ее большие, круглые глаза, казалось, смотрели прямо в покои королевы, видя все, что скрывалось за ширмами и ритуалами. Ми Хи встретилась с ней взглядом. Две хищницы, две королевы своих миров, разделенные оконным проемом. Сова бесшумно взмахнула крыльями и исчезла в наступающей ночи.
Королева Ми Хи позволила себе слабую, едва заметную улыбку. Ночь принадлежала хищникам. И она всегда чувствовала себя в ней как дома.
***
Тишина коридоров за покоями Вдовствующей королевы была особого рода. Она не была мирной – она была притаившейся, выжидающей, как затишье перед ядовитым выдохом. Здесь даже воздух казался гуще, насыщенный запахами лекарственных трав, воска и старой пыли, скопившейся в бесчисленных щелях между деревянными панелями.
Главный придворный евнух Ким шел неспешно, его мягкие, стеганые туфли не издавали ни звука. За спиной у него оставалась дверь в логово львицы, и с каждым шагом осанка его менялась почти неуловимо: почтительный изгиб спины распрямлялся, плечи отводились назад, подбородок приподнимался. Из слуги он вновь превращался в властителя теней, в паука, восседающего в самом центре дворцовой паутины.
Его личные апартаменты располагались не в главных зданиях, а в лабиринте служебных помещений к востоку от тронного зала. Снаружи – скромно, даже бедно. Но за дверью, укрепленной стальными пластинами и охраняемой двумя безмолвными, глазастыми евнухами помоложе, открывался мир, мало чем уступавший по роскоши покоям самих правителей.
Здесь не было окон. Вечный полумрак нарушали лишь масляные лампы в позолоченных бра, отбрасывающие теплые, пляшущие тени на стены, обитые темно-вишневым шелком. Воздух был пропитан сложным букетом: дорогие благовония из Аравии, сладковатый дым опиумной трубки, стоявшей на низком столике из черного дерева, и все тот же назойливый запах женьшеня – он исходил от маленькой жаровни, где томился целебный отвар. Ким считал, что именно этот отвар сохраняет его ясность ума и власть над ослабевающим телом.
Он сбросил парадный синий халат, и слуга-подросток, подобострастно склонившись, принял его, заменив на просторный халат из темно-зеленого бархата, расшитый серебряными нитями. Ким тяжело опустился на груду подушек у столика, протянул руку к трубке, но не закурил, а лишь обхватил ее прохладный янтарный мундштук, как скипетр.
В комнате, кроме него и слуги, находился еще один человек. Он сидел в тени, в углу, и только блеск его внимательных глаз выдавал его присутствие.
– Ну, что скажешь, Пён? – голос евнуха звучал теперь иначе: ниже, грубее, без придворной слащавой плавности. В нем слышалась усталость и власть.
Человек в тени, Пён, был его правой рукой, начальником дворцовой стражи внутренних покоев и, что важнее, главой разветвленной сети доносчиков. Тощий, с лицом, напоминавшим высушенную грушу, он был воплощением невзрачности, что и делало его идеальным шпионом.
– Король вернулся в свои покои, – тихо начал Пён. Его голос был монотонным, лишенным эмоций, как чтение доклада о запасах риса. – Выбросил корону, порвал халат. Сидел у окна. Потом к нему вошел Хан Со Ин.
Евнух Ким кивнул, его пальцы постукивали по янтарю.
– Содержание разговора?
– Стены в тех покоях толстые, а слуги, которые могли бы подслушать, либо его личные (и запуганы этим ястребом Со Ином), либо наши, но их он к себе близко не подпускает. Однако, судя по выражению его лица, когда он выходил провожать Со Ина… Он принял решение. Не смирился – принял решение.
– Какое? – в голосе евнуха прозвучал легкий интерес.
– Неизвестно. Но это не была покорность. Это было… холодное решение. Как у врача, который готовится ампутировать конечность.
Ким усмехнулся. Звук был похож на сухой треск.
– Врача? Он больше похож на пациента на моем столе. Но пусть думает, что держит скальпель. Это даже полезно. Отчаявшийся человек опасен, а тот, кто верит, что у него есть план – предсказуем. Он будет играть в покорного. Ждать своего часа. – Евнух потянулся к чашке с женьшенем и сделал маленький глоток. Горечь разлилась по языку, бодрящая и знакомая. – А мы будем знать каждый шаг его «плана». Как обстоят дела с девушкой?
Пён слегка кашлянул.
– Ким Ми Ён. Шестнадцать лет. Воспитывалась в строжайшем затворничестве. Умеет читать, писать, играет на гайагыме. Характер… податливый. Боится отца. Боится темноты. Любит сладости и вышивку. Ее мать и младшая сестра уже переселены в особняк в столице под нашим «присмотром». Девушке намекнули, что их благополучие зависит от ее безупречного поведения при дворе.
– Идеально, – прошептал Ким. Его взгляд стал отстраненным, он видел не комнату, а будущее. – Она будет идеальным проводником. Через месяц она будет делить с ним ложе. Через год родит наследника. И каждый ее вздох, каждая слеза радости или обиды будет доноситься до нас. Он попытается ее ненавидеть, отдалять… а она, бедняжка, будет лишь сильнее к нему привязываться, искать его расположения. И будет приходить к нам за советом, как его завоевать. Мы будем ее ушами. И ее устами.
Он помолчал, наслаждаясь изящностью конструкции.
– А что с тенью? С этим… бастардом?
Пён наклонился вперед, и тень исчезла с его лица.
– Хан Со Ин – проблема. Он как волк: предан только своей стае. А стая – это король. У него нет слабостей: не пьет сверх меры, не играет в кости, женщин, кажется, вообще избегает. Его люди в страже обожают его, потому что он честен и делит с ними все тяготы. Подкупить невозможно. Запугать… он не из тех, кто боится. Его единственная уязвимость – это сам король.
– Тогда, возможно, нам нужно создать другую, – задумчиво проговорил евнух. – Вдовствующая королева права. Нужно поместить рядом с ним кого-то. Не служанку – он таких не заметит. Соратника. Молодого офицера, амбициозного, голодного, но с темным пятном в биографии, которое мы будем держать. Кого-то, кто сможет стать ему… почти другом.
– У меня есть кандидат, – тут же отозвался Пён. – Лейтенант Кан. Сын разорившегося янбана. Отчаянно храбр, жаждет восстановить честь семьи. Имеет долги у ростовщиков из квартала Сочхон. Деньги решат его проблемы. А его амбиции и некоторая… наивность в вопросах дворцовых интриг сделают его идеальным инструментом.
– Займись этим, – кивнул Ким. Он закрыл глаза, ощущая приятную усталость, смешанную с удовлетворением. Все шло по плану. Тигренок в клетке. Грядущая невестка-шпионка. Преданный телохранитель, которого предстоит обезвредить. И он, евнух Ким, в центре всего, невидимая ось, вокруг которой вращается мир дворца.
Но в глубине его холодного, расчетливого ума, там, где хранились самые потаенные мысли, шевелилось что-то еще. Не страх, нет. Скорее, странное, почти ностальгическое чувство. Он смотрел на Ли Джина и иногда, в редкие мгновения, видел в нем не врага или пешку, а… воспоминание.
Сам Ким попал во дворец мальчишкой, сыном мелкого чиновника, попавшего в немилость. Кастрация была не выбором, а билетом в единственно возможное будущее. Он тоже был полон ярости, унижения, страха. И он тоже научился молчать. Научился прятать свою сталь. Он наблюдал, учился, лизал руки тем, кто был сильнее, и потихоньку, год за годом, паук за паутиной, строил свою империю из страха, долгов и тайн. Он стал мастером тишины, как его теперь называли некоторые за спиной.
И теперь он видел ту же ярость, то же унижение в глазах молодого короля. Разница была лишь в том, что у Ли Джина была корона. Но что такое корона без настоящей власти? Всего лишь тяжелый головной убор. Ким почти испытывал к нему нечто вроде уважения. Мальчик учился быстро. Он мог бы стать опасным соперником. Если бы у него было время. Если бы у него были союзники. Если бы не опыт и безжалостность того, кто уже прошел этот путь до конца.
– Он рисует, – вдруг сказал Ким, открыв глаза.
– Карикатуры. Да. На вас, на министров, на Вдовствующую королеву. Сжигает их. Думает, что мы не знаем, – отозвался Пён.
– Пусть рисует, – повторил Ким слова Ми Хи, но с иной интонацией. В его голосе звучало не просто расчетливое разрешение, а некое снисхождение знатока. – Это его месть. Безобидная. Пока он мстит на бумаге, у него не хватит духу на месть настоящую. И… принеси мне один из этих рисунков. Не сожженный. Мне интересно на них посмотреть.
Пён удивленно поднял бровь, но кивнул. Приказ был странным, но оспаривать его он не смел.
Евнух Ким откинулся на подушки, его взгляд устремился в потолок, украшенный сложной резьбой с изображением летучих мышей – символа удачи. Удача. Он сам создал свою удачу. Вырвал ее кровавыми ногтями из брюха этого дворца.
Молодой король считал, что играет в терпение и скрытность. Но он даже не подозревал, что его противник – не просто жадный старик у трона. Его противник – само чрево дворца. Система, которая перемалывала людей веками. И Ким был плоть от плоти этой системы. Ее идеальным продуктом и хозяином.
И когда придет время, и король, наконец, решит, что готов нанести удар, он обнаружит, что бьет в пустоту. Что враг, которого он ненавидел, – лишь одна из множества голов гидры. И что на месте отрубленной головы вырастут две новые. Или же он обнаружит, что его собственная жена, держащая на руках его сына, будет смотреть на него глазами, полными страха перед его врагами. И этот страх окажется сильнее любви.
Это была игра, в которой все ходы были предопределены. И он, евнух Ким, написал правила.
– Пён, – тихо произнес он.
—Да, господин?
—Усиль наблюдение за королевской библиотекой. И за архивами. Если он ищет слабости, он начнет с прошлого. С дел своего отца. С наших… старых отчетов. Убедись, что все, что он найдет, будет тем, что мы хотим, чтобы он нашел.
Пён снова кивнул, его худое лицо оставалось непроницаемым.
Евнух Ким закрыл глаза, на этот раз окончательно отпуская напряжение дня. В ушах стояла знакомая, убаюкивающая тишина его владений. Тишина, которую он охранял. Тишина, которой он правил.
А за стенами его роскошной, безоконной клетки дворец жил своей жизнью, готовясь к свадьбе. И где-то в своих покоях молодой король, возможно, в этот самый момент снова брал в руки кисть. И где-то в женской половине шестнадцатилетняя девушка по имени Ким Ми Ён, дрожа от страха и смутного предвкушения, примеряла свадебный ханбок, не зная, что стала пешкой на поле, которое было разложено задолго до ее рождения.
И все нити сходились здесь, в этой темной комнате, в руках старого евнуха, который уже почти забыл вкус настоящей свободы, но прекрасно изучил вкус абсолютной власти. Власти, которая была слаще любого вина, сильнее любой страсти и горше самого крепкого женьшеня.
***
Тень, отбрасываемая телом, длинна и бесплотна. Но тень, которой был Хан Со Ин, имела вес, плотность и остроту закаленной стали. После ухода из покоев короля он не пошел в казармы стражи, не отправился проверять посты. Он растворился в сумеречных переходах дворца, двигаясь с беззвучной уверенностью хищника, знающего каждую тропу в своем лесу.
Его мир был миром граней и углов, запахов и звуков, невидимых для других. Он слышал, как за стеной бормочет пьяный повар; как скрипит половица под неверным шагом служанки, несущей в покои к вдовствующей королеве чай с успокоительными травами; как шепчутся два младших евнуха у кладовой, деля взятку за пропуск лишнего ящика с шелком. Все это складывалось в картину, живую и дышащую, карту нервной системы дворца.
Личные покои начальника королевской стражи были аскетичны, как келья воина-монаха. Небольшая комната в служебном крыле, без излишеств. Простая соломенная циновка на полу, низкий столик, сундук для доспехов, стойка для оружия, где висел его меч в простых, потертых ножнах, и лук из манджурского тиса. Ни картин, ни украшений. Только на полке стояла одна-единственная вещь, не имевшая утилитарного значения: грубо вырезанная из дерева фигурка лошади. Ее подарил ему Ли Джин, когда им было по десять лет. Они тогда тайком пробрались в мастерскую резчика по дереву.
Со Ин снял темно-синий мундир, остался в простой хлопковой рубахе и штанах. Мускулы на его плечах и спине играли под кожей, покрытой сетью старых шрамов – молчаливых свидетельств драк, тренировок и одной серьезной битвы на северной границе, куда он последовал за тогда еще принцем, желавшим увидеть реальность своей страны. Один шрам, длинный и белый, тянулся от ребер до бедра – память о том, как он принял на себя удар меча, предназначенный Ли Джину. Он не считал это геройством. Это был его долг. Быть щитом. Быть тенью.
Он опустился на циновку в позу для медитации, но его глаза не были закрыты. Они, острые и темные, смотрели в одну точку на стене, однако видели гораздо больше.
Сегодня все изменилось. В тронном зале он стоял у колонны, вне поля зрения большинства, но с идеальной точкой обзора. Он видел, как сжимались пальцы короля. Видел, как дрогнула его челюсть, когда евнух Ким объявил о браке. Видел этот взгляд вдовствующей королевы, брошенный сквозь ширму – холодный, режущий, как лед. И самое главное – он видел момент, когда в глазах Ли Джина что-то умерло, а на его месте родилось нечто новое. Не смирение. Не отчаяние. Решимость. Холодная, безжалостная, опасная.
И слова, сказанные ему наедине: «Мы разорвем им глотки».
Со Ин не был наивен. Он понимал, что их шансы ничтожны. Дворец – это единый организм, а евнух Ким и вдовствующая королева – его мозг и холодное сердце. Они контролировали все: поставки еды, воду, связь с внешним миром, назначения чиновников, суды, казну. У Ли Джина была лишь корона и его преданная гвардия, верная в первую очередь Со Ину. Триста человек против целой системы.
Но он также видел и их слабости. Система была громоздкой. Она зависела от страха, жадности и взаимных обязательств. Такую систему можно было взломать, если найти правильные рычаги. Не силой – силой здесь ничего не добиться. Хитростью. Терпением. И абсолютной, безупречной преданностью, которой у них не было.
Его размышления прервал тихий, условный стук в дверь – два быстрых, один медленный. Свой.
– Входи, – сказал Со Ин, не меняя позы.
В комнату скользнул молодой стражник, почти мальчик, с простым, открытым лицом. Это был Пак Чи Хун, сын конюха, которого Со Ин несколько лет назад взял под свое крыло, увидев в нем потенциал и, что важнее, чистоту. Чи Хун был одним из немногих, кому он доверял безоговорочно.
– Командир, – юноша почтительно склонил голову. – Новости с кухни.
– Говори.
– Повар Квон снова пьян. Бормотал, что ему принесли «особые» специи для свадебного пира. Очень дорогие. Но я заглянул в кладовую – ящик с этими специями уже полупустой. Исчезли шафран и сушеная кора сандалового дерева.
Со Ин медленно кивнул. Дорогие специи, исчезающие с кухни перед большой церемонией. Их могли продать на черный рынок. Или… их могли использовать для других целей. Например, чтобы подмешать что-то в пищу кому-то очень важному. Пока это было лишь ниточкой, но каждую такую ниточку нужно было пометить.
– Хорошо. Продолжай наблюдать за Квоном. Узнай, с кем он встречался в последние дни. И проверь, не появились ли у него внезапные деньги.
– Есть. – Чи Хун замялся. – И еще, командир. В восточном крыле, у покоев младших придворных дам, видел, как ночная служанка, та, что с шрамом на щеке, передавала что-то маленькое и завернутое в шелк одному из курьеров евнуха Кима. Курьер ушел через служебные ворота.
Шрам на щеке. Служанка Мисун. Она работала в покоях одной из немногих оставшихся при дворе наложниц покойного короля-отца. Что она могла передавать? Письмо? Украшение? Информацию?
– Запомни это, – сказал Со Ин. – Пока не трогай. Просто запомни.
Когда Чи Хун ушел, Со Ин поднялся и подошел к узкой бойнице, служившей окном. Вид открывался на тренировочный двор стражи. Даже сейчас, в сумерках, несколько человек отрабатывали удары на манекенах. Он знал каждого по имени. Знаком с их семьями, с их слабостями, с их мечтами. Эта гвардия была его единственным реальным активом. И ее нужно было не только укреплять, но и очищать.
Он знал, что среди его людей есть те, кто доносит. Не из злого умысла, может быть, из страха. Или потому что им пообещали продвижение их родственников. Он уже вычислил двоих. Пока не трогал их. Лучше иметь известных шпионов и осторожно кормить их нужной информацией, чем устранять и получить на их место новых, неизвестных.
Но сейчас, после решения короля, все изменилось. Игра перешла в новую фазу. Пассивное наблюдение было уже недостаточно. Нужно было действовать. Готовить почву.
Он подошел к столику, взял кисть и кусок грубой бумаги. Не стал писать слов. Он начал рисовать схему. В центре – стилизованная корона. От нее линии к двум фигурам: старухе с ножницами и тучному евнуху с паутиной. От короны также тянулась тонкая, но жирная линия к маленькой фигурке воина – к нему самому. А от него – множество тонких лучей к другим, малым фигуркам: его проверенным людям, вроде Чи Хуна.
Затем он начал рисовать другие фигуры, окружавшие центр. Министры. Чиновники. Слуги. К некоторым он ставил вопросительные знаки. К другим – едва заметные крестики. Третьих обводил кружком.
Один кружок он поставил рядом с именем «Кан, лейтенант». Молодой, голодный, с долгами. Идеальная мишень для вербовки со стороны клана Ким. Со Ин давно заметил повышенный интерес к этому юноше со стороны людей Пёна, шпиона евнуха. Возможно, стоило опередить их. Или, наоборот, позволить вербовке состояться и вести свою игру через него.
Мысли его были холодны и методичны. Он не испытывал ненависти к евнуху или Вдовствующей королеве. Ненависть – эмоция. Она мешает ясности. Он видел в них препятствия на пути безопасности и воли своего короля. Препятствия, которые нужно либо обойти, либо устранить. Как инженер видит скалу на пути строящейся дороги.
Но была одна точка, где холодная логика давала сбой. Когда он думал о Ли Джине. Не о короле, а о мальчике Джине. О том, как они вместе прятались от учителей в библиотеке. Как Джин, уже зная о своем статусе бастарда, делился с ним книгами и мечтами о справедливости. Как однажды, когда на Со Ин ополчились другие юные аристократы, обзывая его выродком, Джин, тогда еще принц, встал между ними, его лицо было белым от гнева, и сказал тихо, но так, что слышали все: «Он – мой друг. Кто тронет его, тронет меня».
Он спас его тогда не от побоев, а от чего-то более страшного – от ощущения, что он никому не нужен, что он ошибка, которую стоит стереть. С тех пор Со Ин дал внутреннюю клятву, что его жизнь принадлежала не Чосону, не династии Ли, а этому человеку. Только ему.
И теперь этому человеку, его другу, уготовили участь быть производителем наследников для клана, который уничтожил его отца. Посадили в золотую клетку и собирались разводить там его потомство, как ценных племенных птиц.
Со Ин положил кисть. Его лицо, обычно непроницаемое, исказила гримаса такого чистого, беспримесного гнева, что воздух в комнате словно сгустился. В этот момент он не был начальником стражи или стратегом. Он был хищником, почуявшим угрозу своему вожаку.
Гнев прошел так же быстро, как и накатил, оставив после себя еще более холодную, еще более твердую решимость.
Он свернул схему и сунул ее в потайное отделение своего сундука. Затем подошел к стойке с оружием. Он снял меч, вытащил клинок из ножен. Сталь отливала синевой при свете лампы. Он провел пальцем по лезвию, не нажимая. Острота была идеальной.
Завтра начнется подготовка к свадьбе. Усилятся проверки, во дворец хлынут толпы родственников, чиновников, поставщиков. Суматоха. Идеальное время, чтобы что-то пронести. Или кого-то вывести. Идеальное время для того, чтобы потеряться в толпе и провести ряд встреч.
Он думал о невесте. Ким Ми Ён. Шестнадцать лет. Заложница в шелковых одеждах. Она тоже была жертвой этой системы. Но ее жертвенность могла стать оружием против его друга. К ней нельзя было испытывать жалость. К ней нужно было присмотреться. Узнать ее слабости. Возможно, даже найти способ до нее достучаться. Если она боится отца и любит мать… это можно было использовать.
Со Ин вложил меч в ножны. Движения его были точны, ритуальны. Это успокаивало ум.
Он погасил лампу и снова опустился на циновку в темноте. Теперь он слушал. Слушал ночные звуки дворца: крик дальней совы, перекличку часовых на стенах, скрип телеги где-то за воротами. Он отфильтровывал шум, выискивая аномалии. Так он проводил многие часы. Это была его форма бдения.
Где-то в своих покоях Ли Джин, вероятно, тоже не спал, размышляя о своем унижении и о мести. Где-то в своих темных, роскошных комнатах евнух Ким строил планы на следующие десятилетия. А где-то в женских покоях молодая девушка, обреченная стать королевой, плакала в подушку от страха перед неизвестностью.
А Хан Со Ин сидел в темноте, неподвижный, как камень в ручье, вокруг которого бурлит вода. Он был якорем. Он был щитом. Он был тенью, которая готовилась стать кинжалом.
И в тишине его комнаты было слышно лишь одно: ровное, спокойное биение сердца человека, который уже сделал свой выбор и был готов заплатить за него любую цену. Даже если этой ценой станет его собственная жизнь, честь или душа. Для него это не имело значения. Единственное, что имело значение, было сияние той короны, которую он поклялся защищать. И человека, который был для него гораздо больше, чем король.
Глава 2. Алые узы.
Свадьба была великолепна, как гнойная язва под слоем парчи и золота. Дворец Кёнбоккун, обычно погруженный в сдержанное величие, взорвался кричащей алой пестротой. Всюду реяли знамена с иероглифами «двойное счастье», казавшиеся Ли Джину насмешливыми гримасами. Воздух, плотный и влажный от предвечерней жары, гудел от назойливых переливов придворной музыки – мелодии гаягыма и тэпёнсо звучали слащаво и фальшиво, сливаясь с гомоном сотен голосов в единый подавляющий гул.
Ли Джин проходил церемонии, как сквозь плотный, дурно пахнущий сон. Его свадебные одежды – многослойный темно-синий королевский халат с золотым шитьем в виде драконов и облаков – весил как доспехи. Каждый шов врезался в тело. Корона, еще более массивная, чем повседневная, давила на виски пульсирующей болью. Он совершал поклоны в святилище предков, чувствуя на себе тяжелые, оценивающие взгляды портретов прежних королей. Казалось, они смотрят на него с презрением.
Главный ритуал проходил в тронном зале. Он стоял на возвышении, механически повторяя слова, заученные до тошноты. Его взгляд, остекленевший от напряжения, скользил по морю лиц. Евнух Ким, облаченный в парчу лилового цвета – привилегия, которой удостаивались немногие, – сиял жирным блеском удовлетворения. Его маленькие глазки, похожие на изюминки, впивались в Ли Джина с откровенной собственнической гордостью. Вдовствующая королева, восседающая на почетном месте, напоминала идола, вырезанного из черного нефрита. Ее лицо было непроницаемо, лишь легкий кивок в такт церемонии выдавал ее одобрение. А отец невесты, Правый советник Ким, казалось, вот-вот лопнет от важности. Его тучное тело, затянутое в алый халат, колыхалось при каждом поклоне, а на губах играла улыбка человека, сорвавшего банк в игре, в которую другие даже не знали, как войти.
Купил трон по оптовой цене, – ядовито сверлила мысль в голове Ли Джина, когда он поднимал ритуальную чашу с чистым рисовым вином. И получил в придачу молодое тело, чтобы скрепить сделку кровью моего будущего сына.
Наконец, бесконечная процессия переместилась в покои для брачной ночи. Не в его личные апартаменты, где он мог чувствовать хоть призрачное подобие безопасности, а в специально подготовленные, громадные и бездушные покои в самом сердце женской половины. Воздух здесь был густо пропитан ароматом цитрусов, сандала и цветущих персиков – навязчивая, удушающая смесь, призванная заглушить все остальные запахи. В том числе запах страха, пота и лжи.
Когда тяжелые лакированные двери наконец закрылись, отсекая последних свах, церемониймейстеров и слуг, в покоях воцарилась оглушительная тишина. Она оказалась громче любого гула толпы.
Невеста стояла у края ложа, застеленного шелковыми покрывалами невероятного алого цвета, расшитыми золотыми фениксами и серебряными драконами. Ее свадебный хварот, многослойный и невероятно тяжелый, превращал ее в алую, застывшую статую. Лицо, согласно строжайшему церемониалу, было покрыто густым слоем белил, румяна лежали на щеках ровными кругами, губы подкрашены красной охрой. Черными линиями были подведены глаза и нарисованы тончайшие, высоко взлетающие брови. Это была идеальная маска. Но даже сквозь нее проступали черты поразительной, хрупкой красоты: изящная линия носа, небольшие, плотно сжатые уста, нежный овал подбородка. Ее глаза, опущенные в пол, казались огромными темными озерами в белоснежных берегах грима.
Ли Джин смотрел на нее, и его переполняло нечто большее, чем ненависть. Ненависть была бы слишком простой, слишком горячей эмоцией. Его охватило леденящее, физическое отвращение. Она была не человеком, а самым изощренным орудием, которое его враги могли придумать. Живым контрактом, обтянутым шелком и плотью.
– Тебе подробно объяснили, что от тебя требуется сегодня? – его голос прозвучал в тишине резко, как удар хлыста. Он намеренно опустил все титулы, все церемониальные обороты.
Она вздрогнула, почти незаметно, но не подняла глаз. Ее руки, спрятанные в широких рукавах, судорожно сжали друг друга.
—Ваше Величество… – ее голос был тихим, мелодичным, но абсолютно ровным, лишенным дрожи. Голосом, отточенным годами тренировок.
—Оставь эти «величества» для придворных, – отрезал он, срывая с себя верхний, самый тяжелый слой одежды и швыряя его на ларец из черного дерева. Драгоценная парча грубо скользнула на пол. – Мы здесь одни. Можешь мысленно готовить доклад своему отцу и дяде: их пешка успешно водружена на нужную клетку доски. Игру можно продолжать.
Теперь она подняла на него глаза. И в этих огромных, подведенных черным глазах он не увидел ни страха, ни вызова, ни фальшивого смирения. Он увидел усталое, бездонное понимание. Почти что сочувствие. Это обожгло его, как раскаленное железо.
– Я не пешка, Ваше Величество, – произнесла она все тем же тихим, ровным голосом. – Я – приданое. Самое ценное в моем приданом – моя кровь. И она теперь ваша.
Откровенность, почти циничная в своей простоте, ошеломила его. Он замер, изучая ее. Это была игра, конечно. Утонченная, расчетливая игра на снижение его оборонительного пыла. Он в этом не сомневался.
– Прекрасно, – прошипел он, чувствуя, как гнев снова закипает в жилах. – Тогда избавься от этой шелухи и ложись. Чем быстрее мы исполним эту часть фарса, тем быстрее я смогу тебя не видеть.
Он резко отвернулся, подошел к столику с вином и налил себе полную серебряную чашу. Рисовое вино, крепкое и обжигающее, он выпил залпом, чувствуя, как тепло разливается по желудку, но не может растопить лед в груди.
За его спиной послышалось легкое, почти неслышное шуршание. Шелк терся о шелк, шептались тончайшие ткани. Он слушал, стиснув зубы, представляя, как один за другим спадают эти алые слои, обнажая то, что они купили и ему подарили. Звук был унизительным. Для них обоих.
Когда он обернулся, она уже лежала на самом краю необъятного ложа, укрытая легким шелковым покрывалом до подбородка. Ее волосы, теперь распущенные, были рассыпаны по белой наволочке черным, отливающим синевой водопадом. Она смотрела в балдахин над ними, расшитый сценами из «Сна в красном тереме». Ее тело под покрывалом было прямым и неподвижным, как у фигуры на саркофаге.
Ли Джин медленно потушил светильники один за другим, длинным медным щупом. Пламя сопротивлялось, вздрагивало и гасло, отбрасывая на стены пляшущие тени. Он оставил гореть лишь одну толстую свечу у изголовья, погрузив комнату в зыбкий, трепетный полумрак. Он не хотел видеть ее лица. Не хотел, чтобы она видела его.
Он сбросил оставшиеся одежды, чувствуя на себе ее взгляд, ранее прикованный к потолку. Кожа покрылась мурашками не от холода, а от омерзения к самому себе, к этой ситуации, к долгу, который давил тяжелее свинца.
Ложась рядом, он почувствовал, как все ее тело, едва касающееся его, напряглось до предела. Каждый мускул был готов к удару, к боли. Между ними лежала целая вселенная отчуждения.
Его прикосновения были лишены какой бы то ни было прелюдии, нежности, даже простого человеческого любопытства. Это был механический акт присвоения. Он взял то, что, по мнению двора, принадлежало ему по праву. Его руки были грубы, движения резки и целеустремлены. Он ощущал под пальцами холодную, гладкую кожу, тонкие кости, слышал ее сдавленный, едва уловимый вдох, когда он вошел в нее. Она не издала ни звука. Не закричала, не заплакала. Лишь однажды, когда боль, должно быть, достигла пика, она резко зажмурилась, и в свете одинокой свечи ему показалось, что по ее виску, смывая белила, скатилась чистая, бриллиантовая слеза. Или это был просто отсвет пламени?
Он закончил быстро, подгоняемый яростью и стыдом. Как только спазм наслаждения, горького и отравленного, прошел, он тотчас отстранился, как от чего-то заразного. Повернулся к ней спиной, уставившись в темноту, где угадывались очертания ширмы. В комнате стояла абсолютная, давящая тишина, нарушаемая лишь его собственным тяжелым дыханием и едва слышным, прерывистым всхлипыванием за его спиной. Она старалась подавить его, и от этого звук был еще невыносимее.
– Завтра, – проскрежетал он в темноту, голос его был хриплым от выпитого вина и сдерживаемых эмоций, – тебе отведут покои в западном крыле. Ты будешь появляться только тогда, когда тебя вызовут. Не пытайся говорить со мной. Не задавай вопросов. Твоя функция – быть украшением на официальных церемониях и, когда придет время, родить наследника. Это все.
В ответ – только тишина, ставшая еще глубже.
Он пролежал так, не двигаясь, пока ее дыхание не стало ровным и глубоким – или пока она не заставила его стать таковым. Затем беззвучно поднялся, накинул первый попавшийся под руку халат и вышел в смежный кабинет.
Там, в полной темноте, прислонившись к стене, его ждал Со Ин. Лицо друга было скрыто тенью, но напряжение в его фигуре было ощутимо. Он все слышал. Каждый звук. Каждое несказанное слово.
– Ни слова, – хрипло бросил Ли Джин, опускаясь на пол у пустого столика. Он чувствовал себя грязным, разбитым, униженным до самого основания.
—Я и не собирался, – тихо отозвался Со Ин. – Но стражу к ее покоям? Наших людей или… его?
—Его, – отрезал Ли Джин. – Пусть охраняют свою шпионку, считая это привилегией. А ты внедри среди них наше ухо. Самого серого, самого незаметного.
—Уже есть кандидат, – кивнул Со Ин.
Прошла неделя. Двор утопал в показном ликовании. Каждый день приносил новые празднества, пиры, подношения от провинциальных чиновников, спешивших засвидетельствовать почтение новой королеве. Ли Джин играл свою роль с ледяным совершенством. На людях он был безупречно учтив с Ми Ён, соблюдая церемониальную дистанцию ровно в три шага. Он не удостаивал ее прямым взглядом, не обращался первым, его голос, когда он был вынужден что-то сказать ей, звучал ровно и безжизненно, как зачитанный указ. Подарки, которые он ей отправлял по протоколу – безделушки из нефрита, редкие сорта чая, рулоны лучшего шелка, – даже не распаковывались в ее покоях. Они складывались в сундуки, как трофеи холодной войны.
Она, со своей стороны, была воплощением кроткого, безропотного идеала. Тень в алых и лазурных одеждах, скользящая за ним по дворцовым залам. Она отвечала на любезности придворных дам с мягкой, никогда не достигающей глаз улыбкой, говорила мало и тихо, всегда попадая в нужную тональность. Она была идеальной фарфоровой куклой, и это бесило Ли Джина все сильнее. Где же расчетливая шпионка? Где хотя бы намек на злорадство или высокомерие?
Однажды вечером, после особенно изматывающего военного совета, где его робкие попытки оспорить кадровые назначения клана Ким были высмеяны старыми генералами, Ли Джин, не в силах сразу вернуться в душные покои, свернул во внутренний сад. Со Ин последовал за ним, сохраняя дистанцию.
Сад тонул в сизых сумерках. Воздух был свеж и пах влажной землей и цветущим жасмином. Ли Джин шел по дорожке из мелких камешков, стараясь заглушить в себе гул унижения. И тогда он увидел ее.
Она сидела на краю каменного парапета у пруда с карпами кои. На ней было не парадное платье, а простое, домашнее одеяние бледно-голубого цвета, без вышивки. Волосы были собраны в небрежный узел, несколько прядей выбивались и касались щеки. В руках она держала небольшую книгу в потертой синей обложке – сборник стихов поздней династии Силла. Но она не читала. Она смотрела на воду, где в последних багровых отсветах заката медленно двигались золотые и алые тени карпов. Ее лицо, очищенное от обильного дневного грима, было бледным и удивительно юным. И на нем лежала печать такой глубокой, такой безысходной печали, такого одинокого понимания своей участи, что у Ли Джина перехватило дыхание. Это был не маскарад. Это было настоящее.
Он замер за толстым стволом столетней сосны. Со Ин мгновенно растворился в арке галереи.
И тут к ней, семеня, подбежала юная служанка, та самая, что прислуживала ей, – девочка лет тринадцати по имени Окчжи. Лицо ее было искажено беззвучными рыданиями, губы дрожали. Она что-то быстро, захлебываясь, прошептала, упав на колени. Тоска по дому? Оскорбление от старшей ключницы? Неважно.
Ми Ён не оттолкнула ее. Не сделала строгое лицо. Не оглянулась по сторонам в страхе, что эту сцену увидят. Она мягко, почти матерински, положила руку на вздрагивающую головку девочки, притянула ее к себе и начала тихо говорить. Ли Джин не различал слов, но тон был теплым, успокаивающим, как колыбельная. Затем она вынула из своего рукава простой деревянный гребень – не украшенный перламутром, а самый затертый, бытовой – и, вытащив из прически Окчжи сломанную шпильку, аккуратно вставила на ее место гребень, поправив пряди.
– Иногда самые прочные стены тюрьмы сложены из золота и вышитого шелка, – ее голос донесся до Ли Джина ясно и четко в наступающей тишине. – Но это не значит, что внутри нельзя зажечь маленькую свечу доброты. Иди, умой лицо прохладной водой. Завтра будет новый день.
Девочка, успокоенная, кивнула, с трудом сдерживая новые слезы благодарности, и убежала. Ми Ён снова осталась одна. Она глубоко, с надрывом вздохнула, и это был звук такой искренней, такой измученной души, что у Ли Джина сердце упало куда-то в пятки, а потом рванулось в горло. Он увидел, как она на мгновение закрыла лицо ладонями, ее плечи содрогнулись в одном-единственном, сдавленном рыдании. А затем, будто надевая невидимые доспехи, она выпрямилась, стерла следы влаги с лица и, поднявшись, тихо пошла прочь, растворяясь в сумеречной аллее.
«Стены тюрьмы из золота и шелка…»
Эти слова впились в его сознание, как занозы. Он стоял, прижавшись лбом к шершавой коре, и слушал, как ее шаги затихают. Внутри все перевернулось. Он, мнивший себя единственным пленником, единственным, кто понимал истинную цену этого позолоченного ада… А она? Она знала. Она видела ту же самую клетку. И в своей собственной, возможно, более тесной камере, она находила силы быть доброй. Быть человечной.
Это рушило все его расчеты. Это не укладывалось в образ бездушной шпионки.
На следующее утро, во время формального совместного завтрака в Мёнчжончжоне (они сидели за разными столами, но в одном зале), он впервые пристально, изучающе всмотрелся в нее. Она ела мало, аккуратными, крошечными кусочками. Ее движения были отточено грациозны, но лишены живости. И теперь, зная куда смотреть, он заметил то, что раньше игнорировал: темные, почти синие круги под глазами, тщательно припудренные, но все равно проступающие. Легкую нервную дрожь в пальцах, когда она брала чашку с чаем. Напряженную складку между едва нарисованными бровями.
Она тоже не спит, – пронзила его мысль. Она тоже измучена страхом. Она тоже заложница.
В этот момент она, почувствовав его взгляд, невольно подняла глаза. Их взгляды встретились над золотой чашей с фруктами. По правилам, она должна была тут же опустить глаза. Но на долю секунды, меньше чем мгновение, она задержала взгляд. И в этих темных, глубоких глазах он не увидел ни страха, ни покорности, ни ненависти. Он увидел ту же самую усталую, понимающую печаль, что и вчера в саду. Печаль сообщника по заключению. Почти что молчаливое признание: «Я знаю. И ты знаешь. Каково это».
Ли Джин резко отвел взгляд, чувствуя, как кровь бросается в лицо, а сердце колотится с бешеной силой. Это была слабость. Глупая, опасная, смертельная слабость. Она – дочь Кимов. Плоть от плоти его врагов. Инструмент. Ничего более.
Но позже в тот же день, когда евнух Ким, явившись с докладом о поставках зерна, небрежно, словно между прочим, спросил: «А не хочет ли Ваше Величество уделить молодой королеве больше внимания в эти дни? Для укрепления супружеских уз и… ускорения благословенного события?», ярость, вспыхнувшая в Ли Джине, была уже иного свойства.
Раньше это была ярость загнанного зверя, ярость на посягательство на его свободу. Теперь, смешавшись с тревожным прозрением, ярость стала тоньше, острее и странным образом… направленной вовне. Это была ярость за нее. За то, что они сделали с этой девушкой. За то, что превратили ее в товар, в разменную монету в своей грязной игре. И за то, что теперь он, ненавидя их, вынужден быть частью этого унижения, причинять ей боль по их указке, становиться в ее глазах таким же монстром, как и они.
– Королева еще слишком юна и не привыкла к ритму дворцовой жизни, – произнес он, глядя куда-то в пространство за плечом евнуха, стараясь, чтобы голос звучал просто скучно, а не защищающе. – Излишняя спешка может породить ненужные толки и повредить ее репутации. Мы будем следовать естественному ходу вещей и установленным традициям.
Евнух склонил голову в почтительном поклоне, но, поднимая ее, метнул быстрый, испытующий взгляд. В его глазах мелькнула искорка подозрения, быстрая, как молния. Ли Джин понял, что допустил ошибку. Защищая ее, даже такой скучной фразой, он выдал нечто большее, чем простое равнодушие.
Вечером, в своих покоях, он вызвал Со Ина.
—Мне нужно знать о ней больше, – сказал он, не глядя на друга, разглядывая трещинку в лаковом покрытии столика. – Не официальную биографию, которую составил ее отец. А настоящее. Чем она жила до этого. Что читала. Чего боялась. Что любила.
—Джин, – в голосе Со Ина впервые за многие годы прозвучало не формальное обращение, а имя, и в нем была тревога. – Это риск. Если евнух заподозрит твой интерес…
—Он уже заподозрил, – перебил Ли Джин, наконец поднимая глаза. В них горел странный, беспокойный огонь. – Я сегодня дал слабину. Теперь отступать поздно. Нужно знать врага во всех его проявлениях. Даже в самом… обманчивом.
Со Ин молча кивнул. Но в его обычно непроницаемом взгляде Ли Джин прочел не просто неодобрение, а настоящую тревогу. Его друг, его тень, его щит – увидел первую, опаснейшую трещину в броне. И испугался за него.
Оставшись один, Ли Джин подошел к окну, распахнул его, впуская ночную прохладу. Где-то там, в западном крыле, в отведенных ей роскошных и безличных покоях, сидела девушка, чьи слова выжгли в его душе дыру. Он все еще ненавидел ее. Он должен был её ненавидеть.
Но теперь эта ненависть была отравлена. Каплей сомнения. Каплей невольного сострадания. Каплей того, что очень, очень опасно походило на интерес.
Он сжал кулаки так, что кости затрещали. Нет, он не позволит этому сломать себя. Он должен обратить это в оружие. Все, что могло его ослабить, должно было быть взято под контроль, изучено и использовано. Даже эта предательская, непрошенная жалость. Даже это щемящее чувство, что они с ней – узники одной и той же золоченой клетки.
Он смотрел в темноту, где уже ярко горели холодные, далекие звезды. Алые узы брака, навязанные ему, все еще душили, врезаясь в плоть. Но теперь он начинал смутно чувствовать, что эти же шелковые путы, возможно, туго опутали и ее. И что, быть может, именно в этом и заключалась самая жестокая часть плана его врагов – заставить его самого стать палачом для того, кто был так же несвободен, как и он.
***
Покои Вдовствующей королевы после захода солнца превращались в святилище тишины и запахов. Аромат выдержанного сандала, который тлел в бронзовой жаровне круглые сутки, смешивался с более тонкими нотами – сушеными лепестками пиона, растертыми в пудру, и едва уловимым запахом камфары, которую добавляли в мазь для ее старых, ноющих суставов. Свет исходил не от открытого огня, а от массивных ламп из молочного кварца, рассеивающих мягкий свет, в котором сглаживались морщины и таяли тени.
Пак Ми Хи не спала. Она редко спала больше четырех часов. Сон был уступкой слабости, а слабость в ее положении была смертельным грехом. Она сидела на своем возвышении у окна, но теперь окно было закрыто резными ставнями из черного дерева. Перед ней на низком столике из яшмы лежали не отчеты и не государственные бумаги, а набор изящных инструментов и несколько кусочков необработанного нефрита разного оттенка – от молочно-белого до темного, почти черного, с прожилками изумрудного цвета.
Ее руки, несмотря на возраст и тонкую, пергаментную кожу, пронизанную синими жилками, были удивительно ловкими. Длинные, узкие пальцы с ногтями, покрытыми не золотом сегодня, а прозрачным лаком, двигались с невероятной точностью. Она взяла небольшой алмазный резец и, не глядя на свои действия, принялась наносить едва заметные штрихи на поверхность светло-зеленого камня. Это была ее тайная страсть, ее способ медитации и одновременно – анализа. Каждый камень был подобен человеку при дворе. Его нужно было изучить, понять внутренние трещины, скрытые включения, потенциал. И затем – либо отполировать до зеркального блеска, либо, обнаружив скрытый изъян, расколоть.
В комнате, кроме нее, была только одна служанка – немолодая женщина по имени Ана, которая служила ей больше пятидесяти лет, с тех пор как Ми Хи была простой наложницей. Ана была немой от рождения, ее язык был вырезан в наказание за какую-то давнюю, уже забытую провинность еще при предыдущем короле. Теперь она была идеальной служанкой: всевидящей, всеслышащей и абсолютно безгласной. Она сидела в углу, недвижимая, как еще один предмет мебели, и чистила кисти для макияжа своей госпожи в фарфоровой чаше с розовой водой.
– Он проявил к ней интерес, – тихо произнесла Ми Хи, не отрываясь от работы. Ее голос в ночной тишине звучал особенно отчетливо, сухо, как шелест падающих листьев. – Защитил ее. Слабо, неумело, но защитил. От Кима.
Ана не ответила, лишь слегка наклонила голову, показывая, что слышит. Ее пальцы продолжали свое монотонное движение.
– Глупо, – продолжила королева-вдова. Алмазный резец издал тонкий, скрежещущий звук, снимая крошечную стружку с нефрита. – Сентиментальность – это болезнь, которая погубила его отца. Тот тоже вначале пытался быть… человечным. Смотреть на женщин как на людей, а не как на сосуды или инструменты. – На ее губах, тонких и бледных, без следов краски, появилось нечто вроде усмешки. – Он умер, захлебнувшись кровью и рвотой, а его любимая наложница повесилась в соседней комнате. Человечность в этих стенах – роскошь, которую никто не может себе позволить.
Она положила резец, взяла кусок замши и начала полировать прочерченную линию. Движения были медленными, почти ласковыми.
– Но это и… интересно. Предсказуемо, но интересно. Девушка, кажется, не так проста, как рассчитывал Ким. Она не плачет, не жалуется. Она… печалится. И эта печаль – более опасное оружие, чем истерика. Она ранит. Вызывает сострадание. А сострадание – первая ступень к слабости.
Она отложила камень, взяла другой, более темный, с внутренним изъяном – мутным пятном в глубине. Она повертела его в пальцах, изучая при свете ламп.
– Ким видит в ней глину. Податливую, мягкую. Я же вижу в ней речную гальку. Гладкую снаружи от долгой полировки чужими руками, но твердую внутри. Ее нужно или раздавить сразу, пока она не стала жерновом, или… – она замолчала, прищурившись. – Или использовать ее твердость, чтобы разбить что-то другое.
В дверь постучали – три четких, но почтительных удара. Ана мгновенно встала и бесшумно скользнула к портьере.
– Войди, – сказала Ми Хи, не оборачиваясь.
В комнату вошел не евнух Ким, а мужчина лет сорока пяти, одетый в темный, простой халат без каких-либо знаков отличия. Его лицо было невзрачным, а походка бесшумной. Это был Ли Сан, главный лекарь дворца и, что более важно, личный врач и доверенное лицо вдовствующей королевы. Он был единственным мужчиной, кроме евнухов, имевшим практически неограниченный доступ в ее покои в любое время суток.
– Ваше Величество, – он поклонился, не опускаясь на колени, – вы звали.
– Подойди, Сан. Посмотри на эту работу.
Лекарь приблизился, его внимательные глаза скользнули по разложенным на столике инструментам и камням, а затем пристально остановились на лице своей повелительницы. Он искал признаки усталости, боли, немощи. Не нашел.
– Вы продолжаете совершенствовать свое искусство, – заметил он нейтрально.
– Искусство – это понимание материала, – отозвалась она, снова взяв в руки светлый нефрит. – И понимание, когда материал готов к тому, чтобы его сломали. Принес ли ты то, о чем я просила?
Лекарь кивнул, достал из складок своего халата небольшой флакон из темного стекла с серебряной пробкой. Он был размером с мизинец.
– Настойка мандрагоры и корня дикого женьшеня, смешанная с экстрактом растения, которое привозят с южных островов, – его голос был профессионально-ровным. – Три капли в вино или чай вызывают… повышенную восприимчивость. Эмоциональную открытость. Ослабление воли. Эффект длится несколько часов. Безвредно при редком применении.
– А при частом?
– При частом… ведет к эмоциональной зависимости от источника, который ассоциируется с моментом приема. К смущению ума. К жажде повторения состояния легкости.
Ми Хи протянула руку, и лекарь почтительно вложил флакон в ее ладонь. Она ощутила прохладу стекла.
– И другая? Та, что для сна?
Сан достал второй флакон, чуть больше, из непрозрачного белого фарфора.
– Концентрированный отвар мака, валерианы и еще нескольких компонентов. Густой, почти без вкуса и запаха. Половина ложки обеспечивает глубокий, беспробудный сон на шесть-восемь часов. Без сновидений. Без побудок.
– И если дать двойную дозу?
Лекарь на мгновение замер, его глаза встретились с ее взглядом. В воздухе повисло невысказанное.
– Тогда сон может стать вечным, Ваше Величество. Без мучений. Без судорог. Как угасание пламени.
Ми Хи медленно кивнула, ее пальцы сомкнулись вокруг фарфорового флакона. Она положила оба сосуда рядом с необработанными камнями. Они выглядели так же естественно, как и они.
– Спасибо, Сан. Ты можешь идти. И помни – твои знания принадлежат только этому флакону и только этим стенам.
– Всегда, Ваше Величество, – он поклонился глубже и так же бесшумно удалился.
Когда дверь закрылась, Ми Хи взяла флакон с белым фарфором и поднесла его к свету лампы. Молочно-белая поверхность отражала мягкое сияние.
– Инструменты, – прошептала она. – Все в этом мире – инструменты. Люди. Чувства. Даже сама смерть. Вопрос лишь в том, в чьих руках они находятся и насколько умело эти руки умеют действовать.
Она снова взглянула на нефриты. Ее мысли вернулись к внуку и его юной жене. Сцена, которую ей описали в саду, была показательной. Девушка обладала интуитивной психологической гибкостью. Она не ломалась, а гнулась. И своим тихим состраданием, своей печалью она начала будить в Ли Джине то, что Ми Хи стремилась в нем подавить: чувство ответственности, инстинкт защитника. Это было опаснее открытого бунта. Бунт можно сломить силой. А как сломить тихое, растущее чувство долга перед другим заложником этой игры?
Возможно, нужно было не ломать эту связь, а перенаправить ее. Контролировать ее рост. Сделать так, чтобы именно она, вдовствующая королева, стала тем, кто тонко, незаметно подсказывает Ли Джину, как обращаться с женой. Как завоевать ее доверие. А затем, когда доверие будет установлено, использовать этот канал в обратную сторону.
Или… другой вариант. Ускорить. С помощью содержимого темного флакона. Устроить так, чтобы их уединение было не холодным и отталкивающим, а… теплым. Эмоционально заряженным. Чтобы между ними вспыхнула не страсть – страсть ненадежна, – а нечто более глубокое и разрушительное: взаимная зависимость двух глубоко травмированных душ. А затем контролировать эту зависимость, дергая за ниточки то одного, то другого.
Она представляла себе это, и в ее уме, остром и безжалостном, выстраивались целые комбинации. Свадьба была лишь первым ходом. Теперь начиналась настоящая партия. И фигуры на доске были не деревянными, а живыми, с их страхами, надеждами и болью.
Ана снова подошла, поставив перед ней чашку с травяным отваром – смесью для улучшения памяти и ясности ума. Ми Хи отпила маленький глоток. Горечь разлилась по языку, бодрящая и знакомая.
– Завтра, – сказала она, глядя на немую служанку, – я приглашу молодую королеву на чай. Только мы вдвоём. Прикажи приготовить покой у Золотого ручья. И… достань тот сервиз, что подарили мне китайские послы. Тот, с драконами из синего стекла.
Ана кивнула и склонилась в поклоне.
– И, Ана, – голос Ми Хи стал еще тише, – присмотрись к ней повнимательнее. К тому, как она держит чашку. Куда смотрит. Что говорит, а что умалчивает. Малейшая дрожь, малейшая скованность. Девушка, которая способна утешить плачущую служанку, способна и на большую ложь. Но тело… тело всегда выдает. Особенно когда думаешь, что на тебя никто не смотрит.
Она отпила еще глоток отвара, поставила чашку и снова взяла в руки резец. Но теперь она смотрела не на камень, а в пространство перед собой, где в воображении уже разворачивались будущие сцены.
Ли Джин считал, что начал свою тайную войну. Евнух Ким полагал, что держит все нити в своих руках. А она, Пак Ми Хи, сидела в самом сердце дворца, окруженная тишиной, запахами и холодной красотой нефрита. Она была старше их всех. Мудрее. И беспощаднее.
Она видела не отдельные ходы, а всю доску целиком. Видела, как пешки превращаются в ферзей, а короли становятся пешками. И знала, что в этой игре проигрывает тот, кто позволяет чувствам – будь то ненависть, жалость или любовь – затмить холодный расчет.
А расчет подсказывал, что хрупкий союз двух отверженных душ может стать самым мощным оружием. Или самой уязвимой точкой. И она намеревалась проверить это лично. Завтра, за чаем с синими драконами, в окружении осеннего сада и незримых, но остро чувствующих слуг. Первый шаг к тому, чтобы либо отполировать эту новую фигуру на своей доске, либо, обнаружив скрытый изъян, расколоть ее вдребезги.
Она снова взяла в руки темный нефрит с мутным пятном. Алмазный резец замер над его поверхностью.
***
Покои, выделенные королеве Ми Ён в западном крыле, были огромны, безупречны и так же бездушны, как выставочный зал в музее. Резные панели из красного сандала, ширмы с вышитыми журавлями, лакированная мебель, инкрустированная перламутром – все кричало о богатстве и статусе, но ни один предмет не был выбран ею. Даже воздух пах не так, как в ее доме, – здесь витал аромат чужих благовоний, навязчивый и стерильный.
Она стояла посреди этой пустыни из роскоши, ощущая, как тяжелый свадебный хварот, который с нее еще не сняли слуги, давит на плечи. Ее лицо, покрытое слоем грима, начинало зудеть. Но снять его без помощи было нельзя – прическа и макияж были частью церемониала, который, казалось, никогда не закончится.
Наконец, вошли служанки – не ее личные девушки из дома, а дворцовые, с бесстрастными лицами и скользящей, бесшумной походкой. Они молча, с эффективностью машины, освободили ее от многослойных одежд. Каждый слой шелка, падая на пол, словно снимал с нее часть ее прежней жизни – Ким Ми Ён, младшую дочь советника, любительницу поэзии и тихих садовых бесед. Оставалась только королева, голая и уязвимая под оценивающими взглядами чужих женщин.
Одна из них подала ей легкий шелковый халат. Ми Ён автоматически накинула его, чувствуя, как прохлада воздуха касается кожи, по которой еще бегали мурашки от страха и стыда. Стыда не за наготу, а за всю эту ситуацию. За то, что ее продали, как редкую вазу. За то, что сейчас, в соседней комнате, ждал мужчина, который ненавидел ее всей душой и видел в ней лишь орудие своих врагов.
Ей помыли лицо в фарфоровой чаше с розовой водой, смывая белила и румяна. Вода в чаше стала мутно-розовой. Она смотрела на свое отражение в полированном бронзовом зеркале – бледное, почти прозрачное лицо с огромными темными глазами, в которых стоял немой ужас. Ей было шестнадцать. До вчерашнего дня главной трагедией в ее жизни была смерть любимой собаки. А сегодня она стала женой короля, который смотрел на нее, как на что-то, что прилипло к его ботинку.
Ее проводили в спальную комнату, указали на ложе. Она легла, как труп, укрывшись до подбородка тонким покрывалом. Шелк был холодным. Вся комната была холодной, несмотря на жару за окнами.
А затем вошел он.
Она не видела его лица в полумраке, но чувствовала его присутствие – тяжелое, гнетущее, наполненное яростью. Его прикосновения не были прикосновениями мужа. Это было насилие. Холодное, механическое, лишенное даже гнева страсти, только гнев отвращения. Ее тело напряглось, стало деревянным, не своим. Боль была острой, унизительной. Она впилась пальцами в шелк под собой, стиснула зубы, чтобы не закричать. Не плакать. Она не даст им этого удовольствия – ни ему, ни тем, кто стоял за этой ширмой. Ее мать, сестра… их безопасность зависела от ее безупречного поведения. От того, чтобы быть тихой, покорной, удобной.
Когда он закончил и отстранился, повернувшись к ней спиной, она лежала, глядя в темноту балдахина, и чувствовала, как по ее щекам, вопреки всем усилиям, катятся горячие, молчаливые слезы. Они смешивались с потом на висках и впитывались в подушку. Она думала не о боли, не об унижении. Она думала о строках из стихотворения, которое читала накануне свадьбы:
«Луна в пруду разбита на осколки,
И каждый осколок – отдельная тоска…»
Теперь она сама была этим прудом. А он, этот холодный, яростный мужчина, был камнем, который ее разбил.
На следующее утро началась новая жизнь. Жизнь по расписанию. Ее будили на рассвете, облачали в церемониальные одежды, которые весили как доспехи. Она учила бесконечные списки имен, титулов, дворцовых ритуалов. Ее учили, как сидеть, как ходить, как держать чашку, как улыбаться – улыбкой, которая не должна достигать глаз. Ее окружали придворные дамы, чьи лица были масками учтивости, а в глазах читалось любопытство, зависть или презрение к «выскочке», дочери евнухова брата.
Единственным светлым пятном была служанка Окчжи, девочка из деревни, которая так же тосковала по дому и иногда плакала по ночам. В ней Ми Ён видела отражение своей беспомощности. И когда она утешала Окчжи в саду, передавая ей свой гребень, это был не расчетливый жест. Это был порыв. Жажда хоть на мгновение почувствовать себя человеком, а не вещью. Произнести слова утешения, которые она сама так отчаянно хотела услышать.
И тогда она увидела его. Из-за дерева. Он стоял, замерший, и смотрел на нее. Не с гневом. С чем-то другим – с удивлением, с растерянностью. Их взгляды встретились всего на долю секунды, прежде чем она, испугавшись, опустила глаза. Но этот взгляд запал ей в душу. В нем не было привычной ненависти. В нем было… узнавание.
С тех пор что-то изменилось. Он не стал добрее. На официальных приемах он был так же холоден и отстранен. Но иногда, украдкой, она ловила на себе его взгляд. Не оценивающий, не враждебный. Изучающий. Задумчивый.
А потом был тот чай с Вдовствующей королевой. Старая госпожа с лицом из слоновой кости и глазами, видевшими насквозь. Разговор был легким, о погоде, о поэзии, о саде. Но за каждым словом чувствовался подтекст, каждая фраза была ловушкой. Ми Ён отвечала с кротостью, но осторожно, как по тонкому льду. Она чувствовала, как взгляд старухи сканирует ее, ищет трещины. И когда королева-вдова спросила: «А ты, дитя, не скучаешь по дому?», Ми Ён, вместо того чтобы расплакаться или заверить в своей преданности новому дому, просто тихо ответила: «Дом – это там, где долг, Ваше Величество. А мой долг здесь».
Она увидела, как в глазах старой женщины мелькнуло что-то вроде уважения. Или это была лишь игра света?
Ночами она не спала. Лежала в своей огромной, пустой постели и слушала звуки ночного дворца. Ей снились кошмары: отец, отдающий ее с руки на руку, как мешок с рисом; лицо мужа, искаженное отвращением; глаза евнуха Кима, холодные и всевидящие. Она просыпалась в холодном поту, сердце колотилось, как птица в клетке.
Однажды ночью, через неделю после того чая, она не выдержала. Тихими шагами, босиком, в одном нижнем халате, она выскользнула из своих покоев. Стража у дверей, присланная евнухом, кивнула ей – у нее было право передвигаться по женской половине. Она прошла по безлюдным коридорам к маленькой, забытой всеми молельне, что находилась в дальней части крыла. Там, перед скромным алтарем с изображением Будды, она опустилась на колени на холодный каменный пол.
Она не молилась о счастье или любви. Она молилась о силе. О силе вынести это. О силе не сломаться. О силе защитить мать и сестру, чьи жизни были заложниками ее поведения. Слезы текли по ее лицу беззвучно, смешиваясь с пылью на полу. Она плакала от одиночества, от страха, от тоски по простой, понятной жизни, которая была украдена у нее.
– Тебе тоже не спится?
Голос заставил ее вздрогнуть и обернуться. В дверном проеме, освещенный тусклым светом ночной лампады, стоял он. Король Ли Джин. Он был в простом темном халате, волосы растрепаны, на лице – следы той же усталости и бессонницы, что и у нее. В руках он держал свернутый свиток.
Ми Ён мгновенно опустила голову, делая поклон, но сердце ее бешено колотилось. Что он здесь делает? Как он нашел это место?
– Встань, – сказал он, и его голос был не резким, а… усталым. – Здесь не тронный зал.
Она медленно поднялась, не решаясь поднять на него глаза. Она чувствовала его взгляд на себе, на своих босых ногах, на лице, размытом слезами.
– Я… я не могла уснуть, Ваше Величество. Прошу прощения, если помешала…
– Ты не помешала, – перебил он ее, войдя в молельню. Он был так близко, что она почувствовала запах – не парфюма или благовоний, а просто запах чистого тела, мыла и чего-то еще, горького, как полынь. – Мне тоже не спится. Это место… моего детства. Я прятался здесь от учителей.
Он говорил это не как король, а просто как человек. Это было так неожиданно, что Ми Ён невольно подняла на него глаза. В полумраке его черты казались мягче, моложе. В его глазах не было той ледяной стены, что обычно отделяла его от мира.
– Вы… прятались? – не удержалась она.
Уголки его губ дрогнули, это могло бы стать улыбкой, если бы не глубокая печаль в глазах.
– Да. От уроков каллиграфии. Я ненавидел сидеть смирно. – Он вздохнул и посмотрел на свиток в своих руках. – А теперь… теперь я бы отдал все, чтобы вернуть те дни. Когда самым страшным был гнев учителя, а не…
Он не договорил. Но она поняла. «А не предательство тех, кто должен быть предан».
Они стояли в тишине, нарушаемой лишь треском ночника. Напряжение между ними было иным – не враждебным, а трепетным, неловким, как между двумя незнакомцами, случайно оказавшимися в одной лодке посреди шторма.
– Ты читала Ли Бо? – вдруг спросил он, разворачивая свиток. Это были стихи.
– Я… немного, Ваше Величество. «Вздохи на яшмовых ступенях»…
– «Роса уже густа, бела…» – тихо продолжил он. И затем, не глядя на нее: – Ты сказала тогда в саду… про золотые стены тюрьмы. Это из какого стиха?
Ми Ён сглотнула. Ее горло пересохло.
– Это… это не цитата, Ваше Величество. Это просто… что я чувствовала.
Он посмотрел на нее, и в его взгляде было что-то неуловимое. Что-то сломленное и в то же время живое.
– Я тоже так чувствую, – прошептал он так тихо, что она едва расслышала. – Каждый день. Каждый час.
И в этот момент что-то в ней дрогнуло и рухнуло. Стена страха, воздвигнутая между ними, дала трещину. Перед ней был не король, не враг, не насильник. Перед ней был такой же испуганный, загнанный в угол юноша, как и она. Может быть, даже более загнанный, потому что на его плечах лежала ответственность за целое королевство, а он не имел над ним никакой власти.
Не думая, движимая внезапным порывом сострадания, которое было сильнее страха, она шагнула к нему и очень осторожно, почти не касаясь, положила свою руку на его руку, сжимавшую свиток. Его кожа была горячей.
– Тогда, может быть… – ее голос дрожал, но слова шли от самого сердца, – может быть, мы не должны быть тюремщиками друг для друга?
Он вздрогнул от ее прикосновения, как от ожога. Его глаза, широко раскрытые, впились в нее. Не с гневом. С изумлением. С болезненной, жадной надеждой, которую он, казалось, сам боялся признать.
Он не оттолкнул ее. Он стоял, замерший, и смотрел, как будто видел ее впервые. Видел не дочь Кима, не пешку, а девушку с заплаканным лицом и глазами, полными той же боли, что и в его душе.
Очень медленно, как будто боясь спугнуть, он повернул свою руку и сомкнул пальцы вокруг ее ладони. Его рука была большой, сильной, мозолистой от меча и лука. Ее рука – крошечной, холодной и дрожащей.
– Ми Ён… – произнес он ее имя впервые. Не «королева», не «ты». Ее имя. Оно прозвучало на его устах странно, непривычно, но без ненависти.
Она не ответила. Она просто стояла, чувствуя, как тепло его руки медленно проникает в ее ледяные пальцы, растекается по запястью. Это было первое человеческое прикосновение, которое она ощущала с тех пор, как вошла в этот дворец. Прикосновение, не несущее боли, унижения или расчета. Просто… прикосновение.
Они простояли так, может быть, минуту, а может, целую вечность, слушая биение своих сердец в тишине ночной молельни. Мир за ее стенами, со всеми его интригами, ненавистью и опасностями, на мгновение отступил, оставив только их двоих – двух потерянных, напуганных детей в позолоченной клетке, нашедших, к своему собственному ужасу и изумлению, что они не совсем одни.
Потом он тихо, без слов, отпустил ее руку. Его лицо снова стало закрытым, но не таким жестким, как прежде.
– Тебе стоит вернуться, – сказал он глухо. – Холодно.
– А вы? – вырвалось у нее.
– Я… мне нужно подумать.
Он повернулся и вышел, оставив ее одну в молельне с трепещущим пламенем лампады и со свитком Ли Бо, который он забыл на полу.
Ми Ён подняла свиток, прижала его к груди. На щеках снова были слезы, но теперь они были другими. Не от отчаяния. От странного, болезненного облегчения. От понимания, что враг, которого она так боялась, возможно, не враг вовсе. А такой же пленник.
И это открытие было страшнее любого кошмара. Потому что оно означало, что ее сердце, которое она заковала в лед для выживания, снова начало чувствовать. А чувства в этих стенах были смертельно опасны. Для них обоих.
***
Главный придворный евнух Ким редко спускался в подвалы лично. Обычно достаточно было послать Пёна или кивнуть одному из своих безгласных тюремщиков. Но сегодняшний случай требовал его личного внимания. Требовал показательного действа.
Под дворцом Кёнбоккун, под каменными плитами парадных залов и ароматными кедровыми полами жилых покоев, существовал другой мир. Сырой, холодный, пропитанный запахами плесени, ржавого железа и чего-то сладковато-гнилостного, что въедалось в одежду и кожу. Воздух здесь был густым и неподвижным, лишь изредка его шевелило пламя факелов, вбитых в стены. Здесь не было окон, только низкие, сводчатые потолки, с которых капала вода, и бесконечные коридоры, ведущие в каменные мешки.
Именно в одном из таких мешков, в помещении, которое с натяжкой можно было назвать «местом для допросов», и находился сейчас евнух Ким. Он сидел на простом деревянном табурете, принесенном специально для него, в то время как его люди – двое коренастых, молчаливых евнухов с тупыми, жестокими лицами – держали у стены тщедушного мужчину в порванной одежде чиновника низшего ранга. Это был писарь из Министерства общественных работ, тот самый, что осмелился в частной беседе усомниться в смете по дамбе в Чолле. Усмехнулся, сказав, что «и половины указанной суммы хватит, если не красть».
Сейчас на его лице не было усмешек. Оно было залито кровью из разбитого носа, один глаз заплыл, губы тряслись.
– Господин… господин Ким… клянусь… я никому… – лепетал он, захлебываясь кровью и страхом.
Евнух Ким молчал. Он медленно снимал с пальцев массивные кольца – нефритовое, золотое с рубином – и аккуратно складывал их в бархатный мешочек, который держал Пён. Его движения были неторопливыми, ритуальными. Затем он вытянул перед собой свои руки, тщательно рассмотрел их при свете факела. Руки были ухоженными, с длинными пальцами и аккуратными ногтями, но на костяшках виднелись старые, белесые шрамы – память о временах, когда ему приходилось делать грязную работу самому.
– Ты знаешь, – наконец заговорил евнух, и его голос, мягкий и плавный, казался в этой обстановке еще более противоестественным, чем крики, – я ценю прямолинейность. Искренность. Но есть искренность глупца, а есть – искренность преданного слуги. Твоя, увы, первая.
Он вздохнул, с сожалением покачав головой.
– Воровать можно. Это естественно. Как дыхание. Но говорить об этом вслух… – он цокнул языком. – Это как выплеснуть ночной горшок на парадной лестнице. Не эстетично. И заражает воздух.
Писарь зарыдал, бессильно обмякнув в руках державших его людей. По внутренней стороне его бедер потекли струйки мочи, смешиваясь с грязью на полу.
– Пожалуйста… у меня семья… дети…
– Именно поэтому мы здесь и беседуем, а не твое семейство, – мягко возразил Ким. – Я человек милосердный. Но милосердие должно быть заслужено. Информацией.
Он жестом подозвал одного из своих людей. Тот подошел, держа в руках не плеть и не щипцы, а простой, толстый бамбуковый пестик для толчения риса, обточенный до идеальной гладкости.
– Ты работал со сметами, – продолжил евнух, глядя на пестик, как художник на кисть. – У тебя острый глаз. И, как я слышал, хорошая память. Мне нужны имена. Имена всех, кто в твоем министерстве в последнее время проявлял… излишний интерес. Копался в старых архивах. Задавал неудобные вопросы. Особенно о периоде правления покойного короля. Особенно о… лекарских назначениях и поставках в дворцовую аптеку.
Глаза писаря расширились от нового ужаса. Он понял, о чем его спрашивают. Это было уже не воровство. Это было государственной изменой.
– Я… я не…
– Подумай, – перебил его Ким. Он взял пестик из рук слуги, взвесил его в ладони. – Ты можешь сохранить свои пальцы. Свои глаза. Свое горло. Ты можешь даже получить мешочек серебра и новое место в провинции, подальше от столицы. Все, что мне нужно, – это несколько имен. И твоя… искренность.
Он медленно встал и подошел к писарю вплотную. Запах страха, мочи и пота ударил ему в нос. Евнух поморщился, но не отступил.
– Видишь ли, – прошептал он так тихо, что услышать мог только писарь и, возможно, всевидящий Пён, – когда король начинает рыться в прошлом, это значит, он ищет оружие. Оружие против меня. А я не могу этого допустить. Я стар. Мне нужен покой. А покой строится на уверенности, что все нити в моих руках. Даже те, что тянутся из могил.
Он прикоснулся холодным, гладким концом пестика к окровавленной щеке писаря. Тот вздрогнул, как от удара током.
– Итак, – голос евнуха снова стал обыденным, деловым. – Имена.
Молчание длилось недолго. Под давлением холодного бамбука, прижатого теперь к его здоровому глазу, писарь начал выкрикивать имена. Сначала одно, потом второе, третье… Его голос срывался на визг. Он выдал коллег, начальников, случайных знакомых. Он плел паутину страха, чтобы спасти свою шкуру.
Евнух Ким слушал, кивая, временами уточняя детали. Пён стоял рядом с восковой дощечкой и стилом, бесстрастно записывая все, что слышал. Когда поток иссяк, и писарь, обессилев, просто хрипел, Ким отступил.
– Хорошо, – произнес он. – Очень хорошо. Ты заслужил свое милосердие.
Он повернулся, чтобы уйти, но на полпути к двери остановился, как будто что-то вспомнив.
– Ах да, – сказал он, не оборачиваясь. – Но искренность должна быть полной. Чтобы не было соблазна взять серебро, а потом… раскаяться. Пойти к исповеди. Или к не тем людям.
Он кивнул одному из своих людей. Тот, не меняясь в лице, взял пестик, который оставил Ким, и, прежде чем писарь успел понять, что происходит, с силой, выработанной годами подобной работы, вставил ему в рот.
Хруст костей и зубов, приглушенный мясистый звук и затем – тихий, пузырящийся хрип. Писарь не закричал. Он не мог. Его челюсть была раздроблена, язык и мягкие ткани превращены в кровавое месиво. Он издавал лишь булькающие, животные звуки, скрючиваясь на полу в немой агонии.
Евнух Ким, уже стоя в дверях, обернулся и бросил последний взгляд. Его лицо оставалось абсолютно спокойным, даже слегка задумчивым.
– Вылечите его, – распорядился он своим людям. – Насколько возможно. Затем выдайте ему то серебро и отправьте с караваном на крайнюю северную заставу. Пусть служит там писцом. Если выживет.
Он вышел в коридор, и Пён бесшумно последовал за ним, унося восковую табличку с именами. Они шли молча, поднимаясь по крутой каменной лестнице обратно в человеческий мир. Только когда они вошли в потайной проход, ведущий прямо в личные покои евнуха, Ким заговорил.
– Проверь все эти имена. Особенно того архивного смотрителя, о котором он упомянул. Если король уже добрался туда… нам нужно будет подсунуть ему то, что мы хотим, чтобы он нашел. И убрать то, что находиться там не должно.
– Слушаюсь, – отозвался Пён. – А насчет писаря? Его могут опознать.
– Кто опознает урода без языка и с лицом калеки на краю света? – равнодушно спросил Ким, смахивая невидимую пылинку с рукава. – К тому же, он теперь наш самый преданный слуга. Страх – лучший цемент для лояльности. Лучше золота. Золото можно украсть. А страх… страх живет в костях.
Они вошли в знакомую роскошь его апартаментов. Воздух, наполненный благовониями, был глотком рая после подвальной вони. Ким тяжело опустился на подушки, протянул руку к чаше с отваром женьшеня. Его пальцы слегка дрожали – не от отвращения или волнения, а от прилива адреналина, от старого, почти забытого азарта. Он все еще мог это делать. Все еще мог смотреть в глаза чистому, неметафорическому ужасу и не моргнуть.
– А что с нашим молодым королем? – спросил он, отпив глоток. – И его… супругой?
– Король провел ночь в своих покоях один, – доложил Пён. – Утром был мрачен, но на совете держался ровно. Королева… принимала Вдовствующую королеву на чайной церемонии в саду у Золотого ручья. Беседа длилась около часа.
Ким нахмурился. Старая лиса действовала быстро. Слишком быстро.
– Содержание?
– Неизвестно. Они были достаточно далеко от слуг. Но по выражению лица королевы, когда она возвращалась… она казалась задумчивой. Не напуганной. Задумчивой.
– Интересно, – протянул евнух. – Очень интересно. Наша госпожа Ми Хи решила взять инициативу в свои руки. Она видит в девушке не просто глину, а… что-то еще. – Он задумался, постукивая ногтем по фарфоровой чашке. – Возможно, нам стоит ускорить наш собственный план с лейтенантом Каном. Молодой король ищет союзников? Дадим ему союзника. Такого, который будет нашим.
– Лейтенант уже в долговой яме по уши, – сказал Пён. – Его кредиторы – наши люди. Он будет согласен на все. Но ему нужен предлог, чтобы сблизиться с королем.
– Предлог найдется, – отмахнулся Ким. – Героическая случайность на тренировке стражи. Спасение королевской охоты от дикого кабана. Что-нибудь в этом духе. Главное – сделать это естественно. И… – он сделал паузу, и в его глазах засверкал холодный, расчетливый блеск, – подготовить еще один маленький сюрприз.
Он подозвал Пёна ближе и понизил голос до шепота, хотя в комнате, кроме них, никого не было.
– В покоях молодой королевы есть служанка. Та самая, плакса, которую она утешала. Окчжи. Ее младший брат учится в школе писцов. Талантливый мальчик. Большие надежды. – Он позволил этой информации повиснуть в воздухе. – Я думаю, брату следует предложить… стипендию. От неизвестного благодетеля. Чтобы он мог продолжить учебу. Самую лучшую. При условии, разумеется, что его сестра будет столь же усердна на своей службе и будет сообщать нам о… настроениях своей госпожи. О каждой ее слезе. Каждой улыбке. Каждой прочитанной книге.
Пён кивнул, его тонкое лицо оставалось невозмутимым. Еще одна ниточка в паутине. Еще один заложник.
– А если девушка откажется? Или доложит королеве?
– Тогда братец, к сожалению, поскользнется на мокром полу в школе и сломает пишущую руку. Навсегда, – равнодушно констатировал Ким. – Но я думаю, она не откажется. Она уже показала, что умеет сострадать. А сострадательные люди – самые управляемые. Ими движет чувство вины. А вину можно культивировать, как редкий цветок.
Он откинулся на подушки, закрыв глаза. В ушах еще стояло бульканье и хруст из подвала. Это был успокаивающий звук. Звук власти. Власти не над бумагами и титулами, а над плотью и страхом.
– Уходи, Пён. И пришли мне Мари. Моя голова раскалывается.
Пён молча удалился. Через несколько минут в комнату вошла молодая женщина лет двадцати пяти. Она была одета не как служанка, а в простой, но дорогой халат из шелка цвета слоновой кости. Ее лицо было красивым, но лишенным выражения, глаза – пустыми, как два куска черного обсидиана. Это была Мари, его личная массажистка и одна из немногих, кто имел право прикасаться к нему. Она подошла и, не дожидаясь приказа, встала на колени за его спиной. Ее пальцы, сильные и умелые, погрузились в мышцы его шеи и плеч.
Евнух Ким расслабился под ее прикосновениями. Его мысли текли плавно, как масло. Он видел всю картину. Король, запутавшийся в сетях жалости к своей жене и растущей ненависти к ним. Королева, зажатая между долгом, страхом за семью и странной симпатией к мужу, который ее презирает. Вдовствующая королева, строящая свои собственные комбинации. И он, паук в центре, сплетающий новые нити, чтобы удержать всех на своих местах.
Он открыл глаза и посмотрел на свои руки, лежащие на коленях. Чистые, ухоженные. На них не было крови. Кровь осталась внизу, в подвале, на руках его людей. Он лишь отдавал приказы. Лишь направлял течение событий.
Но иногда, очень редко, в самые тихие ночи, ему снились иные руки. Руки мальчика, которого когда-то вели в белые комнаты дворцовых врачей. Руки, сжатые в кулаки от ужаса и боли. И голос, который кричал, но крика никто не слышал, потому что рот был зажат тряпкой.
Тогда он просыпался в холодном поту, и лишь запах женьшеня и вид роскоши его комнат возвращали его в реальность. Реальность, где он был не жертвой, а хозяином. Где боль причиняли другие. Где страх был оружием, а не состоянием души.
Он глубоко вздохнул, заставляя образы рассеяться. Слабость была непозволительна. Даже в мыслях.
Мари наклонилась, ее дыхание коснулось его уха.
—Успокойся, господин, – прошептала она своим безжизненным голосом, который, однако, умел быть удивительно нежным. – Все под контролем. Все твои птицы в клетках.
Евнух Ким кивнул, снова закрывая глаза. Да. Все в клетках. И он держал ключи. Пока он держал ключи – он был королем в этом дворце больше, чем любой облаченный в парчу Ли на троне. А трон… трон был всего лишь самым большим и неудобным стулом в его коллекции.
И он намеревался сохранить это положение вещей. Ценой всего. Даже если для этого пришлось бы сломать еще не одну челюсть в подвалах или сломать жизнь еще одной наивной девушке, осмелившейся быть доброй в мире, где доброта была синонимом слабости.
***
Ночь после свадьбы и неделя наблюдений за новой королевой сформировали в Со Ине новое понимание ситуации. Это понимание было холодным, безжалостным и привело его в ту часть Ханяна, куда редко заглядывал даже свет фонарей – район глинобитных лачуг у северной стены, где царили запахи гниющей рыбы, человеческих отходов и отчаяния.
Он был одет не в мундир, а в поношенную темную куртку и штаны конюха, лицо скрывала широкая плетеная шляпа. Его меч был спрятан под грубой тканью, но другой инструмент – короткий, обоюдоострый кинжал с костяной рукоятью – висел у пояса на виду, как и положено простолюдину, которому есть что терять.
Его целью был не какой-то важный чиновник или шпион. Его целью был человек по имени Кук Тхэ, бывший солдат, а ныне ростовщик и сборщик долгов для одной из мелких гильдий, которая, как выяснил Со Ин через свои каналы, была ширмой для операций людей Пёна. Кук Тхэ был звеном. Небольшим, но важным. Он собирал информацию вместе с деньгами, выбивая долги из мелких торговцев, ремесленников и даже небогатых чиновников. И именно он недавно взял на карандаш семью одного из архивных писцов дворца – того самого, чье имя фигурировало в списке писаря из подвала евнуха.
Со Ин не был убийцей по призванию. Он был солдатом, телохранителем, стратегом. Но он понимал язык силы. И иногда этот язык требовал не предупреждений, а пунктуации. Точки, поставленной клинком.
Лачуга Кук Тхэ выделялась среди других лишь железной дверью и парой тусклых фонарей у входа. Возле двери сидел, ковыряя в зубах, тощий мальчишка-стражник. Со Ин приблизился, походка его была вразвалку, поза – расслабленной.
– Тхэ дома? – хрипло спросил он, голосом, скопированным у пьяных конюхов. – По делу. По долгу.
Мальчишка лениво осмотрел его с ног до головы, увидел кинжал и плюнул.
– Ждет. Только оружие оставь.
Со Ин фыркнул, но развязал ножны и швырнул кинжал к ногам мальчишки. Тот кивнул и отодвинул засов. Внутри пахло дешевым рисовым вином, жареным жиром и немытым телом. В единственной комнате, освещенной коптящей масляной лампой, за низким столиком сидел сам Кук Тхэ – мужчина лет сорока, с лицом, изборожденным шрамами и прожилками лопнувших капилляров. Рядом с ним дремала худая женщина, а в углу копошились двое детей.
– Ну? – грубо бросил Тхэ, не поднимая глаз от своей миски. – Кто и сколько должен?
– Не по долгам, – тихо сказал Со Ин, сбрасывая маску конюха. Его осанка выпрямилась, взгляд стал острым и холодным. – По памяти.
Кук Тхэ встрепенулся, его рука инстинктивно потянулась к ножу, лежавшему на столике. Но он замер, увидев глаза незваного гостя. Это были не глаза должника или коллеги. Это были глаза хищника, вышедшего на охоту.
– Кто ты? – прохрипел он, отодвигаясь.
– Тот, кто задает вопросы. Ты недавно взял под опеку семью писаря Пэка. Его сын учится в школе. Его жена больна. Ты предложил отсрочку долга. За какую цену?
Тхэ напрягся. Его глаза метнулись к двери, но Со Ин уже сделал шаг, блокируя путь. Движение было плавным, почти невесомым, но в нем чувствовалась смертоносная грация.
– Я… я просто ростовщик. Делаю бизнес. Иногда даю отсрочку под проценты…
– Не ври, – голос Со Ина был ледяным. – Ты работаешь на людей из дворца. Твоя гильдия – уши Пёна. Что ты хотел получить от Пэка? Какие бумаги? Какие имена?
Страх сменился наглостью. Тхэ, видимо, решил, что имеет дело с конкурентом или чьим-то наемником.
– А тебе-то что? Убирайся, пока цел. У меня связи. Сильные связи.
Со Ин вздохнул. Он надеялся обойтись без этого. Но время было на вес золота, а терпение Кук Тхэ было явно переоценено.
В следующее мгновение Тхэ даже не успел моргнуть. Со Ин оказался рядом, его рука, словно вывернутая пружина, сжала горло ростовщика, пригвоздив его к стене. Женщина вскрикнула, дети заплакали.
– Связи не помогут тебе, когда твоя глотка будет перерезана, – прошептал Со Ин прямо в его лицо. Запах перегара, пота и страха ударил ему в нос. – Последний шанс. Что ты должен был выудить у Пэка?
Тхэ, задыхаясь, выпученными глазами смотрел на убийцу. Он пытался говорить, но из его горла вырывался лишь хрип.
– Архив… – наконец выдавил он. – Записи… аптеки… времен старого короля… кто делал заказы… какие травы…
Бинго. Король Ли Джин уже начал свое расследование. И его враги знали об этом. Значит, им нужно было действовать быстрее.
– Спасибо, – тихо сказал Со Ин. И его вторая рука, державшая короткий клинок (еще один, спрятанный в рукаве), выполнила быструю, точную работу.
Не было драмы, криков, фонтанов крови. Просто глубокий, точный удар под ребра, направленный вверх, к сердцу. Кук Тхэ вздрогнул всем телом, его глаза округлились от удивления больше, чем от боли. Затем взгляд помутнел, тело обмякло. Со Ин мягко опустил его на пол, стараясь не шуметь.
Женщина сидела, открыв рот в беззвучном крике, прижимая к себе детей. Со Ин повернулся к ней. В его глазах не было ни злобы, ни угрозы, только холодная, абсолютная уверенность.
– Если ты или твои дети скажете кому-либо одно слово о том, что видели, – его голос был ровным, как поверхность замерзшего озера, – вас найдут. Всех. И это будет не так быстро и не так чисто. Твой муж был связан с опасными людьми. Теперь он свободен от долгов. Навсегда. Возьми детей и уезжай из города на рассвете. Вот. – Он швырнул на пол небольшой, но тяжелый мешочек – туда он положил часть своих личных сбережений. – На дорогу и на первое время. Забудь это лицо. Забудь эту ночь.
Он не стал ждать ответа. Вытерев клинок о одежду мертвеца, он вышел из лачуги. Мальчик-стражник все еще ковырял в зубах.
– Решили дела? – лениво спросил он.
– Решил, – отозвался Со Ин, поднимая с земли свой кинжал. – Навсегда.
Он растворился в темноте переулков, оставив за собой смерть и семью, обреченную на бегство. У него не было сомнений в правильности своего поступка. Кук Тхэ был раковой клеткой в организме города, слугой тех, кто душил его короля. Его смерть была необходимым вмешательством. Грязным, но необходимым.
Он вернулся во дворец не через главные ворота, а по старой, известной лишь ему и нескольким доверенным людям тропе – через водосток в восточной стене, мимо спящих стражей, которых он же и расставлял. Он сменил одежду, вымылся в бочке с ледяной водой в своей аскетичной комнате, смывая с себя запах трущоб и невидимую пыль смерти.
Только когда он снова был одет в чистую хлопковую рубаху, он позволил себе сесть и проанализировать.
1. Король начал рыть. Это хорошо. Это означало, что он не сломался.
2. Враги знали об этом. Это было плохо. Значит, в окружении Ли Джина или в архивах были их глаза.
3. Он, Со Ин, только что устранил одно из этих глаз. Временно. Появление нового сборщика долгов было вопросом времени.
Он достал из тайника свою карту-схему дворца. Рядом с именем «Пэк, писец архива» он поставил вопросительный знак. Нужно было связаться с этим человеком. Предупредить. Или, возможно, завербовать. Но осторожно. Очень осторожно.
Его мысли вернулись к главной проблеме: молодой королеве. Наблюдение за ней дало противоречивые данные. С одной стороны – потенциальная уязвимость короля. С другой… ее поступок со служанкой. Ее печаль. Ее слова о «золотой тюрьме». Это не было игрой. Или это была игра такого уровня, который был ему не виден.
Он взял кисть и на чистом листке нарисовал два символа. Слева – стилизованный алый цветок (королева). Справа – корона (Ли Джин). Между ними он нарисовал линию, но не прямую, а зигзагообразную, с промежутками. Связь была, но она была хаотичной, прерывистой, непредсказуемой. И вокруг них он изобразил паутину, а в ее центре – жирную точку (евнух Ким). И еще одну точку, чуть в стороне, но с ножницами (Вдовствующая королева).
Он смотрел на рисунок, и его охватывало холодное бешенство. Бешенство не ярости, а беспомощности. Он мог защитить Ли Джина от клинка. Мог вычислить шпиона. Мог даже пойти в трущобы и перерезать глотку подлому ростовщику. Но как защитить его от тонких, невидимых стрел – от манипуляций, от игры на чувствах, от медленного отравления душу жалостью или, что хуже, привязанностью?
В дверь постучали. Его собственный условный сигнал.
– Войди, Чи Хун.
Юноша вошел, его лицо было бледным и возбужденным.
– Командир, новости из казарм. Лейтенант Кан. Сегодня на тренировке он… он спас молодого рекрута. Тот оступился на бревне над рвом, Кан поймал его, но сам чуть не упал. Вывихнул плечо. Но все кричат о его храбрости и самоотверженности.
Со Ин почувствовал, как по спине пробежал холодок. Слишком вовремя. Слишком пафосно. «Героическая случайность». Началось.
– Кто был на тренировке? Кто видел?
– Почти вся рота. И… – Чи Хун замялся. – И король. Он как раз проходил в сад через плац. Он видел. И приказал оказать Кану лучшую помощь и представить к поощрению.
Со Ин закрыл глаза. Идеальный ход. Король, ищущий преданных людей, видит смелого, самоотверженного офицера, готового жертвовать собой ради других. Такой образ был создан, чтобы понравиться Ли Джину. Чтобы вызвать доверие.
– Хорошо, – тихо сказал Со Ин. – Следи за Каном. За каждым его шагом. За каждым, с кем он говорит. Особенно вне службы. И найди того рекрута. Узнай все о нем. Кто его рекомендовал, откуда он, с кем дружит.
– Слушаюсь, командир.
Когда Чи Хун ушел, Со Ин подошел к стойке с оружием. Он взял свой лук, натянул тетиву, ощущая привычное, успокаивающее напряжение в мышцах спины и плеч. Он представлял себе мишень. В центре – жирная точка, обозначающая евнуха Кима. Но выстрелить было нельзя. Не сейчас. Слишком много нитей, слишком много заложников.
Он опустил лук. Единственное, что он мог сделать сейчас, – это укреплять свою сеть. Очищать ее от сомнительных элементов. И готовиться к тому, что игра скоро перейдет в новую, более опасную фазу. Фазу, где не только он будет охотиться в трущобах, но и на него самого может начаться охота.
Он снова взглянул на свой рисунок, на зигзагообразную линию между цветком и короной. Возможно, в этой хаотичной связи и был ключ. Возможно, нестабильность была их единственным шансом. Если он не мог контролировать чувства короля, может, нужно было попытаться контролировать саму переменную? Узнать о королеве больше, чем знали ее отец и евнух. Найти ее слабость. Или, если она действительно была не врагом, а такой же жертвой… найти способ говорить с ней. Найти общий язык.
Это была опасная мысль. Почти еретическая. Но Со Ин был прагматиком. В войне все средства хороши. Даже союз с бывшим врагом, если этот враг мог превратиться в союзника против большего зла.
Он свернул рисунок и спрятал его. На улице начинало светать. Скоро начнется новый день во дворце – день интриг, лжи и тонких манипуляций. А он, Хан Со Ин, должен был быть готов ко всему. Как тень. Как щит. И, если потребуется, как беззвучный клинок в ночи, убирающий с дороги тех, кто угрожал его королю. Даже если это означало пачкать руки кровью в грязных лачугах и терять по кусочку свою душу с каждым таким тихим убийством. Для него это была приемлемая цена. Единственной ценностью, которую он признавал, был человек, сидевший сейчас, наверное, в своих покоях и смотревший на восход с тем же чувством пойманного в ловушку зверя, что и он сам.
Глава 3. Шепот в библиотеке.
Двор входил в сезон дождей, и природа будто вторила удушающей атмосфере внутри дворца. Свинцовая пелена неба низко нависла над остроконечными крышами Кёнбоккуна, превращая день в бесконечные сумерки. Дождь лил неделями – не очищающий ливень, а монотонный, назойливый плач, стекавший с черепицы серебряными нитями и размывавший границы между небом и землей. Во внутренних двориках стояла вода, отражая серое небо, как слепые глаза. Каменные галереи превратились в сырые, сквозные тоннели, где эхо шагов звучало глухо и зловеще.
Эта серая, беспросветная хмарь идеально соответствовала внутреннему состоянию Ли Джина. Его смятение, разбуженное недавними событиями – встречей в саду, ночным разговором в молельне, – не находило выхода. Оно глохло в духоте бесконечных церемоний и совещаний, задыхалось под тяжестью взглядов, полных ожиданий и расчета.
Евнух Ким, с его животным чутьем на слабость, усилил давление. Теперь каждое утро, когда Ли Джин принимал доклады в зале для аудиенций, старый скопец, стоя чуть в стороне, начинал с почтительного, но неумолимого вопроса:
– Здоровье молодой королевы, надеюсь, не оставляет поводов для беспокойства? Небеса благоволят к столь прекрасному союзу. Возможно, Ваше Величество изволило видеть благостные сны, сулящие скорое пополнение в королевской семье?
Слова висели в воздухе, сладкие и ядовитые, как патока с примесью мышьяка. Каждый раз, слыша их, Ли Джин чувствовал, как по его спине пробегает холодная волна отвращения. Он видел, как по сторонам придворные, потупив взоры, обмениваются понимающими взглядами. Весь двор ждал. Ждал, когда он выполнит свою главную функцию – произведет наследника, который навеки скрепит власть клана Ким с троном Чосона.
Вдовствующая королева, его бабушка, добавляла масла в огонь своим молчанием. На этих утренних приемах она восседала на своем возвышении, прямая и незыблемая, как гора. И когда звучал вопрос евнуха, уголки ее тонких, бескровных губ приподнимались в едва уловимой, ледяной усмешке. Молчаливое напоминание. Упрек. Приказ.
Ли Джин отбивался. Он научился отвечать холодной, отстраненной учтивостью, отсылал к астрологам, которые, якобы, предписывали «выждать благоприятное расположение светил». Но он чувствовал, что его броня, всегда казавшаяся ему непроницаемой, дала трещину. И эта трещина зияла там, где раньше была лишь сплошная стена ненависти к Ким Ми Ён.
Теперь он замечал ее повсюду. И каждое наблюдение было маленьким ударом по его уверенности.
На утреннем приеме дам, который она обязана была посещать, она сидела чуть поодаль от шумной стаи придворных женщин. Ее поза была безупречна, лицо – вежливой маской. Но Ли Джин, наблюдая украдкой, видел, как ее пальцы, спрятанные в широких рукавах, ритмично постукивают по колену. В такт. В такт монотонному цоканью дождя по крыше. Он различал этот тихий, отчаянный стук – скуки, нетерпения, тоски, закованный в золотые наручники этикета.
Во время церемонии подношения первых летних плодов, когда юный паж, дрожа от страха перед собранием знати, нес огромное блюдо, перегруженное персиками и сливами, Ли Джин видел, как взгляд Ми Ён на мгновение остановился на мальчике. Не осуждающе, не равнодушно. Быстро, как вспышка молнии, но невероятно выразительно. В этом взгляде было чистое, без примесей, сочувствие. Такое, каким смотрят на товарища, по несчастью. И когда паж, запнувшись, едва не уронил блюдо, она не ахнула, как другие дамы, а лишь слегка задержала дыхание, сжав кулаки под столом, словно желая помочь, но зная, что не может.
Ли Джин, сидя на троне, наблюдал эту микроскопическую драму и чувствовал, как в его груди что-то сжимается, горячее и болезненное. Ему захотелось крикнуть. Крикнуть этому мальчишке, чтобы он не боялся. Крикнуть всем этим притворным лицам вокруг, чтобы они замолчали. Крикнуть ей… он не знал, что.
Но он не кричал. Он сидел недвижимо, с лицом, высеченным из гранита, и сжимал резные подлокотники трона так, что на ладонях потом остались красные отметины.
А Со Ин в это время вел свою тихую войну. По ночам, когда дворец затихал, погружаясь в ложный сон, он приходил в покои Ли Джина с краткими, как удары кинжала, докладами.
– Она младшая дочь, – сообщил он однажды, когда за окном выл ветер, гоняя по небу рваные клочья туч. – У нее две старшие сестры. Их выдали замуж не за самых богатых, но за влиятельных чиновников в ключевых провинциях – Кёнсан, Хванхэ. Стратегия клана Ким: создать широкую сеть, а не концентрировать влияние в столице.
Он сделал паузу, давая информацию усвоиться. Ли Джин молча кивал, его глаза в свете масляной лампы были темными, как бездна.
– Саму Ми Ён изначально не готовили в королевы, – продолжил Со Ин. – Готовили старшую, Ким Ми Джон. Но у той… оказался характер. И сердце. Она влюбилась в сына своего учителя каллиграфии. Когда отец объявил о помолвке со старым вдовцом-губернатором, она устроила такой скандал, что о нем заговорили на рынках. Пришлось срочно выдать ее замуж за дальнего родственника на самом юге, чтобы замять позор. Ми Ён стала запасным вариантом. Воспитывали ее строго, но без особых надежд. Говорят, учителя хвалили ее ум и способности к наукам, но отец, якобы, отмахивался: «Книги не наполнят приданое и не поймают мужа. Умной жене нужен глупый муж, а королю – послушная тень».
«Запасной вариант». Словно дефектную фарфоровую вазу, которую выставили на видное место лишь потому, что идеальная разбилась. Эти знания не делали Ми Ён менее чужой. Она все еще была дочерью его злейшего врага. Но они окрашивали ее образ в иные, более сложные тона. Она была не добровольным орудием, не амбициозной интриганкой, рвущейся к власти. Она была разменной монетой. Такой же, как он сам. Возможно, даже более бесправной, потому что у нее не было даже короны, чтобы скрыть свою беспомощность.
Однажды, когда давление ожиданий и собственных мыслей стало невыносимым, Ли Джин в разгар дня, без свиты и предупреждения, направился в королевскую библиотеку «Чипхёнджон». Это было одно из немногих мест, где он мог дышать. Даже евнух Ким, презиравший «бумажную возню» и считавший знания опасными, не часто совал сюда свой длинный нос. Здесь, среди высоких стеллажей из черного дерева, пахло не интригами и страхом, а старым клеем, пылью веков и тихой, немой мудростью.
Он бродил между рядами, его пальцы скользили по гладким корешкам свитков и книг, переплетенных в синий и коричневый шелк. Он искал трактат по древним методам ирригации – предлог для возможного будущего спора с министром общественных работ, – но мысли упрямо возвращались к образу девушки с печальными глазами и тихо стучащими по колену пальцами.
И тогда он услышал шорох. Легкий, осторожный, явно не принадлежащий слуге-библиотекарю, чьи шаги были отмеренными и тяжелыми. Это был звук притаившегося движения, мягкого скольжения шелка по деревянному полу.
Ли Джин замер, слившись с тенью высокого стеллажа, заваленного хрониками династий эпохи Корё. Сердце его на мгновение заколотилось – старый, неистребимый инстинкт дичи, почуявшей охотника. Он медленно, бесшумно выглянул из-за угла.
И увидел ее.
Ким Ми Ён.
Она была одна. На ней было простое, домашнее платье из шелка цвета увядшей травы, без единого украшения, без сложной прически – волосы были собраны в низкий, небрежный узел, от которого на шею спадало несколько черных, шелковистых прядей. Руками она прижимала к груди небольшую книгу в потертой синей обложке – ту самую, что он видел у нее в саду. Она выглядела одновременно сосредоточенной и уязвимой, как студент, укравший у судьбы драгоценные мгновения для того, что действительно имеет значение.
Она не заметила его. Пройдя мимо его укрытия, она направилась к низкому столику у высокого арочного окна, единственному источнику естественного света в этот хмурый день. Серый, рассеянный свет лился сквозь бумажную оконную раму, окутывая ее силуэт серебристым ореолом. Она опустилась на пол, поджав под себя ноги, с естественной грацией, которой ее не учили придворные наставники. Положив книгу перед собой, она мгновение просто смотрела на обложку, проводя по ней кончиками пальцев – медленно, почти с нежностью, как бы смакуя обещание побега в иной мир. Затем ее плечи, обычно такие прямые и напряженные, слегка опустились, сдав под тяжестью невидимого груза.
Она открыла книгу, и тихо, в полный голос, но так, словно говорила с собой или с призраком давно умершего поэта, прочитала строку:
«Одинокий дикий гусь в ночи кричит,
Его тоска подобна моей…
Он ищет стаю в темноте,
А я… я ищу душу в этой пустоте».
Это был не Чхве Чхивон. Это было что-то другое, возможно, ее собственное, набросанное на полях. Ее голос, лишенный привычной придворной, притворно-сладкой модуляции, был низким, бархатным, проникновенным. В нем вибрировала неподдельная, глубокая грусть, та самая, что она так тщательно скрывала за маской покорности. Она читала не для аудитории, не для того, чтобы произвести впечатление. Она читала для себя. И в этом чтении не было ни капли той бесчувственной, идеальной куклы, которую она выставляла напоказ перед двором.
Ли Джин перестал дышать. Он чувствовал себя подглядывающим воришкой, крадущим что-то священное и личное. Он подсматривал за обнаженной душой. Разум кричал, что нужно уйти. Сейчас же. Пока она не увидела. Но ноги, казалось, вросли в пол. Он был прикован к месту этим зрелищем – зрелищем настоящей Ким Ми Ён, без масок и доспехов.
Она перевернула страницу, и из книги выпал тонкий листок бумаги – черновик, обрывок стихотворения или просто мысли, записанные наспех. Листок плавно, кружась, опустился на темное дерево пола. Ми Ён потянулась за ним, и в этот момент ее взгляд скользнул по полу и наткнулся на его ноги, видневшиеся из-за края стеллажа.
Она замерла. Медленно, будто боясь спугнуть опасную иллюзию, подняла голову.
Их взгляды встретились в полумраке библиотеки.
Ни ширм, ни свиты, ни церемониальных дистанций. Только она, сидящая на полу в луче серого света, и он, стоящий в тени, как призрак или соглядатай. На ее лице, обычно столь бесстрастном, промелькнула настоящая, животная паника. Паника загнанного зверька, пойманного на месте преступления – преступления быть собой. Она мгновенно опустила глаза, и ее тело согнулось в низком, почти касающемся лбом пола поклоне, от которого защемило сердце у Ли Джина.
– Простите, Ваше Величество! – ее голос сорвался на хриплый шепот, дрожащий от страха. – Я не знала… я не думала, что вы здесь… Я просто… мне нужно было…
Он нашел в себе силы сделать шаг вперед, выйти из тени. Подойдя, он наклонился и поднял с пола выпавший листок. Не глядя на каллиграфию, он протянул его ей.
– Встаньте, – сказал он. Его собственный голос прозвучал непривычно хрипло, пересохшим от долгого молчания и внутренней бури. – Пожалуйста.
Она выпрямилась, но глаза по-прежнему были опущены, принимая бумагу дрожащими, холодными пальцами. Он видел, как яростно пульсирует жилка на ее тонкой, бледной шее. Видел, как вздымается и опадает грудь под простым шелком платья.
– Что вы читаете? – спросил он, потому что нужно было сказать что-то, чтобы разорвать это невыносимое, напряженное молчание, висевшее между ними гуще библиотечной пыли.
– Это… ничего, Ваше Величество. Просто старые стихи, – она прижала книгу к груди, как щит, как последнее убежище. – Ничего важного.
– «Одинокий дикий гусь в ночи кричит…» – процитировал он тихо, почти шепотом. Слова звучали странно в его собственных устах. – Это не Чхве Чхивон. Чье?
Она вздрогнула, будто ее ударили током, и наконец посмотрела на него. В ее огромных, темных глазах, обычно таких сдержанных, читался настоящий шок. Шок от того, что он не только подслушал, но и запомнил. И различил.
– Вы… вы знаете поэзию, Ваше Величество? – вопрос вырвался у нее прежде, чем она успела его обдумать.
Уголок его губ дрогнул в чем-то, что могло бы стать горькой усмешкой.
– В этой библиотеке есть все, что нельзя найти в докладах министров или в головах придворных, – он сделал неопределенный жест рукой, обводя полки. – Иногда и королям нужно думать. Чтобы… чтобы хотя бы создавать видимость, что они на что-то способны.
Он не планировал этой откровенности, этой язвительности, направленной на самого себя. Она вырвалась сама, под давлением момента и странного чувства общности, возникшего в этой тишине. И он увидел, как ее лицо меняется. Не выражая согласия или несогласия, оно просто… смягчилось. Какая-то тень – не улыбка, а скорее глубокое, усталое понимание – легла в уголки ее глаз и губ.
– Видимость… – она повторила слово тихо, задумчиво. – Да. Это то, в чем мы здесь все стали мастера, Ваше Величество.
Она произнесла это просто, как констатацию факта. И тут же, осознав дерзость своих слов, снова ужаснулась, потупив взгляд. – Простите, я не имела в виду… я…
– Не извиняйтесь, – перебил он, и на этот раз в его голосе прозвучала не просто вежливость, а нечто вроде… признания. – Вы лишь сказали правду. А правда в этих стенах – редкая и опасная птица.
Он смотрел на нее, на эту хрупкую девушку, прижимавшую к себе книгу, как единственного союзника в мире, полном врагов. И тогда вопрос, который мучил его все эти дни, который он задавал себе по ночам, глядя в темный потолок, сорвался с его губ раньше, чем он успел обуздать его. Голос его был тихим, почти исповедальным:
– Вам тоже иногда снится… что вы не здесь? Что вы проснетесь, и все это – просто дурной сон? Что вы в своей комнате, слышите голос матери, запах цветущей сливы за окном…
Она замерла, словно превратилась в статую из фарфора. Даже дыхание ее, казалось, остановилось. Дождь за окном стучал в ставни, отсчитывая секунды, каждая из которых растягивалась в вечность. Потом она очень медленно, почти незаметно, кивнула, все еще не глядя на него.
– Да, – прошептала она, и это одно слово было наполнено такой всепоглощающей тоской, что у Ли Джина сердце сжалось в комок. – Каждую ночь. Иногда мне кажется, я даже слышу этот запах… сливы. И тогда я не хочу просыпаться.
В этом признании была обнажена вся ее душа. Тоска по дому, которого, возможно, уже не существовало. По жизни, которая была украдена. По-простому, неотъемлемому праву дышать, не оглядываясь через плечо, не взвешивая каждое слово.
Ли Джин почувствовал, как что-то огромное и тяжелое сдвигается у него внутри. Глыба ненависти, подозрения и гнева, которую он годами взращивал как защиту, дала глубокую, звучную трещину. Они стояли по разные стороны пропасти, вырытой их семьями, их положением, этим браком-ловушкой. Но в этой сырой, тихой библиотеке, в этом сером свете дождливого дня, он с болезненной ясностью увидел, что они оба стоят на одном и том же краю. Оба смотрят в одну и ту же бездну одиночества.
Его мысли прояснились, инстинкт стратега взял верх над смятением чувств.
– Они следят за вами? – спросил он уже другим тоном. Трезвым, деловым, но без прежней холодности.
Она встрепенулась, поняв смену регистра. Страх вернулся в ее глаза, но теперь он был смешан с осторожной надеждой.
– Моя старшая служанка, Аран, – выдохнула она. – Она… каждую ночь, после того как я засыпаю (или делаю вид, что засыпаю), она проверяет мои вещи. Перебирает бумаги на столе, заглядывает в книги. И уходит. Я не знаю точно, кому она докладывает. Но я вижу ее лицо, когда она возвращается утром. Оно всегда… удовлетворенное.
– А вы пишете? Записки, письма? – спросил он, изучая ее реакцию.
Она отрицательно покачала головой, и в этом движении была такая безысходная горечь, что стало ясно: она давно смирилась со своим тотальным одиночеством.
– Кому? – прошептала она, и в этом одном слове звучала целая жизнь изоляции. – Матери? Она под присмотром. Сестре? Ее письма вскрывают. Здесь… здесь нет никого.
Ли Джин взвесил риск в уме. Каждая клетка его тела, вымуштрованная годами притворства и выживания, кричала об опасности. Доверять ей – безумие. Но холодная, беспристрастная логика, та самая, что помогала ему выживать, подсказывала иное. Если она не шпионит активно, если она так же загнана в угол, если она ненавидит эту игру не меньше его… Разве это не потенциальный, пусть и слабый, союзник? Союзник отчаяния?
Он оглянулся. Кроме них и призраков мудрецов, запечатленных в свитках, в огромном зале никого не было. Шагов не было слышно.
– Эта книга, – кивнул он на синий томик в ее руках. – Она безопасна? На ней нет пометок, которые можно было бы истолковать… превратно?
Ми Ён посмотрела на книгу, затем снова на него. В глубине ее темных глаз зажегся крошечный, испуганный огонек понимания. Она начала осознавать, куда клонит этот разговор.
– Это… сборник средневековой поэзии «Песни лунного ветра», – сказала она четко. – Подарок от моей первой учительницы, еще до того, как… все изменилось. Здесь нет пометок. Никаких тайных знаков. Только стихи. И мои мысли, которые я никому не показываю.
– Хорошо, – сказал Ли Джин. Он снова мельком осмотрелся, затем шагнул ближе, понизив голос до шепота, который могла услышать только она. – Если вам когда-нибудь понадобится… передать что-то. Что-то, что не должно быть найдено служанкой Аран или кем-либо еще. Можно спрятать здесь. – Он едва заметно двинул головой в сторону полки с малочитаемыми хрониками ранней династии Корё. – За третьим томом «Истории государства Ки». Там, между переплетом и стенкой шкафа, есть узкая щель. Не видна снаружи.
Она смотрела на него, не веря своим ушам. Ее губы, бледные и тонкие, слегка приоткрылись. В глазах смешались недоверие, страх и та самая жадная, запретная надежда, которую он сам в себе подавлял годами.
– Почему? – вырвалось у нее, голос срывался на шепот. – Почему вы… говорите мне это? Рискуете?
Он посмотрел на ее лицо, на следы бессонных ночей под глазами, на тонкую, нервную дрожь в уголках губ. И снова процитировал, теперь уже глядя прямо в ее глаза:
– Потому что одиноким гусям, кричащим в ночи… иногда нужен хоть какой-то знак, что они не одни в этом небе. Даже если этот знак – просто щель в книжной полке в безмолвной библиотеке.
Он увидел, как по ее щеке, медленно, преодолевая сопротивление, скатывается слеза. Одна-единственная, чистая, жгучая капля. Она оставила блестящий, серебристый след на ее белой коже. Она даже не попыталась ее смахнуть, будто, не замечая или не имея сил скрывать эту утечку эмоций.
– Спасибо, – прошептала она так тихо, что он скорее прочитал это слово по движению ее губ, чем услышал.
Больше говорить было нечего. Слишком много было сказано. Слишком много риска уже висело в сыром воздухе между ними.
– Не приходите сюда слишком часто, – предупредил он, уже отворачиваясь, чувствуя, как его собственные колени слегка подрагивают от нервного напряжения. – И следите за Аран. За тем, куда она ходит, с кем говорит. Но не подавайте виду.
Он ушел, не оглядываясь, оставив ее одну в луче тусклого света, с книгой в руках и со слезой на щеке. Его сердце колотилось с бешеной силой, не как после схватки с врагом, а как после прыжка в неизвестность, в темную, ледяную воду. Это было не чувство ярости или триумфа. Это было нечто новое. Опасное, головокружительное и пугающе живое.
Вернувшись в свои покои, он застал там Со Ина. Друг сидел у окна, чистя клинок своего меча, но, увидев лицо Ли Джина, мгновенно замер, насторожившись всем существом.
– Что случилось? – спросил Со Ин, его голос был ровным, но глаза сканировали Ли Джина с профессиональной тревогой.
– Я поговорил с королевой, – коротко, без предисловий, сказал Ли Джин, срывая с себя верхний халат. Его руки слегка дрожали.
Со Ин медленно вложил клинок в ножны. Его лицо стало непроницаемой маской, но в глазах читалось ожидание худшего.
– Где?
—В библиотеке. Случайно. Я не знал, что она там.
—И? – в голосе Со Ин прозвучало ледяное терпение.
Ли Джин тяжело опустился на подушки, провел руками по лицу.
– И… она не шпионка, Ин. По крайней мере, не та, которой ее хотят видеть. Она пленница. Такая же, как я. Возможно, даже в большей клетке.
Он кратко, опуская самые личные моменты и ее слезу, пересказал суть разговора: ее одиночество, наблюдение служанки, ее знание поэзии, их общее чувство ловушки. Со Ин слушал, не перебивая, его лицо оставалось каменным.
– Это может быть ловушка, Джин, – наконец произнес он, когда тот закончил. Его голос был мягким, но в каждом слове чувствовалась сталь. – Искусно разыгранная. Евнух Ким не дурак. Он мог подготовить ее именно для такого сценария: вызвать твое сочувствие, твое… признание родства душ.
– Возможно, – согласился Ли Джин, не глядя на друга. – Я не исключаю этого. Я не дурак тоже. Но я видел ее глаза, Ин. Когда она говорила о доме. О сне, в котором не хочет просыпаться. Этому не учат. Этого нельзя сыграть так убедительно.
– Глазами можно лгать лучше, чем словами, – мрачно, но без осуждения, заметил Со Ин. – Я видел шпионов, которые могли заставить себя заплакать настоящими слезами, вспоминая вымышленных мертвых детей.
– Знаю, – вздохнул Ли Джин. – Поэтому мы проверим. Прагматично. Без сантиментов.
Он встал, подошел к своему письменному столу, взял кисть и небольшой листок тонкой бумаги. Быстрыми, четкими иероглифами он написал: «Министр обороны Чо и три командира столичного гарнизона имеют тайную встречу завтра, в час Змеи, в павильоне у Восточного пруда. Без писцов, без протокола». Это была правда. Такая встреча действительно была запланирована. Но это была не тайна. Евнух Ким знал о ней и, вероятно, даже спонсировал ее – министр Чо был его человеком. Это была идеальная приманка: информация, которая выглядела ценной, но на деле уже известна врагу.
Он сложил записку в четверо и протянул Со Ину.
– Завтра, до полудня, положи это в щель, о которой я ей сказал. Если эта информация через день-два всплывет в разговорах евнуха или в действиях его людей – мы будем знать. Она – их агент. Если нет… – он сделал паузу, – значит, у нас, возможно, появился очень необычный союзник.
Со Ин взял записку, его пальцы сомкнулись на бумаге. Его лицо все еще выражало глубокое сомнение, но он кивнул – он был солдатом, привыкшим выполнять приказы, даже если не согласен с ними.
– А что, если она просто испугается? Не решится воспользоваться каналом? Или не поймет его значения?
– Тогда, – сказал Ли Джин, подходя к окну и глядя на залитый дождем двор, где вода стояла неподвижными, свинцовыми лужами, – тогда мы оба так и останемся в своих золотых клетках. И будем медленно гнить в них поодиночке, наблюдая друг за другом через решетку, как диковинные птицы, которые забыли, как летать.
Ночью, лежа в одиночестве на своем огромном, холодном ложе, Ли Джин думал о ее слезе. О том, как она сказала «спасибо». Не как королева – королю. А как человек – человеку, который бросил ей спасательный круг в море одиночества. В этом слове, в этом жесте не было расчета, кокетства или лести придворной дамы. Была простая, почти детская, жадная благодарность загнанного зверька, которому впервые за долгое время протянули руку, а не плеть.
И впервые за многие годы его собственное одиночество, эта ледяная, всепроникающая пустота, которую разделял с ним только Со Ин, дала не просто трещину. В ней открылся крошечный, но ощутимый просвет. В него подул ветер. Не теплый и ласковый, а холодный, колкий, полный неизвестности и смертельного риска.
Но это был ветер. Движение воздуха. Признак жизни.
А не затхлая, мертвая тишь тюрьмы, в которой он задыхался, казалось, всю свою сознательную жизнь.
***
Приказ короля повис в воздухе между ними – тонкий, сложенный вчетверо листок бумаги, который был одновременно и щупом, и миной. Со Ин взял его, ощутив под пальцами легчайшую шероховатость бумаги. Его лицо оставалось непроницаемым, но внутри все кричало против. Это была слабость. Непростительная, опасная слабость, рожденная из одиночества и жажды сочувствия. Но Ли Джин был его королем и другом. Приказ есть приказ.
На следующее утро, еще до рассвета, Со Ин уже был на ногах. Он проверил посты, отдал распоряжения на день, совершил привычный обход периметра – все с той же безупречной, механической эффективностью. Но часть его сознания была занята другим: расчетом времени, маршрута, наблюдением.
Королевская библиотека открывалась для слуг, занимавшихся уборкой, с восходом солнца. Со Ин выбрал момент, когда старый библиотекарь, ворча себе под нос, отправился в кладовую за метлами, а его помощник дремал, прислонившись к стеллажу с конфуцианскими канонами. Бесшумно, как тень, Со Ин проскользнул в нужный зал. Воздух здесь был прохладен и пах старым деревом. Он быстро нашел полку с историей Ки. Третий том был массивным, в кожаном переплете с потрескавшимся золотым тиснением. Как и сказал Ли Джин, между корешком книги и задней стенкой шкафа зияла узкая, темная щель.
Он замер на секунду, слушая. Тишина. Только скрип старых балок где-то наверху. Быстрым движением он сунул сложенную записку в щель, протолкнул ее глубже пальцем. Бумага исчезла. Канал связи был открыт. Теперь оставалось ждать и наблюдать.
Но наблюдать приходилось не только за последствиями. У Со Ина была своя, параллельная операция. Лейтенант Кан, «герой», спасший рекрута, уже начал свое восхождение. Его вывихнутое плечо лечил придворный врач, ему выдали премию, и, что важнее, он стал чаще попадаться на глаза королю. Сегодня утром, например, Кан с отрядом как раз нес службу у ворот в сад, куда Ли Джин часто выходил подышать.
Со Ин наблюдал за ним со стороны, с галереи второго этажа. Кан был молод, строен, с открытым, честным лицом, на котором читались рвение и преданность. Он отдавал команды четко, держался с достоинством, но без высокомерия. Идеальный образ молодого офицера. Слишком идеальный.
Со Ин дал знак Чи Хуну, который тут же растворился в толпе слуг. Задача юноши – проследить за рекрутом, которого «спас» Кан. Откуда тот взялся? Кто его рекомендовал в гвардию?
Сам Со Ин спустился во внутренний двор и направился к казармам нижних чинов. Он шел не как начальник с проверкой, а как свой, заскочивший перекусить. В столовой, пахнущей дешевым жиром и капустой, он сел за общий стол с несколькими старослужащими сержантами. Разговор зашел о недавнем инциденте.
– Молодец, этот Кан, – с нарочитой небрежностью заметил Со Ин, разламывая лепешку. – Быстро среагировал. У нас таких не хватает.
Сержанты, уважавшие Со Ин за его прямоту и справедливость, охотно поддержали разговор.
– Да, командир, парень перспективный. И скромный. Не зазнается.
—Слышал, у него мать одна в деревне, больная. Все жалованье им отсылает. Честный сын.
—И храбрый. На прошлой неделе, помните, того купчину он от грабителей отстоял у Восточных ворот? Сам против троих.
История обрастала деталями. Слишком быстро. Слишком гладко. Со Ин кивал, делая вид, что слушает с интересом, а в голове выстраивал картину: тщательно создаваемый образ. Герой, скромник, любящий сын. Приманка, созданная специально для Ли Джина, ценящего преданность и простоту.
Вечером Чи Хун принес первые результаты.
– Рекрута зовут Мин. Из дальнего пригорода. В гвардию его рекомендовал некий мелкий чиновник из налогового управления. Чиновник этот… – Чи Хун понизил голос, – известен своими связями с гильдией сборщиков долгов, той самой, что связана с Пёном.
Со Ин медленно кивнул. Все сходилось. Инцидент был подстроен. Теперь Кан должен был «естественным образом» сблизиться с королем. Возможно, через новое «спасение», уже на охоте или во время какой-нибудь поездки. Или через демонстрацию преданности в критический момент.
– Хорошо, – сказал Со Ин. – Продолжай следить за Мином. И найди того чиновника. Узнай, какие у него долги или слабости.
А пока нужно было следить за другим каналом – библиотечным. На следующий день Со Ин снова нашел предлог зайти в библиотеку. Он проверял, на месте ли записка. Она была там. Не тронута. Значит, королева либо не решалась, либо не приходила, либо… играла в более глубокую игру.
Но Со Ин не был бы собой, если бы полагался только на пассивное наблюдение. У него был другой план. Более прямой. Более жестокий. И связанный с той самой служанкой Аран, о которой говорила Ми Ён.
Аран была немолода, лет сорока пяти, с лицом, на котором привычка к доносам выгравировала постоянное выражение бдительной угодливости. Она редко покидала женскую половину, но раз в неделю, вечером, отправлялась в восточное крыло, якобы навестить свою «кузину», работавшую в прачечной.
Со Ин проследил за ней дважды. Маршрут был один и тот же. Но «кузина» оказывалась не простой прачкой, а надсмотрщицей, которая также докладывала Пёну. Они встречались в крошечной каморке за котлами для кипячения белья, где пар и запах щелока скрывали их разговор.
На третий раз Со Ин действовал.
Он выбрал момент, когда Аран, закончив свой короткий визит, возвращалась обратно по длинному, плохо освещенному коридору, соединявшему служебные помещения. Здесь, вдали от парадных залов, царили полумрак и сырость. Со Ин ждал ее в нише, где когда-то стояла статуя, ныне убранная.
Когда шаги Аран приблизились, он вышел прямо перед ней. Женщина вздрогнула, едва не вскрикнув, и отпрянула, прижимая к груди узелок с какими-то тряпками.
– Начальник стражи! – выдохнула она, узнав его, и немедленно опустилась в низкий поклон. – Простите, я не заметила…
– Встань, – сказал Со Ин, его голос в полутьме звучал глухо и не обещал ничего хорошего. – Куда путь держишь так поздно, Аран?
– В… в покои королевы, господин. Я ее служанка.
—Знаю, кто ты, – перебил он. Он сделал шаг вперед, сокращая дистанцию. Он был намного выше и шире ее, и его силуэт в темноте казался угрожающе огромным. – И знаю, куда ты на самом деле ходила. К своей «кузине» в прачечную. Вернее, к надсмотрщице Пёна. Чтобы доложить.
Лицо Аран побелело в полумраке. Она попыталась сделать шаг назад, но уперлась спиной в холодную каменную стену.
– Я… я не понимаю, господин… я просто навестила родственницу…
—Не лги, – его голос стал тише, но от этого только страшнее. – Я все знаю. Знаю, что ты обыскиваешь вещи королевы каждую ночь. Знаю, что докладываешь обо всем, что она говорит, что читает, даже о чем молчит. Ты – ухо евнуха Кима в ее спальне.
Паника, чистая и бездыханная, исказила лицо женщины. Ее губы задрожали.
—Пожалуйста… у меня семья… дети… они заставили…
– Я знаю и про твою семью, – холодно продолжил Со Ин. Он вытащил из-за пояса небольшой свиток и развернул его перед ее лицом, хотя в темноте она вряд ли могла что-то разобрать. – Твой сын, Хён, учится в школе писцов. Талантливый мальчик. Твоя дочь замужем за мелким торговцем в квартале Индон. Они счастливы. Пока.
Последнее слово повисло в воздухе лезвием. Аран задохнулась, ее глаза наполнились слезами ужаса.
– Что… что вы хотите? – прошептала она.
– Я хочу, чтобы ты продолжала докладывать, – сказал Со Ин, складывая свиток. – Но отныне ты будешь докладывать через меня. Ты будешь рассказывать им то, что я скажу. А настоящие новости, истинные чувства и действия королевы – будешь приносить мне. Если я услышу от своих людей, что через твой канал пошла информация, которой я тебе не давал… – он снова шагнул вперед, теперь так близко, что она почувствовала исходящее от него холодное, металлическое дыхание. – Твоему сыну Хёну отрежут пальцы на правой руке. Все до одного. Чтобы он никогда больше не мог держать кисть. Твою дочь и ее мужа обвинят в контрабанде и вышвырнут из города. А тебя… тебя найдут в колодце для сточных вод с перерезанным горлом. И всем будет все равно.
Он говорил ровно, без злобы, просто констатируя факты. И от этой бесстрастности стало еще страшнее. Аран прижалась к стене, из ее горла вырвался сдавленный стон. Она понимала, что это не пустая угроза. Перед ней стоял не просто начальник стражи. Перед ней стояла тень короля, человека без жалости, чья репутация была известна даже служанкам.
– Вы… вы предлагаете мне изменить евнуху Киму? – она попыталась найти в голосе силу, но получился лишь жалкий писк. – Он уничтожит меня!
—Он уничтожит тебя, если узнает, – поправил ее Со Ин. – А я уничтожу тебя и всех, кто тебе дорог, если ты не будешь служить мне. У тебя нет выбора, Аран. Только два варианта уничтожения. Выбирай, какое тебе больше подходит: быстрое и полное – от меня, или медленное и мучительное – от него, когда он поймет, что ты его обманывала.
Она молчала, ее тело била крупная дрожь. Слезы текли по щекам, оставляя блестящие полосы в тусклом свете отдаленного факела.
– И что… что я получу? – наконец выдавила она.
—Ты получишь жизнь своей семьи. И свою. И, возможно, немного денег, чтобы сын мог закончить учебу. Но не от меня. Ты получишь их от королевы, как награду за верную службу ей. Ты станешь ее самой преданной служанкой. По крайней мере, так будут считать все, включая евнуха.
Это был изящный ход. Он не просто вербовал шпиона. Он переворачивал всю систему слежки с ног на голову, превращая главное ухо врага в свой собственный рупор.
Аран долго смотрела на него, ее ум, заточенный на выживание и мелкие интриги, пытался найти лазейку, третий вариант. Не нашел. Она медленно, как будто каждое движение давалось с невероятным усилием, кивнула.
– Хорошо, – прошептала она. – Я буду ваша.
– Не моя, – резко поправил Со Ин. – Ты – служанка королевы Ким Ми Ён. И будешь служить ей верно. Поняла?
Она кивнула снова, теперь уже быстрее.
– Теперь слушай внимательно, – сказал он, понизив голос до едва слышного шепота. – Завтра ты доложишь своему надзирателю, что королева в унынии. Что она много плачет в одиночестве, перечитывает старые письма от матери и мечтает о доме. Что к королю она испытывает лишь страх и холодную почтительность. И что она ничего не подозревает. Это то, что они хотят услышать. А мне… – он сделал паузу, – ты принесешь любую вещь, которую королева попытается спрятать. Любую записку. Любую книгу, которую читает тайком. И ты будешь следить, не пытается ли кто-то другой из ее окружения выйти на связь с внешним миром. Особенно с ее семьей.
Аран кивала, запоминая. Страх в ее глазах постепенно сменялся привычной расчетливостью. Она поняла правила новой игры.
– А как мне передавать вам информацию?
—Будешь оставлять камень под горшком с цветком у задней двери моих покоев. Красный камень – есть срочные новости. Белый – все спокойно. Под тем же камнем – записка. Пиши просто, без изысков. Я найду способ забрать.
Он отступил, давая ей пространство. Его работа здесь была закончена. Он посеял семя контроля. Теперь нужно было ждать, прорастет ли оно.
– Иди, – приказал он. – И помни: один неверный шаг, одно слово не туда – и я узнаю. Расплата последует немедленно.
Аран, не говоря ни слова, шаркнула поклоном и почти побежала в сторону женской половины, ее фигура быстро растворилась в темноте коридора.
Со Ин остался стоять в нише, прислушиваясь к отдаляющимся шагам. В его груди не было ни удовлетворения, ни сожаления. Была лишь холодная пустота и усталость от этой бесконечной, грязной войны в тени. Он только что сломал женщину, превратил ее в орудие, пригрозил калечить детей. Во имя чего? Во имя безопасности человека, который, возможно, в эту самую минуту слабел, поддаваясь чарам другой возможной лгуньи.
Он вышел из ниши и направился к выходу на воздух. Ему нужно было проветрить легкие, вдохнуть что-то, кроме запаха страха и предательства. Двор был пуст, небо затянуто тучами, обещающими новый дождь.
Где-то в библиотеке лежала записка-провокация. Где-то в покоях королевы служанка, которую он только что сломал, готовилась начать двойную игру. Где-то в казармах спал лейтенант Кан, мечтая о карьере и не подозревая, что стал пешкой. А где-то в своих покоях Ли Джин, его король и друг, возможно, думал о девушке с печальными глазами, надеясь найти в ней родственную душу.
Со Ин посмотрел на свои руки, чистые в тусклом свете. Они не были испачканы кровью сегодня. Но грязь на них была другого рода. Более липкой, более въедливой. Грязь манипуляций, шантажа, превращения людей в инструменты.
Он сжал кулаки. Ему было все равно. Ради Ли Джина он был готов утонуть в этой грязи по самые уши. Быть не только его щитом, но и его когтями в темноте, его ядом, его палачом. Даже если это означало терять по кусочку собственную душу с каждым таким ночным разговором в темном коридоре.
Он глубоко вдохнул сырой, предгрозовой воздух. Война продолжалась. И на его фронте только что была одержана маленькая, грязная, но важная победа. Теперь у него было ухо прямо в сердце потенциальной угрозы. Оставалось ждать, что оно услышит.
***
После встречи в библиотеке мир Ми Ён раскололся на «до» и «после». «До» – это была жизнь в сплошном, давящем тумане покорности и страха. «После» – в этот туман пробился тонкий, дрожащий луч. Луч опасный, запретный, но такой желанный, что от одной мысли о нем перехватывало дыхание.
Щель в книжной полке.
Эти слова звучали в ее голове навязчивой мелодией. Она представляла себе это место: темный деревянный стеллаж, пахнущий стариной и пылью, узкую щель за толстенным томом. Это был тайник. Ее тайник. Подарок от человека, который должен был быть ее тюремщиком. Ирония ситуации была горькой и ослепительной.
Первые два дня она даже не решалась приблизиться к библиотеке. Каждый шаг по коридорам казался ей подозрительным, каждый взгляд служанки – испытующим. Аран, ее старшая служанка, стала казаться ей особенно внимательной. Женщина теперь не просто выполняла свои обязанности – она словно сканировала пространство вокруг Ми Ён, ее вещи, ее лицо. После визита вдовствующей королевы на чай напряжение вокруг нее возросло. Ми Ён чувствовала себя рыбой в стеклянном аквариуме, за которым наблюдают десятки глаз.
Но жажда проверить подарок, жажда хоть какого-то действия, хоть тени контроля над своей жизнью, пересилила страх. На третий день, воспользовавшись тем, что Аран отправили за новой партией благовоний, она, под предлогом головной боли и желания уединения, велела Окчжи никого не впускать и сама, накинув простой плащ с капюшоном, выскользнула из покоев.
Сердце ее колотилось так громко, что, казалось, эхо разносилось по пустым коридорам. Она шла быстро, почти бежала, не поднимая глаз, боясь встретить чей-либо взгляд. Библиотека в этот час была почти пуста. Старый библиотекарь дремал на своем стуле у входа, и лишь один молодой переписчик корпел над свитком в дальнем углу.
Ми Ён, не останавливаясь, прошла в зал истории. Ноги сами понесли ее к нужному стеллажу. Дыхание сперлось в груди, когда она протянула руку к третьему тому «Истории государства Ки». Книга была тяжелой, пахла старым клеем. Она осторожно отодвинула ее, сердце упало: щель была пуста. Разочарование, острое и горькое, кольнуло ее. Может, он передумал? Может, это была ловушка, и сейчас из-за угла выйдут стражники евнуха?
Но она заставила себя заглянуть глубже, просунув тонкие пальцы в узкое пространство. И нащупала край бумаги. Аккуратно, стараясь не порвать, она вытащила сложенный вчетверо листок. Спрятав его в ладонь, она вставила книгу на место и, не оглядываясь, почти выбежала из зала.
Только в уединении своего кабинета, запершись на засов, она развернула записку. Руки дрожали. Иероглифы были знакомыми – четкие, уверенные, мужские. Она прочитала сообщение о тайной встрече министра обороны. Информация выглядела важной, опасной. Зачем он делится этим с ней? Это проверка? Или знак доверия?
Мысли метались. Если она передаст это отцу или, через Аран, евнуху – она докажет свою лояльность. Возможно, даже заработает похвалу. Но тогда она предаст его. Предаст тот хрупкий мост понимания, что возник между ними в библиотеке. Предаст единственного человека во всем этом дворце, который увидел в ней не вещь, не пешку, а… человека.
А если не передаст? Если промолчит? Это будет ее первый, пусть и пассивный, акт неповиновения. Актом верности ему. Но если это ловушка, и он ждет, чтобы она совершила ошибку… последствия будут ужасны.
Она просидела над запиской дотемна, не зажигая свечей. В полумраке комнаты ее лицо было бледным пятном, отраженным в темном зеркале лакированного столика. Она думала о его глазах в библиотеке. О той же усталости, том же отчаянии, что жили и в ней. Он говорил об одиноких гусях. Не могло быть, чтобы это была лишь игра. Такая игра была бы слишком изощренной, слишком… человечной.
К вечеру пришла Аран. Ее лицо, обычно такое замкнутое, сегодня казалось напряженным.
– Ваше Величество, – сказала она, раскладывая вечерний ужин, – вы сегодня так бледны. Не заболели ли? Может, послать за лекарем?
– Нет, – коротко ответила Ми Ён, чувствуя, как под взглядом служанки кожа на спине покрывается мурашками. – Просто устала. От чтения.
– Ах, чтение, – Аран кивнула, но ее глаза скользнули по столу, где лежала все та же синяя книга стихов. – Это хорошо. Умственное занятие. Только не утруждайте себя слишком, госпожа. Вы должны беречь силы. Для… будущего.
Последние слова были сказаны с особым, многозначительным ударением. Ми Ён почувствовала, как ее тошнит. «Для будущего». Для наследника. Она была всего лишь инкубатором в их глазах.
– Я знаю, Аран. Можешь идти.
Когда служанка ушла, Ми Ён поняла, что решение принято. Она не может отдать записку. Не может стать орудием против него. Даже если это наивно. Даже если это самоубийственно.
Но и держать ее при себе было нельзя. Аран могла обыскать комнату в любой момент. Нужно было избавиться от нее. Но как? Сжечь? Дым и запах привлекут внимание. Разорвать и выбросить? Клочки могли найти.
И тогда ее осенило. Она снова взяла в руки записку, внимательно изучила чернила, бумагу. Потом подошла к своему столику для каллиграфии. Взяв тончайшую кисть и чернила точно такого же оттенка, она на чистом листе бумаги того же качества начала копировать иероглифы. Ей потребовалось несколько попыток, чтобы подобрать нужный нажим, сымитировать его почерк – уверенный, но с легкой, едва уловимой нервностью в заключительных штрихах.
Когда копия была готова и достаточно высохла, она взяла оригинал и, подойдя к жаровне с тлеющим углем для обогрева комнаты, сунула его в самый центр. Бумага вспыхнула ярким, коротким пламенем и превратилась в пепел, который она тут же перемешала с другой золой.
Затем она взяла копию и внесла в текст несколько изменений. Вместо «в час Змеи» она написала «в час Лошади». Вместо «в павильоне у Восточного пруда» – «в павильоне у Западного сада». Суть оставалась той же – тайная встреча высокопоставленных военных. Но детали были искажены. Если это ловушка, и ее заставят раскрыть информацию, она сможет отдать эту ложную записку. И ошибка в деталях будет выглядеть как ее собственная невнимательность или плохая память, а не как обман.
Спрятав фальшивку в потайное отделение своей шкатулки для украшений (туда, где лежали самые простые, не ценные безделушки, которые вряд ли станут проверять), она почувствовала странное, новое чувство. Это была не радость. Это была тяжелая, холодная уверенность. Она только что совершила первый в своей жизни осознанный акт сопротивления. Маленький, хитрый, но ее.
В последующие дни она внимательно наблюдала за Аран. И заметила перемену. Старшая служанка стала… менее назойливой. Ее ночные обыски стали не теми тщательными, более формальными. А однажды утром Ми Ён обнаружила под подушкой не свою, а другую, более теплую грелку для ног – Аран положила ее, пока та спала. Это была не просто служба. Это была почти… забота. Странная, неуклюжая, но заметная.
Ми Ён не понимала, что происходит. Но это недоверие смешивалось с осторожной надеждой. Может, и у Аран есть своя история, свои страхи? Может, не все в этом дворце абсолютно безнадежно?
Через неделю после получения записки, ближе к вечеру, ее снова охватило нестерпимое желание действия. Она должна была дать ему знак. Знак, что она получила его сообщение. И что она не предала. Но не словами – слова ненадежны. Действием.
Она снова отправилась в библиотеку. На этот раз она подготовилась. В рукаве у нее была не записка, а тонкий, высушенный лепесток розы – тот самый, что она нашла засохшим в книге стихов еще дома. Он был хрупким, почти прозрачным, цвета старого вина. Он не значил ничего для постороннего. Но для того, кто ждал знака в щели… это могло быть всем.
Она положила лепесток в ту же щель. Простой, безмолвный ответ: «Я здесь. Я получила. Я не твой враг».
Возвращаясь, она почувствовала легкое головокружение от смеси страха и волнения. Она шла по галерее, ведущей к ее покоям, когда услышала за поворотом голоса. Мужские голоса. Один из них был низким, властным – евнуха Кима. Второй – молодым, почтительным. Она замерла, прижавшись к стене.
– …и ты уверен, что он проявил интерес? – спрашивал евнух.
—Абсолютно, господин, – отвечал молодой голос. Это был лейтенант Кан, она узнала его по тому, как он докладывал на недавнем смотре. – Он остановился, спросил о моем плече, о матери. Было видно – он ищет преданных людей. Не тех, кто куплен, а тех, кому можно верить.
—И ты создал такое впечатление?
—Я старался, господин. Я говорил правду. Почти всю.
Евнух тихо засмеялся, звук был похож на шелест сухих листьев.
—Хорошо. Продолжай в том же духе. Будь идеальным солдатом. Скоро представится случай проявить себя более… наглядно. Теперь иди.
Ми Ён, затаив дыхание, слышала, как шаги Кана удаляются в другую сторону. Она ждала, пока не стихнут и шаги евнуха, и только тогда, вся дрожа, продолжила путь. Ее ум лихорадочно работал. Значит, рядом с королем внедряют своего человека. Лейтенанта, который должен завоевать его доверие. Это была опасность, о которой он, возможно, даже не подозревал.
Она почти бегом добежала до своих покоев, сердце выскакивало из груди. Теперь у нее была информация. Настоящая, опасная информация. Ей нужно было предупредить его. Но как? Она не могла просто подойти. Не могла послать слугу. Щель в библиотеке была для пассивной связи, для знаков, а не для подробных донесений.
И тогда она вспомнила про Аран. Про ее странную перемену. Риск был чудовищным. Но другого выхода не было.
Вечером, когда Аран помогла ей подготовиться ко сну, Ми Ён не отпустила ее сразу.
– Аран, – тихо сказала она, глядя на служанку в отражение зеркала. – У меня к тебе вопрос.
– Да, госпожа?
—Если бы… если бы я хотела передать что-то очень важное. Не отцу. Не дяде. А… кому-то здесь, во дворце. Кому-то, кто, возможно, не в ладах с моей семьей. Как мне это сделать безопасно?
Лицо Аран стало каменным. Ее глаза, обычно потупленные, поднялись и встретились с отражением Ми Ён в зеркале. В них не было ни удивления, ни осуждения. Был холодный, профессиональный расчет.
– Это очень опасная игра, госпожа, – так же тихо сказала Аран.
—Я знаю. Но вопрос гипотетический.
Аран помолчала, ее пальцы замерли на гребне, которым она расчесывала волосы Ми Ён.
—Через человека, которого нельзя заподозрить в связях ни с одной из сторон. Через того, кто имеет доступ куда угодно и к кому привыкли. Через… врача, например. Или через слугу, который носит вещи в прачечную. Но это должен быть человек, чью преданность можно купить. Или… на кого можно надавить.
Ми Ён вздрогнула. «Надавить». Она вспомнила испуганное лицо Окчжи. Нет, только не через нее. Она не может втянуть девочку в эту игру.
– Спасибо, Аран. Ты можешь идти.
Но служанка не ушла. Она положила гребень, обошла кресло и опустилась на колени перед Ми Ён, глядя на нее снизу-вверх. В ее глазах была странная смесь страха и решимости.
– Госпожа, – прошептала она так тихо, что было почти не слышно. – Я… я могу помочь. Если это действительно важно. Если это… для вашего блага. И для блага… того, кому вы хотите передать.
Ми Ён почувствовала, как леденеет кровь. Это была провокация? Искренность? Она не могла доверять. Но другого выхода не было.
– Почему? – выдохнула она. – Почему ты стала бы рисковать?
Аран опустила глаза. Ее губы дрогнули.
—Потому что у меня есть сын, госпожа. И я вижу… я вижу, в какую игру играют здесь большие люди. И я не хочу, чтобы мой сын стал разменной монетой. Как мы с вами. Если есть шанс… шанс что-то изменить, даже маленький… возможно, стоит рискнуть.
Слезы выступили на глазах у Ми Ён. Впервые за все время пребывания во дворце кто-то сказал что-то настоящее. Что-то человеческое. Даже если это была ложь, это была красивая ложь, в которую она отчаянно хотела верить.
Очень медленно, наблюдая за каждым движением Аран, она поднялась, подошла к шкатулке, достала фальшивую записку о встрече министров. Но это было уже не то сообщение. Новую информацию нужно было передать устно.
– Запомни, – сказала она, глядя прямо в глаза служанке. – Лейтенант Кан из королевской стражи – человек евнуха Кима. Он должен войти в доверие к королю. Это все, что нужно передать. Тому… кому это может быть важно.
Аран кивнула, ее лицо было бледным, но решительным.
—Я передам, госпожа. Через… надежный канал.
– Как я узнаю, что это сделано?
—Вы увидите знак, госпожа. Красный камень под горшком с хризантемой у вашего балкона. Когда он появится – значит, сообщение доставлено.
Ми Ён кивнула. Больше говорить было нечего. Она отпустила Аран и осталась одна в огромной, тихой спальне. Она только что совершила невероятное. Она вступила в сговор. Возможно, сама подписала себе смертный приговор. Но в ее груди, вместе со страхом, жило что-то еще. Нечто твердое и острое, как лезвие, спрятанное в складках одежды. Это была воля. Ее собственная воля. Впервые в жизни она действовала не как дочь, не как жена, не как пешка. А как Ким Ми Ён. И этот вкус свободы, даже такой опасной и горькой, был слаще любого меда.
Глава 4. Плоть, кровь и шепоты.
Дождь наконец прекратился, оставив после себя тяжелое, влажное марево, окутавшее дворец. Воздух в покоях Ли Джина был густым, словно пропитанным испарениями с мокрых крыш и земли. Он стоял у открытого окна, но свежести это не приносило – только запах прелой листвы и мокрого камня.
Прошло пять дней с тех пор, как Со Ин положил записку в щель. Пять дней напряженного ожидания. И вот сегодня утром, на заседании совета по налогам, произошло то, чего он боялся и на что надеялся одновременно.
Евнух Ким, представляя отчет министра обороны, небрежно заметил:
—Кстати, Ваше Величество, министр Чо планирует на днях инспекцию столичного гарнизона. Чтобы лично проверить боеготовность. Возможно, в павильоне у Восточного пруда. Там хороший обзор тренировочных полей.
Сердце Ли Джина замерло. «Восточный пруд». Именно то место, что было указано в его записке. Но… ничего о тайной встрече. Ничего о часе Змеи. Просто инспекция. Либо евнух не получил информации, либо получил, но решил не раскрывать свои карты, либо… получил искаженные данные.
Он кивнул, стараясь, чтобы его лицо оставалось бесстрастным.
—Пусть проведет инспекцию. Боеготовность – важнейший вопрос.
Но внутри все ликовало. Если бы Ми Ён передала точную информацию – реакция была бы иной. Значит, она либо не передала, либо передала ложную. И второй вариант был гораздо вероятнее, учитывая исчезновение записки из щели и появление там засушенного лепестка – знака, о котором сообщил Со Ин.
Теперь он получил еще одно подтверждение. Со Ин вошел без стука – только в его присутствии он позволял себе такое.
– Камень, – коротко сказал Со Ин. Его лицо было напряжено. – Красный камень под горшком с хризантемой на балконе королевы появился сегодня на рассвете. Аран передала сообщение.
Ли Джин обернулся от окна.
—И?
– «Лейтенант Кан – человек евнуха. Стремится войти в доверие». Коротко и ясно.
Ли Джин медленно выдохнул. Так. Значит, она не только не предала, но и сама вышла на связь. Передала ценную информацию через того самого шпиона, которого Со Ин завербовал. Это был не просто знак. Это был союзнический жест. Рискованный, смелый.
– Хорошо, – сказал он. – Значит, она с нами. Или, по крайней мере, не с ними.
Со Ин не выглядел обрадованным.
—Это делает ее мишенью, Джин. Если евнух заподозрит…
– Он уже подозревает, – перебил Ли Джин. – Он чувствует перемену. Я видел его взгляд сегодня. Он изучает меня, как змея перед броском. Нам нужно действовать. Ускорить наши планы.
– Какие планы? – спросил Со Ин. – У нас нет армии. Нет союзников при дворе. Только горстка преданных гвардейцев и… девушка, которая боится собственной тени.
– У нас есть информация, – поправил его Ли Джин. Его глаза горели холодным огнем. – И у нас есть доступ. К ее покоям. К ее телу.
Со Ин нахмурился, не понимая.
—Ты не можешь серьезно думать о…
– Я думаю о наследнике, – жестко сказал Ли Джин. – Именно этого от меня ждут. Именно этого требует «стабильность». Так пусть они получат то, чего хотят. Но на наших условиях.
Он подошел к столу, взял кисть, но не стал писать. Просто вертел ее в пальцах.
– Евнух хочет ребенка от меня и Ми Ён. Ребенка с кровью Кимов, который станет его вечной гарантией власти. Бабушка хочет того же – продолжения династии, пусть и с чужим влиянием. Что ж… – он посмотрел на Со Ина, и в его взгляде было что-то почти безумное, – дадим им ребенка.
– Джин…
—Но прежде чем он родится, – продолжил Ли Джин, не слушая, – мы должны быть уверены, что мать на нашей стороне. По-настоящему. Не из страха, не из расчета. А потому что она видит в этом единственный шанс на выживание для себя и для него. Для нашего ребенка.
Со Ин молчал. Он видел логику. Безумную, отчаянную, но логику. Ребенок, наследник, менял все. Это был не просто символ. Это была реальная власть. Пока ребенок не родится, Ли Джин был нужен как производитель. После рождения… его могли устранить, сделав регентом евнуха или Вдовствующую королеву. Но если Ми Ён будет на их стороне, если они смогут убедить ее бороться за права сына и отца…
– Ты хочешь использовать ее как щит, – тихо сказал Со Ин.
– Я хочу дать ей причину сражаться, – поправил Ли Джин. – За себя. За ребенка. И, возможно… за меня. Для этого нужно, чтобы она перестала видеть во мне врага. Чтобы она увидела во мне… мужа. Союзника. Хотя бы на время.
– И как ты это сделаешь? – спросил Со Ин. Его голос был скептичным. – Ты не умеешь играть в нежность, Джин. Это не твоя стихия.
– Я научусь, – сказал Ли Джин, и в его голосе прозвучала стальная решимость. – Если это необходимо для выживания. Для мести. Я буду играть в любящего мужа. Буду приходить к ней. Разговаривать. Делиться мыслями. Буду… трогать ее. Не как в ту ночь. Иначе.
Со Ин смотрел на друга, и в его обычно непроницаемых глазах читалась тревога. Он видел, как Ли Джин меняется. Видел, как холодная ярость и расчет начинают смешиваться с чем-то еще – с интересом, с жалостью, с зарождающимся чувством, которое они оба боялись назвать.
– Это опасно, – наконец произнес Со Ин. – Для тебя. Ты начинаешь… чувствовать.
Ли Джин резко обернулся.
—Я ничего не чувствую! – его голос прозвучал резко, почти истерично. – Это тактика! Всего лишь тактика!
Но они оба знали, что это ложь. Слишком страстно прозвучало отрицание.
Со Ин вздохнул и кивнул.
—Хорошо. Тактика. Что мне делать?
– Убедись, что Аран надежна. Проверь все, что она передает. И подготовь почву для того, чтобы приблизить лейтенанта Кана. Но осторожно. Пусть думает, что его план работает. А мы будем знать каждый его шаг.
Когда Со Ин ушел, Ли Джин остался один. Он подошел к зеркалу из полированной бронзы, висевшему на стене. Смотрел на свое отражение – молодое, но изможденное лицо с темными кругами под глазами, с жесткой линией губ, с взглядом, в котором слишком рано поселилась старость.
«Любящий муж», – прошептал он самому себе. Слова звучали фальшиво, как театральная реплика.
Он вспомнил ее лицо в библиотеке. Слезу на щеке. Дрожь в пальцах. Голос, читающий стихи об одиноких гусях.
Ему нужно было увидеть ее. Сейчас.
***
Покои Ми Ён были погружены в тишину. Она сидела у окна, что-то вышивая, но пальцы ее двигались механически, мысли были далеко. Красный камень под горшком… Аран сказала, что сообщение передано. Что теперь? Ждать ответа? Ждать, что он придет?
И он пришел.
Стук в дверь был негромким, но властным. Окчжи, сидевшая в углу, вздрогнула и бросила вопросительный взгляд на госпожу. Ми Ён кивнула, сердце заколотилось. Дверь открылась, и в проеме возникла фигура Ли Джина. Он был один, без свиты, в простом темно-синем халате.
Окчжи немедленно склонилась в глубоком поклоне и, получив едва заметный жест Ми Ён, выскользнула из комнаты, закрыв за собой дверь.
Они остались одни.
Ми Ён поднялась, сделала церемониальный поклон.
—Ваше Величество. Я не ожидала…
– Встань, – сказал он. Его голос звучал ровно, но не холодно. – Я пришел… проведать тебя.
Он подошел ближе, его взгляд скользнул по вышивке, по ее рукам, по лицу. Она почувствовала, как кровь приливает к щекам под этим изучающим взглядом.
– Благодарю, Ваше Величество. Я… я в порядке.
– Лжешь, – мягко сказал он. И это было так неожиданно, что она невольно подняла на него глаза. Он стоял теперь совсем близко, и она видела усталость в его глазах, ту же самую, что носила в себе. – Так же, как и я лгу, когда меня спрашивают, как я.
Он отвернулся, прошелся по комнате, остановился у ее столика с книгами. Коснулся пальцами корешка той самой синей книги.
– «Песни лунного ветра», – прочитал он название вслух. – Подходящее. В этом дворце всегда дует какой-то ветер. Холодный и несущий дурные вести.
Ми Ён молчала, не зная, что сказать. Его поведение сбивало с толку. Он был не холоден, не враждебен. Он был… уязвим. И это пугало больше, чем его гнев.
– Я получил твое сообщение, – сказал он вдруг, оборачиваясь к ней. – О Кане. Спасибо.
Она замерла. Так он знает! Знает о канале через Аран!
—Я… я не знала, как иначе…
—Ты поступила правильно, – перебил он. – Рискованно, но правильно. – Он снова подошел к ней. Теперь они стояли лицом к лицу, на расстоянии вытянутой руки. – Они внедряют его, чтобы следить за мной. Чтобы стать моим «другом». Твоя информация… она может спасти мне жизнь.
Она смотрела на него, на его серьезное лицо, и вдруг поняла, что делает. Она вступила в настоящий заговор. Против собственного отца. Против дяди. Ради этого человека, который когда-то смотрел на нее с ненавистью.
– Почему? – вырвалось у нее. – Почему вы… почему вы теперь доверяете мне?
Он улыбнулся. Это была горькая, усталая улыбка, но первая настоящая улыбка, которую она видела на его лице.
—Потому что одинокие гуси иногда находят друг друга в темноте, – процитировал он ее же слова, сказанные в саду. – И начинают лететь вместе. Пусть и не зная, куда.
Он протянул руку, медленно, давая ей время отступить. Но она не отступила. Его пальцы коснулись ее щеки, легкие, почти невесомые. Его кожа была теплой, шероховатой от меча и лука.
– Ты так же боишься, как и я, – прошептал он. – Ты так же одинока. И у нас общие враги. Разве этого недостаточно для начала доверия?
Ее дыхание перехватило. Прикосновение было таким нежным, таким неожиданным. После той первой ужасной ночи, после недель холодности… это было как ожог. Но ожог, от которого не хотелось отстраниться.
– Мне страшно, – призналась она тихо, не в силах солгать. – Если они узнают…
– Они не узнают, – сказал он, и в его голосе зазвучала та самая стальная уверенность, которую она слышала в тронном зале, когда он отдавал приказы. – Мы будем осторожны. И мы будем защищать друг друга.
Его рука скользнула с ее щеки на шею, большие пальцы провели по линии челюсти. Его прикосновения были исследующими, но не властными. Как будто он заново открывал для себя контур ее лица.
– Ты красивая, – сказал он вдруг, и это прозвучало так искренне, что у нее перехватило дыхание. – Не как кукла на парадах. Настоящая. Когда ты плачешь или, когда читаешь стихи… ты живая.
Его слова ранили и исцеляли одновременно. Никто никогда не говорил с ней так. Никто не видел в ней ничего, кроме инструмента, украшения, сосуда.
– Вы тоже… – начала она, но голос предательски дрогнул. – Вы тоже не такой, как все думают. Когда вы не на троне…
– Я устал притворяться, – прервал он. Его лицо было так близко, что она чувствовала его дыхание на своих губах. Оно пахло чаем и чем-то горьким, травяным. – Устал быть марионеткой. Устал носить эту маску. С тобой… с тобой я хочу быть просто Ли Джином. Хотя бы ненадолго.
И тогда он поцеловал ее.
Это не был поцелуй страсти или владения. Это был поцелуй признания. Поцелуй двух потерянных душ, нашедших друг друга в кромешной тьме. Его губы были мягкими, осторожными. Он не спешил, давая ей привыкнуть, почувствовать.
И она ответила. Сначала неуверенно, потом – с отчаянной жаждой, которую сама в себе не подозревала. Ее руки поднялись, коснулись его плеч, ощутили под шелком халата жесткие мышцы. Он был реальным. Твердым. Живым.
Когда они наконец разъединились, оба дышали неровно. Он смотрел на нее, и в его глазах бушевала буря – желание, страх, надежда, отчаяние.
– Они хотят, чтобы мы зачали ребенка, – прошептал он, его лоб прикоснулся к ее лбу. – Они ждут. Давай… давай дадим им то, чего они хотят. Но пусть это будет наш ребенок. Наш союз. Наша тайна.
Она понимала, что он предлагает. Не просто физический акт для зачатия наследника. А нечто большее. Союз. Заговор плоти и крови. Ребенок, который будет принадлежать им обоим, а не клану Ким. Ребенок, ради которого они будут бороться.
– Да, – выдохнула она, и это было самым смелым словом в ее жизни.
Он снова поцеловал ее, но теперь уже с большей настойчивостью. Его руки скользнули по ее плечам, сняли верхний халат. Шелк соскользнул на пол с легким шорохом. Она не сопротивлялась. Наоборот, ее пальцы потянулись к завязкам его халата, развязали их. Ткань разошлась, обнажив его грудь – мускулистую, покрытую несколькими бледными шрамами. Она прикоснулась к одному из них, длинному, идущему вдоль ребер.
– Это… – начала она.
– Подарок от человека, который хотел убить моего отца, – тихо сказал он. – Я принял удар, предназначенный ему. Мне было пятнадцать.
Ее сердце сжалось от боли, не своей, а его. Она наклонилась, прижалась губами к шраму. Ее поцелуй был легким, как прикосновение бабочки. Он вздрогнул, и его руки сомкнулись на ее талии, притягивая ближе.
Он вел ее к ложу. На этот раз не бросал, а уложил бережно, как что-то хрупкое и ценное. Его прикосновения были иными – не механическими, не гневными. Он изучал ее тело, как карту неизвестной земли, находил места, которые заставляли ее вздрагивать, вздыхать. Его пальцы, знавшие только мечи и лук, были удивительно нежными, когда скользили по ее коже, снимая с нее остатки одежды.
Она смотрела на него, на его сосредоточенное лицо, на темные глаза, в которых отражался свет свечей и ее собственное отражение. Она не чувствовала страха. Только странное, щемящее волнение и острое желание быть ближе, раствориться в этом моменте, забыть обо всем – о дворце, об интригах, о страхе.
Когда он вошел в нее, боль была, но иная – не рвущая, а наполняющая. И он чувствовал это, останавливался, давая ей привыкнуть, целуя ее шепотом: «Все хорошо… я здесь… мы вместе».
Их движения были медленными, глубокими, ритмичными. Это не было животным соитием ради зачатия. Это был танец. Танец двух тел, двух душ, нашедших друг друга в аду. Она обвила его ногами, впилась пальцами в его спину, чувствуя, как мышцы играют под кожей при каждом толчке. Он шептал ей на ухо – не слова любви, они были бы ложью, а слова признания: «Ты сильная… ты прекрасная… мы выживем… мы победим».
Оргазм нахлынул на нее волной, неожиданной и всепоглощающей. Она закричала, но не от боли – от освобождения, от чувства, что она наконец-то живая, что ее тело принадлежит ей, а не им. Он последовал за ней, его тело напряглось, из груди вырвался низкий стон, и он обрушился на нее всем своим весом, но тут же перекатился на бок, не желая давить.
Они лежали рядом, дыша в унисон, покрытые потом, их тела все еще соединены. Свет свечей плясал на потолке, отбрасывая причудливые тени.
Он повернулся к ней, обнял, прижал к себе. Его сердце билось часто-часто, стуча в ее ухо.
—Спасибо, – прошептал он в ее волосы.
—За что? – ее голос был хриплым от пережитых эмоций.
—За то, что не оттолкнула. За то, что поверила. За то, что ты – это ты.
Она прижалась к нему, чувствуя тепло его тела, запах его кожи, смешанный с запахом секса и пота. В этом была какая-то дикая, животная правда. Близость, которой у них не было раньше и, возможно, не будет потом. Но в этот момент она была реальной.
– Что теперь? – спросила она тихо.
– Теперь мы ждем, – сказал он. – И готовимся. У тебя будет ребенок. Наш ребенок. И пока ты будешь носить его, они не тронут тебя. А я… я буду рядом. Насколько смогу.
– А если… если не получится с первого раза?
Он горько усмехнулся.
—Тогда будем стараться снова. У нас есть время. Месяц, два… пока они не начнут давить сильнее. – Он приподнялся на локте, смотря на нее. Его лицо было серьезным. – Но ты должна быть осторожной. Ты беременеешь – твоя ценность для них возрастает. Но и опасность тоже. Бабушка… она будет следить за тобой как ястреб. Евнух Ким будет пытаться влиять на тебя через твою семью.
– Я знаю, – сказала она. Ее рука легла на живот, плоский и мягкий сейчас. Но скоро… скоро там может начаться новая жизнь. Их жизнь. – Я буду осторожна. И я… я буду защищать нашего ребенка. Любой ценой.
Он поцеловал ее в лоб, долго и нежно.
—Мы будем защищать его вместе.
Они лежали так еще долго, не говоря ни слова, просто слушая дыхание друг друга. За окном сгущалась ночь, дворец затихал, погружаясь в ложный сон. Но в этой комнате, на этом ложе, два сердца бились в унисон, замыслив невозможное – вырвать свое будущее из рук тех, кто считал их своей собственностью.
Когда он наконец поднялся, чтобы одеться, она не отпускала его руку.
—Придешь снова? – спросила она, и в ее голосе прозвучала та самая детская неуверенность, которую она так тщательно скрывала.
Он наклонился, поцеловал ее в губы – быстро, но страстно.
—Приду. Всегда. Когда смогу.
Он ушел так же тихо, как и пришел, оставив ее одну в постели, пахнущей им и их совместным грехом-надеждой. Она лежала, глядя в потолок, и ее рука все еще лежала на животе.
Ребенок. Их ребенок. Плод нелюбви – до любви им было еще далеко, – но доверия. Отчаяния. Союза.
Она чувствовала, как что-то меняется внутри нее. Не только физически. Меняется она сама. Из жертвы, из пешки она превращалась в союзницу. В мать. В воина.
Ей было страшно. Ужасно страшно. Но впервые за долгое время этот страх был смешан не с безысходностью, а с решимостью. С волей к борьбе.
Она повернулась на бок, к тому месту, где лежал он, и вдохнула запах, оставшийся на подушке. Запах мужчины, который стал ее мужем не только по названию. Запах союзника. Запах надежды, хрупкой и опасной, как первый лед на зимней реке, но надежды.
А в соседней комнате, за тонкой ширмой, Аран, притворявшаяся спящей, лежала с открытыми глазами и слушала тишину. На ее лице не было выражения. Она думала о своем сыне. О красном камне под горшком. О двух молодых людях, которые только что совершили акт не только плотский, но и политический. Акт войны.
И она, Аран, бывшая шпионка евнуха, а теперь двойной агент, знала, что игра только начинается. И ставки стали еще выше. Теперь на кону была не только власть, но и жизнь не рождённого ребенка. И кровь, которую придется пролить, чтобы его защитить.
***
Вечер того же дня застал Пак Ми Хи не в ее личных покоях, а в небольшом, почти аскетичном кабинете, примыкавшем к дворцовой лечебнице. Здесь царил иной запах – не сандала и сухих цветов, а резковатый аромат лекарственных трав, разложенных в аккуратные пучки на полках из светлого дерева, и едва уловимый, но въедливый запах чего-то химического, исходивший из приоткрытой двери в соседнюю комнату, где ее личный лекарь, Сан, готовил снадобья.
Сама королева-вдова сидела в кресле с прямой спинкой, отороченной темным бархатом. Перед ней на столе лежали не нефритовые резцы, а несколько свитков – отчеты ее сети наблюдателей. Она читала их при свете высокой лампы с абажуром из зеленого стекла, который отбрасывал холодный, бесстрастный свет на пергамент и на ее тонкие, почти прозрачные руки.
Ее лицо, обычно такое непроницаемое, сегодня выдавало легкое, едва уловимое напряжение. Между тонко вычерченными бровями залегла вертикальная морщинка. Она только что закончила читать донесение о сегодняшнем визите Ли Джина в покои молодой королевы. Сообщение было лаконичным: «Король вошел в покои королевы в час Собаки. Находился внутри около двух часов. Служанка Окчжи была удалена. После его ухода в покоях соблюдалась тишина. Утром служанка Аран сообщила, что королева отдыхает и просит не беспокоить».
Два часа. Не пять минут для формального исполнения долга. Два часа. Это меняло все.
Ми Хи отложила свиток, сомкнула пальцы перед собой. Ее ногти, сегодня не покрытые лаком, выглядели бледными и острыми, как когти хищной птицы.
«Слишком быстро, – подумала она. – Слишком быстро они нашли общий язык. Или… общее отчаяние».
Она знала, что ее внук не способен на легкомысленную страсть. Не в его характере. Если он пошел к ней и задержался – значит, между ними произошел разговор. Договор. Союз. И этот союз был направлен против общего врага. Против системы, которую олицетворяли она и евнух Ким. Возможно, даже в большей степени – против нее. Потому что кровь связывала, а ненависть к постороннему была чище.
В дверь кабинета постучали. Три четких удара.
—Войди, Сан.
Лекарь вошел, неся небольшой лакированный поднос. На нем стояла чашка с темным, почти черным отваром и две маленькие фарфоровые баночки с серебряными крышками. Он молча поставил поднос на стол, отступил на шаг и склонил голову, ожидая.
– Ты проверил сегодняшние образцы? – спросила Ми Хи, не глядя на него, уставившись в зеленоватый свет лампы.
—Из кухни королевы, из покоев короля и из общей столовой для высших слуг, – кивнул Сан. Его голос был монотонным, профессиональным. – Ничего необычного. Пища чиста. Вода тоже. В чае королевы обнаружены следы легкого успокоительного – валериана и мята. То, что я сам прописывал ей от бессонницы.
—А в его?
—В чае короля— только женьшень и немного имбиря. Для бодрости. Никаких посторонних примесей.
Ми Хи кивнула. Значит, евнух Ким пока не решился на прямое отравление. Или был слишком осторожен. Или… хотел чего-то иного.
– А как насчет… репродуктивных возможностей? – спросила она, наконец поворачивая к нему голову. Ее темные глаза, лишенные в этот вечер привычной подводки, казались запавшими, но не менее проницательными.
Сан слегка кашлянул.
—Образцы… э-э… семени короля получить практически невозможно без его ведома. А наблюдения за его физическим состоянием не указывают на какие-либо проблемы. Он молод, здоров, тренирован. С медицинской точки зрения препятствий для зачатия нет. – Он сделал паузу. – Что касается королевы… менструальный цикл установился, регулярный. Признаков бесплодия или заболеваний не наблюдается. Она также вполне здорова.
– Здоровье – это хорошо, – сухо заметила Ми Хи. – Но одного здоровья недостаточно. Нужно желание. Или, в крайнем случае, отсутствие активного сопротивления. – Она вздохнула, ее пальцы постучали по столу. – Два часа, Сан. Что они могли делать два часа?
Лекарь опустил глаза, его лицо оставалось бесстрастным.
—Ваше Величество, я врач, а не шпион.
—Ты – мои глаза и уши в тех вопросах, где другие бессильны, – поправила она. – Девушка. Шестнадцать лет. Испуганная, одинокая. Молодой мужчина, который сначала ее ненавидел, а теперь… что? Проявил участие? Пообещал защиту? Как это могло повлиять на ее… восприятие его?
Сан задумался, подбирая слова.
—Страх и одиночество – мощные катализаторы, Ваше Величество. Они могут порождать ненависть. Но могут… и привязанность. Особенно если источник страха и источник потенциального спасения – одно и то же лицо. Это создает сложный психологический узел. Девушка может начать видеть в своем муже-враге единственную опору в мире, который ее предал. Это опасная динамика.
«Опасная», – мысленно повторила Ми Хи. Да. Опасная для их планов. Если эти двое сплотятся по-настоящему, если между ними возникнет не просто союз по необходимости, а нечто большее – доверие, зависимость, привязанность… тогда контроль над ними усложнится в геометрической прогрессии. Ребенок от такого союза будет не просто наследником, а символом их сопротивления. Оружием в их руках.
