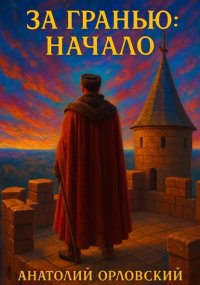Читать онлайн За гранью: путь бесплатно
- Все книги автора: Анатолий Орловский
Глава 1 Пол года тишины
Когда календарь в городской ратуше в очередной раз перевернули на новый месяц, я поймал себя на том, что считаю не дни, не недели, а именно месяцы – от того вечера, когда Фольк вернулся с орочьей границы и рассказал о разрывах.
С тех пор прошёл уже почти полный круг времён года. Тогда под ногами была грязь и талый снег, теперь земля подсыхала, и ветер тянул в окна запах влажной почвы и дыма от первых костров, на которых жгли прошлогодний сор с полей.
Демоны за это время ни разу не показались у наших границ. Ни одной чёрной трещины на небе над нашими лесами, ни одного крика, от которого вянет душа, ни единого следа тех тварей, что рвали орков. И именно это раздражало сильнее всего. Если бы беда уже стояла у ворот, было бы понятно, что делать. А так она словно застыла чуть поодаль, как тёмное пятно на горизонте: не подходит ближе, но и не исчезает.
Я сидел в своём зале, глядя на стол, заваленный бумагами, и внезапно ясно понял очень простую вещь: всё, чем я занимался последние полгода, выросло из одного‑единственного вечера – того, когда я сел за этот же стол и впервые за долгое время сам взял в руки перо.
До этого мне всегда удавалось отговориться. «Пусть пишет кто‑то из писарей», «подготовим черновик, а я только подпишу». Но в тот раз никакой писарь не мог заменить меня. Слишком важно было не только, что будет написано, но и от кого.
Передо мной лежали три чистых листа пергамента. Каждый – для своего адресата. От того, что я напишу на них, зависело, как мир отреагирует на весть, которую не хотелось признавать самому: демоны у орков – это не очередная легенда из монастырских хроник, а факт.
Я хорошо помню, с какого письма начал.
### Магистерий: тем, кто знает, что такое демоны не по картинкам
Руку к первому листу я потянул почти автоматически. Писать Магистерию было, как ни странно, проще всего. По крайней мере, там сидели люди, которые понимали, что я описываю, и могли отличить слух от наблюдения.
Я неторопливо вывел обращение к Совету, к их вечным «досточтимым», а дальше уже не стал выстраивать витиеватые фразы. Никаких «невыразимой тьмы», «страшной кары» и прочих штампов, которыми любят украшать проповеди. Только то, что видел Фольк и его люди.
О том, как они шли по старой его тропе, ожидая привычных орочьих засад, а вместо этого попали в странную, мёртвую тишину. О том, как дошли до первого сторожевого камня, который орки годами мазали своим ядовито‑чёрным составом и обвешивали костями, – и не нашли там ничего, кроме чёрной ямы, будто сам мир кто‑то выжег горячим железом. О том, как деревья стояли обугленные, но не дотла – как факелы, которые кто‑то погасил на полпути.
Я описал пустые орочьи лачуги, в которых не осталось ничего живого, но на стенах засохли потёки крови, а в древесине застряли следы когтей, как будто кто‑то с яростью рвал сам дом. Написал про чёрные, жирные пятна на земле, которые Фольк не смог назвать ни сажей, ни маслом, ни кровью – что‑то другое, нездешнее.
И, главное, я постарался передать то, из‑за чего у меня самого в груди похолодело, когда Фольк рассказывал: те самые разрывы. Я не знал, как их правильно именуют в магических трактатах, поэтому и написал по‑человечески:
«Трещины в воздухе, идущие вертикально, как рваные шрамы. Из них виден не “иной мир”, как в описаниях классических врат, а только плотная тьма, сквозь которую время от времени вырываются твари. Формы их нестабильны, но общее – в искажённости тел, избытке когтей и зубов и наличии дымоподобной ауры огня».
Я рассказал и о том, что орки там делали. Не как «звери, бьющиеся в ярости», а как воины, дерущиеся в строю. Про их щиты, поставленные стеной, про копья, упирающиеся в грязь, про боевые крики, которыми они неслись на то, чего боялись не меньше нас. Про то, как они гибли, но, пока хотя бы один стоял, твари не могли продвинуться дальше. И про наш собственный неосторожный вмешательство, про случайный выстрел Тило, который сорвал равновесие в один миг.
В самом конце письма я заставил себя сформулировать вещи, из‑за которых любой уважающий себя маг мог бы взорваться от негодования. Я не просил: «Придите и спасите нас». Я просил трёх очень конкретных вещей. Признать угрозу официально. Дать указания, что можно и чего нельзя делать силами баронства рядом с разрывами. И, главное, рассмотреть вариант временного отказа от войн с орками, которые в данный момент были, нравится нам это или нет, стеной между демонами и нами.
Подписал я письмо ровно и чётко, поставил печать, а рядом – то самое условное обозначение, о котором договорился с Винцелем, когда он приезжал к нам: знак динамической угрозы. Три коротких линии, перекрещенных под острым углом. «Не паника, но и не пустяк».
Когда свиток запечатали, я отложил его в сторону и посмотрел на второй лист.
Король.
### Королю: о демонологической дыре человеческим языком
Писать магам о демонах было делом техники: описываешь явление, они сами знают, чего в этом бояться. А вот королю нужно было говорить иначе. Король, конечно, видел магию – кто‑то из придворных его время от времени радовал иллюзиями и огненными шарами. Но для него мир всегда сводился к трём вещам: людям, деньгам и земле. В этом, кстати, тоже была своя логика.
Я начал с того, что напомнил, кто я такой, и подчеркнул: обращаюсь не как провинциальный барон, который хочет выбить очередную льготу, а как человек, непосредственно отвечающий за кусок границы королевства. Абстрактные формулы про долг и честь я отбросил, оставив только то, что нельзя обойти.
Дальше – никаких магических терминов. Я рассказывал о том же, что и в письме магам, но вместо «аномалий» и «порталов» писал: «чужая дыра в мире, через которую лезет то, что пытается всех убить».
Особое внимание уделил трём вещам. Во‑первых, орки действительно сдерживают удар, несут потери, но держатся. И пока они стоят, демоны не идут к нам. Во‑вторых, если орки падут, следующими в этой мясорубке окажемся не Магистерий и не столица, а те самые пограничные земли, которые король привык воспринимать как дальнюю строку в налоговой книге. В‑третьих, если сейчас по всей стране разнесётся весть о «конце света», сперва рухнут не стены крепостей, а сеялки в полях и цены на хлеб.
Я честно написал, что не имею права требовать от короля конкретных действий, но имею право и обязанность донести до него, что происходит. И позволил себе, как мне тогда казалось, почти смертельную дерзость: фразу о том, что история спросит и его, и меня, если мы проигнорируем очевидную угрозу.
Когда пергамент с королевским обращением был исписан, я поймал себя на том, что сижу, сжав руку в кулак, и с трудом разжимаю пальцы. Странное дело: иногда проще отдать приказ, от которого зависят чьи‑то жизни, чем написать вежливое письмо.
Оставался третий лист.
### Соседи: говорить с людьми, а не с титулами
С баронами фон Мельцем и Людвигом из Кригшталя я за это время уже успел познакомиться достаточно, чтобы понимать, как с каждым говорить. Оба – дворяне, но похожи друг на друга не больше, чем кузнец на ростовщика.
Мельц был прямым, чуть грубоватым, с явной военной жилкой. Он уважал силу, ясность и умение держать слово. Ему я писал так, как говорил бы на пиру, если бы стол между нами был завален не мясом, а картами.
Я не стал делать вид, будто открываю ему небо. Написал прямо: твои люди, скорее всего, уже принесли тебе те же вести, что мои. Демоны у орков – не слух, а факт. Орки дерутся, и пока дерутся – служат нам живым щитом. Если мы будем в это время стрелять им в спину, щит может развалиться, а обломки прилетят нам в лицо.
Дальше – конкретика. На время, пока орки держат линию, не посылать к ним грабёжные отряды. Следить за границей, бить тех, кто сунется к нам, но не лезть лишний раз на ту сторону. И обмениваться сведениями, если у кого‑то из нас на северной стороне вспыхнет что‑то необычное.
В письме Людвигу я, напротив, чуть приподнял тон, больше внимания уделив форме. Этот человек слишком дорожил тем, чтобы выглядеть прилично в глазах короля и соседей, но внутри у него давно всёяло и трещало от долгов. Ему я мягко напомнил о его статусе, о нашей общей вассальной зависимости от короны, о важности «согласованных действий в непростое время». Не стал напрямую обвинять его в глупых набегах, но довольно ясно написал, что любое ослабление орочьих племён сейчас играет на руку не нам, а тем, кто лезет через разрывы.
Оба письма получились разными, но с одной и той же мыслью: враг, который сегодня стоит между нами и бездной, всё ещё враг, но убивать его прямо сейчас – всё равно что выдернуть брусья из моста, по которому ты сам ещё идёшь.
Когда я наконец отложил перо и посмотрел на три запечатанных свитка, стало ощущение, словно я отмахал не одну страницу, а несколько миль с полным доспехом. Но это было только начало.
### Ожидание ответов и полгода между строк
Ответы пришли не сразу. Мир большого уровня живёт медленно, особенно когда ему нужно признать, что под боком творится что‑то, не вписывающееся в привычные отчёты.
Первые недели после отправки писем я ловил себя на том, что каждая весть, каждый гонец, въезжающий в ворота, каждая чужая печать на конверте заставляет сердце биться быстрее. Но во дворе по‑прежнему ходили телеги с углём, на лестнице по‑прежнему путались ученики Элин, а по ночам по‑прежнему гудел молот Лотара. Жизнь шла, словно ничего не изменилось. Только где‑то внизу постоянно шевелилось ощущение, что мир уже стал другим.
Первым отозвался Магистерий.
Однажды утром во двор въехала знакомая повозка с синим гербом магической канцелярии. Курьер был тот же – молодой, когда‑то самодовольно прищуренный человек, который привозил нам первый артефакт прояснения. Теперь этот прищур сменился более сдержанным взглядом; кто‑то в столице успел объяснить ему, что не все «провинциальные барончики» одинаково глупы.
Мы прошли в зал. Он сдержанно поклонился и протянул мне тубус с печатью Совета. Печать была крупная, тяжелая, синего воска, с врезанными в него знаками стихий. Я сломал её и начал читать.
Формально письмо выглядело так, как и положено документу, вышедшему из‑под руки нескольких магистров: длинные обороты, аккуратные формулировки, осторожные выводы. Но, если выжать из этих завитков воду, отправленный мне текст можно было пересказать совсем несложными словами.
В Магистерии знали. То, о чём я писал, уже приходило к ним с других концов. Где‑то на севере, где‑то восточнее нас, но обязательно в районе орочьих земель, кто‑то ещё видел разрывы и демонов. Кто‑то погиб, кто‑то успел вернуться и сказать.
Официально они признавали: да, по периметру орочьих территорий в нескольких местах наблюдаются явления, сходные с теми, что я описал. Да, из этих очагов выходят сущности демонической природы. Да, орочьи племена несут основную тяжесть сопротивления. При этом дальше следовала большая, жирная «но».
Магистерий пока не собирался бросать в эти очаги все силы. По их словам – и я частично понимал их логику – слишком масштабное магическое вмешательство могло всё только усугубить. Неправильно подобранный ритуал, неучтённые влияния, грубая попытка «захлопнуть дыру» силой могли расширить разрыв, как слишком резкий рывок расширяет трещину в стекле.
Поэтому сейчас, писалось в письме, главной линией был «анализ и наблюдение». На сухом языке бюрократа это значило: «Мы смотрим, думаем, спорим и посылаем туда небольшие отряды боевых и исследовательских магов – аккуратно, по одному, а не всем составом».
Дальше шли рекомендации. Воздержаться от серьёзных экспериментов с магией в полосе земли шириной в пару десятков вёрст от границы с орками, чтобы не шарахнуть лишнего по уже и так напряжённой ткани мира. Укреплять оборону своих земель, не разводить панику, но быть готовы к тому, что ситуация может измениться. И – самое для меня важное – признание того, о чём я им и писал: орочьи земли сейчас, с точки зрения магов, выполняют функцию буфера.
Чуть ниже шла фраза, в которой под тоннами осторожности проглядывало живое решение: Совет Магистерия намерен обсудить с короной возможность временного пересмотра статуса орочих территорий – с враждебных на «особые буферные зоны». Это, конечно, было не «мы объявляем орков нашими лучшими друзьями», но в их языке и так формулировка означала очень много.
К письму была прикреплена небольшая записка, написанная другим почерком. Она пахла больше личным словом, чем официальным ответом. Винцель, тот самый маг, с которым я когда‑то спорил у колодца, писал коротко и прямо. Он благодарил за подробности, говорил, что внутри Совета есть люди, которым моя прямота пришлась по вкусу, и такие, которые от неё блюют. Напоминал не лезть к разрывам самому и не пускать туда всяких безумных пророков. И добавлял, уже почти не по правилам: «Если заметите хоть что‑то похожее у себя – кричите сразу. Я попытаюсь сделать так, чтобы к вам пришли те, кто умеет думать, а не только размахивать посохами».
Когда я дочитал и отложил свиток, поймал себя на странном ощущении. С одной стороны – облегчение: я не одинок в своих страхах, мир всё‑таки отреагировал. С другой – неприятное щекочущее раздражение: те, кто мог бы больше всех повлиять на судьбу разрывов, выбрали привычную позу наблюдателей.
С ответом короля всё вышло ещё интереснее.
### Король: благодарность, указ и золотой крючок
Королевское письмо шло дольше. В отличие от магов, которые умели, когда надо, действовать быстро, королевская канцелярия была механизмом тяжёлым. Пока писарь переписывает черновик, пока старший проверит каждую букву, пока первую версию отнесут тому, кто правит не страной, а кругами придворных… Время утекает.
Когда в замок прибыл королевский эмиссар, за окном уже вовсю шумела ранняя весна. Он появился так, как любят появляться люди из столицы: не один, а с небольшим, но нарядным эскортом, с две лишних повозки вещей, с лошадьми, которые явно привыкли к мощёным улицам, а не к колеям просёлков.
Эмиссар представился Генрихом фон Лаутеном. Его манеры были безупречно вежливы, голос мягок, взгляд – внимателен. В нём было и то самое лёгкое превосходство «столичного», и ощутимое умение слушать. Такие люди обычно выживают при любом правителе.
Мы уселись в зале, он развернул свиток с большой королевской печатью и начал читать вслух, хотя я и сам мог прочесть. Таков был порядок: слова короля должны звучать.
Король благодарил меня за бдительность. Это звучало почти искренне, насколько вообще искренними бывают обращения, написанные чужой рукой. Далее следовал короткий пересказ того, что донесли до столицы не только мои люди, но и другие. Я поймал в тексте знакомые обороты и понял: какие‑то части моего письма легли в основу целого набора докладов.
Король признавал: у орков действительно творится нечто, что нельзя назвать очередной стычкой. Демоны существуют не только в книгах, и их прорывы – не вопрос одной деревни. Корона, говорил свиток, «внимательно наблюдает за развитием событий», готова «предпринять необходимые меры для защиты своих подданных» и «рассчитывает на благоразумие своих вассалов».
Звучало бы это как обычная формальная отписка, если бы не один абзац в середине. Там, аккуратно, с теми же гладкими словами, которыми обычно прикрывают казни и новые налоги, говорилось о введении чрезвычайного сбора. По сути – о том, что с этого года каждое баронство должно будет заплатить короне на десятую часть больше, чем раньше.
В письме объяснялось, на что пойдут эти деньги: на усиление гарнизонов северных крепостей, на оплату магам, которых привлекут к исследованию и, по возможности, сдерживанию угрозы, на создание продовольственных запасов. Всё выглядело логично. Но от того, что логика есть, монеты легче не становятся.
Я оторвался от свитка, посмотрел на Генриха.
– “Временный сбор”, говорите? – протянул я. – У вас в столице есть особое понимание слова «временный»?
Он не смутился, только чуть поджал губы в подобии улыбки.
– Сбор введён на время, пока Его Величество и Совет не сочтут угрозу иссякшей, – ответил он честно. – Я не стану вас обманывать: подобные “временные” меры иногда задерживаются надолго. Но сейчас, барон, это действительно не прихоть. Страна тратится.
Он достал из тубуса ещё один, поменьше, свиток, и протянул мне. В этом документе уже не было красивых фраз. Там цифры шли за цифрами, крепости – за крепостями. Конкретные суммы, направленные в те или иные гарнизоны, суммы контрактов с Магистерием, расходы на ремонт северных укреплений. Я потратил время, не полагаясь на первое впечатление, и пересчитал всё в уме. Выходило, что король действительно вкладывает больше, чем собирается взять с нас сверху. Не на много, но всё‑таки.
– Хорошо, – сказал я, сворачивая свиток. – Я не стану отрицать право короля брать налог на войну. Но предупредить я обязан: если я просто перекладываю эту десятину на плечи крестьян, через пару лет у меня боеспособных мужиков останется меньше, чем вам нужно. И воинов вы потом будете собирать по кладбищам.
Генрих чуть склонил голову.
– Как вы добудете эти деньги, барон, – дело ваше, – отозвался он мягко. – Корона требует только одного: чтобы они дошли вовремя и полностью. В остальном… вы сами знаете свою землю лучше нас.
Он помолчал, а потом, как бы между делом, добавил:
– Ваше письмо, кстати, произвело впечатление. В столице о демонах до этого говорили больше как о чём‑то удобном для проповедей. Вы же описали их не как карающее чудо, а как дыру в системе. Это заставило кое‑кого из старых вельмож наконец посмотреть на карту, а не в бокал.
Я усмехнулся.
– Страшнее всего для придворных, значит, не чудовище, а цифра, которая не сходится?
– Вы недалеки от истины, – с той же лёгкой улыбкой согласился он.
Когда эмиссар, отобедав и обменявшись со мной вежливыми пустяками, уехал, я долго стоял у окна, глядя на то, как по двору ходят телеги, как бегают мальчишки, как на реке крутится водяное колесо. В руках у меня было два свитка, которые означали одно: деньги, которых и так не хватало, придётся выцарапывать из ещё более твёрдой земли.
Но оставлять угрозу без ответа я тоже не мог. Если король собирался вкладываться в оборону страны, было бы глупо сыграть в оскорблённую невинность и отказаться. Пришлось сесть за стол знову, уже не для писем, а для подсчётов.
Считать я умел. И умел смотреть на цифры не как на абстракцию, а как на людей за ними. Когда мы с Хансом разложили на столе все книги доходов и расходов, у меня замелькали перед глазами не просто строки «подать с деревни такой‑то», «доход от лесопилки», «аренда лавок», но лица: упрямый Эрнст с его коровами, Лотар, стучащий молотом до ночи, староста, у которого дом вечно перекошен потому, что каждый год его подмывает, и он всё не может собрать людей на ремонт.
Корона требовала десять процентов сверх прежнего. Это вроде бы немного, если смотреть с высоты тронного зала. Но для того, кто живёт на грани, каждые десять сверху могут стать тем камнем, который перевешивает весы.
Первое и главное решение было простым: тянуть эти деньги только с крестьян – значит выстрелить себе в ногу. Без корней не держится ни одно дерево, каким бы красивым оно ни казалось сверху. Значит, придётся резать не только по низам.
Мы с Хансом по несколько вечеров подряд сидели до темноты, считали, перекладывали, спорили. Поначалу он пытался было предложить самое привычное: чуть‑чуть поднять общую земельную подать. Я спросил, на сколько – он ответил, мы прикинули, и сразу стало понятно: два урожая подряд без сбоев – и, возможно, крестьяне выдержат. Один неурожай – и всё посыплется.
Тогда мы пошли другим путём. Для начала пересмотрели, сколько кто платит. Не в теории – на практике. Выяснилось много интересного. Одни из земель тянули всё, что могли, другие – жирели на том, что их держали за бедные. Там, где люди вкладывались в поля, расширяли пашню, чинили орудия, – уже и так платили нормально, и вытаскивать из них ещё больше было бы сродни самоубийству. Зато нашлись куски хорошей, удобной земли, где поколениями ленились пахать по‑настоящему. Этих решили слегка встряхнуть. Не так, чтобы разорить, но достаточно, чтобы смысл в том, чтобы держать землю пустой, исчез.
Следующий шаг оказался естественным: купцы. Годами они пользовались нашими дорогами, мостами, рынком, воротами, а платили так, словно делали одолжение. Мы аккуратно пересчитали, что даёт торговый поток, который идёт через наше баронство. И поняли, что повышать пошлины можно не ломясь, но уверенно. Добавив по капле за проезд повозки, за складирование товара, за охрану караванов, можно было собрать приличную сумму. Тем более что после наведения порядка с бандитами и казни нескольких слишком наглых купцов наш тракт начал пользоваться куда большей популярностью: через нас стало реально безопаснее ездить.
Мы немного подняли арендную плату за самые выгодные лавки в городе – те, что отошли казне после конфискации имущества Крамера и его дружков. Новые арендаторы уже успели подняться на их месте, и платить они были в состоянии. Пара особо жадных пыталась жаловаться, но, увидев вдалеке всё те же виселицы, быстро сникла.
Самым неприятным этапом стало закрытие дыр коррупции. Ханс с Конрадом подняли все недавно заключённые соглашения, сравнили цифры и выстроили цепочку, по которой текли деньги. Выяснилось, что в город по‑прежнему приходят некоторые суммы «мимо» книги. Мы не стали устраивать из этого очередное показательное шоу, как с тремя купцами, но нескольких человек приняли тихо, с фактами на руках. Кто‑то лишился должности, кто‑то – свободы. Важнее было другое: через пару недель после первых посадок «мимо»-деньги резко схлопнулись.
В самом конце нам пришлось резать по себе. Пару задуманных приятных, но не срочных строек я отложил. Можно было ещё подождать с расширением верхних покоев замка, с украшениями для зала, с новой башней для лучников. Люди должны были видеть, что барон режет не только чужое.
Когда через несколько месяцев королевскому сборщику пришлось проверить наши книги, он вынужден был признать, что сбор внесён целиком. Деньги уходили в столицу, а у меня в груди слегка ныло от каждого золотого. Но одновременно было странное чувство: да, я заплатил. Но сделал это не так, чтобы завтра на моих полях стояли одни пни.
Пока я разбирался с магами и королём, у соседей тоже не всё стояло на месте.
От фон Мельца сначала пришёл суховатый ответ. В нём не было извинений, не было «вы оказались правы», но было главное: признание фактов. Он писал, что его люди действительно видели то, о чём я рассказывал, что орки дерутся, а не прячутся по норам, что земля дрожит от их боёв, но демоны пока не уходят за пределы определённых участков. Мельц честно признал, что не любит орков и не собирается поить их медом, но в одном с нами согласен: стрелять сейчас им в спину – глупость. Поэтому он прекращал свои рейды вглубь их земель, сосредотачивался на укреплении своей стороны и был готов обмениваться со мной вестями, если у кого‑то из нас что‑то изменится.
Через пару недель мои люди, прошедшие вдоль его границ, подтвердили: часть его отрядов действительно отошла от орочьей полосы. На холмах выросли новые деревянные башенки, вокруг деревень тянулись недостроенные, но уже заметные валы. В целом, кажется, фон Мельц выбрал путь разумного оборонца. Это внушало осторожное уважение.
Письмо от Людвига было совсем иным. На пергаменте ветвились красивые фразы, он щедро рассыпался вежливостями, называл меня «дальновидным», «бдительным», благодарил за «драгоценные сведения». Но под слоем любезностей читалась простая мысль: демоны далеко, орки – всё те же враги, а бароны, которые пугают других страшилками из‑за гор, явно преувеличивают.
Отдельной строкой Людвиг уверял, что у него всё под контролем, границы надёжно защищены, а набеги носят «исключительно ответный характер». Я бы, может, и поверил хоть части его слов, если бы через какое‑то время люди Готлиба, вернувшиеся из Кригшталя, не принесли совсем другие новости.
Оказывается, у Людвига всё трещало. Урожаи последние два года были хуже, чем обычно, при этом он не уменьшал налоги, а, наоборот, добавлял, пытаясь закрыть дыры в долгах перед купцами. Часть дворян у него была недовольна тем, что добычи в набегах стало меньше, а требования – больше. Народ в нескольких деревнях уже поднимал голос, и его глушили виселицами и кнутами. Набеги на орочье пограничье, вопреки моим советам, не только не прекратились, но даже участились: любое кострище вдалеке Людвиг, похоже, воспринимал как удобный повод урвать что‑нибудь.
Это было его дело – до поры до времени. Но я не мог не думать о том, что ослабленные его набегами орки хуже держат линию против демонов. А слабые места у общего заслона – это не просто его проблема.
О том, что происходило дальше, я узнавал крошечными частями, от купцов, из писем, через Магистерий. В столице уже вовсю спорили, стоит ли пытаться выстроить хоть какие‑то контакты с орками официально. Доходили слухи, что где‑то на далёком севере небольшая орочья делегация действительно явилась в одну из крепостей и потребовала «говорить с хозяином людей». Маги осторожно подтверждали: да, к ним в одну из башен приходили ростом с коня существа с зелёной кожей, требовали переговоров, и с ними даже кто‑то разговаривал – через посредников.
Герцоги, особенно те, чьи земли были ближе к центру и дальше от реальной опасности, делились на два лагеря. Одни считали, что пора готовиться к общему крестовому походу против демонов – со знаменами, хоругвями, с песнями, как в старых балладах, только вместо неверных врагом были бы твари из разрывов. Другие полагали, что это всё преувеличено, что угрозу раздуты маги, желающие выбить деньги, или «истеричные пограничники», которым хочется казаться важнее.
Смешнее всего было одно: пока они спорили в светлых залах, орки по‑прежнему стояли по колено в грязи у чёрных разрывов и кричали от боли, когда когти демонов рвали их броню и плоть.
Пожалуй, самое странное в эти полгода заключалось именно в этом: наши поля, наши леса, наши дороги жили так, словно никаких разрывов в мире не появлялось. Ни одного недвусмысленного знака. Иногда в небе было чуть темнее на горизонте, чем обычно, иногда птицы вели себя нервнее, чем должны, но маги, к которым я обращался, разводили руками: «Может быть. А может, и нет».
Фольк вторично ходил к границе, уже с явным намерением посмотреть, как изменилась линия фронта. Вернувшись, он говорил мрачно, но спокойно. Да, разрывов стало больше. Да, орочьи деревни дальше от границы постепенно превращались в пустыри. Да, какие‑то орочьи племена, не выдержав, уходили вглубь своих земель, другие, наоборот, стекались к линиям обороны. Да, иногда ночное небо над дальним севером вспыхивало чёрно‑красными отблесками, как будто там кто‑то жёг не костры, а сам воздух.
Но ни одного случая, чтобы демоны вышли за некую невидимую черту, он так и не увидел. Твари, вырвавшиеся из разрыва и погнавшиеся за ним, снова в какой‑то момент разворачивались или будто натыкались на невидимую стену, после чего с яростью бросались обратно на ближайших живых. «Словно собак держат на длинной, но всё‑таки цепи», – сказал он однажды.
Магистерий в одном из своих писем аккуратно намекнул: по их предположениям, природа этих разрывов сама по себе ограничивает их распространение. Может быть, энергия, которая их подпитывает, связана с какими‑то старыми местами силы на землях орков. Может быть, там когда‑то проводились забытые ритуалы. Может быть, это последствия древней войны, отголосок которой сейчас просыпается. У них было много версий, но ни одной достаточно чёткой.
Тишина от этого казалась не благословением, а передышкой. Временным, непонятно сколько продлящимся интервалом, во время которого можно было сделать только одно: готовиться.
Когда я оглядываюсь на эти полгода, мне иногда кажется, что мы одновременно жили в двух мирах. В одном – орки умирали под когтями демонов, Магистерий писал осторожные записки, король двигал войска и считал золотые. В другом – кувалду Лотара сменяли новые молоты, телята в хлеву бодались за ведро, дети морщились, выводя буквы на песке, купцы шипели от злости, но подписывали честные договоры.
С кузниц всё и началось.
Первый молот, который мы запустили, был почти чудом на фоне прежней нищеты. Но стоило ему пройти первую зиму, как стало ясно: одного такого чуда мало. Мы взялись за второе колесо почти автоматически, как только убедились, что с рекой всё в порядке и льда в этом году меньше, чем обычно.
Вторая кузница выросла чуть ниже по течению. Там был удобный изгиб реки, где вода сама просилась крутить колесо. Под наведением Лотара мы поставили новое колесо, повесили на него вал, пристроили к нему молот и мехи. Рядом – длинное кирпичное строение, где разместились горны, горны поменьше и места для заготовок. Вскоре там зазвучал второй стук. Вначале – неуверенный, рваный, потом – всё более ровный, как сердце, вошедшее в привычный ритм.
Третий молот поставили ближе к деревням. Там было меньше руды, зато много работы по сельскому инвентарю. Этот молот был чуть проще, меньше по размеру, но именно через него пять окрестных деревень впервые получили не «как получится», а одинаковые и крепкие плуги.
Четвёртый стал нашим экспериментом – маленький молот у рудника, где мы попробовали обойти долгий и тяжёлый путь: «копать руду – везти далеко – плавить». Теперь часть руды проходила первую обработку прямо на месте. Итогом стали аккуратные металлические полосы и заготовки, которые было гораздо проще таскать и хранить.
Вместе с новыми молотами менялось и то, что выходило из под рук наших кузнецов. Лотар, которого я изначально ценил за грубую силу и честность, за эти полгода показал ещё одно качество: он умел учить. По крайней мере – в своём, ругательном, но эффективном стиле.
Он собирал вокруг себя мальчишек и мужиков, объяснял им, почему нельзя бить железо, когда оно слишком остывает, почему важно выдержать один и тот же размер у каждой подковы, почему гвозди должны быть не просто острыми, но одинаковыми. В его руках ругань становилась учебным пособием: к концу зимы даже самые тугие начали понимать разницу между «как‑нибудь» и «как надо».
Одновременно с железом росло живое – стада.
История с фермами оказалась почти сложнее, чем стройка кузниц. Если железо поддаётся, когда его греют и бьют, то крестьянин, которому пятьдесят лет объясняли, что он должен осенью резать почти всех животных, чтобы не тащить их через зиму, не меняет привычки от одного приказа.
Эрнст, человек, проживший половину жизни среди навоза, а вторую половину – среди людей, которые этот навоз не уважали, взялся за дело так, как умел: спокойно, упёрто и без иллюзий. Он прошёл по всем деревням, от самых ближних до дальних, переругался со всеми старостами, собрал по головёшке всех коров, овец, коз и свиней. Не поверил ни одной цифре, пока сам не пересчитал.
Во многих местах обнаружились «чудеса». В одной деревне одну и ту же корову показывали и баронскому сборщику, и купцу, и соседнему старосте – каждый раз, как будто это новая. Где‑то скот уже давно был забит, а по документам ещё «пасся». Где‑то, наоборот, пару худых коров прятали, чтобы не включать их в неймовки, надеясь потом втихую продать.
Эрнст вытащил всё на свет, свёл в единую картину и показал мне. Картина была нерадостной, но и не безнадёжной. Стада у нас были, но держались на соплях. Стоило одному тяжёлому году – и мы бы оказались у разбитого корыта, которого даже нет.
Мы заложили три больших баронских фермы. Каждая – со своим характером и задачей. У пойменных лугов устроили основной двор под крупный рогатый скот. Там коровы могли пастись на богатой траве, а близость к реке облегчала полив и уборку. На холмах, рядом с лесом, мы сделали ферму под овец и коз. Эти твари менее капризны к еде, зато дают шерсть, от которой зимой не отказываются даже самые гордые. Третий двор, в более защищённом месте, мы отвели под свиней и запасной скот – на случай болезни или падежа в других местах.
Осень стала первым испытанием. Привычка резать всё подряд на зимний стол была сильнее любых бумажек. В одной из деревень мужики чуть не пошли на Эйнста с вилами, когда тот запретил им забить половину стада «на праздник». Пришлось вмешаться лично. Я приехал, выслушал их крики про «барон жрёт мясо, а нам корку», а потом спокойно разложил перед ними простой счёт: если вы съедите сейчас, у вас будет праздник сегодня и голод завтра. Если сдержитесь – через два года ваши дети будут есть мясо не раз в год, а гораздо чаще.
Не все сразу поверили, но фактор силы тоже никто не отменял. Там, где не доходило через голову, приходилось доходить через страх. Несколько особенно упёртых мужиков отсидели по несколько дней в яме, размышляя над тем, что важнее – привычка или возможность, чтобы их внук видел корову не только на ярмарке.
Параллельно с этим шёл медленный, но важный процесс: менялось отношение к дереву и камню.
Каменоломня, которую я впервые увидел полгода назад как адскую дыру с хаотично снующими людьми, постепенно приобрела понятные очертания. Под руководством нового управляющего и с помощью Хорна, который вопреки своему ворчанию оказался очень толковым в вопросах грунта, мы изменили саму логику работы.
Теперь не было бессмысленных, опасных ниш, выеденных «на глаз», где каждый камень грозил обрушиться. Появились аккуратные уступы, ровные площадки, по которым теперь можно было проводить повозки. Поставили два нормальных подъёмника: деревянные конструкции с блоками и барабанами, крутящиеся от усилий нескольких человек или пары лошадей. Никакого волшебства, чистая механика, но экономия сил была чудовищной.
Чёткая запись каждого извлечённого блока и того, куда он ушёл, привела к любопытному эффекту: камень перестал исчезать «сам собой». Люди, которые раньше привыкли думать, что от куска глыбы никто не обеднеет, внезапно обнаружили, что если этот «кусок глыбы» числится в книге, то его пропажа становится заметной.
В лесу сначала тоже ворчали. Старые лесорубы кривились, когда им говорили, что рубить отныне надо не там, где удобнее подойти, а там, где положено по карте. Но несколько сильных ливней после зимы расставили акценты: там, где мы вырубали всё подчистую без плана, склоны начинали сползать, ручьи вымывали почву, деревни внизу засыпало грязью. Там, где оставляли защитные полосы, всё держалось. Один наглядный обвал убедил больше, чем десять умных слов.
Элин тем временем вела свою маленькую войну – за буквы.
Я до сих пор помню её лицо в тот день, когда мы в первый раз собрали у нас в зале человек десять тех, кого мы хотели сделать сельскими учителями. Молодая женщина, на вид ещё девчонка, стояла напротив мужиков в пропылённых куртках и парочки женщин в серых платках, и в глазах у неё плавали одновременно страх и решимость. Она развернула перед ними дощечки с аккуратно написанными буквами, и началось.
Сначала все относились к этому как к странной прихоти барона. «Пусть, – говорили, – поиграются с чернилами, нам‑то что». Но когда спустя пару месяцев в деревне у Мельничного щуплый мальчишка сумел сам прочитать и озвучить цену на бочку зерна на рынке, и оказалось, что купец в два раза завысил сумму, отношение сменилось. Мужик, который раньше смеялся над «умниками», после этого лично отвёл сына к нашему учителю и попросил: «Научи его ещё, чтобы он меня не дал больше дурить».
Параллельно с этим мы продолжали осторожно отбирать одарённых детей. Колодец с артефактом, к которому я теперь относился почти как к живому, раз в месяц‑полтора катили в очередную деревню. Люди уже не шарахались от него так, как в первый раз. Кто‑то крестился, кто‑то сплёвывал, но все понимали: если у ребёнка есть «искра», лучше узнать об этом от нас, чем дождаться, пока он случайно подожжёт амбар или утопит кого‑нибудь в колодце.
За эти полгода у нас набралось несколько ребят, способных чувствовать воду, воздух, чуть меньше – землю. Марта, та самая девочка, которую я впервые увидел у колодца, стала почти постоянной жительницей замка. Она помогала на кухне, носила воду, подметала, а вечерами сидела на уроках с Хорном или Ольгердом, слушала их ворчание о сосредоточенности и меру. Иногда, проходя мимо, я видел, как в её ладони поднимается крохотный столбик воды из миски, повисает в воздухе и мягко возвращается обратно. На такие крошечные штуки раньше никто бы и внимания не обратил, а теперь я видел в них кирпичик будущей стены.
Теневая стража за это же время перестала быть экспериментом и стала частью баронской машины.
Первые месяцы они работали осторожно, пробуя силы на мелких делишках: выявляли ленивых писарей, закрывали глаза на мелких воришек, следили за теми, кто слишком часто подолгу задерживался у чужих дворов. Потом дела стали серьёзнее. Несколько раз Лис приносил в контору такие истории о разговорах в своём трактире, что у меня в голове начинали складываться схемы: кто, где и сколько пытается заработать на старых связях.
Помню случай с одним из младших стражников. Он годами брал по медяку с каждой повозки, проезжающей через его ворота, почти не скрываясь. Раньше подобное воспринималось как «традиция». Теперь, когда Рупрехт выстроил ряд конкретных случаев, Конрад показал, как эти медяки складывались в почти серебро за неделю, а кто‑то ещё подтвердил, что часть этих денег уходила к старому писарю, стало ясно: это не традиция, а схема. Мы не стали его вешать. Отправили на тяжёлые работы без права возвращения в стражу. Люди уроды бывают, но не каждый заслуживает верёвку. Важно было другое: через неделю на тех воротах уже никто не вытягивал руку за «малым подношением».
***
К концу полугодия картина получалась любопытной. С одной стороны, наш маленький мир становился устойчивее. Железо шло ровнее. Скот медленно, но множился. Лес и камень добывались разумно. Дети знали чуть больше, чем их родители. Воры и взяточники чувствовали себя не такими всемогущими. С другой – на горизонте всё так же светился тот самый отдалённый огонь, который напоминал: все эти улучшения делаем мы не в вакууме.
Иногда ночью я выходил на стену замка и смотрел на север. На самом деле оттуда не было видно ни огня разрывов, ни орды демонов. Но в темноте воображение дорисовывало то, о чём рассказывал Фольк и что описывал в письмах Магистерий. Мне мерещилось, как там, за линией леса и холмов, по‑прежнему стоят зелёные фигуры с копьями у чёрных рваных дыр в воздухе. Как над ними висит дым, пахнущий не как обычный костёр, а горько и чуждо. Как маги спорят в своих башнях, заглядывая в кристаллы, а придворные спорят в залах, заглядывая в бокалы.
А у меня под стенами в этот момент кто‑то ругался в общежитии, что сосед храпит; где‑то ребёнок просыпался и плакал; где‑то коза бодала зазевавшегося паренька. И всё это, вместе взятое, сейчас зависело не только от меча и верёвки, но и от того, насколько правильно будут крутиться наши колёса, насколько честно будут вести книги наши писари и насколько вовремя в душе у тех же крестьян появится мысль: «Может, всё‑таки не резать последнюю корову?».
Полгода тишины, которые мир нам подарил – или, если быть циничным, навязал, пока демоны застряли в орочьих землях, – оказались не передышкой, а испытанием. Нам дали время, чтобы мы показали, можем ли мы вообще что‑то построить, кроме виселицы и очередной таверны. Мы использовали это время. Возможно, не идеально. Возможно, где‑то я ошибся, где‑то был слишком мягок, где‑то – слишком жёсток. Но, по крайней мере, я не сидел сложа руки.
Иногда мне казалось, что всё происходящее в баронстве – фермы, молоты, учителя, теневая стража, общежития – это лишь огромный, сложный механизм, который мы лихорадочно собираем, прежде чем начнёт гореть дом. И каждый гвоздь, забитый сегодня, окажется той самой деталью, которая завтра удержит стену чуть дольше.
Я стоял на стене, ветер тянул плащ, откуда‑то доносился стук молота – глухой, ровный, как удары сердца. И думал: если бы тогда, у колодца, мы с Ольгердом решили всё «по‑старому» и просто заколотили бы крышку, стараясь сделать вид, что ничего не случилось, я бы сейчас, наверное, тоже жил «по‑старому». Считал бы бароновские медяки, устраивал бы иногда показательные казни для порядка, ругал бы погоду и жаловался на ленивых крестьян. А где‑то там, за холмами, всё равно бы шёл тот же самый бой.
Теперь я хотя бы знал о нём. И мог хоть чем‑то помочь, когда придёт моя очередь. Или, по крайней мере, не мешать тем, кто сейчас держит линии.
Полгода тишины – слишком щедрый подарок для мира, который привык всё решать в последний момент. Я не собирался тратить его на сон.
Глава 2 Чужие трещины и чужие люди
Полгода – срок, за который дом может либо встать на ноги, либо начать рушиться. Наш баронство за это время понемногу тянулось вверх, как дом, где хоть и трещат старые балки, но уже подведены новые опоры. У Людвига же дом шёл по второму варианту: треск стоял такой, что отдавался даже у нас.
Это было слышно не в прямом смысле, конечно, а по вестям. Сначала редкие слухи от пробегающих купцов: налоги поднял, людей душит, орков грабит, кто не платит – тех вешает. Потом всё чаще: в деревне такой-то бунт был, двоих повесили, троих сгноили в яме; отряд вернулся с орочьей вылазки наполовину, остальные легли или под топоры орков, или под когти демонов, от которых теперь в тех краях никуда не деться.
Я не спешил радоваться его бедам. Чужой разваливающийся дом редко падает строго внутрь себя. Чаще всего он рушится набок – и придавливает соседей. Но, глядя на то, как у него идут дела, я ясно понимал одно: там, за границей, живут люди, которые устали умирать за хозяина‑дурака. И среди них есть те, за кого стоит побороться.
В один из дней я позвал к себе Ханса, Лиса, Рупрехта и Тарга. Стол был заставлен кружками с пивом, но пить никто толком не успевал – разговор обещал быть длинным.
– У Людвига, – начал я без прелюдий, – дом трещит.
– И трещит так, что скоро либо крыша съедет, либо стены завалятся.
Лис усмехнулся, перетягивая ремень на худых плечах.
– Слышал, – сказал он. – Купцы уже шепчут, что в Кригштале скоро начнутся побеги. Не зайцы, а люди. Куда побегут? К тем, где не режут за каждую монету.
Рупрехт нахмурился. Для него каждая такая тема была не просто разговором о людях, а разговором о порядке.
– Беженцы – это и шанс, и беда, – заметил он. – Примем без разбора – половина окажется ворами, половина – с чужими обычаями.
– Но выбросить – значит потерять руки.
Ханс молча кивал. Экономика была его стихией.
– Нам нужны люди, – сказал он тихо. – Особенно если мы хотим тянуть дороги, строить таверны, расширять фермы. Своих – не хватает. Где взять? У того, кто их истощает.
– Значит, – подытожил я, – пора начать действовать. Но не топорно. Я не собираюсь устраивать у границы ярмарку: «Бросайте своего барона, идите к нам, у нас сахар и мёд».
– Нужно сделать так, чтобы те, кто нам нужен, пришли сами. И чтобы Людвиг понял, что люди от него уплывают, только тогда, когда уже будет поздно.
Лис оживился. Он любил такие задачи – тихие, но с приправой риска.
– Значит, нужны слова, деньги и дорожки, – сказал он. – И, пожалуй, пара песен в трактире.
Я кивнул.
– Начнём с того, что сделаем то, чего не делает Людвиг, – произнёс я. – Дадим людям простую вещь: шанс на нормальную жизнь за понятную работу.
– Но сначала нам нужно вычистить ещё одну язву. Пока дорожный люд боится ездить по нашим трактам, никакая слава не удержит людей у нас.
Рупрехт поднял взгляд.
– Разбойники? – уточнил он.
– Разбойники, – подтвердил я. – Их ещё много. И если я собираюсь выложить тракт камнем, поставить таверны и брать с купцов честную пошлину за безопасную дорогу, я не могу позволить, чтобы в придорожных лесах сидели люди, чьим бизнесом является перерезать горло тем, кто едет мимо.
Тарг ухмыльнулся хищно. Ему разговоры про порядок на дорогах нравились по одной простой причине: в них всегда пахло боевой работой.
– Это уже мне по душе, – сказал он. – Скажешь слово – и пойдём чистить.
Я поднял ладонь.
– Чистить – будем. Но не всех одинаково.
– Кому-то дадим шанс встать под наше знамя. Кому-то – объясним на верёвке, что эта дорога больше не их.
Лис усмехнулся снова, но на этот раз без насмешки – одобрительно.
– По рукам, барон. Только дай мне пару дней, чтобы я послушал, кто есть кто, прежде чем Тарг туда придёт со щитом.
Начать с Людвига мы решили не саблей, а словом. И не своим словом – чужими ртами.
Лис, как оказалось, был знаком с несколькими корчмарями на той стороне. У него, кажется, не было места, где он хоть раз не наливал кому‑нибудь кружку, а заодно и не завёл разговор о жизни. Через этих людей и через парочку мелких торговцев, вынужденных возить товар в обе стороны, мы стали аккуратно распускать нужные нити.
В трактирах у границы, где собирались и крестьяне с дальних полей, и ремесленники, и молодые парни, мечтающие сбежать от скуки деревенской жизни, одна и та же история вдруг стала звучать всё чаще.
– Слыхал, в Рейхольме, у этого… как его… Арделя, – говорили вполголоса, будто делились тайной, хотя на самом деле всё давно было рассчитано, – рабочим платят не узелком муки раз в год, а деньгами. Да ещё и кормят.
– И живут они не в навозе, а в особых домах. Там у них, говорят, четыре человека в комнате, а не двадцать. И крыша не течёт.
Кто‑то уточнял:
– А не сказки ли это? Бароны все одинаковы.
Тогда собеседник, вздыхая, кивал:
– Может, и одинаковы. Только вот тут, у Людвига, у меня брат за прошлую осень три раза на орков ходил. Ничего не принёс, только шрамы. Потом ещё налог подняли. А там, говорят, если ты на стройке честно отработал, никто не загонит тебя в набег. Я вот думаю… может, дети мои там лучше вырастут.
Слова шли. Лис приправлял их фактами. Он не врал. Говорил честно: работа тяжёлая, но платят. Домики не дворцы, но чище, чем ямы. Барон не святой, но вешает не только тех, у кого нет денег, а и тех, кто сам ворует. И потихоньку в головах людей на той стороне вырастала простая мысль: мир, оказывается, не везде одинаковый.
Я велел Рупрехту разработать правила для приёма чужаков ещё до того, как они хлынут потоком. Мы не могли позволить себе открыть ворота всем – слишком велик был риск пустить в дом тех, кто придёт не жить и работать, а воровать под новым флагом.
Правило было простым, как меч.
Каждый, кто приходил к нам из земель Людвига, должен был:
– назвать своё имя и деревню,
– сказать, чем занимался,
– объяснить, почему ушёл.
Не передо мной – перед маленьким советом, в который входили Рупрехт, один‑два старосты из наших деревень и пара людей, уже зарекомендовавших себя в работе. Мы специально сделали так, чтобы судили не только люди «сверху», но и те, кто будут потом рядом с этими новыми стоять в строю или пахать с ними одну борозду.
Если рассказы не сходились, если человек мялся, если на него показывали пальцем как на вора, его записывали в «под вопросом». Таких отправляли сперва на самые тяжёлые, малопривлекательные работы – в каменоломню, на расчистку оврагов под будущие дороги. Там лучше всего вскрывается, кто есть кто. Настоящий работник может ворчать, но тащит. Лентяй – сбежит. Разбойник – начнёт сразу смотреть, где плохо лежит.
Тех же, о ком шли хорошие сведения, старались распределять ближе к тем местам, где можно было быстро увидеть результат. В кузни, на фермы, в артели дорожников.
Первые двое пришли почти сразу, как только по трактам побежали нужные разговоры. Один – плотник, высокий, жилистый, с руками, на которых мозоли были толще кожи. Второй – парень лет двадцати, бывший стражник, которого выгнали за то, что он отказался брать «долю» с хозяина лавки за закрытие глаз. Они рассказывали свои истории тихо, без лишних слов.
Плотник сказал:
– Я двадцать лет строил у Людвига дома. И для него, и для его людей. А потом он решил, что я должен идти в набег. Я сказал: «Я плотник, а не рубака». Он ответил: «Значит, будешь висеть плотником». Я ушёл ночью.
У второго история была короче. «Устал грабить тех, кого должен защищать», – сказал он. Я поверил, но не стал говорить это вслух. Его взяли в обучение к Таргу, но сначала заставили месяц пахать на стройке. Пускай почувствует цену того, что защищать будет.
Потом пошли и другие.
К началу посевной к нам пришли две семьи целиком – с детьми, узлами, парой коров на верёвке. Дальше – одинокие мужчины, пара немолодых женщин, которых выгнали из хозяйства вдовами, потому что кормить лишний рот в Кригштале считали роскошью. Кто‑то бежал от виселицы, кто‑то – от голода, кто‑то – от набегов, которые Людвиг гнал на орков всё чаще.
С каждой такой душой у меня в сумме было две задачи: найти ей место и не дать ей принести сюда заразу того баронства, откуда она пришла. Это было похоже на пересадку растений: если просто вырвать и воткнуть, могут погибнуть оба куска – и старый, и новый.
Мы определили три места, где переселенцев было особенно удобно принимать: новый дорожный посёлок у тракта, деревню у каменоломни и одну из ферм, где не хватало рабочих рук. Везде, где чужие появлялись, рядом уже были наши. Так, чтобы и поддержать могли, и присмотреть.
Слух о том, что в Рейхольме чужих не бьют по голове за один акцент, ходил быстрее, чем гонцы.
Некоторые, конечно, пытались использовать это по‑своему. Однажды к нам пришла пятёрка здоровых парней, которые слишком быстро и охотно говорили нужные слова. Когда Рупрехт слегка надавил вопросами, вылезло наружу: трое из них до недавнего времени входили в небольшую банду, грабившую обозы у самых ворот Кригшталя.
Я не стал делать вид, будто не понимаю, что такое человек, который однажды уже выбрал путь с ножом в тёмном лесу. Они не были кровниками, не убивали ради удовольствия, но… работали не теми руками и не так. Пришлось решать.
Раньше я, возможно, махнул бы рукой: «Ну и что, у всех прошлое есть». Теперь – нет. У нас была Теневая стража, у нас был Рупрехт, у нас был Тарг. Мы посадили этих троих в отдельное помещение и честно предложили выбор.
– Я не слепой, – сказал я им, войдя туда. – Вы люди смелые, умеете держать оружие и не боитесь крови. Это качество, которое можно использовать. Но я не собираюсь держать в своём доме волков, если они не согласятся надеть ошейник.
Один из них, с шрамом через всё лицо, нахмурился.
– Какой ещё ошейник? – пробурчал он.
– Ошейник порядка, – ответил я. – Либо вы идёте под руку Тарга, служите в гвардии, участвуете в зачистке тех, кто делает то, чем раньше занимались вы. И там, под его присмотром, доказываете, что стоите чего‑то большего, чем виселица.
– Либо я вешаю вас на тракте, с красивыми табличками на груди. И ваши бывшие дружки, возможно, задумаются.
Молчание стояло тяжёлое. Один из троих тут же сглотнул и кивнул: он был не идиот, понимал разницу между жизнью и вёдром с дерьмом у колодца. Второй колебался, третий смотрел на меня с ненавистью.
– И что, – процедил третий, – все твои гвардейцы святыми были?
– Кто знает, чем они занимались до того, как к тебе пришли?
– Я знаю, – спокойно сказал я. – И, в отличие от тебя, они согласились с того дня играть по моим правилам.
– Ты можешь пойти тем же путём. Но у тебя есть выбор только один раз.
В итоге двое согласились. Третий плюнул мне под ноги. Пришлось показать виселицу. Новая мёртвая фигурка на столбе при въезде в город напомнила остальным: да, барон даёт выбор, но не до бесконечности.
После этого случаи, когда в Рейхольм пытались просочиться целые банды под видом «бедных беженцев», резко сократились.
Тем временем, чем хуже становилось у Людвига, тем чаще на горизонте нашего тракта показывались чужие повозки, чьи хозяева смотрели по сторонам с осторожной надеждой. Одни искали место, где можно пристроиться на работу. Другие – где у них хотя бы не заберут последнюю лошадь в очередной «поход славы».
Было ясно: если мы хотим, чтобы все эти люди не только пришли, но и осели, нам нужна не только работа и мясо в котле. Нам нужна дорога, по которой они придут. И дорога, по которой пойдут те, кто повезёт дальше наши товары.
Главный тракт через наше баронство раньше был… дорогой по названию, а не по сути. Весной, в распутицу, повозки вязли в грязи так, что лошади проваливались по брюхо, а задние колёса приходилось выкапывать руками. Летом колеи высыхали и превращались в рытвины, о которые ломались оси. Осенью всё повторялось, только с добавлением опавшей листвы, скрывающей ямы. Зимой дорога терпима лишь до первого большого снегопада.
Я уже давно понимал: если мы хотим действительно взять в руки поток торговли в этом краю, дорогу нужно сделать такой, чтобы купцы сами говорили: «Поедем через Рейхольм, там можно хоть не молиться каждому кочкарю».
В голове у меня стоял чёткий образ – не ровно, как на Земле, но достаточно близко: твёрдое основание, камень, щебёнка, отводы для воды по краям. Не идеальное шоссе, но дорога, по которой колёса катятся, а не скачут.
Мы начали с самого сложного: с мысли.
Я созвал мастеров, Ханса, Лотара, управляющих каменоломней и лесом, нескольких старост больших деревень. На стол положил грубую карту баронства, на которой был нанесён наш тракт – от границы с Мельцем до пределов Людвига.
– Вот это, – сказал я, обводя чернилами линию, – наша будущая торговая артерия.
– Через неё пойдут товары. Через неё пойдут люди. Через неё пойдут вести. И, если мы всё сделаем правильно, через неё пойдут ещё и деньги – в нашу казну, а не только в чужой карман.
Лотар почесал затылок.
– Камня у нас хватает, – сказал он. – Но тянуть его по всей длине тракта…
– Лошадей не напасёшься.
Каменоломщик, седой мужик с руками толщиной с мою ногу, мрачно хмыкнул.
– А если слой положим только там, где грязь по колено, – предложил он, – остальное оставить, как есть?
– Тут подсыпем, тут не подсыпем – и вроде как дорога.
– Нет, – отрезал я. – Так мы будем постоянно латать дыры, вместо того чтобы один раз сделать фундамент.
– Начнём с самого тяжёлого участка, от города до переправы через реку. Если у нас получится там – остальное пойдёт легче.
Мы сошлись на том, что дорога должна иметь три слоя: самый нижний – из грубых камней, побольше, уложенных как можно плотнее; средний – из щебня и каменных осколков; верхний – из утрамбованной смеси щебня с песком и немного глины. По краям – канавки для стока воды, чтобы любая ливень не превращал тракт в русло реки.
Все эти слова звучали почти как заклинание для тех, кто всю жизнь просто утрамбовывал дорогу копытами. Но у меня перед глазами стояли изображения, которые я теперь легко мог вызвать силой своего зрения: в памяти всплывали шоссе и просёлки из прошлого мира, я видел, как лежит под ними слой за слоем. Это было почти нечестное преимущество, но я не собирался им разбрасываться.
Чтобы не тратить силы людей впустую, мы продумали логистику. Камень везут не с одной точки, а с нескольких участков каменоломни. Там, где тракт проходил ближе к источникам материала, сразу рядом ставили временные склады: груды камней разного размера, разложенные по кучам, а не сваленные всё вместе. Дальше – артели.
Мы создали отдельные дорожные артели: десяток–другой человек работали только на дороге. У них были свои старшие, своя норма, своё жалованье. К ним добавляли осуждённых на принудительные работы – но не обычным кнутом, а с разумом. Тех, кто провинился мелко – подделал запись, украл мешок зерна – ставили копать канавы и выравнивать грунт. Под присмотром, конечно. Тех, кто был опаснее, туда не пускали: такие лучше пусть таскают камень у подножия стены, под глазом стражи.
Я не строил иллюзий: первые месяцы люди матерились на меня так, что в аду бы покраснели. Для них это были просто лишние трудодни, непонятные нововведения, дополнительная грязь на руках. Но когда первые полверсты дороги от города до ближайшего пригорка были полностью выложены и утрамбованы, когда по ним первой поехала тяжёлая повозка с рудой – и ни разу не увязла, ни разу не подпрыгнула до скрипа оси, даже самые скептичные приуныли.
– Так бы сразу и сказал, что будешь чудеса творить, – пробурчал один из возчиков, махнув мне в спину шапкой, когда я стоял у обочины и смотрел, как колёса оставляют на ровном слое лишь лёгкие следы. – Мы б и ругались поменьше.
Я усмехнулся. Людям, как и лошадям, надо иногда дать почувствовать разницу ногами, а не словами.
По мере того как дорога становилась твёрдой, у неё появлялись новые спутники. Сначала – небольшие кострища по обочинам, где дорожники грелись по вечерам. Потом – шатры. Потом – первые настоящие строения, похожие на те общежития, что мы уже начали строить в городе.
Я заранее выбрал несколько ключевых точек: место у реки, место на развилке двух дорог, место у старого дуба, где всегда останавливались путники. Там мы и задумали поставить таверны.
Я знал, что такое придорожная корчма в этом мире: чаще всего – грязная яма, где тебе нальют кислое пиво, украдут из‑под подушки последний кошель и, если повезёт, не прирежут в углу во время драки пьяных возчиков. Меня такой вариант не устраивал. Я хотел, чтобы купцы сами говорили: «Лучше переночуем в таверне барона, чем в каком‑нибудь сарае – там хоть живыми уедем».
Каждую таверну мы строили по одному принципу: большой общий зал с очагом, несколько более‑менее отдельных комнат для тех, кто может заплатить за личное пространство, конюшня, склад под товары, место для стражи. Владелец таверны не был случайным пьяницей – мы подбирали людей, уже проверенных на честность, и заключали с ними договор: часть прибыли – их, часть – казны. Взамен – ясные правила.
Никакого воровства с их стороны, никакого укрывательства бандитов, никаких тайных делишек с теми, кого мы уже внесли в чёрные списки. За каждым таким местом закреплялся маленький стражевой пост: два–четыре человека из гвардии, менявшиеся по очереди. Они жили при таверне, ели там, помогали в случае драки, но главное – следили, чтобы дорога вокруг оставалась чистой.
В первую таверну мы нашли хозяйкой женщину по имени Грета. Её муж был возчиком и погиб в одном из набегов бандитов, ещё до того, как мы занялись дорогами всерьёз. Она осталась с двумя детьми и характером, который мог бы сам прогнать из трактира половину пьянчуг одним взглядом. Денег у неё не было, но было желание работать. Мы дали ей старт: часть стройматериала, немного денег на закупку первых бочек пива и еды, помощь от артели строителей. Взамен – она подписала договор, как и положено.
Я сам приехал на открытие её таверны, не ради показухи, а чтобы увидеть, как это работает в живую. В зале пахло свежим деревом, дымом и жареным мясом. В углу сидели дорожники, у стены – пара наших стражников, ближе к выходу – пару купцов, что решили проверить новинку. Грета металась между столами с ловкостью человека, который всю жизнь жил в тяжёлом деле, а не в мечтах.
– Барон, – сказала она мне тихо, когда я отошёл от стола, – если ты всё это затеял, чтобы люди могли ехать спокойно…
– Знаешь, я рада, что у моих детей теперь не дорога на кладбище каждый раз, как муж домой не возвращается.
Я кивнул. Именно ради этого всё и делалось. И да, ради пошлин тоже.
Потому что как только дорога стала легче, а таверны – безопаснее, поток купцов действительно потянулся через нас охотнее. И в этот момент мы сделали второй шаг: немного подняли пошлины.
Не хищно – разумно. Те, кто хотел просто проехать через баронство, платили чуть больше, чем раньше, но получали взамен реально меньшие риски и лучшую дорогу. Те, кто пользовался нашими складскими помещениями, прислонялся к нашим тавернам, нанимал наших стражников для сопровождения, тоже отдавали свою долю. Мало кто возмущался вслух: все знали, сколько стоит новый обод на колесо или новая ось, если повозка ломается в грязи.
С одной стороны, мы создавали им условия. С другой – продавали безопасность и удобство. Это было честно и выгодно.
Но чтобы это всё имело смысл, нужно было довести до конца ещё один важный шаг: разбойничьи гнёзда, которые по обочинам тракта сидели годами, должны были исчезнуть.
Разбойник в наше время – не сказочный чёрт в лесу, который тут же бросается на любого путника. Это чаще всего бывший солдат, лишённый жалования; крестьянин, которого выгнали с земли; мелкий дворянин с вымороченным на войне наделом. Их отчаяние, умноженное на привычку к оружию, давало тот коктейль, который мы ежедневно пытались вычерпывать с дорог.
До сих пор мы работали по принципу «видим – ловим». Стража и гвардия реагировали на нападения купцов, иногда устраивали засады, иногда прочёсывали леса. Но это были отдельные действия, а не системная чистка.
Теперь у меня был повод и возможность изменить подход.
Я собрал Тарга, Рупрехта, Лиса и Конрада ещё раз.
– С этого дня, – сказал я, когда мы собрались в малом зале, – дороги – наша кровь. И всякий, кто будет на них паразитировать, будет либо кровью нашей, либо нашей костью.
– Разбойники не могут больше жить отдельно. Либо они станут частью нашего порядка, либо исчезнут.
Тарг хмыкнул.
– То есть, – уточнил он, – сначала предложить службу, потом – верёвку?
– Да, – ответил я. – Но не всем. Лис, твоё дело – заранее выяснить, кто есть кто.
– Я не хочу брать в стражу тех, у кого на руках кровь за просто так. Но тех, кто пошёл в разбой от голода и бесхозяйственности, мы можем использовать. Только под жёстким контролем.
Рупрехт выразительно посмотрел на меня.
– И ты понимаешь, – сказал он тихо, – что часть моих людей начнёт шептаться: «Вот, барон ворюг к себе берёт»?
– Понимаю, – кивнул я. – Поэтому мы будем делать это открыто. Каждый случай – отдельно. Каждого, кого берём, – сначала на самые грязные работы, под надзор. Пускай люди сами видят: службу нужно выкупать не языком, а делом.
Мы начали с того, что собрали всё, что знали о банде, державшей в страхе участок тракта между нашими землями и границей Людвига. Они были как шип в боку: появлялись и исчезали, нападали на обозы раз в месяц‑два, но так, что у всех в округе волосы вставали дыбом.
Лис уже давно приценивался к ним. Знал, сколько их примерно, где, по слухам, у них такие места, куда они носят награбленное. Через своих людей в трактирах он выяснил имена двух главарей: один – бывший лучник из гарнизона Кригшталя, второй – сын разорившегося мелкого дворянина, который считал, что мир отобрал у него «законное».
Мы не стали бросаться на них всем отрядом. Вместо этого устроили им ловушку.
Через тех же купцов пустили слух: в такой‑то день пойдёт небольшой, но жирный обоз – с тканями и вином, не слишком большой, но привлекательной мишенью. Разбойники клюнули предсказуемо. В назначенную ночь они выехали из своего лесного логова и выдвинулись к тому месту, где должны были перехватывать караван.
Они даже увидели его – несколько повозок, пару факелов, пару фигур. Всё выглядело, как обычно. Они выскочили из леса с криками, приготовились к лёгкой добыче – и в этот момент из темноты с двух сторон вышли наши. С одной стороны – гвардия под началом Тарга, с другой – стражники, которых обучали целенаправленно этой засадной работе.
Я не буду делать из этого боя легенду. Это было грязное, короткое дело. Крики, удары, пара сломанных лезвий, чья‑то кровь на грязной дороге. Несколько разбойников легли сразу, многие сдались, когда поняли, что схватили не караван, а ответ. Пара попыталась бежать – их сняли стрелы.
К утру мы вывели связанных разбойников на край леса, к дороге. Человек с двадцать. Кто‑то хмурился, кто‑то сжался в комок, кто‑то матерился, не веря, что всё так легко обернулось.
Я вышел к ним лично.
– Вы все знали, что делали, – сказал я без лишних слов. – И вы знали, что рано или поздно это конец.
– У вас есть два пути. Один – виселица. Прямо сейчас. Второй – вы идёте на принудительные работы, пашете, таскаете камень, копаете канавы. Год. Два. За это время вы доказываете, что вы можете жить по правилам.
– А потом, если Рупрехт и Тарг скажут, что из вас вышли толк, вы сможете встать в строй. Не разбойничий – наш.
Шум среди связанных поднялся как в пчельнике. Кто‑то заорал, что это несправедливо – «мы ведь только купцов грабили, не своих». Кто‑то, наоборот, уже кивал, хватаясь за любую ниточку, чтобы не висеть.
Я дал слово старшему из них – тому самому бывшему лучнику.
– И что, – спросил он хрипло, разглядывая меня, – ты думаешь, мы будем честно работать, а потом честно служить?
– Ты что, святой?
– Нет, – ответил я. – Я практичный.
– Я знаю, что кто‑то из вас сбежит. Кто‑то украдёт что‑то ещё. Кто‑то, возможно, убьёт кого‑то из моих. И за это я буду вешать без разговоров. Но я также знаю, что часть из вас умеет держать топор так, как не умеет ни один крестьянин. И если я сейчас просто повешу два десятка таких людей, я выкину в яму то, что можно было бы обратить себе на пользу.
Он долго молчал. Потом, наконец, подавил в себе зло.
– Ладно, барон, – выдохнул он. – Хуже верёвки всё равно нет. Делай, как сказал.
Из этих двух десятков половина действительно сбежала, как только получила возможность ходить по земле без верёвки на шее. Их потом ловили по одному, и далеко не всегда живыми. Пятеро умерли от болезней и ран, не дожив до возможной «чистой» службы. Остальные же, как ни странно, втянулись. Таская камень рядом с обычными крестьянами, копая канавы бок о бок с бывшими коллегами‑грабителями, они начинали видеть мир чуть иначе.
Я не идеализирую их. Но через два года двое из них уже стояли в стражевых башнях по краям тракта и честно останавливали тех, кто пытался перетянуть кошелёк у проезжающего купца. Может быть, не из любви к людям, но из уважения к новой роли – и из страха снова оказаться с петлёй на шее.
Постепенно новости о таких казнях и выборах разошлись по лесам. Многие мелкие шайки предпочли просто уйти. Кто‑то ушёл к Людвигу, кому‑то дороги теперь казались слишком опасным местом для промысла. Путь купца через Рейхольм становился всё безопаснее.
И как только вокруг тракта стало заметно тише, купцы, у которых раньше на их картах дорога через наши земли была перечёркнута красным крестом «опасно», начали стирать этот крест.
Пока на поверхности бурлила пыль дорог, под землёй – в смысле, в глубине наших мастерских и в башнях Магистерия – завязывалась другая, не менее важная нитка.
Идея использовать магию не только для фокусов и боевиков, но и для обычной работы, конечно, не была новой. Ольгерд сам служил при дворах, где огненные шары запускали для забавы, а не для нужды. Но мысль о том, чтобы соединить водяное колесо с магическим накопителем, или заставить телегу ехать не только от лошадиного хребта, а ещё и от некоего невидимого толчка, уже давно вертелась в моей голове.
Я видел повозки прошлого мира – железные ящики на колёсах, несущиеся по дорогам на скорости птиц. Я понимал, что повторить это здесь в чистом виде невозможно – нет ни бензина, ни заводов, ни нужных сплавов. Но кое‑что можно было перенести.
Сначала – мысль: движение может идти не только от мускулов. Потом – понимание: магия – это тоже энергия, её можно накопить, перенаправить, распределить. А у меня, в придачу к этому, было моё Зрение, позволяющее видеть линии силы, а иногда и то, как эта сила ведёт себя в артефактах.
Я обсудил эту мысль сначала с Ольгердом. Мы сидели вечером в его небольшой мастерской, где пахло смесью трав, нагретого железа и старой бумаги. На столе лежали несколько кристаллов, кусок медной проволоки, пара обугленных дощечек.
– Ты хочешь сказать, – протянул он, задумчиво потирая виски, – что мечтаешь о повозке, которая будет ехать сама, без лошади?
– Или хотя бы не убивать лошадь на каждом подъёме, помогать ей, – уточнил я. – И не только повозке. Я думаю ещё про плуг, который можно было бы тянуть не четырьмя волами, а двумя, потому что часть усилия берёт на себя сила.
Он хмыкнул.
– В принципе, такое уже пробовали, – сказал он. – В старых записях есть упоминания о движущихся платформах. Маги земли и воздуха пытались что‑то подобное создать… но чаще всего это оказывалось либо слишком дорогим, либо слишком нестабильным.
– Представь, если такой плуг посреди поля взбесится и начнёт носиться, как бешеный бык. Радости будет немного.
Я не стал спорить. Я прекрасно понимал, что каждый новый механизм – это не только польза, но и новые риски. Но у нас теперь была одна вещь, которой не было у тех, кто пробовал до нас: возможность смотреть внутрь работы силы глазами, которые видят не только искры.
– У нас есть я, – сказал я. – Я могу смотреть на артефакт, видеть, где сила течёт, где путается, где рвётся. Мы можем использовать это, чтобы сделать их… не идеальными, но хотя бы менее сумасшедшими.
Ольгерд задумался на пару дней. А потом сказал:
– Ладно, давай попробуем. Но для этого нужен не только я. Нужен Магистерий.
– У них есть наработки, у них есть накопители, у них есть материалы, которых у нас пока нет. И, что важно, у них есть деньги, которыми они готовы платить за новые вещи.
И вот тут всё интересное начиналось.
Магистерий уже видел толк от нашего сотрудничества: артефакт прояснения, который мы испытывали, дал им ценные данные. Взамен они не только признали нашу полезность, но и были готовы подкидывать нам новые игрушки для испытаний. Правда, не бесплатно в смысле усилий, но с оплатой в монетах.
В один из дней, когда дорога до переправы уже была выложена, а в первой таверне Греты впервые заблестел свежий кухонный нож, во двор замка опять въехала та самая синяя повозка. Курьер Магистерия, всё тот же, со знакомым уже лицом, поклонился мне и протянул тубус.
– Совет Магистерия, – сказал он, – благодарит вас за предыдущую работу. На этот раз они прислали вам… кое‑что особенное.
– И, – он слегка усмехнулся, – ещё одно письмо. Там, возможно, вас порадует одна строчка.
Мы прошли в зал. Я сломал печать, развернул свиток. В начале – благодарности, в середине – осторожные формулировки про разрывы, в конце – то, что действительно касалось нас.
Магистерий предлагал нам участие в новом эксперименте. Они собирались разработать прототип «самодвижущейся телеги» – так это было названо в письме. И хотели, чтобы мы стали их полигоном. Моё Зрение должно было помочь им увидеть, где сила в конструкции будет вести себя не так, как нужно. Взамен – они обещали нам не только один из первых образцов, если эксперимент удастся, но и оплату за саму работу: золотом, а также материалами, которые не так просто было достать в провинции. Мои разговоры не прошли даром ,меня услышали и это радует.
К свитку была приложена небольшая шкатулка, в которой лежал артефакт. На вид – просто серый камень, вделанный в металлический обруч, с несколькими вырезанными на нём символами, которые я не сразу даже узнал. Когда я повернул его в руках, он чуть дрогнул, как живая вещь, почуявшая взгляд.
– Это… – начал я, и Ольгерд, стоявший рядом, закончил: – …это зачаток накопителя движения. Старый принцип, но в новой обёртке.
– Они уже давно думали, как «поймать» силу, возникает при движении колеса, а потом направить её обратно. Похоже, решили проверить это не в своих башнях, а у нас.
Я смотрел на артефакт – и видел, как внутри него тонкие ниточки силы переплетаются, как две змеи. Они то притягивались, то отталкивались, то искали путь наружу. Ничего не активировалось, пока я не захотел этого – но потенциал был ощутим.
Магистерий предлагал простую схему. Мы ставим этот артефакт на одну из телег, соединяем его с осью колеса через простейший механизм. Когда телега движется от тянущей её силы – лошадиной, человеческой, ветровой – часть энергии движения запасается в артефакте. Потом, на подъёмах или в тяжёлых местах, артефакт можно будет «открыть» – и он отдаст запасённое, помогая толкать повозку.
Это было похоже на мои прошлые знания о маховиках, пружинах, аккумуляторах. Конечно, магическая версия была химерой, опасной и капризной. Но, если заставить её работать, это могло изменить многое.
– Они хотят, чтобы ты своими глазами посмотрел, как он себя ведёт, – сказал Ольгерд. – И сказал, где он «закусывается». Для них ты – живой измеритель.
– И за это, – он показал глазами на отдельную строку в письме, – нам заплатят… внушительно.
Мы с Хансом потом считали эту сумму несколько раз. Даже если учесть, что часть этих денег уйдёт на работу мастеров, на подготовку самих телег, на испытания, оставшаяся часть могла покрыть как минимум половину королевского чрезвычайного сбора за год. Это было не просто любопытно – это было выгодно.
Я, конечно, понимал, что за всем этим стоит и другая сторона. Магистерий не был благотворительной организацией. Им нужно было не столько помочь барону с дорогой, сколько получить у себя в архиве рабочие протоколы испытаний артефакта в реальных условиях. Но меня это полностью устраивало.
В ближайшие недели мы начали с того, что выбрали одну из самых крепких телег, слегка укоротили её, усилили ось, приделали к ней металлическую раму, на которую можно было бы поставить артефакт, не боясь, что он отскочит и покалечит кого‑нибудь. Ольгерд, Хорн и Лотар часто собирались втроём, спорили, что к чему подключать. Я иногда присоединялся, не как маг или мастер, а как тот, кто видел, куда текут силы.
Первый выезд этой телеги оказался комичным. Мы привязали к ней одну лошадь, поставили на неё пару мешков с песком, закрепили артефакт и поехали по уже выложенному участку дороги. Лошадь шла привычно, не подозревая, что с ней экспериментируют. Я активировал артефакт лёгким усилием воли – он был настроен на мой отклик.
По моим ощущениям, внутри камня что‑то «щёлкнуло». Ниточки силы начали закручиваться чуть быстрее. Колёса крутилось, часть энергии куда‑то уходила. Лошадь фыркала, но шла спокойно.
– Чувствуешь? – спросил я у Ольгерда.
– Пока – нет, – честно ответил он. – Для меня это просто телега. Твоя очередь.
Я сосредоточился, глядя на артефакт. Моё Зрение, послушное уже почти как привычка, показало, как силы входят внутрь камня от оси, сквозь небольшой металл, за который отвечал Лотар. Как они скручиваются, как часть «оседает», а часть отражается.
– Пока всё стабильно, – сказал я. – Нигде не расплёскивается наружу.
– Можно попробовать отдать.
Мы выбрали небольшой подъём. Лошадь, привыкшая тянуть на себе примерно такой же вес, упёрлась по инерции, но в какой‑то момент я дал артефакту команду отпустить накопленное.
Ощущение было странным. Как будто кто‑то толкнул телегу сзади. Лошадь даже чуть споткнулась от неожиданности: её на секунду обогнало нечто, что раньше только она тянула. Телега мягко, но заметно пошла вперёд. Я видел, как ниточки силы внутри артефакта выпрямляются и уходят обратно в ось, снова вращая колёса – только уже не за счёт мускулов.
Мы с Ольгердом переглянулись.
– Работает, – сказал он сухо.
– Пока – работает, – поправил я. – Нам нужно испытать это на разных грузах, на разных дорогах, на грязи, на склонах, под дождём. И смотреть, где она рвётся.
Магистерий требовал от нас как раз этого: не восторженных криков «ура, чудо», а подробного описания, где артефакт вел себя нормально, а где хотелось бросить его в реку.
Мы начали вести дневник. Каждый выезд, каждая небольшая поломка, каждое странное ощущение. Лошадь, которую мы использовали первой, получила кличку Искра – не из‑за огня, а из‑за того, что именно она первой почувствовала на себе магическое «подтолкновение».
Шло время. Мы писали отчёты, дороги всё больше покрывались камнем, в тавернах Греты и у переправы зажигали огонь по вечерам, приезжие крестьяне из Кригшталя всё чаще спрашивали, можно ли у нас остаться на зиму. А у меня в руках копился всё более толстый тубус с бумагами для Магистерия. В один из дней, когда очередной курьер приехал забрать отчёты и передать мне новый свиток, он сказал:
– Ваши записи читают вслух в зале Совета. Некоторые спорят, некоторые смеются, некоторые ругаются. Но все слушают. Это редкость.
Я только кивнул. В зале Совета я пока не был и, если честно, не слишком стремился туда попасть. Пусть пока наши дороги и наши артефакты говорят за нас.
Со временем стало очевидно: наш тракт начал жить собственной жизнью. Таверны, сторожевые башни, дорожные артели, телеги с магическими камнями на осях, чужаки, идущие от Людвига, чтобы остаться у нас.
Там, где раньше по неделе можно было не встретить ни одной повозки, теперь каждый день кто‑то ехал. Кто‑то вёз соль с севера, кто‑то – ткани с юга, кто‑то – вино, кто‑то – кожу. На перекрёстке двух дорог, где раньше стоял только старый обугленный дуб, теперь выросла новая таверна с яркой вывеской, на которой был нарисован каменный мост. Люди стали называть это место просто: Мостовая.
Вместе с потоком людей и товаров шёл поток монет. Наши сборщики пошлин уже не сидели на воротах, считая каждую телегу, как редкость. Теперь им приходилось работать, как мельничному колесу. Но работа была понятная, прозрачная. Купцам, въезжающим на наш тракт, называли твёрдую сумму: столько за повозку, столько за лошадь, столько – за особое сопровождение, если нужно. Они видел, за что платят: дорога под колёсами была твёрже, чем у соседей, стража – внимательнее, чем раньше, таверны – чище.
Я, как человек, который привык думать цифрами, видел в этом не только красивые картинки. В отчётах Ханса количество монет, пришедших в казну «от дороги», росло медленно, но уверенно. Эти деньги шли на выплату жалованья тем же дорожным артелям, на содержание стражи, на оплату тех самых магических экспериментов с повозками, которые потом должны были сделать дорогу ещё более привлекательной. Часть уходила в сторону королевской казны, как и положено. Но то, что оставалось, становилось тем жирком, который позволял нам не резать скотину ради каждого непредвиденного расхода.
И всё время где‑то внутри звучала одна и та же нота: впереди – разрывы, демоны и та большая беда, которая ещё только разворачивается. Но пока она не пришла к нам, мы успели выпрямить спину. Теперь, когда этот удар всё‑таки прилетит, мы встретим его не глинистой ямой и разрозненными хижинами, а более‑менее выстроенным домом, где хотя бы есть, что защищать.
И ещё одна мысль не давала мне покоя.
У Людвига в эти дни по‑прежнему трещало. Люди от него тихо стекались на наши дороги. Кто‑то оставался по дороге, кто‑то шёл дальше – к Мельцу, к герцогским землям. Шайки, бежавшие от наших виселиц, пытались найти себе новую жизнь у него. Купцы, уставшие от его поборов и разбоя, перенаправляли свои телеги.
Я не пытался его добить, я просто перестал подставлять плечо, на которое он мог бы свалить свои проблемы. И в этом тоже был порядок. Каждый отвечал за свой дом. Я отвечал за свой так, как считал нужным.
А мир тем временем готовил нам новые испытания – и новые предложения. Магистерий шептал о больших проектах. Король строил планы насчёт совместных походов. И дорога, которую мы выложили камнем и кровью, рано или поздно должна была стать не просто торговой артерией, но и тем самым путём, по которому придут и помощь, и беда.
Глава 3 Те, кто встанет стеной
Когда дорога стала твёрдой, а таверны – тёплыми, стало ясно: мы вплотную подходим к следующему шагу. Всё, что я делал до этого – фермы, кузницы, теневая стража, магоповозки, камень на тракте, – было подготовкой к одной простой, неприятной истине: в какой‑то момент к нам придут не купцы и не беженцы. Придёт война.
Не обязательно сегодня. Не обязательно через месяц. Но она уже шла по миру, как медленный пожар где‑то за горизонтом. И мне не хотелось, чтобы в тот день, когда она вспыхнет в наших лесах, я стоял на стене с жалкой сотней бойцов и всем своим хозяйством за спиной.
Мы с Таргом, Рупрехтом, Хансом и Конрадом в тот вечер сидели до темноты. Свечи догорели до половины, воздух в зале был тяжёлый – смесь пота, воска и старой бумаги.
– Пятьсот, – сказал я наконец вслух, как будто сам до этого числа только что дошёл. – Нам нужно порядка пяти сотен людей под оружием. Не только стража и гвардия, а полноценный полевой кулак.
– Те, кто будут стоять на заставе со стороны орочьих земель. И те, кто смогут двинуться туда, где прорвёт.
Тарг откинулся на спинку стула. На лице у него мелькнуло одновременно и удовлетворение, и тревога. Как у плотника, которому заказали большой дом: работа – мечта, но и забот будет по горло.
– Пятьсот много, – сказал он. – Но мало. Если демоны прорвутся, и орки не удержат, нам и тысячи покажется мало.
– Если же не прорвутся, пятьсот мечей – это уже сила, с которой будут считаться соседи. И король, и Мельц, и тот же Людвиг, если он ещё не сойдёт с ума окончательно.
– Людвиг уже на пути, – буркнул Рупрехт. – По слухам, он вешает теперь даже тех, кто просто косо посмотрел.
Ханс не вмешивался в разговор о числах мечей. Он сидел с пером в руке и пытался прикинуть, во что выльется содержание пяти сотен ртов, не занятых пахотой и кузнёй.
– Пятьсот – это не только мечи и латы, – напомнил он. – Это хлеб, мясо, сапоги, плащи, стрелы, бинты, кони, корма. У нас сейчас есть запас прочности. Но это число будет его границей. Выше – начнём проедать будущее.
Я кивнул.
– Поэтому и пятьсот, а не тысяча, – ответил я. – Нам нужен кулак, который не разорит руку.
– Начнём с этого числа. Как будем жить через год‑два – посмотрим по урожаям, по дорогам, по артефактам и по тому, что будут делать демоны.
Мы обсудили, где разместить людей. Часть – в городе, в казармах при замке. Часть – на будущих пограничных заставах. Часть – в ключевых деревнях, которые уже давно работали как опорные точки.
Вопрос стоял не только в том, сколько набрать, но и в том, откуда их взять.
Объявление набора в войско – это не просто «снимите объявление на воротах». Это знак. Для крестьян – что барон собирается всерьёз готовиться к беде. Для мелких дворян – что можно получить шанс отличиться. Для купцов – что станет безопаснее, но дороже. Для соседей – что у нас есть амбиции.
Я долго думал, как именно это сделать. Орать на площади «всем в строй» было глупостью. Давить повинностью – тоже. Время бездумных ополчений прошло. Нам нужны были не те, кого едва оторвали от плуга, а те, кто может стать настоящим бойцом.
Мы начали с послов. Я отправил по деревням гонцов не только с бумажками, но и с устным словом. В каждом селе, в каждом хуторе, в каждой артели нужно было не просто зачитать «указ», а объяснить: барон набирает не пушечное мясо, а людей, которых собирается кормить, обучать, одевать и уважать.
Я дал право старостам рекомендовать тех, кого они считают годными. Это было важно: если деревня сама скажет «вот, возьми этого, он нам не враг», то и конфликтов будет меньше. Принудительный набор врагов никого ещё хорошему не учил.
Объявление было простым. Любой свободный мужчина от шестнадцати до тридцати пяти лет, не имеющий серьёзных долгов чести или крови, мог прийти на сборный пункт – в Рейхольме, в Мельничном, у каменоломни. Там его осмотрят, проверят, запишут. Условие: первый срок службы – три года. Жалованье – не только монетой, но и пайком. Семьи тех, кто идёт в войско, получают небольшую скидку по податям, пока их муж, сын или брат служит.
К этому добавили ещё одну вещь: я разрешил бывшим воинам и стражникам, которые ушли со службы по уважительной причине, возвращаться – даже если у них был тяжёлый разговор с прежними начальниками. Главное, чтобы у них не было за спиной настоящей подлости.
Отдельной строкой шли перебежчики из Кригшталя.
Про Людвига мы в те дни узнавали больше, чем хотелось бы. Вести приходили отовсюду: от купцов, от беженцев, от теневой стражи, от людей Мельца.
Картина вырисовывалась невесёлая.
После того, как король объявил чрезвычайный сбор, Людвиг, по слухам, вскрыл все сундуки, но вместо того, чтобы резать свою роскошь и договариваться с купцами, просто вдвое поднял подати. Пахари у него платили, как никогда, но платить им уже почти было нечем. Урожаи снизились, часть людей ушла в леса. На фоне слухов о демонах он продолжал гнать отряды к орочьим землям – за добычей, как он думал. На деле всё чаще – за гробами.
Пока у нас разбойные шайки либо уходили, либо шли под прут и потом под мою руку, у него разбой начинал зреть изнутри. Брошенные, обиженные, напуганные люди группировались сами по себе. То тут, то там вспыхивали мятежи: то отбили у него обоз с налогом, то разогнали малый стражевой пост.
Гвардия, усталая от бессмысленных вылазок, смотрела на хозяина всё более мрачно. Часть младших офицеров, по слухам, пыталась донести до него, что продолжать войну с орками – значит стрелять себе в живот. Людвиг реагировал, как реагируют трусы, прижатые к стене: жестокостью. Несколько людей он казнил показательно. Одного – прямо на плацу, в присутствии всего отряда.
После этого трещина в его доме превратилась в пролом.
В один из холодных, ветреных дней, когда у нас на тракте уже вовсю катались повозки с углём из новой выработки, ко мне прибежал Рупрехт. Лицо у него было напряжённое, но внутри этой напряжённости плясало странное облегчение.
– У ворот, – сказал он, – отряд. Человек семьдесят. В форме, но без флага. Говорят, хотят говорить только с тобой.
Я спустился во двор. Перед воротами, на открытом месте, стояла колонна людей. На них было видно: ещё вчера они были гвардейцами. Кольчуги, пусть и потертые. Щиты, мечи, копья. Лица у одних – молодые, у других – уже с морщинами. У всех на плащах – сорванные нашивки. На месте эмблем Людвига – пустые дырки.
Вперёд вышел мужчина лет под сорок. Седина уже пробивалась в бороде, глаза были усталыми, но ясными.
– Барон Ардель, – сказал он, чуть склонив голову. – Я – Герхард из Кригшталя. До вчерашнего дня – капитан второй сотни гвардии Людвига.
– Сегодня, если позволишь, я – никто. И вместе со мной – семь десятков таких же «никто».
Я молча смотрел на них. Внутри меня что‑то ёкнуло. Это был поворот, которого я ждал, но не рассчитывал, что он случится так скоро и в таком масштабе.
– Почему? – спросил я. – Почему вы здесь, а не там?
Герхард усмехнулся уголком губ.
– Потому что я устал убивать ради его прихоти тех, кто не угрожает моему дому, – ответил он. – Потому что я устал смотреть, как он вешает своих за то, что они осмелились сказать, что демоны опаснее орков.
– Потому что вчера он приказал мне повесить моего собственного племянника за то, что тот отказался идти в третий поход на орочье село за месяц.
– Я отказался выполнить этот приказ. Он вызвал палача. Я вывел людей из строя и ушёл.
Он сказал это спокойно, без пафоса. Просто констатация факта.
– И теперь, – продолжил он, – у меня есть меч, есть люди, и есть барон, которому я больше не служу. Я слышал, что ты не вешаешь всех подряд за то, что они сказали слово поперёк. Я слышал, что ты платишь тем, кто тебя защищает. Я слышал, что ты не гонишь людей на смерть ради чужого кошелька.
– Я пришёл спросить: найдётся ли у тебя место для нас?
Я выдержал паузу. Не для эффекта, а потому что внутри всё кипело от мыслей.
С одной стороны – это был подарок судьбы. Сразу семь десятков обученных людей, проживших не один бой. Это не деревенские парни, которым надо сначала объяснить, с какой стороны держать щит. Это готовый каркас для нового войска.
С другой стороны – это люди, привыкшие подчиняться другому хозяину. Люди, у которых за плечами были, возможно, дела, которые мне бы не понравились. Люди, которые пришли не из любви ко мне, а от ненависти к прежнему. Это очень разные мотивации.
Я подошёл ближе.
– Ты понимаешь, – сказал я ему, – что Людвиг объявит вас изменниками. Что, если когда‑нибудь придёт час суда, ваши имена будут у него в списках тех, кого он хочет видеть на виселице?
– И, если король вдруг решит поддержать его, всё может стать сложно.
Герхард фыркнул.
– Если бы короля по‑настоящему заботило то, что творится в Кригштае, он бы давно уже прислал туда кого‑нибудь поумнее, чем сборщики податей, – сказал он. – Но король молчит. Демоны далеко, налоги идут. Его всё устраивает.
– А Людвиг… – он на мгновение сжал кулаки. – Людвиг давно сошёл с ума. Может, когда‑нибудь кто‑нибудь это ему скажет. Может, ты. Я не знаю.
– Сейчас я знаю только одно. Я не вернусь к нему. И мои люди – тоже. Лучше умереть под стенами другого замка, чем на его дереве.
Я посмотрел ему в глаза и понял: он не врёт. По крайней мере – в главном.
– Ладно, – сказал я. – Я не настолько глуп, чтобы отказывать тому, кому уже сам его барон показал, что он ему не нужен.
– Но и не настолько наивен, чтобы тут же поставить тебя командовать своей гвардией.
Я обернулся к Таргу.
– Ты возьмёшь их к себе в полк, – сказал я. – Распределишь по отделениям так, чтобы ни одна из семёрок не держалась только за своих. Попросишь старших своих людей присмотреть.
– Герхарду дашь взвод, не больше, пока что. Посмотришь, как он ведёт себя под твоей рукой, а не под чужой.
Тарг кивнул. Он уже смотрел на этих людей с интересом, как кузнец на чужой металл, который можно перековать.
– Жалованье получите такое же, как мои, – добавил я, обращаясь к Герхарду. – Но учти: у нас за воровство из своей казны, за грабёж своих, за пьянство в карауле – не кнут. Виселица. Я не хочу здесь второго Кригшталя.
– Если бы мне этого хотелось, – устало усмехнулся он, – я бы остался там.
Так в нашу гвардию вступили первые перебежчики. Не последние.
После этого потянулись и другие. Малые группы, одиночки, целые семейства. Кто‑то из бывших воинов, кто‑то из старых стражников, кто‑то из обиженных крестьян, которые вдруг узнали, что бывают бароны, приказывающие строить, а не только жечь.
И набор пяти сотен человек, о котором мы говорили в тишине вечера, начал складываться, как домино, по которому прошла рука.
Как только мы всерьёз объявили набор войска, в кузницах стало ещё громче. Молот Лотара и его учеников не умолкал почти ни днём, ни ночью. Поначалу я боялся выжать людей досуха. Но, к удивлению, они сами шли на дополнительные смены.
– Это не только ваш набор, барон, – бурчал Лотар, вытирая с лба пот, когда я как‑то вечером зашёл к нему. – Это и наша работа. Не будет нормальных мечей – ваши новые воины только тяжесть таскать будут.
Мы заранее составили список: сколько нужно копий, сколько щитов, сколько мечей, сколько шлемов и хотя бы простых кольчуг. Не для всех сразу – часть будущего войска должна была первое время обходиться и старым вооружением, но костяк – гвардия и те, кто пойдёт на заставы, – должен был быть одет и вооружён по‑новому.
Новые молоты, к нашему счастью, уже вошли в свой ритм. Кузня у города делала в основном оружие: копья одинаковой длины, мечи одинакового веса, наконечники стрел, ножи. Кузня у деревень – больше сельскохозяйственное, но и там теперь часто звенели заготовки для лат. Кузня у рудника давала заготовки металла.
Мы ввели стандарты. Не на бумаге – в металле. Копьё – не «примерно столько», а ровно столько‑то локтей, с таким‑то балансом. Щит – не из любых досок, а из определённых пород. Ханс и Лотар поначалу ругались: один говорил о себестоимости, другой – о надёжности. В конце концов нашли среднее, которое не вгоняло нас в нищету, но и не ломалось от первого же удара топорика.
Под шум набора войска шли и другие перемены.
На границе со стороны орочьих земель выросли первые заставы.
Я долго перечёркивал карту, прежде чем остановился на варианте, который не вызывал у меня отвращения. Хотелось и контролировать границу, и не стоять у самых орочьих костров. Я видел, как дерутся орки с демонами, и понимал: спешить туда с песнями – значит подставить людей под то, к чему мы ещё не готовы.
Поэтому заставы мы ставили не на самом рубеже, а чуть в глубину. Так, чтобы от каждой до границы можно было дойти за день‑полтора, но при этом, если демоны прорвутся сразу и мощно, у заставы было время на манёвр, на сигнал, на сбор.
Первая застава выросла на холме у старой просеки, через которую когда‑то ходили охотники. Мы вырубили вокруг кустарник, чтобы дать обзор, вытащили из каменоломни большие блоки, сложили низкий, но крепкий стеновой круг. Внутри – сторожевая башня, казарма, склад, колодец. На башне – сигнальный костёр, который в случае беды должен был рвануть в небо.
Вторая – у брода через небольшую, но коварную речку. Там было важно не столько держать демонов, сколько следить за тем, чтобы никто не воспользовался переполохом и не полез с той стороны – будь то бандиты или отчаянные отряды Людвига, если ему стукнет в голову устроить набег в нашу сторону.
Третья – ближе к дороге, соединяющей нас и Мельца. Сосед наш был, в общем, разумен, но иметь точку, через которую можно быстро обменяться вестями и людьми, было не лишним.
На каждую заставу мы выделяли по полусотне людей. В их число входили и старослужащие, и новые. Поначалу, конечно, там было пустовато, не хватало привычки, не хватало уюта. Но очень быстро вокруг застав начали обживаться мелкие огороды, курятники, а где‑то – даже маленькие семьи. Воины, которые понимали, что будут служить здесь долго, тянули женщин, детей. Так вокруг голых зданий постепенно появлялась жизнь.
Я часто ездил к ним. Не как большой господин с проверкой – скорее как человек, который хочет видеть, чем дышат те, кого он отправляет первым встретить беду. Слушал жалобы на то, что ветер с холмов продувает казарму, на то, что в колодце вода чуть солоновата, на то, что в ночи иногда слышится такой вой, что хочется забиться под кровать.
Я не говорил: «Ну потерпите». Мы утепляли, углубляли, ставили дополнительные заслоны. Если уж я решил строить эти зубцы на краю своих земель, то обязан был сделать так, чтобы зубцы не крошились от первого же стужи.
Пока на границе росли заставы, в глубине баронства зрела другая революция – тише, но, возможно, ещё важнее. Наши первые самодвижущиеся телеги, созданные вместе с Магистерием и испытанные на тракте, показали себя не только как помощь лошадям. Они открыли дверцу к тому, о чём я мечтал с самого начала: разгрузить человеческие руки там, где вместо них могла работать сила.
Повозки работали по простому принципу: пока они ехали под тягой, часть движения запасалась в артефакте, потом по команде возвращалась, помогая. На дороге это было подспорьем. А в поле…
Я помню тот день, когда мы привезли одну из таких повозок на ферму. Эрнст, узнав, что я хочу её «загнать в грязь», криво усмехнулся.
– Ты и так пол‑баронства вверх ногами перевернул, – сказал он, перекидывая через плечо мешок. – Теперь ещё и телеги заставишь пахать?
– Не телеги, – ответил я. – Силу.
Мы модифицировали одну конструкцию. Сняли платформу повозки, на её место прикрутили массивную балку, к которой цеплялся плуг. Артефакт подключили не к задним колёсам, а к специальному валу, который через шестерни крутил бы колёса больше диаметром – грубо говоря, мы сделали первый примитивный трактор. Простой, как бревно, но… рабочий.
Конечно, одним артефактом поле не спашешь. Мы не могли позволить себе гонять его до изнеможения. Но идея была в другом: часть тяжёлой работы по разрезанию земли на глубину теперь брала на себя не шея быка, а кристалл, который крутился, словно в нём сидел маленький дух движения.
Мы выбрали небольшой участок поля – не самый сложный, но и не самый лёгкий. Марта и ещё двое молодых магов стояли рядом, должны были в случае чего быстро заглушить артефакт, если тот взбесится. Эрнст, ворча, взялся за рукояти плуга. Я взял на себя управление телегой.
Первый рывок был странным. Колёса заворочались, лопасти плуга вошли в землю. Лошадей на передке было всего две, не четыре, как обычно. Но телега тащила плуг так, как будто за нею стояли минимум четыре пары. Артефакт заворчал, почувствовав нагрузку, ниточки силы в нём закрутились плотнее. Марта тихо прикусила губу, следя, чтобы они не выскочили наружу.
– Держится, – крикнула она. – Можно ещё.
Мы прошли первую борозду. Эрнст, который сначала готов был в любой момент отпрыгнуть, в какой‑то момент даже отпустил рукояти на секунду и снова ухватился, убедившись, что плуг не улетает в небо. Земля за плугом была перевёрнута глубже, чем от обычной тяглы, а пот лошадей лился не рекой, а ручьём.
– Если так пойдёт и дальше, – сказал он потом, опершись на колено, – мы сможем сэкономить десяток быков на каждую большую ферму.
– А если ты научишь своих бездельников управлять этой штукой, может, они даже перестанут ныть, что спина отваливается.
Первые дни новый агрегат все называли просто «эта чёртова штука». Потом прижилось более ласковое: «толкач», «крутильщик». Мне было всё равно, как его зовут, пока он работал.
Мы не гоняли магоповозки безостановочно. Артефакты тоже нуждались в отдыхе. Но даже если один такой плуго‑толкач мог в день вспахать на треть больше, чем традиционная упряжка, это уже было чудом. Особенно в преддверии времён, когда нам предстояло кормить пять сотен новых ртов, не уменьшая пайку остальным.
Ту же схему мы начали переносить и на другие работы. В каменоломне один из артефактов поставили на подъёмник. Раньше четыре человека или двое лошадей крутили барабан, поднимая наверх тяжёлую глыбу. Теперь, если барабан приводился в движение заранее, часть этого движения запасалась, а поднимая камень, мы могли включать артефакт – и работа шла легче.
На лесопилке один из опытных мастеров – упрямый, но любопытный – согласился попробовать подключить магический вал к пиле. Пока получилось грубо: пила дёргалась, иногда заедала. Но я видел, как в его глазах, помимо разрушенных привычек, загорается интерес.
– Если это будет пилить, как ты хочешь, барон, – сказал он, – мне придётся увольнять половину своих пьяниц.
– Хотя, может, это и к лучшему. Выпивших меньше – досок больше.
Всё это требовало времени, нервов, поправок. Но итог был одним: чем больше магия брала на себя грубую, однообразную тягу, тем больше людей можно было перекинуть туда, где нужна была голова и сердце, а не только спина. На дорогу, в кузни, на заставы, в гвардию.
Как будто в награду за всё это, земля в какой‑то момент решила улыбнуться. Или, может, просто показала то, что давно в себе таила.
Это произошло почти случайно.
В каменоломне, где мы вели разработки уже не первый год, один из молодых рабочих – паренёк из беженцев Кригшталя – копался в очередном слое, когда его лопата вместо привычного каменного звука встретила что‑то другое. Глухое, ломкое, но не каменное.
– Управляющий! – крикнул он. – Тут… чёрно как в печке!
Когда я приехал туда с Хорном и Лотаром, на обрыве уже зияла тёмная полоса. В рыхлых пластах, перемешанных с глиной и песком, шла плотная, чёрная жила. Стоило к ней прислонить руку, как на пальцах оставалась сажа.
– Уголь, – сказал Хорн, даже не приседая. – И, судя по всему, не поверхностный.
Для меня это слово звучало как музыка. До этого момента мы топили всё: древесный уголь, просто дрова, торф, где было. Настоящий каменный уголь попадался только кусками, привозимыми из других земель по бешеной цене. А тут – своё, в собственной яме.
– Насколько глубоко он идёт? – спросил я.
– Пока не скажу, – ответил Хорн. – Но если слой ровный, а не пятнами, этого нам хватит надолго.
– Главное – не лезть слишком быстро, чтобы не задушить людей дымом.
Мы с Лотаром обменялись взглядом. В его голове уже вертелись мысли о горнах, которые можно будет разогревать сильнее и дольше, не вырубая при этом пол‑леса. В моей – о хлебе, железе и войне.
Разработка угольной жилы стала одним из приоритетов. Мы выделили под неё отдельную артель, усилили вентиляционные шахты, поставили дополнительные подъёмники, часть из которых – с теми самыми магическими механизмами. Люди поначалу боялись спускаться в такие чёрные ходы, где стены пачкали руки просто от прикосновения. Но очень быстро поняли: за тяжесть работы здесь платят лучше, чем за привычное копание известняка. А те, кто работал в угле всего месяц, уже видели разницу в квартирах, одежде, еде.
Уголь встал в один ряд с камнем и лесом как третий кит наших производств. Его было проще хранить, чем дрова, проще перевозить, чем сырые брёвна. А для кузниц он стал таким подарком, что Лотар даже позволил себе несколько раз не ругаться на учеников за мелкие огрехи – настолько счастлив был жаром в горнах.
Старую каменоломню мы не бросили, но она уже подходила к границам разумной разработки. Чтобы не рисковать большим обвалом, Хорн предложил открыть новую – ближе к тракту, где геология, по его словам, была даже лучше.
Место выбрали на склоне невысокого холма, покрытого редким леском. Первые удары ломов показали, что земля и правда здесь держит в себе камень плотный, почти без пустот. Мы начали с небольшого котлована, продумывая сразу и сходы, и отводы воды, и, что важно, место под будущую дорогу к ней.
Я видел, как морально легче работать в новом месте, когда все уже прошли ад старой ямы. Там, где раньше люди не понимали, почему нельзя оставлять нависающие глыбы, теперь сами первыми закрывали опасные места. Учёные ошибки давали свой урожай.
Зачем новая каменоломня, если у нас уже была одна? Затем, что дороги, заставы, казармы, новые таверны, укрепления для ферм, надгробья для тех, кто не дожил до будущего – всё это требовало камня. А покупать его у соседей, когда у нас под ногами лежит собственный, было бы глупостью.
Мы потихоньку переводили часть рабочих из старой ямы в новую. На старой больше занимались аккуратной добычей: блоки для отделки, камень для тонкой работы. На новой – грубый объём: глыбы под стены, щебень под дорогу.
И всё это вместе – уголь, новая каменоломня, магоповозки, заставы, набор в войско – давало странное, но крепкое ощущение: баронство растёт не только вширь, но и в глубину.
Наверное, именно в такой момент и приходится напомнить самому себе: мир не прощает того, что кто‑то начал вылезать слишком высоко. Особенно если кому‑то ты этим стоишь поперёк.
Я не могу сказать точно, кто отдал приказ. Но знаю, в чей дом вели большинство нити.
Это случилось в самый обычный день. Никаких советов, никаких курьеров, никакого торжественного выезда. Я просто вышел из замка к конюшне, чтобы посмотреть, как там идут приготовления к отъезду в заставу. Со мной был только один стражник – молодой парень по имени Якоб, недавно вступивший в гвардию.
Двор был заполнен обычными звуками. Лошади храпели, слуги тащили воду, где‑то стучал молот, вдалеке кто‑то ругался, спуская бочку с пивом с повозки. Я остановился на мгновение, глядя, как один из конюхов, ворча, чистит копыта моей кобыле.
Выстрел я услышал на долю секунды позже, чем почувствовал удар.
Не громкий хлопок тетивы – тонкий, почти свистящий звук, к которому слух уже начал привыкать после появления у нас первых арбалетов с усиленными дугами. Сначала мне показалось, что кто‑то рядом уронил что‑то металлическое. Потом – как будто мне кулаком врезали под рёбра.
Воздух вышибло. Ноги подкосились сами собой. Я не сразу понял, что упал. В глазах всё поплыло, звуки на мгновение превратились в глухой гул. Где‑то очень рядом кто‑то закричал. В нос ударил запах крови, тёплой, липкой.
Сознание качнулось, но не ушло. Я попытался вдохнуть – и сумел только глотнуть воздуха, который будто стал густым, как вода. В боку жгло, как от раскалённого железа. Приподняв голову, я увидел: на камнях подо мной разливается тёмное пятно.
– Барон! – голос Якоба прорезал гул. – Барон, держись!
Он бросился ко мне, щитом прикрывая меня с той стороны, откуда прилетел выстрел. Из‑за угла конюшни послышался второй щелчок. Якоб дёрнулся, но устоял – стрела или болт ударили в щит, с силой, но не пробив. Сверху посыпались щепки.
Потом началась какофония. Крики, звон оружия, топот ног. Чья‑то команда: «Сюда! Быстро!» Где‑то вдали завыла Марта – я узнал её голос, странно высокий от страха.
Ко мне подскочил ещё кто‑то, чьи руки я узнал позже – Хорн. Он перекатил меня на спину, тут же прижал руку к ране.
– Не смей закрывать глаза, барон, – сказал он удивительно твёрдо. – Ты ещё мне нужен. Не вздумай меня бросать с этой оравой.
Я попытался усмехнуться. Получился странный хрип.
– Кто? – выдавил я.
– Потом, – отрезал он. – Сейчас – дыши.
Он крикнул кому‑то, чтобы несли чистое полотно и кипяток. Крикнул Марте, чтобы готовила воду и была готова по команде. Я видел её лицо, бледное, как у муки, и глаза, расширенные до чёрных кругов.
Рана, как оказалось позже, была ниже рёбер, чуть левее. Болт прошёл навылет, к счастью не задев ни сердце, ни крупные сосуды. Но в тот момент я этого не знал. Казалось только, что тело моё стало чужим, тяжёлым и холодным.