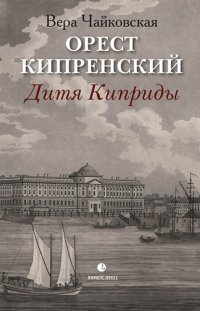Читать онлайн О странностях души бесплатно
- Все книги автора: Вера Чайковская
© В. Чайковская, текст, 2025
© А. Веселов, обложка, 2025
peopleandbooks.ru
Рассказы
О странностях души
Ему казалось, что состояние, которое он в последнее время испытывает, подпадает под древнее понятие апатии – ничего не надо, только оставьте в покое. Но странно, временами на него накатывали приступы бешеной ярости, совершенно бессмысленной в данных обстоятельствах. Страстно хотелось, чтобы все вернулось в прежнее упорядоченное русло, со спокойным сном, любимой работой, ожидаемыми политическими новостями. Но увы, уже несколько лет как в России все перевернулось и воцарился совершенный хаос и полное безобразие.
Многие его питерские друзья в конце Гражданской ждали прихода немцев как единственного спасения. Уж те порядок наведут!
Он немцев не любил и не хотел их казенного порядка. Но положение было абсолютно тупиковым!
Кто-то ему рассказывал, что видел Бунина перед его отъездом за границу. Он напоминал бомбу, которая сейчас разорвется. Он ненавидел все вокруг – вплоть до мирных объявлений на столбах о получении хлебного и селедочного пайка или об обязательной регистрации граждан по месту проживания.
Вот и с Николаем Аристарховичем Соколовым, Коленькой для близких друзей из объединения «Круг творчества», известным критиком и историком искусства, случилось нечто подобное. Его апатия перемежалась яростными выпадами, которые могли для него закончиться весьма плачевно. Его дядя, пожилой уже человек, преподаватель древних языков в гимназии, несколько месяцев как сидел в Крестах – неизвестно за что. Человек он был аполитичный. Говорили, что вот-вот выпустят, но не выпускали. Чем закончилось все для Гумилева, правда в чем-то действительно замешанного, – все знали.
Николай Аристархович сделал несколько бурных и опрометчивых шагов – написал письмо Максиму Горькому, с которым был знаком еще по Сорренто, и нынешнему наркому Анатолию Луначарскому. Тот и вовсе был почти приятелем. Приглашал в Зимний на чтение своих пьес, где собирался узкий круг друзей.
Горькому он писал, что совершенно разочарован в революции и не хочет принимать участия ни в каких комиссиях и комитетах, куда тот его настойчиво зазывал.
Это разбушевалась дикая чернь, орда, которой нужен только «печной горшок» и больше ничего. Россия погибает, если уже не погибла.
Луначарскому он написал еще яростнее. Дело в том, что он поначалу согласился заседать в комиссии по сохранению культурного наследия. И даже в ней председательствовать. Но, прозаседав в комиссии несколько месяцев – вместе с вполне приличными и уважаемыми университетскими профессорами из «бывших», – он понял, что все напрасно. Хам одолел! Воплощением этого хама стал комиссар Ботинкин, приставленный к комиссии. Его интересовала исключительно «рыночная стоимость» спасаемых музейных шедевров. Николай Аристархович, приглядевшись к комиссару, стал подозревать, что тот либо уже приторговывает, либо собирается торговать свалившимися на его голову сокровищами. Дворцы знати стояли бесхозные, разграбленные и опустошенные.
Хозяева убегали в спешке, спасая жизнь. Что-то из их коллекций можно было еще сохранить для музейных собраний. Но Ботинкин, возможно, уже договаривался с каким-нибудь богатеньким американским дяденькой об их продаже, чтобы на вырученные доллары накупить еще и еще бомб и пулеметов, необходимых революционному государству.
Все эти соображения Николай Аристархович без обиняков изложил в письме к Луначарскому, присовокупив, что сам он – человек совершенно аполитичный, живет в ненужном для революционно настроенных масс мире искусства и подпадает под категорию «поэтов», которых еще Платон советовал выдворять из идеального государства, каковым, вероятно, и является государство, возникшее в ходе пролетарской революции.
В последней фразе был намек на то, что и он, Николай Соколов, готов, если ему разрешат, оставить дорогое отечество. То, что его не отправили в изгнание на специально выделенном по приказу Ленина корабле для таких, как он, «поэтов», по всей видимости, было связано с желанием Луначарского оставить его в России и использовать его профессиональные познания в атрибуции коллекционных произведений.
В письме была одна личная просьба – вернуть ему из конфискованной коллекции деда, крупного биолога, преподавателя Петербургского университета, собиравшего отечественную графику, только один графический лист – женский портрет с дружеской надписью блистательного Ореста Кипренского.
Тот, встретив молодого тогда деда в Неаполе в конце 20-х годов XIX века, подарил ему этот портрет, на котором расписался характерной красивой монограммой, где «к» вписывалось в «о», и начертал своей рукой: «В знак истинного дружества».
Реквизирование этого небольшого листа, о чем он узнал из взволнованного телефонного звонка сестры Зины, жившей в родительском доме с собственным семейством, вызвало у него приступ бешеной ярости. Сестра подробно перечисляла изъятые у них старинные вещи, картины, графику, фарфор, гобелены, но он все время думал только об этой потере и оплакивал только ее.
Этот портрет он знал с детства. Он висел у него над детской постелькой. В детстве он загадал, что эта юная девушка с наивно-очаровательным лицом и кротко опущенными глазами – его будущая невеста и он ее, повзрослев, непременно найдет. Найти не привелось, но женский образ несказанной прелести и нежности так и сопровождал его всю жизнь…
Ворвались в его личную жизнь, в святая святых, реквизировали подаренный самим художником портрет, который для них или вообще ничего не значил, или обладал исключительно «рыночной стоимостью». А для него в этом портрете была вся жизнь, история семьи, загадочная судьба деда…
Тот был молчуном, записок тоже не оставил. Его жизнь приходилось угадывать и домысливать. В юности он учился в Болонском университете на естественном факультете и привез из Италии невероятной красоты рисунок – дар Ореста Адамовича Кипренского. С этого рисунка и началась его знаменитая коллекция графики, на которую зарился Русский музей. Да и судьба самого Николеньки еще неизвестно, как бы сложилась, если бы не коллекция деда, не этот портрет. Возможно, стал бы химиком, как умерший отец, или преподавателем латыни, как сидящий в Крестах дядя…
Безумных, бешеных чувств было так много, что после звонка сестры, он кинулся к Марсову полю, к жуткому медному истукану, и в ярости, не помня себя, погрозил ему кулаком, как некогда пушкинский «безумец бедный». Он словно бы слал проклятие этой ужасной династии, доведшей Россию до такого скифства. Ни одного интересного, интеллигентного лица! В дедовской коллекции были разнообразные наброски портретов Романовых. Ни одного утонченного, умного, да просто доброжелательного и ясного облика!
Все уроды, выродки, извращенцы, люди узкого кругозора и сдвинутой психики. Это их отрицательная энергия привела к современному, «бессмысленному и беспощадному» бунту диких скифских масс.
Только в Александре I было что-то человеческое, но ведь и он не выдержал этого рокового места, не обладал кровожадной волей, ушел, как говорили, в старцы, в скитальчество, в неизвестность…
А тезка Николая Аристарховича подхватил знамена дикой непросвещенной силы.
С постоянным раздражением относиться к Кипренскому! Оставить после его внезапной смерти в Италии молодую вдову-итальянку с новорожденной дочерью без пенсиона! Мол, не полагается, так как не занимал никаких государственных постов! Он «числился по России», как говорил о себе Пушкин! Вот и потерялся род Кипренского где-то в Италии. Гордая Марьючча больше не беспокоила государя просьбами, и даже собранные в Академии деньги от распродажи его имущества до нее не дошли. Исчезла с дочерью в италийских просторах. Вышла замуж за итальянского маркиза и уже не нуждалась в царских подачках! Как это похоже на самого гордеца Кипренского!
Николаю Аристарховичу гордая простолюдинка Марьючча всю жизнь казалась девушкой с портрета, подаренного деду. Такие же милые, округлые, обворожительные черты, такой же смелый и независимый нрав!
Что же касается России, то чудовищное сочетание дикаря и чиновника в одном лице было приметой чуть не всех ее властителей!
Медный истукан тогда за ним не погнался – что ему был какой-то ничтожный интеллигентишка?!
А Николаю Аристарховичу безумно хотелось, встретившись с ним лицом к лицу, указать рукой на город, лежащий при последнем издыхании. С разоренными великолепными дворцами, с ночными арестами, с бессудными расстрелами, с садистическим «уплотнением», когда тебе в твой обжитый уголок подселяют какого-нибудь уголовника или чекиста, что было почти одно и то же, с полным разрушением всего культурного слоя, который создавался веками.
Вот, смотри, во что превратился построенный тобой великий город, воспетый художниками и поэтами!
Да что истукан! Его не он строил, а возводили какие-то таинственные силы, словно не замечающие кровожадной дикости властей. И из этих дивных полуфантастических сокровищ больше всего Николаю Аристарховичу было жаль дачно-дворянского, неведомо как сложившегося обихода, случайного, смешного, захватывающе-непредсказуемого.
Не тех роскошных приемов с театральными постановками и роговой музыкой вельможного XVIII столетия, а тихого быта обедневших дворян, ставших артистической элитой, воспетого Тургеневым, Чеховым и Буниным. Отголоски этого быта проступали и в поэтических фантазиях Борисова-Мусатова, о котором Николай Аристархович много писал.
Какое-нибудь милое интеллигентное семейство на летней даче. С хлопотливой хозяйкой в белом платье, которая все молодится и все желает нравиться; с хорошенькими, воспитанными мальчуганами, изучающими в гимназии латынь у строгих учителей типа его дяди; со старшей дочерью, еще подростком, но уже невинно очаровательной и пленяющей сердца.
Таким был их деревенский дом в Комарове, купленный некогда родителями, где теперь жила его сестра Зина с семейством. Он от своей доли дома после смерти родителей отказался, как сделал чеховский дядя Ваня. Он был одинок, а у сестры – милое семейство с добродушным мужем-адвокатом и дочерью Лизой, его очаровательной племянницей, с годами ставшей почти точной копией девушки с рисунка Кипренского. Только та была застенчива и тиха, томно опускала глаза, погрузившись в грезы. А эта смотрела всегда глаза в глаза и взора не отводила, словно проверяя власть своих ранних, еще не вполне осознанных чар. О эти дореволюционные девушки! Новое поколение обезумевшей России – дерзкое, гордое, иррациональное и бесконечно привлекательное своим кратким трагическим цветением. Эти чарующе-терпкие Мисюси и Оли Мещерские! Всем им суждено было тут погибнуть, превратиться в лагерных невольниц, уйти в безумие, опроститься до поварих и портних.
Больше всего он желал, чтобы его сестра Зина с мужем и дочерью поскорее оказались подальше от озверевшей России!..
…А как она к нему кидалась, когда он приезжал в их деревенский уютный дом! Как радостно вскрикивала, обнимала за шею (ему приходилось наклоняться), потом, кружась, демонстрировала новое платьице, такое хорошенькое, холстинковое в горошек, и внимательно смотрела, заглядывая ему в глаза – ведь он ее любит, да? Свою единственную племянницу, родного и близкого человека! А шоколада принес? А старые детские книжки с картинками, ты же обещал в прошлый раз найти в своих завалах! Я так в детстве плакала над картинкой с Муму!
– Не приставай к дяде! – возмущалась Зина. – Что за манера такая – все время что-то требовать! Вот он перестанет приезжать!
– Не перестанет! – кричала Лиза с восторгом в голосе. – К кому же ему еще приезжать! Где ему будут так рады?! Принесут домашние тапочки, дадут клубничного варенья в красивой фарфоровой тарелочке – прямо из его детства?
Где скажут:
– Коля, какой ты сегодня бледный! (Это, конечно, Зина).
– Дядя Коля, какой ты сегодня и всегда интересный! (Это Лиза, с хохотом и визгом, совсем не приличествующем взрослеющей барышне пятнадцати лет. И смотрит на него глаза в глаза – хороша?)
И все, все это погибло, пошло прахом, исчезло из-за каких-то идейных разборок, громких слов о пролетариате и эксплуатации. Но главным образом из-за той дикости, которая была заложена в самом основании этого государства, во всех этих варварах-правителях! И вот теперь погибали сопутствующие этой дикости, но обитающие словно в другом пространстве тончайшие свечения русской культуры, красоты, нежности, праздники немыслимых экстазов высокой любви, тайно подогреваемой неутоленной чувственностью.
Бедная, бедная Россия!
…Он и к Зине теперь не приезжал, не желая демонстрировать нынешнюю свою злобную апатию. Не желал, чтобы его видели потухшим и несчастным, а не прежним – ярким, остроумным, блистательным. Да и у них теперь все было по-другому. Ютились в одной комнате, распустили прислугу, топили печь, распиливая старинную мебель, с трудом доставали продукты, обменивая их на оставшиеся от прежней жизни вещи, и боялись выйти из комнаты, чтобы не столкнуться с бравым советским чиновником, его хваткой женой и их шумными многочисленными родственниками, занявшими весь особняк.
Особенно, вероятно, боялась, возмущалась и негодовала Лиза – как и почему это произошло?..
…Луначарский внезапно ответил. Мальчишка-курьер в какой-то разношерстной форменной одежде, частично гимназической, частично военной, важно надув щеки, протянул ему записку от наркома просвещения и попросил расписаться в ведомости. Хоть в этом был какой-то порядок, странный при безумии всей системы.
Записка была краткой, написана от руки, торопливым почерком смертельно занятого человека. Луначарский просил не делать поспешных выводов и не уезжать из страны, так как здесь Николая Аристарховича ожидает громада дел, с которыми может справиться лишь человек его знаний и культуры.
А в заключение он писал, вероятно чтобы как-то смягчить непримиримость Соколова в отношении советской власти, что сделал соответствующее распоряжение и рисунок Кипренского из коллекции деда ему вернут. Коллекцию перевезли в Москву, в особняк Березняковых, где временно хранятся изъятые у населения ценности. Так что надо потрудиться поехать в Москву, явиться в особняк и предъявить охране свои документы, сославшись на распоряжение Луначарского за номером 3085. В конце записки был затейливый росчерк нынешнего хозяина русской культуры. Не самого, надо признать, дурного, но работавшего на дикарей!
Николай Аристархович не испытал взрыва радости – помешало общее душевное оцепенение. Но что-то в нем все же дрогнуло. Отдают! Отдают назад его итальянскую красавицу! Его сокровище! Его любовь! Конечно, он поедет в Москву. О чем разговор! С ней, с этой дедовской реликвией, была связана неразгаданная семейная тайна. Дед не оставил о ней ни слова. Кто эта девушка? Почему Кипренский подарил деду, русскому ученому, этот рисунок? Она итальянка или русская? Множество загадок и неясностей, которые Николай Соколов, Коленька, Николай Аристархович всю жизнь пытался разгадать. Интуитивно он почувствовал, что девушка писалась с Марьюччи – юной натурщицы художника, простолюдинки-итальянки с беспутной матерью, норовящей дочерью торговать. Кипренский много лет девочку опекал и заботился о ней, даже находясь в России, а потом вернулся в Италию и, забрав девушку из католического монастыря, где она ждала его долгие годы, женился на ней. К сожалению, они прожили вместе в прекрасном палаццо на горе только несколько месяцев – Кипренский внезапно умер от простуды…
Возможно, художник рассказал о Марьючче молодому красавцу-ученому из России, внешне сдержанному, но пылкому и впечатлительному. И добавил к рассказу ее обворожительный портрет. Пусть увезет его в Петербург, куда и сам художник думал вернуться после женитьбы.
Увы, не пришлось! Конечно, и дед сразу влюбился в этот летучий, нежный облик! Недаром портрет перевернул всю его жизнь, сделал страстным коллекционером…
Николай Аристархович известил телеграммой московского друга-художника, что приезжает по делам. Тот встретил его на вокзале. Странно, но почта работала нормально, словно человеческий орган, которому забыли сообщить, что сердце остановилось. И он продолжает по инерции свою службу.
На московском вокзале Николая Аристарховича вдруг осветило солнечным лучом, и он вспомнил, что скоро весна. В Петербурге он об этом не вспоминал. По дороге в Москву, в переполненном каким-то суетливым людом с тюками и мешками вагоне, словно вся страна куда-то убегала, он, ехавший впервые в жизни в общем (говорили, что в купированных вагонах везут арестантов с охраной), услышал случайный отрывистый разговор двух интеллигентного вида попутчиков. Говорили шепотом, но он расслышал каким-то чудом, что фраза «отправили в Саратов» может означать расстрел. Зина в их прощальном разговоре по телефону сказала, что дядю, по слухам, перевели в Саратов.
Неужели расстреляли? Без суда, без какой-либо вины!
Друг-художник даже не сразу его узнал.
– Коля! – вглядевшись, закричал он. – Что ты такой тощий и брюзгливый! Не кормят вас там, в Питере, или вы сами отказываетесь?
– Зато ты веселый и сытый, – с какой-то недружелюбной гримасой парировал Николай Аристархович, с неприязнью разглядывая широкое, гладкое и даже сейчас румяное лицо своего давнего доброго друга, его мощную фигуру в красивой синей куртке свободного покроя, выдающего художника. Как он прежде его любил! С каким восхищением о нем писал! Как любовался его статью! И где все это?
– Вид у тебя прямо волчий, – Павел даже присвистнул. – В Москве будем тебя откармливать.
– Я на один день, – хмуро буркнул Николай.
– А мы не отпустим. Да ты сам не уедешь! Ты знаешь, Мэри оказалась очень сообразительной теткой. Завела знакомство с селянином из Мытищ. Он нам кое-какой продукт подбрасывает. То мясо, то творожок.
– Я на один день, – подчеркнуто отчетливо снова повторил Николай. – Только заберу рисунок из дедовской коллекции по записке Луначарского. И домой. Мне нужно срочно отправить семейство сестры…
– Куда? – перебил Павел. – В Берлин? В Париж? В Рио?
Николая задел его насмешливый тон.
– А ты что, собираешься здесь оставаться?
– Да, Коля, да! – Павел беспечно рассмеялся. – Да расстегни ты свое хмурое питерское пальто – жарко! Мне вот в куртке душно! Как говорится, весна идет. Кстати, и нам придется пройтись. Доехать нет никакой возможности. Трамвая не дождешься, да в него и не влезть. Влезем, конечно, но неудобно отталкивать дам…
Павел снова по-детски беззаботно рассмеялся.
– Лучше мы пешком. Видишь, сколько народу расползлось пешком? Спрашиваешь, собираюсь ли я? Я, мой друг, уже пожил и в Берлине, и в Пиренеях, и черт знает где еще. Скучно, брат, в этой Европе. Закат, как сказали до нас. Одни барыши на уме. Кризис, деньги, страховка, налоги. Словом, одна бух-гал-терия! Проза. Искусство ценится только как капитал: «Ах, он известный? Поставлю-ка я на него, как на лошадь в скачках».
– А здесь не нужно никакого искусства, – злобно прохрипел Николай. В поезде он простудил горло.
– Это ты зря! – в голосе Павла слышалась прежде не свойственная ему горячность. – Мы вон недавно всей командой трамвай расписывали. В который не влезть! Тут что-то сдвинулось. Святогор-богатырь шевельнул плечиком – и все вокруг заплясало. И у нас сил поприбавилось. И надежд, как это ни смешно. Захотелось, чтобы на твоем домишке потом висела памятная табличка. Все из прежнего «Бубнового туза», помнишь? И все хотят что-то сделать. Много пены, но есть и дельные ребята.
Николай слушал Павла с раздражением. Чтобы так разойтись! Чтобы совершенно уже друг друга не понимать!
– Ничего, найдется на вас какой-нибудь Ботинкин, который всех вас придавит! Хором заставит петь по своему песеннику! – Хрипящий голос Николая усиливал зловещее впечатление от его слов.
– А не заставит! – снова заулыбался Павел. – Мы ребята хваткие. Мы за народ, за справедливость. Мы не… Как там у них? Не эксплуататоры какие-нибудь! Своими руками хлеб зарабатываем! Я вон и тарелку могу расписать, и рабочий клуб оформить!
Павел приостановился, посмотрел вокруг на бредущих с мешками и тюками людей и снова рассмеялся, чем-то очень довольный.
– Честно тебе скажу, мне наплевать на их риторику. Эксплуатация. Пролетариат. Классы… Но чем-то новым повеяло. Мне наконец-то стало интересно. А в Европе я прозябал. Напишешь что-нибудь – ба, да это уже было, почти Мане, или Сезанн, или даже Пикассо. Я свое хочу отыскать! Как там классик сказал? Счастлив, кто посетил сей мир…
– Да, покуда не посадили в тюрьму и не расстреляли без суда! – съехидничал Николай. Все это время его не оставляла мысль об участи дяди и судьбе семейства сестры.
Но Павел не хотел его услышать.
– Неисправимый ты пессимист! Вот мастерскую, боюсь, реквизируют. Пока каким-то чудом оставили. Да мы и пришли.
Николай не без труда узнал деревянный одноэтажный домишко – мастерскую Павла, где прежде неоднократно бывал. Прежде он был похож на сказочный теремок, а теперь захирел: краска на стенах облупилась, заборчик с затейливыми воротами вовсе исчез. Рядом с домиком выросли какие-то пристройки барачного вида. Да и внутри мастерской был полный развал. По углам валялись какие-то мешки и тюки, перемежаясь с повернутыми к стенам картинами. Благородный камин сменился простонародной печкой, скорее всего самодельной, которую Павел тут же стал растапливать. В мастерской было сыро и промозгло. Николай сел в изнеможении на колченогий табурет. Павел возился с печкой. Женский голос со стороны двора его окликнул, и в окошке показалось женское, веселое, с ярким румянцем лицо.
– Павел Александрович, я вас тут заждалась. Не поколете мне дровец? А я вам полешко отдам. Братец подбросил, а поколоть было некогда.
Крупная, свежая, в распахнутом полушубке баба, простоволосая и на вид уже не совсем деревенская, улыбалась во весь белозубый рот.
– А и поколю, Ульяна. Много там?
Павел оторвался от печки и неторопливо подошел к окошку.
– Да чуть-чуть. Боюсь, растащат.
Павел покосился на Николая, безмолвно за ним наблюдавшего:
– Ты тут располагайся. Печка сейчас разгорится. А я мигом.
Он скинул художническую куртку и выскочил на улицу прямо в белой рубахе и в каких-то полувоенного покроя серых штанах. Топор взял из рук бабы и тут же стал колоть дрова, а та смотрела на него с восхищением.
– Красиво работаете, Павел Александрович. Видно, что не в новинку дровишками заниматься.
– А я все делаю красиво, – Павел остановился и лихо покрутил топором над головой, явно кокетничая с бабой.
Николай подумал, что у них, должно быть, амуры и он пишет с нее простонародно-революционные ню, как прежде писал обнаженных академических натурщиц. От этой мысли ему стало так неприятно, что он поскорее отвернулся от окна, зябко поеживаясь. Врастает в новую, хамскую реальность! Причем совершенно органично!
Павел вернулся, прижимая к груди полено и что-то испанское вполголоса напевая.
Полено он положил возле печки, где уже были сложены неказистого вида сучья.
– Злой ты какой-то, – оглянувшись на нахохлившегося на табурете Николая, сказал он. – Надо было мне еды из дома принести. Может, ты бы оттаял. Ну да вечером у нас поешь. Мери приготовит чудесный ужин.
– Я тебе сказал, что вечером уезжаю. – Николай уже не скрывал раздражения, несколько разрядившего его привычную апатию. – Сейчас немного отдохну и отправлюсь в особняк Березняковых. Там теперь временный склад коллекционных вещей. Смотрел по карте. Это где-то в районе Пречистенки.
– А, знаем, – оживился Павел. – Хочешь, я тебя провожу?
– Нет, не надо. – Николай даже испугался, словно Павел мог как-то помешать осуществлению важнейшего дела его жизни. – Я сам. Я так решил.
– Как знаешь. – Тон Павла тоже стал заметно менее дружелюбным. – Вечером ждем у себя. Адрес помнишь? До Сретенки иногда идут трамваи. Мелочь есть? Да, ключи я кладу под коврик.
Они обнялись. Причем Николай сделал это совершенно машинально, словно не с другом прощался, может быть, навсегда. Думал о своем – все о дяде, Зине, Лизе…
До Пречистенки еле доплелся. Было уже больше двух часов дня. Он не завтракал и не обедал, но голода не ощущал. И в Петербурге он теперь питался какими-то рывками, доедая академический паек. Кухарку пришлось рассчитать, но иногда она ему приносила что-нибудь «горяченькое», завернутое в платок…
У входа на склад, в дальнем углу огромного темного вестибюля, сидел солдатик в шинели без погон и зачем-то в ушанке с красной звездой посередине. У стены стояла винтовка. Рядом с ним ошивался смешливый парнишка лет шестнадцати.
Николай оглядел вестибюль. Бог мой – какая разруха!
В нишах обширного зала овальной формы прежде, вероятно, стояли старинные вазы. Теперь ниши зияли пустотой, лишь кое-где валялись осколки ваз, так и не убранные новыми хозяевами. На лаковом полу были разбросаны бумаги, пахло пожарищем. Часть бумаг, очевидно, сгорела в камине, а часть лежала, никому не нужная. Николай подобрал с пола особенно тонкий листок, до сих пор источающий аромат парижских духов вперемешку с запахом махорки и тления.
«Милый друг! – прочел он. – Все ужасно! Мы бе…». Край листка был оторван, и в конце, размазанная не то водой, не то слезами, читалась только часть слова: «…щайте!»
Какая-то дама из семейства Березняковых, известных чаеторговцев, так и не сумела отправить своего прощального письма. И кто-то его не получил. «И жив ли тот? И та жива ли?» – невольно вспомнились любимые стихи. Боже, Зина, Лиза, дядя – что с ними?!
– Вы кто такой будете? – грозно спросил солдатик и поправил ушанку.
– Я по поводу… – вежливо начал было Николай, но осекся и продолжил сухим тоном: – У вас имеется распоряжение наркома Луначарского за номером 3085.
Николай Аристархович без запинки отчеканил эту выученную наизусть «мистическую» цифру.
Солдатик порылся в столе, за которым восседал, и вытащил какую-то длинную бумагу сероватого цвета, словно газетную.
– За каким номером?
Николай повторил цифру насколько возможно спокойным голосом. Парнишка из-за спины солдата наблюдал за ними, корча рожи.
– Верно. Получено такое распоряжение, – важно констатировал солдатик, не глядя на Николая. – Выдать одну арктивную…
Парнишка со смешком исправил:
– Тут «архивная» написано!
Солдатик продолжил, отмахнувшись от паренька:
– Одну единицу ар-ар… Словом, выдать.
Николай быстро спросил, где хранится коллекция Соколова. Но охранника вопрос рассердил.
– Сам ищи! Все ему расскажи да покажи! У меня тут ружье стоит на всякий случай. Иди, мил человек, пока цел. Сам ищи свою арктивную единицу.
– Архивную, – упрямо поправил парнишка и скорчил уморительную рожу.
Николай поднялся по мраморной лестнице в гостиную и стал искать собрание деда. Вдоль зала плотными рядами стояли деревянные ящики-саркофаги со сделанными от руки надписями фамилий владельцев графических коллекций. Каких только знаменитых имен тут не было!
Неожиданно с радостным визгом к нему подбежал большеголовый рыжий щенок, виляя хвостом и заглядывая ему в глаза. Как он тут оказался? Почему не сидел внизу, а отправился наверх?
Николай Аристархович нахмурился, но все же наклонился и слегка потрепал щенка по загривку, а тот исхитрился и радостно не то лизнул, не то куснул ему руку. Если куснул, то небольно и явно дружески.
– Отстань, мне делом надо заниматься, – снова нахмурившись, сказал Николай Аристархович.
Пес словно понял и отошел в сторонку, продолжая с какой-то радостной восторженностью наблюдать за Николаем Аристарховичем, словно нашел наконец объект любви. Хвост его вертелся из стороны в сторону и гулко стучал по полу.
Николай Аристархович между тем нашел дедовскую коллекцию и, присев на корточки, стал искать нужный ему рисунок. Все складывалось в ящик, видимо, впопыхах, но музейным работником. Поэтому папки были пронумерованы, рисунки проложены тонкой белой бумагой и сопровождены надписями.
Наконец, в отдельной красной папке он увидел нужную ему надпись, осторожно сдвинул лист папиросной бумаги и даже прикрыл глаза, словно от нестерпимо яркого света, – опять перед ним это незабываемое девичье лицо со стыдливо опущенными глазами.
Щенок подбежал и, изловчившись, лизнул его в щеку холодным языком.
– Дурачок, – пробормотал Николай Аристархович. – И что ты тут делаешь? Чей ты? Неужели этого хама?
Щенок радостно взвизгнул, поняв, что с ним разговаривают, и только после этого тихонько заскулил.
Он тоже был один, заброшен в разоренный дом, обречен на гибель. Почему-то вспомнился рассказ любимого писателя, как тот на корабле плыл только с маленькой обезьянкой и та в страхе протянула ему маленькую сморщенную ладошку.
Николай Аристархович сжал папку в почему-то сразу ослабевших руках и поплелся вниз, а щенок с тихим повизгиванием шел за ним.
Охранник сидел за своим необъятным столом все тем же истуканом, а парнишка продолжал ухмыляться и корчить рожи неизвестно кому.
– А вон и наш арктивный идет, – оживился солдатик. – Гляди, Петруха, и пес за ним. Нашелся наконец. Цельный день пропадал.
– Это ваша собака? – нервно спросил Николай Аристархович.
– Приблудная. Петруха принес неизвестно откудова, да и бросил. Кормить нечем.
Тут солдатик, словно о чем-то вспомнив, достал из мешка кусок хлеба с ливерной колбасой и начал с жадностью есть.
– Я, – сказал Николай Аристархович с запинкой, – я… нашел рисунок. Он вот в этой папке. Можете проверить. И я хотел бы… взять собаку.
– Он беспородный, – вмешался в разговор Петруха. – Зачем вам такой?
– Погоди, Петруха, – важно перебил солдатик. – Тут дело в другом. У меня в распоряжении записана одна… Как там ее? Ар… Словом, одна единица. А ты, мил человек, хочешь унести отсюдова целых две. Нет, ты выбери сначала: рисунок за регистрационным номером 3085 или беспородный пес без клички?
Николай Аристархович пошатнулся. В глазах потемнело. Только бы не упасть.
– Я… Я выбираю…
Щенок, словно понимая, что речь идет о его судьбе, тихонько взвизгнул и понуро опустил хвост. Не возьмут!
– Я щенка беру. – Николай Аристархович судорожно положил папку на стол. – Вот. Рисунок отнесите, пожалуйста, назад в ящик. Собрание Соколова…
Он схватился рукой за стол. Марьючча вдруг подняла свои огромные глаза и улыбнулась. А Лиза бросилась ему на шею: «Я так когда-то плакала над этой твоей детской книжкой…»
…Петруха поил его водой, и у него стучали о края стакана зубы.
– Смотри, как оголодал! Голодный обморок – он самый и есть, – проговорил солдатик. – Откуда прибыл?
– Из Питера.
– Слыхал, там голод – жуткое дело! Петруха, достань-ка, знаешь откудова, полбатона ржаного. Дадим этому горемыке, как думаешь? Да забирай свою картинку. Нам она даром не нужна, а ты за нее еще должен расписаться в ведомости. А собаку так тебе отдаем. Мы не жадные, да, Петруха? Родом собака, а кличку сам подберешь.
Петруха куда-то исчез и через минуту вложил в руку Николая Аристарховича кулек с черным хлебом. В другую солдатик сунул ему красную папку.
Осторожно положив все это на стол, Николай Аристархович где-то в указанном ему месте расписался и вышел из особняка на воздух. Было так светло, что он даже в первую минуту зажмурился. Следом за ним весело припрыгивал щенок.
«Француз! – осенило Николая Аристарховича. – Легкий и веселый французский нрав. Буду звать его Франсом».
Его пошатывало. Он остановился у колонны особняка перевести дух. Франс привстал на задние лапы и попытался мордой дотянуться до кулька с хлебом. Тогда только Николай Аристархович вспомнил про еду. Он с осторожностью положил папку с рисунком себе подмышку и руками, как в детстве, отломил от половинки батона два куска хлеба. Один, нагнувшись, поднес к пасти Франса – тот его мгновенно, не жуя, проглотил. А другой положил себе в рот. И тут его настиг ужасный спазм. Он не мог разжевать этот кусок, давился, с трудом глотал, слезы полились по лицу – первые слезы за несколько сухих и холодных послереволюционных лет. Он нагнулся к Франсу, погладил по жесткой рыжеватой шерсти, дал еще кусок хлеба – поменьше, чтобы не подавился. Что-то другое ему полагалось есть, но другого не было.
– Ничего, ничего, – утешал Николай Аристархович не то себя, не то пса.
Из особняка выскочил Петруха и со всех ног кинулся к ним.
– Вот, забыли! – он подал Николаю Аристарховичу оставленную в особняке фуражку. Увидел его залитое слезами лицо и стал извиняться за своего дядьку – в Гражданскую его сильно контузило.
– Сердечно благодарю, – некстати выговорил Николай Аристархович. – Не ожидал.
И вытер рукавом мокрое лицо – привычка его бывшей кухарки. Парнишка хотел погладить пса, но тот не дался и гордо отступил к Николаю Аристарховичу.
– Хозяина признал, – не без досады сказал парнишка, скорчил напоследок смешную рожу и исчез в особняке.
По дороге в мастерскую Павла весь хлеб был съеден. В мастерской Николая Аристарховича ожидала записка от хозяина. Тот писал, что зашел проверить, загасил ли он печь, ведь Николаю не до того. И сообщал о приезде своего приятеля из Питера с важными известиями. С дядей дело плохо, а сестра с семейством срочно бегут в Париж по дипломатической линии.
«С тобой уже не увидятся, – писал Павел. – Так что жду тебя вечером у себя. Спешить тебе некуда. Не хандри. Бывало и хуже. Вспомни о временах Пугачева. Да и разинская княжна пострадала ни за грош».
Где, где теперь была его апатия?
Боль за дядю, радость за сестру, за Лизу, приступы какого-то немыслимого счастья оттого, что завладел сразу двумя такими сокровищами – рисунком и собакой, – все это сделало его жалким, плачущим, вздрагивающим от любого шороха. Нет, в таком состоянии он к Павлу не пойдет! Волновало, как он довезет щенка в вагоне, где и людям было тесно. Но проводник за небольшую доплату пристроил Франса к циркачам, перевозящим свою дрессированную команду, в том числе и собачек. Вагон был выделен по распоряжению наркома просвещения. Освободившийся народ требовал зрелищ…
…Во Францию он попал через несколько месяцев. Луначарский не стал его удерживать, видимо поняв всю серьезность идейных расхождений.
Рисунок Кипренского теперь, как в детстве, висел над его кроватью в маленькой парижской мансарде.
Франс оказался собакой редкой старофранцузской породы. Знатоки восхищались формой его ушей и красивым золотистым окрасом.
Но главное, Николай Аристархович обрел в нем веселого и надежного друга. Критические писания были тут никому не нужны, и он вспомнил о своем давнем увлечении и стал рисовать для дягилевской труппы эскизы балетных костюмов. Совместные с Франсом прогулки в версальском парке наладили его сон.
И только Лиза вызывала тревогу. От милой девочки не осталось и следа. Она уже ничем не напоминала Марьюччу.
Прокуренный низкий голос, порочные круги под глазами, усталый взгляд. По-русски она принципиально не говорила. Учила английский, так как рвалась в Америку.
Да, Европа, видимо, и впрямь издыхала. Но здесь было все же лучше, чем в Крестах или на Лубянке.
И только когда Николаю Аристарховичу начинали с язвительностью в голосе говорить (особенно французы), что нет никакой загадки русской души, все это бредни и глупости, он холодно отмалчивался или уводил разговор в сторону, словно это была та сокровенная тема, которой лучше не касаться…
Бегущие
(триптих)
В Италию. Встреча со славянкой
Начало XIX века
Направляясь в выставочную залу академического здания, Антон Некритский прошел мимо буфетной, где приготовлялось угощение. В его честь Академия давала обед. От здешней еды он совсем отвык. Желудок ее не переваривал. И как он мог это есть столько лет? Правда, в отчем доме ели по-крестьянски просто. Отец – управляющий поместьем бригадира Дучкова – любил еду натуральную: творог, брынзу, фасолевую похлебку, печеный картофель. Маленький Антон эту еду тоже полюбил, но ее всегда не хватало. Пробавлялся сухариками, которые сушила в печке мать.
А в академическом пансионе еда была «казенная» – приторно-безвкусная. И ее тоже было мало. А сухариков никто не давал!
В Италии, завидев голодного пса, он вынимал из оттопыренных карманов сюртука горсть сухарей и кормил бедолагу прямо с ладони. В Италии всем должно было быть хорошо – и людям, и животным! И вот почему он покровительствовал бездомным собакам. Он сам привык там к красному вину, острой пицце, хорошо пропеченной на углях, зеленому перцу, сладкому и тающему во рту. И к винограду, который он ел в неограниченных количествах, напитываясь дурманящим и вселяющим силы соком, словно соком самой жизни!
Ах, как всего этого было мало в Петербурге – солнца, радости, пьянящего виноградного сока! Его удивляло теперь даже то, что он сумел здесь что-то написать и кому-то из академиков-преподавателей, а по большей части аристократам из высшего света и пишущей журналистской братии, – это нравилось. Чем? Он и сам теперь только диву давался.
Когда шел в залу, где были повешены его новые картины, привезенные морским путем из Италии, издалека еще услышал гул голосов. Весь Петербург слетелся поглядеть на нового Антона Некритского. Из Москвы тоже прикатили гости. Глазели не только на картины, но и на него. Как он? Изменился ли после заграничной вольной жизни? Он ловил на себе эти цепкие взгляды и поеживался. Знал, что несколько растолстел, а это при невысоком его росте не шло на пользу. Старался улыбаться, но губы сами складывались в упрямую гримасу. Ее прежде тоже не было – казался веселым и приветливым. И все равно он хорош собой, а два привезенных из Италии автопортрета являют это городу и миру.
Какой-то старичок генерал чересчур близко подошел к его «Танцующим вакханкам» и разглядывал их, прищурившись, через сложенное в трубку приглашение. Очевидно, он вообразил себя на поле боя – с подзорной трубой. И от таких зрителей Антон Некритский тоже отвык. Италия – страна, где даже лаццарони-нищие разбираются в искусстве.
Давний знакомец журналист Фефелов уже что-то строчил в углу, не глядя на картины.
Добрый приятель Некритского граф Воронов, судя по всему специально по случаю выставки приехавший в Петербург, подошел его поприветствовать. В бытность свою в Москве Некритский написал портрет его молодой жены. Это было в самом начале его головокружительной карьеры портретиста.
– А все же моя Катинька вне сравнений! – проговорил граф с лучезарной улыбкой на лоснящемся, почти не постаревшем лице.
А был он лет на пятнадцать постарше супруги. Как-то она? Узнает ли ее Некритский через столько лет? Некогда портрет молодой графини произвел на московскую публику чарующее впечатление. Все стали заказывать портреты «под Воронову», в таком же простом наряде и с наивно-прямодушным выражением лица, что сначала всех изумляло, а потом стало приводить в восторг.
Но он не привык повторяться. Он искал цветовые оттенки и нюансы, передающие впечатление от натуры наиболее выразительным образом. Он вглядывался в глаза, в их разрез, в складки губ, в некое «общее выражение», которое иногда бывает довольно трудно поймать, а еще труднее изобразить без карикатурности и утрировки.
Или дамы высшего света были в России все поголовно прямодушны и искренни, или его душа жаждала в те времена такой безыскусности и простоты, как проста и безыскусна была любимая им в детстве деревенская крестьянская пища, только все его героини избегали манерности и лукавства. И даже при его страсти к разнообразию светские дамы были на его портретах чем-то похожи. Все как бы чуть-чуть витали над землей, о чем-то грезя и мечтая, как грезил в те времена и он сам – все о ней, все об Италии, академическая пенсионерская поездка куда беспрестанно откладывалась. А он мечтал о счастье взаимной любви, которое там непременно обретет!
Не то чтобы в России ему не везло в любви. Скорее он сам отшатывался, страшась сделать какой-то неверный шаг, который снизит, опошлит и огрубит те высокие отношения, которые у него обычно завязывались с женщинами.
Он воспитывался сурово. Сызмальства – в академическом Воспитательном училище, потом в академических классах, похожих на мужской монастырь. И женщины его смущали, пугали и безмерно влекли. И изумляли.
Вот и Катинька Воронова, сидя однажды в кресле, на котором ему позировала, вдруг расшалилась, раскраснелась, стала бросаться в него вишней, лежавшей перед ней на фарфоровом блюде. Одна вишня ударила его по щеке, и он в замешательстве раздавил ее пальцами, так что на щеке остался влажный красный след. А Катинька подскочила и, смеясь, поцеловала его в щеку – как раз в этот след от раздавленной вишни.
Вишня в том году была крупной и сладкой. Но итальянского винограду все равно с ней не сравнить!
Катинька тогда потупилась и на миг застыла с измазанным вишней, приоткрытым от учащенного дыхания ртом. А он сделал вид, что рассердился. Собрал кисти и краски. И ушел. А так хотелось кинуться на колени и признаться в сжигающей его все эти летние месяцы, что жил в имении Вороновых, беззаконной безумной любви. Любви совершенно безнадежной. Но, может быть, не такой уж безнадежной? О, ему было так хорошо мечтать, ложась ночью в прохладную постеленную горничной Дуняшей постель, что Катинька его тоже любит. Но куда ему до нее, замужней и знатной, хотя и очень молоденькой, резвой и шаловливой?
И эта неисполнимость любовных желаний, не она ли прибавила портрету Катиньки Вороновой такой горькой, тайной, такой несказанной прелести? Жемчужно-серые оттенки слегка разбавлялись желто-розовыми, и все в этом портрете было эфемерно, воздушно, сияюще-чисто и бесконечно празднично.
И все женщины на его портретах с тех пор словно бы напоминали эту молоденькую графиню: были с красными, точно измазанными вишневым соком губами, а в круглых жарких глазах читался вопрос. И во всех он был тайно влюблен – иначе и портрета не напишешь! Ему тогда казалось, что портрет должен передавать то, что он испытывал: воспламенять и охлаждать, быть признанием и сохранять дистанцию.
Эта сдержанность нелегко ему давалась, но была залогом его успеха. Его оценили. О нем заговорили. Его полюбили. И он, сын вольноотпущенника – управляющего в имении у бригадира Дучкова, – купался в этой любви, числя в приятелях чуть не весь аристократический Петербург. Да и московские аристократы, взять тех же Вороновых, его хорошо знали и любили.
– Где же Катерина Семеновна? – спросил Некритский у графа. – Или осталась в Москве?
– Отчего же? Она где-то тут. Какая бездна народу! Я сам ее потерял! – Граф беспечно рассмеялся и пошел искать свою Катиньку.
Народ толпился в основном возле вакханок, но привлекал и портрет князя Григория Гагарина – русского посланника в Риме. Обе вещи были явственно другие, отличались от работ прежнего, прямодушного и аскетически-собранного художника. В этих он расковался, дал себе волю, заглянул в какие-то потаенные уголки собственной души. Сама идея танца вакханок, да не академически пристойного, а буйного и исполненного живой простонародной силы, могла прийти в голову только в Италии с ее солнцем и радостным ожиданием вечного счастья.
Оставшиеся в Италии пенсионеры знали, что изобразил он не просто итальянских девушек-натурщиц, которым надо было платить одно-два скудо за сеанс. Обе изображенные были ему близки, вошли в его жизнь. Обе выражали грани той новой эротики, которую он познал в Италии. Изображенная справа черноволосая вакханка с венком из оливковых ветвей на голове и бубном в руке полуповернулась к зрителям, искушая их пронзительным и ускользающим взглядом колдуньи. В Италии верят в сглаз гораздо сильнее, чем в России, и у итальянских красавиц глаза такого рода, что просто пригвождают к месту, в особенности если видишь их впервые. Так и он, едва приехав, сразу был атакован колдовскими взглядами дешевой натурщицы, словно в стоимость ее ремесла входили и любовные игры. С ней он впервые ощутил эту восхитительную поглощенность чувственной стороной любви, свободной от любых обязательств, даже от денег и обетов верности. Эту-то бешеную вакханку он изобразил на своей картине справа, вложив в ее образ всю силу неизвестной в России чувственной упоенности и ядовитой отравы женского колдовства.
Приятели-художники знали, что и левая вакханка писалась с существа, не вовсе ему чужого. Это была тринадцатилетняя девочка, дочка хозяйки, у которой он в Риме снимал апартаменты. Пригласив эту тоненькую, с яркой внешностью девочку попозировать для картины, Некритский в нее отчаянно влюбился и теперь, в России, лелеял планы через несколько лет вернуться в Италию и жениться на все еще юной красавице. Только бы она его дождалась.
И у этой вакханки танец вызвал кипение крови и бурный восторг, хотя проявляла она свои эмоции изящнее, а глаза, которыми первая убивала наповал, кокетливо опустила, что добавляло ее образу лирического очарования.
Вся картина строилась на таких цветовых контрастах, которые прежнему, мягкому, нежному и обволакивающему фигуры неким туманом, художнику и не снились.
Полуденное солнце обострило его зрение. Тут тени, грозно темнея, подчеркивали негаснущее сияние дня.
Да даже и в портрете князя Гагарина ухитрился он уйти от себя прежнего. В российских портретах краски ложились ровно и гармонично, почти не смешиваясь и сияя первозданной чистотой. Теперь было по-другому. Те тени, которые в картине с вакханками указывали на контраст света и тьмы, тут пролегли на челе князя, зачернили впалые щеки, сделали взгляд растерянным и убегающим, как у человека, внезапно потерявшего связь мыслей.
Портрет выдавал усложнение внутреннего мира художника, те тайные страхи и то пристальное внимание к душевной смуте, которые открылись ему в Италии в тоскливые одинокие вечера. В российских портретах все это отсутствовало. Там душа его персонажей, в особенности женщин, была проста и ясна, хотя сама эта ясность таила какую-то волнующую загадку.
На торжественном обеде произносились церемонные речи. Вначале выступил сам Алексей Оленин – президент Академии художеств, с которым перед отъездом в Италию Некритский окончательно рассорился. Поехал он не за счет Академии, хотя имел на это право, а благодаря поддержке меценатов. Но Оленин, всегда напоминавший Некритскому доброго, а чаще злого гнома – росту он был маленького, – словно бы забыл о ссоре. Он восхвалял высокие достоинства итальянских картин Некритского. Но что-то фальшивое и колкое в его речи все же проскользнуло. Оленин как бы мимоходом упомянул, что и до своего пенсионерства в Италии Антон Некритский был гордостью российской Академии. И петербургские учителя учили его, судя по всему (тут он кивнул в сторону итальянских картин), не хуже чужеземных.
Этот тезис подхватили и остальные выступавшие, словно им доставляло удовольствие сталкивать старого и нового Некритского. При этом старый их удовлетворял ничуть не меньше, чем новый. А возможно, и больше.
И когда поутру после выставки, глотнув с перепою холодного квасу, поданного верным Степанычем, Некритский прочитал в «Петербургских ведомостях» злобную статейку Фефелова, где утверждалось, что за годы своего итальянского пенсионерства, он не только ничего не приобрел, но многое утратил, он даже и не слишком удивился этой наглой нелепости. Дикий народ! В живописи ничего не понимают!
Но по какой-то странной связи мыслей он тут же припомнил Катерину Семеновну, милую Катеньку, идущую прямо к нему через полную народу академическую залу, – в светлом платье и точно в каком-то облаке, потому что его глаза мгновенно застлали слезы и он видел ее сквозь их пелену. Она шла и улыбалась, алея губами, столь ему памятными. И как ему безумно захотелось прямо тут, посреди многолюдной гудящей залы, упасть на колени и признаться, что он ее все еще любит и никогда не забывал…
Во Францию
Между шилом и мылом
Начало XX века
Ехать – не ехать? Нашел бы ромашку – погадал. Да все уже давно отцвели: начало осени. Какой, однако, кавардак в голове! Или это от голода? Гнусная, на рынке купленная селедка камнем лежит в желудке. А не надо было есть! Или хотя бы не всю. Но у Николаши другого не допросишься. Одно слово – философ. И жена такая же – витает в облаках. А их с Николашей академический паек они поменяли на дрова. И вот оказалось, напрасно старались! Николашу с супружницей в течение недели выдворяют из страны вместе с другими «врагами режима», то есть недовольными происходящим в нынешней России. Сплавляют на пароходе из Петрограда по особому распоряжению вождя и решению ГПУ. Николаше и размышлять не надо. Не поедешь – расстрел!
А он с кем тут останется? Жена давно в Берлине и шлет ему оттуда истерические телеграммы, требуя денег. Он в Берлин не захотел, заартачился, топнул ногой. Когда жена уехала, он и перебрался поближе к Николаше. В случайно освободившуюся дворницкую – крошечную запущенную комнатушку, но с большим окном. Окно и решило дело: был свет для работы. И вообще стало веселее: не так страшно, не так голодно. Даже начал что-то малевать маслом на каких-то картонках, найденных на чердаке. Николаше понравилось, хотя он и добавлял, что в искусстве не понимает. Ему в искусстве нравится не красота, а свобода. А свобода тут видна!
Но Глеб Натанович знал, что в новых его картинках все дело в радости, а не в свободе. Радости от приобретения более или менее надежного пристанища в ненадежном рухнувшем мире. Его собственный дом – с уехавшей в Берлин женой – таким пристанищем уже не был. Глеба Натановича Армана, известного в академических кругах художника, все последнее время безумно раскачивало, а Николаша был надежный и спокойный – настоящий аристократ. Правда, еще и бесконечно взволнованный. Но взволнованный он был всегда, а не только сейчас. Живя поблизости и дружески общаясь, Глеб Натанович тоже успокаивался. Взбадривался от клубившихся вокруг Николаши людей, от шумных споров, в которых сам он никогда участия не принимал. Его дело – малевать, а не разглагольствовать. И вот – выдворяют из страны! А он-то с кем тут останется?
С начала революции он ощущал себя ребенком, заблудившимся в лесу. Кто выведет? Кто поможет и спасет?
Глеб Натанович провел рукой по волосам, почему-то мокрым. Дождь, что ли? А он и не заметил. Огляделся – ноги сами привели его к Кремлю. А ведь и точно – он хотел поговорить с наркомом Луначарским. И пропуск лежит в кармане. Пусть его тоже внесут в этот проклятый список по линии Наркомпроса. Он уедет с философами на немецком пароходе. С милым Николашей и его безалаберной женой. Анатолий Васильевич его прекрасно знает, ценит его кисть: полгода давал стипендию из своего кармана. Глеб Натанович приходил на квартиру Луначарского, и домработница, найдя его в списке, отсчитывала деньги.
Благороднейший человек!
Тогда-то Глеб Натанович и написал на картонках несколько картин, в основном портретов, купленных Третьяковкой. И как его осенило? Словно революция прибавила ему страсти и напора, какой-то бешеной энергии, которая бурлила рядом, изменив прежнюю размеренную жизнь. А написал он вовсе не вождей, о нет! Старушку из «бывших», мальчишку – разносчика газет…
У мальчишки ему понравились большущие оттопыренные уши, словно паруса, придававшие шагам скорости. А у старушки, уплотненной каким-то нетрезвым людом, были красиво подвитые на стародавний манер белоснежные волосы, словно она носила чопорный парик XVIII века в разухабистой и нахальной послереволюционной Москве. Эти-то картинки не только одобрили в Третьяковке, но и Николаше они показались «свободными», да и сам Глеб Натанович оценил их выше прежних работ, хотя левые критики их изругали.
Проскочил к Луначарскому, минуя секретаря-машинистку, проводившую его испепеляющим взглядом огромных, как у актрисы немого кино, подведенных глаз.
– Куда вы, Глеб Натаныч? Сегодня неприемный день! Анатолий Василич занят!
Луначарский с задумчивым видом пил чай за большим, покрытым скучным сероватым бархатом столом, из граненого стакана с подстаканником, как в поездах дальнего следования. Размешивал сахар маленькой серебряной ложечкой и обмакивал в чай круглую белую сушку. Глаз не было видно, только пенсне загадочно поблескивало. В углу за колонной притаился роскошный концертный рояль, который страшно не соответствовал деловитой строгости кабинета. Там же стояли в рядок массивные золоченные стулья, тоже выпадавшие из общего настроения кабинета.
– Анатолий Василич, дорогой, так как же?
Глеб Натанович настолько был возбужден, что, войдя (скорее ворвавшись) к наркому, забыл поздороваться. Разбитые ботинки оставляли на красной ковровой дорожке мокрые следы.
Луначарский откусил кусочек размоченной сушки, глотнул из стакана чаю и поднял на Глеба Натановича насмешливо-ласковые глаза.
– Ага, это вы! Я переговорил о вашем деле кое с кем. Мне Николай Александрович телефонировал. Так значит, покидаете нас?
Луначарский все еще дожевывал сушку, получая от этого явное удовольствие. Даже глаза прикрывал, как довольный кот. И не забывал отпивать мелкими глотками горячий чай какого-то неестественно-желтого цвета. Морковный, что ли?
У них с Николашей еще осталось от старых запасов немного настоящего байхового. Такого сейчас и не купить! Селедка в желудке Глеба Натановича нервно съежилась. Вот что нужно было съесть на завтрак – сушку – и запить хорошим байховым чаем!
– Е́ду! – удивившим его самого, неестественно высоким голосом выкрикнул Глеб Натанович, словно споря с невидимым собеседником.
Луначарский взглянул на него поверх пенсне. В глазах – сожаление врача, ставящего неутешительный диагноз.
– Тогда, если не трудно, сходите по коридору через дверь. Возьмите разрешение у Давида. Без резолюции ИЗО неудобно, хотя, конечно, я и сам могу. Но неудобно. Он сегодня случайно тут. Вам повезло, что не во Вхутемасе.
Глеб Натанович потрусил по сводчатому коридору, сбивая красную ковровую дорожку и оставляя на ней влажные следы. Давида Петровича он застал уже вышедшим из кабинета, в шляпе и в не по сезону теплой куртке, делающей его птичью фигуру несколько солиднее. Завидев Глеба Натановича, он со вздохом стал открывать дверь в кабинет массивным, бронзового цвета ключом, словно сказочный персонаж, впускающий гостя в волшебную страну.
– Не говорите! Все знаю! Бумаги на вас готовы, – прокричал он каркающим голосом с немыслимым еврейским акцентом, кривя рот в какой-то дьявольской ухмылке. – И куда едете? И зачем? Я-то вернулся из тамошнего рая прямо в канун революции. Только тогда и очнулся! Пришел в себя! Нашел свой стиль! Учтите, будете там на последних ролях. Как это? Парижская школа, французский отстой, еврейский зверинец! А тут, я вам обещаю… И Анатолий Василич к вам расположен… Спору нет, ситуация непредсказуемая…
Выкрикивая все это, подписал резолюцию и выдал ее Глебу Натановичу. Видно, был уверен, что его слова не подействуют.
Тот осторожно взял листок и поспешил к Луначарскому.
Ха-ха, он обещает! А холод? А голод? А Лубянка? Ситуация не просто непредсказуемая, а архинепредсказуемая, как любит выражаться заболевший вождь. Вон даже и Николашу в какой-то момент свезли на Лубянку. Правда, быстро отпустили. А кто поручится, что его не посадят? Жаль, конечно, картин, купленных Третьяковкой, которые будут висеть тут без него. Поразительно, но принимали в Третьяковке как классика, захвалили в первый раз в жизни. Он и прежде не был обласкан критикой. Всегдашний маргинал, не правый, не левый, всегда на особицу, скорее архаист, чем новатор, но и архаист какой-то подозрительный. Весь в своего учителя Валентина Серова, вечного бунтаря. Академики в ужасе отшатывались. А вот в Третьяковке признали за своего, хоть левая критика и напустилась…
К Луначарскому в кабинет прорвался, опять пренебрегая негодующими вскриками секретарши.
Нарком сидел перед огромной кипой бумаг в каком-то философическом оцепенении, склонив лысую голову набок.
– А? Подписал Давид? – ласково проговорил, завидев в дверях Глеба Натановича. – Так все же едете? Жаль!
Пенсне таинственно поблескивает, словно он знает нечто такое, чего Глебу Натановичу никогда не узнать.
– Нет! Погодите подписывать, я сейчас!
Выскочил в приемную, где сидела секретарь-машинистка. Что-то стучала на машинке, зло на него поглядывая. Боже, какие глаза! Кажется, Мейерхольд ее обхаживает, или нет, какой-то другой режиссер, но тоже весьма даровитый. Стриженая, черненькая, одета без вычур. Но что-то в ней есть такое… Не она ли ему снилась все эти месяцы, что он живет в дворницкой вблизи от Николаши и временами таскается к Луначарскому по своим «неразрешимым» бытовым проблемам, которые тот благосклонно решает?
– Вы что-то хотели, Глеб Натаныч?
– Я? Хотел?
Артистичным жестом стряхнул с рукава сильно поношенной куртки мельчайшую пылинку.
– А если?.. Я, знаете ли… А вы такая…
Она со скучающим видом отвернулась к своей машинке. Можно представить, как ей надоели эти липучие интеллигенты!
– Нет, что такое! – в голосе Глеба Натановича, все еще неестественно высоком, послышались возмущенные нотки. – Вы неправильно поняли! Я… Меня вон в Третьяковке приобрели. Сказали, что традиции Врубеля. У меня, кстати, есть польская кровь. Польская и еврейская…
Она хмыкнула, весьма ехидно глядя на него своими огромными, подведенными черным карандашом глазами.
– Так чего же вы хотите, Глеб Натаныч? Это что же – предложение?
– Я? Предложение?
Ясно же, что она над ним издевается!
В полном смятении вбежал в кабинет Луначарского. Надо было еще что-то сказать. Не про картины и Третьяковку. Не про польскую и еврейскую кровь. Сказать: «Я вас люблю, мадам!» А что такого? Даже Гейне, помнится, это говорил. А она – кто-то ему нашептал – и впрямь, кажется, замужем. Не то за Мейерхольдом, не то за Шкловским. Но это все пустяки. Неважно. Теперь неважно. Он ведь тоже женат. Разве это браки? А тут что-то совсем другое. Тут вопрос жизни и смерти. И он бы ее писал. Стриженую. Черненькую. Совсем советскую. Большеглазую. Ослепительную. Советскую Венеру. Писал бы крестьянок в поле, заводских работниц с красными повязками на волосах, волевых и диких женщин – комиссарш. И во всех этих женщинах – ее и только ее! А там, что ждет там, в Париже, который еще недавно так манил? Он представил, как будет тупо ненавидеть всех, кто приехал раньше, кому обломилось, кто успел. Даже какого-нибудь совсем провинциального художника с Украины, никому не нужного и неинтересного. А еще больше будет ненавидеть тех, кто остался. Все бездари, лизоблюды, прихвостни власти! И чрезмерно буйный Шкловский, и чрезмерно шумный Кончаловский, и готовый ко всему приспособиться «революционный» Мейерхольд! И хитрая лиса Луначарский, и дегенеративный Штеренберг!
Луначарский со своего кресла с интересом за ним наблюдал.
Сколько он так простоял, застыв в размышлении? Минуту? Две?
– Подписывайте, Анатолий Василич, е́ду!
– Так все же решились?
Все внутри закричало: «Нет!!! Не хочу! Не надо! Оставьте меня здесь! Дайте мне мамочку, которая будет меня любить и жалеть. И восхищаться. А не эту надменную и насмешливую, прекрасную, как босоногая нимфа на краснофигурном кратере…»
Он приблизился к столу Луначарского, перегнулся через стол (он был высокого роста) и зашептал пересохшими губами:
– Анатолий Василич! Что делать? Вы знаете? Ехать или нет?
Тот поправил пенсне и в некотором смущении отвел глаза.
– Ну, это, дорогуша, у каждого свое. За вас вон Николай Александрович очень хлопотал. Вы из немногих, кто едет по своей воле. Остальных высылают, и бессрочно. А у вас – бессрочная командировка.
– Но вот вы, например, не едете.
И что у него с головой? Луначарский – важный государственный чиновник. У него машина с личным шофером. Доступ в кремлевскую столовую. И в эти, как их? Спецраспределители. И, говорят, жена – красавица-актриса. Он приходит домой из Кремля, оставляет портфель с бумагами в прихожей и начинает ее выкликать в гулкой, избежавшей уплотнения квартире: «Актрисуля моя, ау!»
– Подписывайте, Анатолий Василич, е́ду!
Или еще попробовать? Не сказал каких-то важных слов.
– Минуту, пардон!
Снова выбежал в приемную, сотрясаясь мелкой собачьей дрожью.
Машинистка сидит с обиженным выражением, разглядывая сломавшийся наманикюренный ноготок. Готова расплакаться – видно по лицу.
– Что? Глеб Натаныч, что вам еще?
Уже с какими-то истерическими нотками.
– У Гейне, помнится, есть одна строчка… Вы Гейне читали?
– Читала по-немецки. Я, между прочим, окончила Высшие женские курсы. С отличием. Это здесь я служу секретаршей, и некоторым кажется, что достаточно посулить французские духи…
– Я вас люблю, мадам! – вклинился он, схватившись за сердце, которое вдруг бешено застучало и неожиданно съежилось, совсем как недавно селедка в желудке.
У нее слезы покатились из глаз.
– И всегда, всегда малознакомые люди считают, что можно вот так… Что если я все потеряла – и мужа, и родителей… И если я одинока, то можно просто так взять и оскорбить!
– Я не оскорблял! – запальчиво выкрикнул он. – Я подумал, что я… Я вас действительно люблю! Честное слово! Я даже жене… Бывшей жене… Она в Берлине… Я даже ей никогда не говорил таких слов!
Слезы полились сильнее. Она достала из сумки платок и стала их вытирать.
Луначарский опасливо высунул лысую голову из кабинета.
– Что это у вас тут? Глеб Натаныч, так я подписываю? Вы последний в дополнительном списке.
И к машинистке, другим, почти нежным голосом:
– Кирочка, я вас отпускаю. Домой идите. Сегодня много было нервотрепки.
И снова Арману, строго и деловито:
– Вы единственный художник. Остальные – философы и экономисты. Так что же, подписывать? Решились?
Глеб Натанович в тоске оглянулся. Серенькая приемная с кожаным черным диваном и немытым тусклым оконцем. В оконце серенький день начала осени с серым давящим небом. Видны сумрачный Успенский собор, часть каменных ворот. В проеме угадываются Верхние торговые ряды, на новоязе ГУМ, – беспокойная громада. Солнечный двор, заросший ромашками, деревянный покосившийся заборчик, слышен надрывный петушиный крик. В тени на веранде столик, а на нем плетеная корзинка с ослепительно-белыми яйцами и кувшин с розовым, вероятно вишневым, морсом. Здоровый румянец няньки, молодой еще бабы. «Яички-то будете на завтрак кушать, Глебушка? Как вы любите – всмятку!»
– Нет! – хрипло закричал Глеб Натанович. – Е́ду, Анатолий Василич, е́ду, дорогой! Вы меня не слушайте. Свяжите, в цепи закуйте, чтобы не сбежал, – и отправляйте!
Секретарша явственно хмыкнула, что, судя по всему, должно было означать крайнюю степень презрения. Быстрым движением, не глядя в зеркальце, подмазала губы, зыркнула в его сторону невероятными своими глазами и удалилась, покачивая бедрами. Будет он ее вспоминать! И слезы. И яростные огненные взгляды. И это ее презрительное хмыканье. Стерва или ангел? Скорее, и то и другое. И как хороша! А в иные минуты – когда расплакалась – просто ужас как безобразна. Но и от этого безобразия захватывает дух!
Луначарский протянул ему бланк с разрешением на выезд.
– Не забудьте, дорогуша, поставить печать при выходе. Счастливого вам пути! Признаться, жаль…
– Счастливо оставаться!
Пулей выскочил из приемной и помчался по белому коридору, словно спешил топиться. Довел бы кто-нибудь в Питере до этого треклятого пароходика! А то ведь сердце екнет – и сбежит в последний момент. А тут, в Москве, – голод, холод и Лубянка. И одиночество. А в других краях? Забвение, полное забвение…
И только это женское лицо, то плачущее, то злое и насмешливое, то обворожительное и детски ясное, – только оно останется в бедной памяти. И весь путь до немецкого Штеттина, а потом в коварном и искусительном Париже в какие-то роковые минуты оно будет всплывать перед глазами – Россия, судьба, покинутая женщина…
В Израиль
Залетейский привет
Конец XX века
Он приехал в Москву внезапно, никого не предупредив. Для Виктории это было тем неожиданнее, что от него почти десять лет не приходило никаких вестей. Она была, как ей казалось, не самой близкой его приятельницей. Правда, их знакомство и общение приходилось на три последних, самых безумных и сумасшедших года пребывания Михаила Кацмана в России.
За все десять лет Виктория получила от него в первые месяцы его жизни в Израиле три горчайших письма. А потом он замолчал.
Уезжая, он говорил, что его волнуют только интересы семьи. Но эти горькие письма показали, что собственная невостребованность (а он был превосходным переводчиком с румынского и венгерского языков) больно ударила по его самолюбию. Работа «погрузчика» (каких-то ящиков с гвоздями) ничего, кроме моральных, да и физических мук, не давала. Но ведь и с семьей были сложности. Устройство детей на престижные факультеты университета требовало больших денег, которых не предвиделось.
Письма кричали о том, что он засомневался в правильности своего решения. Находясь в России, он нахваливал израильскую медицину. Она была важным стимулом и магнитом переезда. Но в одном из этих трех писем он написал, что предпочел бы российское «плацебо» израильским «ядовитым» лекарствам. Нужно очень серьезно заболеть, чтобы там приступили к твоему лечению. Дальнейшее показало, что и очень серьезная болезнь, которая его настигла-таки в Израиле, не поддалась тамошней медицине. Он умер молниеносно.
Виктория, получив эти три письма, сделала для себя неожиданный вывод, что Миша считает ее своей близкой подругой, хотя в Москве они виделись считаные разы. Все больше разговаривали по телефону. Слишком интимными оказались эти письма, слишком исповедальными. Или он написал их ей, потому что больше было некому? Почти все его знакомые разъехались по разным странам. Впрочем, он был ей очень благодарен. Когда-то она откликнулась небольшой рецензией на его перевод незнакомого ей прежде и в этом переводе показавшегося значительным румынского писателя. Кацман тогда позвонил и поблагодарил. Потом они встретились в метро. В Москве стояла роскошная золотая осень. Виктория до сих пор помнит, что носила той осенью черное приталенное пальто и синюю шляпку с полями, очень ей идущую. И он с каким-то явным удовольствием заглянул ей в лицо, затененное этой шляпкой. Она сразу поняла, что ему понравилась. И хотя он был преданнейший еврейский муж и отец, да к тому же на много лет ее старше, ощущение, что он всегда при встречах ею любуется, было ей приятно.
Тогда в метро он подарил ей новую книгу этого румынского писателя. Большую часть рассказов перевел он, но несколько – его напарница. Странное дело, рассказы, переведенные напарницей, ей совсем не понравились. А те, что перевел он, были, на ее вкус, великолепны. Неужели переводы столь ненадежно передают писательскую суть? Неужели Миша «сделал» этого писателя, как, говорят, сделали некоторых поэтов из азиатских республик бывшей империи виртуозные переводчики-евреи?
Потом он писать из Израиля перестал. А она вдруг смогла опубликовать в те далекие девяностые годы один из своих рассказов. Их накопилась целая гора. Но прежде их напечатать было совершенно невозможно, притом что почти во всех рецензиях, присланных из толстых журналов, говорилось, что рассказы хорошие и их опубликует любой другой журнал. Но у них, к сожалению, иная тематика. В наши дни подобного рода отговорка передается бессмысленным словечком «неформат».
В небольшом журнальчике, который и гонораров даже не платил (что было тогда редкостью, а нынче – правилом), опубликовали один из ее рассказов, да еще с фотографией, которую она выбирала с большой тщательностью.
Публикация рассказа даже в таком незатейливом издании казалась ей редкостной удачей. Она сделала ксерокс рассказа (это происходило в докомпьютерную эру) и, не поленившись сходить на Главпочтамт, послала его прямехонько в Израиль Михаилу Кацману.
Уж лучше бы она этого не делала!
Щепетильный и деликатный Миша, которому нравилось до отъезда буквально все, что она ему показывала из ею написанного, тут разразился каким-то грозным посланием, заклиная ее не писать прозы. «Пишите только критические статьи», – яростно наставлял он. Виктории невольно подумалось, что изменение места жительства очень сильно влияет на оценку и тон.
Но главный свой гнев Миша обрушил на фотографию. Кто ее снимал? Почему так неудачно? Это совсем не она! Вот он приедет – и обязательно ее сфотографирует.
Виктория недоумевала. Что ему не понравилось в фотографии? Слишком черный ксерокс ее подпортил, но не убил. Видны были живые глаза, улыбчивый рот, взлохмаченная прическа.
Самое поразительное, что когда Михаил Кацман через десять лет после отъезда впервые приехал в Москву (это было за полгода до его мгновенной неизлечимой болезни), он чуть ли не на следующий день позвонил Виктории, что хочет ее сфотографировать.
К тому моменту он уже успел устроиться работать в школьную библиотеку небольшого израильского городка. Но прежнего добродушно-спокойного Мишу она не узнала. Внешне он почти не изменился – большой и широкоплечий, с густой гривой седых волос, – но в нем теперь словно всегда клокотала какая-то злая энергия. Это Виктория почувствовала сразу при встрече с ним на одной из станций метро – как в тот, первый, раз. Но теперь он не смотрел на нее доброжелательным взглядом, а точно прожег насквозь и даже из вежливости не сказал, что она хорошо выглядит. Они вместе доехали до «Красных ворот», где у выхода она договорилась встретиться еще с одним своим знакомым, чтобы вернуть ему статью.
Этот знакомый (он был профессиональным философом) в своей статье полемизировал с Фрейдом, считая его теорию «слишком литературной». Строгая наука говорит о генезисе любовного чувства совсем иное.
Виктория самонадеянно вступила с ним в спор (она-то не была профессиональным философом!), исчеркав рукопись карандашными пометками. Суть замечаний сводилась к тому, что «литературщина» Фрейда убеждает ее гораздо сильнее, чем все «научные» (научные ли?) аргументы. Она явно шла на разрыв, в то время как автор, судя по всему, надеялся на развитие отношений. Прежде он дарил ей свои брошюрки о любви, а теперь дал прочесть неопубликованную рукопись. В координатах «ученой» любви это, вероятно, означало почти объяснение.
Когда Виктория с Мишей подошли к «ракушке»-выходу, философ, невысокий человек с нервным, искривленным капризной гримасой лицом, уже там стоял. При виде Виктории со спутником богатырского сложения и на голову его выше он скривился еще сильнее.
Виктория простодушно хотела совместить две встречи. Но вышло что-то почти фрейдистское. Словно она бессознательно отгораживалась от философа с помощью Миши, выступившего в роли любимого отца.
Мужчины злобно поглядели друг на друга. Виктория вынула из сумки сложенную рукопись и без слов отдала ее философу. Все, что она имела сказать, она написала на полях. Ее возмущение этой «ученой» любовью достигло таких пределов, что она не желала больше получать ни брошюрок, ни рукописей. К счастью, философ это понял, и Миша этому удачно поспособствовал.
На Кацмана эпизод с безмолвной передачей рукописи произвел самое благоприятное впечатление. Он приосанился и повеселел. И даже перестал ей делать мелкие раздраженные замечания: почему она идет не с той стороны? почему споткнулась? почему опоздала на две минуты?
Он захотел ее сфотографировать прямо у «ракушки». Но народу там было так много, что решили все же дойти до ее дома.
Мама была еще жива и приняла Мишу за своего давнего знакомого по эвакуации военных лет в Среднюю Азию, чуть ли не за Эдди Рознера. Но Миша так был сосредоточен на идее «правильной» фотографии, что даже не заметил этой смешной и грустной невольной путаницы.
Он так долго усаживал Викторию в кресло, что она разволновалась и потеряла свой обычный немного задиристый вид. Тут-то Миша ее и щелкнул, сверкнув острым прищуренным глазом…
Сообщение о его смерти Виктория получила от их общего знакомого. А еще через некоторое время пришла в конверте фотография, сделанная Мишей в тот первый и, как оказалось, последний его приезд из Израиля в Москву. Вероятно, он успел кого-то из родственников попросить, чтобы ее послали. Фотография была очень странной.
Лицо оказалось в тени, едва можно было разглядеть чуть поблескивающие удивленные глаза. И вдруг у Виктории сжалось сердце и слезы побежали по щекам, словно Миша из тех незнаемых смутных мест послал ей последний привет, запечатлев ее такой или почти такой, какой запомнил после первой встречи. В той самой синей шляпке с полями, затеняющими лицо…
Две новеллы
Из цикла «Движение времени»
Княжна Зизи
В своем еще почти ребяческом возрасте граф Николенька Бахметьев имел удовольствие отдыхать на даче у маменькиных родственников, пренеприятных, между прочим, людей, о чем он догадывался даже в столь юные лета.
Мадам тетушка, как называл ее про себя Николенька, была глупа и сварлива. Ее супруг, маменькин двоюродный братец, находился в полном ее подчинении. На лице его застыло какое-то угодливо-просительное выражение. И только впоследствии Николенька понял, что маменькин братец непереборимо хотел выпить винца, а так как ключи от винного погреба находились у мадам тетушки, у него и возникло на лице столь прискорбное выражение. Николеньку он не замечал и всегда был погружен в какие-то свои заботы – потом-то повзрослевший Николенька понял, что заботы опять-таки кружились вокруг пресловутого погребца и хозяйских ключей. Классик уже восклицал, что жить на свете скучно. Речь, конечно же, шла о взрослых, потому что Николеньке жизнь вовсе не казалась скучной. И было на даче еще одно существо – воспитанница, которая на взрослое окружение совсем не походила. Мадам тетушка называла ее Зизи. Говорили, что она хорошего княжеского рода, но обедневшего. Превратности судьбы забросили девочку-сироту к Зарайским.
Было ей к моменту приезда Николеньки уже лет тридцать, если не больше (это Николенька вычислил, изрядно повзрослев). Но тогда он не разбирался в возрастах. На его вкус, Зизи была прелестна – с круглым розовым лицом, горячими и тоже круглыми карими глазами и темными локонами вокруг маленькой головки. Да еще с осиной талией, стремительными движениями, глухим, с томительной хрипотцой, голосом и постоянно с книгой в руках – каким-нибудь иностранным романом. Мадам тетушка заставляла Зизи разливать чай или вышивать, а та предпочитала читать свои романы или играть с Николенькой. Мадам тетушка, глядя на эти игры, с неодобрением называла Зизи дикаркой.
Они оба любили бегать по саду, качаться на качелях, есть малину прямо с куста, играть с охотничьими собаками Зарайского и читать вслух привезенные из города альманахи, которые мадам тетушка и даже маменька только лениво пролистывали. Зизи еще любила по ним гадать. Спросит у Николеньки две цифры, откроет роман на этой странице, отыщет абзац и торопливо, волнуясь, прочитает про себя таинственное предсказание.
Однажды Николенька услышал, как мадам тетушка, указывая глазами на пробегавшую мимо порозовевшую запыхавшуюся Зизи, сказала маменьке, что с воспитанницей дела совсем плохи. Ее уже несколько раз сватали за достойных, правда немолодых, губернских чиновников с небольшим, но верным капиталом (сама-то она бесприданница), а она всем отказывает наотрез. Тут тетушка сослалась на повесть одного новейшего сочинителя, напечатанную в предыдущем альманахе. В отличие от других сочинений эту можно было прочитать не уснув. И очень жизненно, точь-в-точь о нашей Зизи. Героиня все прыгала да скакала от одного к другому, а в конце сказала герою: «Все кончено. Мне уже сорок». А дурачина-герой в два раза ее младше!
Тут обе – мадам тетушка и маменька – превесело расхохотались. Мадам тетушка расхохоталась аж до слез и потом сильно закашлялась.
Николенька в тот же вечер подбежал к сидящей на скамейке с книгой Зизи и срывающимся голосом выкрикнул, что собирается на ней жениться. Пусть она его подождет.
– И долго ли ждать? – не отрывая глаз от книги, томным голосом с волшебной своей хрипотцой, проворковала Зизи.
– Лет десять. – Николенька не очень понимал, много это или мало. – Я окончу военное училище и на вас женюсь. Не выходите и впредь за этих противных старичков с небольшим капиталом.
– Ах, вы и это знаете! – рассмеялась Зизи, отбросив книгу. – А знаете ли, шалунишка, сколько мне тогда будет лет?
И пристально на него взглянула карими своими глазами, отчего у него жарко стало в груди.
– Мне это не важно! – снова выкрикнул Николенька. – Это пусть мадам тетушка с маменькой считают года. А я вас полюбил навечно.
Зизи резво вскочила и закружила Николеньку вокруг своего розового шелестящего платья, смеясь и шутливо грозя пальцем.
– Помните же, Николенька, свое обещание, данное бедной девушке-сироте. Я вас буду ждать. Вот вам мой зарок. – И склонившись (она была вдвое его выше), Зизи поцеловала его куда-то в переносицу, сотрясаясь от неудержимого смеха…
Ах, господа, сочинитель догадывается, чего вы от него ждете. Как через десять лет романтический юноша в военном мундире прибыл на дачу Зарайских. И побледневшая, осунувшаяся Зизи, выйдя на крыльцо, сказала ему монотонно, без прежней обворожительной хрипотцы в голосе: «Все кончено, Николай. Мне уже сорок». И бедный юноша удалился в смятении чувств. И ведь уже был, был такой финал у этого, как его?.. У знаменитого писателя-фантазера Владимира Одоевского.
Но получилось не так или не совсем так…
Прошло много лет. Гораздо больше, чем десять. Николай Бахметьев, артиллерийский полковник в отставке, женатый на бывшей фрейлине императрицы, проезжал по делам, связанным с оформлением нового поместья, мимо имения Зарайских, о которых он с тех самых пор ничего не слыхал. И, вспомнив отрочество и радостное возбуждение, владевшее им в то лето, решил заехать к забытым родственникам. Кучер довез его до их имения.
На крыльце несколько принаряженного и свежевыкрашенного дома появился степенный долговязый человек, в котором Бахметьев без труда узнал хозяина, хотя и поседевшего, но сохранившего на лице все то же запомнившееся Бахметьеву выражение. Из разговора выяснилось, что прежняя жена его умерла, а нынешняя, судя по всему, так же зорко следит за ключами от винного погребца.
– Возмужал, что и говорить, – басил хозяин, который, оказывается, тогда его все же приметил.
Но на самом деле Бахметьев не просто «возмужал», он стал совершенно другим человеком и о детстве и отрочестве вспоминал как о чем-то, что было не с ним. Он стал взрослым, то есть избавился от тех романтических химер, которыми были богаты стихи и проза альманахов, некогда доставляемых в эту глухомань.
– А где же Зизи? – спросил он, внезапно очень отчетливо представив кареглазую красавицу с ее стремительными движениями и веселой простотой обращения, в невинных и бурных играх с которой он провел, должно быть, лучшее лето своей жизни.
Зизи тогда уже была не юна, а сейчас и вовсе старушка. Он не без тревоги думал, что сейчас ее увидит.
Но Зарайский ответствовал, что Зизи давно не живет с ними. Она вышла замуж за соседа-помещика. Прекрасная партия! Он – известный стихотворец, Пичугин Андрей Егорович, – не слыхали? В «Сыне Отечества» публиковалась его ода на восшествие на престол императора Николая Павловича. Это, правда, было давненько, сейчас он пишет басни на манер Крылова.
Бахметьев, конечно же, не слыхивал такого поэтического имени. Впрочем, он теперь редко заглядывал в журналы.
– А где живет княгиня? – спросил Бахметьев несколько упавшим голосом, не зная, что еще сказать.
Оказалось, что живет совсем поблизости. Через лесок. И Андрей Егорович самолично часто приходит к ним читать свои сочинения.
«Может, съездить?» – пронеслось в голове у нашего героя. И прежняя шальная ребячья радость, давно, кажется, утихшая, снова в нем забурлила.
«Поеду погляжу», – решил он. Хотел ли он увидеть Зизи изменившейся или все той же, прежней, – он и сам не знал.
Недовольный задержкой кучер повез его «через лесок» в имение Пичугиных Раздольное.
По дороге Бахметьев все больше жалел о своем мальчишески глупом решении. К чему ворошить прошлое? Зизи может его просто не узнать и даже не вспомнить.
Да было ли в нем, теперешнем, хоть что-нибудь от того петушистого Николеньки? Даже это уменьшительное имя давно отошло в прошлое. Жена называла его Николасом.
В леске гуляла дама под светлым розовым зонтиком. Бахметьев велел кучеру остановиться и спросил даму, высунувшись из окошка, правильно ли они едут в Раздольное.
Спрашивая, он не смотрел на даму из особого рода вежливости, но, застигнутый ее пристальным вопрошающим взглядом, вгляделся.
Они одновременно кинулись друг к другу, причем Бахметьев сильно стукнулся ногой о ступеньку кареты, не почувствовав боли.
– Зизи!
– Николенька!
Зизи уронила зонтик, он его поднял, но, отдавая, снова споткнулся ушибленной ногой о корягу, и они оба со смехом свалились в траву.
– Как прежде, – смеялась Зизи, оставшаяся такой же хохотушкой, но теперь оказавшаяся вдвое ниже его ростом. – А я вас, между прочим, ждала гораздо раньше.
– Виноват, – полушутя-полусерьезно оправдывался Бахметьев. – Детство так отдалилось, что все тогдашние зароки стали казаться неправдой.
Зизи поднялась с травы, все еще похохатывая.
– Вы женаты, Николенька?
– Да. И давно.
– Счастливы?
Бахметьев помедлил с ответом.
– Не знаю, что и сказать, как-то не думал об этом. Разве дело в счастии? А вы, Зизи? Я слышал, что вы замужем за поэтом.
Она, смеясь, покачала головой.
– Увы, не Лермонтов.
– Ну, Лермонтовых единицы, – какие банальности слетали у него с языка!
– Пойдемте к нам в дом! Познакомлю с мужем и воспитанницей, – не очень уверенно сказала Зизи, смешно размахивая зонтиком. – Как странно, еще сегодня, гуляя, я о вас вспоминала…
Сначала он подумал, что она очень изменилась, подурнела, поблекла. Но сейчас уже этого не находил. Как-то перестал видеть детали облика, а увидел радостное, живое сияние глаз, некогда в юном возрасте его покорившее.
– О нет, – отмахнулся Бахметьев. – Спешу по делам. Хотелось лишь вас повидать.
– Вот и повидались! – радостно похохатывая, подхватила Зизи. – Я почему-то знала, что встретимся. Не разочаровала?
Бахметьев промолчал, хоть это и было невежливо. Но она ведь прекрасно видела, что не разочаровала. Потому и смеялась, хотя было в этом неудержимом смехе что-то почти истерическое.
– А вы, Николенька, все такой же!
– Нет, Зизи, я другой. Вы даже не представляете, до чего я другой!
– Вы меня, Николенька, уж точно не разочаруете. И не надейтесь!
Он махнул ей рукой и скрылся в карете. На лице дрожала легкая улыбка, постепенно перешедшая в гримасу боли.
Кучер взглянул на него с удивлением.
– Ногу ушиб, – пробормотал Бахметьев. – Надо бы протереть одеколоном.
На лодыжке и впрямь виднелась ранка.
Кучер повернул от Раздольного в сторону большого тракта. А Бахметьев думал, что то отроческое впечатление, как ни странно, его не обмануло. И благодаря ему он на всю жизнь получил представление о какой-то вечной, идеальной любви, представление вполне астральное, словно бы возникшее вне эпохи и времени, не имеющее никакого отношения к его реальной взрослой жизни. Но было во всем этом нечто необыкновенно возвышающее жизнь, делающее ее космической, бесконечной, таинственной. Он подумал, что Зизи сейчас, скорее всего, горько, по-детски безутешно рыдает, уткнувшись лицом в траву. Но ведь и счастлива – ее не забыли. Не забыли! Он тут же вспомнил ее вопрос о счастии. Ведь и ему после этой встречи стало нестерпимо тяжело, словно он его бездарно проворонил. Тяжело, но и как-то отрадно. Он понял, что то, прежнее, солнечное, сулящее радость и освобождение, в нем живет. Не умерло!
Колеса скрипели, а кучер, молодой вихрастый парень, тихонько затянул старинную ямщицкую песню о дальней дороге, удалом разгулье и сердечной тоске, которые были хорошо знакомы и давнему ее сочинителю, и ему самому, и уже седеющему хозяину кареты…
Прорыв
– Вот уж не думала, что буду с вами спорить о Краке. Это как о Леонардо спорить – достаточно ли для нас хорош!
Ее узенькие светлые глазки сузились еще сильнее от язвительной улыбки, которая обручем охватила все ее маленькое бледное личико. Очки в тяжелой темной оправе мелко подрагивали, словно тоже гневались и язвили.
Она перехватила его взгляд, эпикурейски-брезгливый, и подумала за него, словно могла читать эти его нехорошие, оскорбительные для нее мысли:
«А подурнела она за эти двадцать пять лет. В войну где-то в Чухломе прозябала с дочкой, письмо ему оттуда накатала вполне безумное, точно не он погибал во фронтовом окружении, а она в своей Чухломе. Письмо ожидало его в учебной части расформированного к тому времени института. Впрочем, и студенткой не была хорошенькой. Разве что живой, умненькой, но и несколько неистовой – в духе боярыни Морозовой. А сейчас ее неистовство вполне расцвело…»
Все это она подумала за него и не сомневалась, что угадала. Она так подолгу думала о нем все эти годы, что угадывала его мысли по мелким приметам: слегка скошенному ироничному взгляду, нетерпеливому постукиванию пальцами по столу, легкой полуулыбке, кривящей полные чувственные губы. Как у фавна! Он-то, несмотря на лысую голову (что ему почему-то шло), оставался красавцем. Оставался в свои… сколько там ему? Лет на пятнадцать ее старше; кажется, и внуки есть. И жена – нестареющая красавица – философиня. Щеголяет в черном парике с проседью, как говорят, присланном его учеником-чехом из Праги. Там как-то побуржуазистее, помещанистее, да просто побогаче. Можно и косметику хорошую отхватить, и бумагу цветную для рисования. А ведь он эстет и гурман. Она краем глаза порой наблюдала, как он на заседаниях, особенно скучных, что-то рисовал на красивых серо-серебристых листах плотной бумаги хорошо отточенным мягким черным карандашом.
Учился-то во Вхутемасе на художника. Это потом переметнулся в философы не то гегельянского, не то марксистского толка.
– Коллеги, что вы все время спорите? – вклинился чернявый Вася Вехин, внешне напоминающий дьявола, но дьявола весьма прельстительного вида – как в древнерусских сказаниях. Черные, как смоль, волосы и горячие черные глаза, статен, вальяжен и красноречив. Только всё вокруг да около, мысль затуманивается, чего она не терпела.
– Уже ведь выяснилось, и давно, что вы антиподы. Григорий Яковлевич против Крака, Брака и Пикассо вкупе с Дали. А вы, Люда, пардон, Людмила Эрастовна, – за них. Ну и прекрасно! Ничего ведь от ваших споров не изменится! Шарик не остановится!
– Это вы напрасно! – по-детски весело рассмеялся Григорий Гусман. – За шарик не поручусь. Может и остановиться! Тысячу лет не останавливался, а в какой-то счастливый для космоса и не очень удачный для землян момент – возьмет и остановится. Это как выскочить из заколдованного круга. Иногда удается!
– Разве? – снова подал голос Вася, лицом и интонацией изображая сомнение.
– Милый Вася, – ласково обратился к нему Гусман, – имейте в виду, переспорить меня нельзя. Я владею секретным оружием.
– Закроем тему. – Заведующий отделом эстетики Алексей Алексеевич Пирогов, правоверный партиец, уже давно ничего не пишущий, кроме отчетов и докладных (выручали аспиранты, которые в статьях ставили его имя на первое место), никогда не знал, как реагировать на такие споры. Вроде бы теперь, в конце шестидесятых, надо бы поддерживать все самое советское, проверенное и законсервированное. Оттепельные настроения давно скукожились. Но в позиции Гусмана ему чудился какой-то подвох. Прямо-таки кукиш в кармане. Что-то вовсе не советское и не марксистское, то есть не марксистско-ленинское, давно апробированное и разошедшееся на непререкаемые изречения. А что-то дикое, словно бы Маркс, но без бороды и без усов, и высовывает вам язык, как Эйнштейн на известной фотографии.
На этом фоне взгляды Людмилы Мальцевой, конечно же левые, казались все же более соответствующими текущему моменту, некоторому потеплению международной обстановки.
Еще помнился триумф американской выставки, прошедшей в Москве. А там и абстракция, и поп-арт. Обруганную кока-колу попробовали – и не отравились. А в недавнее время выпустили альбом Крака с предисловием все той же Людмилы Мальцевой в солидном издательстве (лежал, говорят, лет пять), где она терпеливо объясняла запоздавшему во вкусах советскому зрителю, что такое абстрактный экспрессионизм, поп-арт и прочие новейшие западные течения. Крак Пирогову не нравился. Его цветные полосы на холстах раздражали. Сам бы он никогда не разрешил публиковать подобный альбом. Но раз он вышел, значит, было, как прежде говаривали, «высочайшее распоряжение».
Мысли заведующего снова пошли по тому же, как выразился Гусман, заколдованному кругу…
А Людмила Эрастовна набрала в грудь воздуха и выпалила с девчоночьей безоглядностью:
– Вас бы, уважаемый Григорий Яковлевич, Бердяев поддержал: ему тоже не нравились новейшие западные художники, Пикассо, например. Виделось что-то дьявольское, бездуховное и крайне мерзостное.
– Не пугайте меня Бердяевым. – Гусман улыбнулся уголками рта своей загадочной улыбкой, памятной Мальцевой еще со студенческих времен. – Горошинка перца никогда не портила нашей марксистской похлебки! Напротив!
– Ни за что не поверю, что вы станете есть какую-то похлебку, – шепнул Вася Вехин на ухо Гусману. – Даже и с этой горошинкой!
Гусман снова рассмеялся и характерным движением коснулся лысой головы. Прежде он так приглаживал торчком стоящие волосы.
Терпение у заведующего истощилось. Он резко захлопнул папку с бумагами, что должно было означать конец заседания.
Гусман бодренько вышел из комнаты, приобняв Васю Вехина за плечи и что-то веселое с ним обсуждая.
Несколько незаметных сотрудников отдела эстетики растворились за дверью, словно их и не было на заседании, а может, и вообще в жизни. Такое вот неоценимое свойство!
Заведующий остановил чуть задерживающуюся Людмилу Эрастовну.
– Мне бы хотелось, чтобы вы выступили у нас с докладом о Краке. Разъяснили, так сказать… Мне кажется, что некоторым сотрудникам… Да, некоторым… В нашем отделе марксистско-ленинской… Обратите внимание, не просто марксистской, но ленинской… Не место…
Пирогов перевел дыхание. Наконец-то ему удалось поймать и сформулировать свою мысль.
Пространство отдела необходимо было расчистить. И эта настырная Людмила Эрастовна могла ему помочь.
Она посмотрела на Алексея Алексеевича долгим невидящим взглядом сквозь запотевшие от ее разгоряченного дыхания очки:
– Если вы считаете, что мне нужно уйти, то я готова.
Заведующий не ожидал такой реакции. Но мгновенно подумал, что кандидатов на выгон, действительно, двое. Эта будет еще похлеще Гусмана. Правдолюбка!
– Словом, пишите доклад. А мы заслушаем и решим.
Откашлялся, сухо кивнул и оставил помещение, сжимая в руке портфель с рабочими бумагами – ценнейшее свое достояние…
…Людмила Эрастовна Мальцева, как бы страстно она ни спорила с Гусманом, была ему бесконечно благодарна. Ведь Григорий Яковлевич вправил ей когда-то мозги. Да, но сейчас, сейчас он ее самый главный идейный оппонент. И от этого спора, как она была убеждена, кое-что зависит на «шарике». Во всяком случае, на его шестой части, как любят говорить в Советской России, кичась необъятным, немереным пространством. Но, бог мой, как же не освоено это пространство, дико, нецивилизованно, провинциально! И даже признанного всем миром Крака тут пытаются задолбать! И Гусман еще находит для этого философические обоснования!
Вот в докладе она и выскажет свое крайнее удивление его позицией.
…Она жила какими-то рывками, словно для нормальной размеренной жизни в ней не хватало внутренней энергии. В детстве была тихой забитой девочкой, которая делала все, что велят взрослые. Мать была завучем в транспортном училище – крикливая и напористая. Обижала Люду почем зря. В любимчиках ходил младший брат, трус и лгунишка. Он на Люду ябедничал. Ее это возмущало, но не хватало внутренних сил, чтобы возмутиться вслух. Словно бы она спала и это всё во сне. Разве она живет? Она, некрасивая девочка с двумя тонкими косичками и в байковом платьице, для нее слишком большом, в розовый цветочек. Ей не нравились ни эти косички, ни это старушечье платье. Но разве она живет? Это все какой-то блеклый сон с некрасивыми, крикливыми и несправедливыми людьми.
Впоследствии она даже думала, вспоминая свое детство, что, вероятно, были в ее роду какие-то очень простые и почти праведные люди, полностью отрешенные от интересов быта, и что-то ей от них передалось.
Однажды она ощутила в груди горячую и яркую вспышку. В тот день она вышла к гудящему и дымящему возле их деревянного дома Рязанскому шоссе и случайно взглянула на небо.
Оно горело огнем, сияло, светилось, звало! Оно что-то ей пыталось выкрикнуть. И Люда, десятилетняя девочка, тихая незаметная троечница из московского предместья, словно что-то уловила, расслышала, поняла.
Словно ее озарило и до нутра пронзило этим закатным предвечерним сиянием. Ей плакать захотелось, но не от обиды, а неизвестно отчего. Она убежала в свой деревянный дом, где полно было соседей, забилась в чулан, облюбованный ею для жизни, и стала вглядываться в осколки зеркала, найденного ею на местной помойке. Вот это ее лицо? Узкие светлые глаза смотрели удивленно. Она некрасивая? Ее никто не полюбит? А разве не о любви ей сказало это мощное пламенное сияние? Не о чем-то самом сокровенном и настоящем?
Но и это сильнейшее переживание потом куда-то ушло, испарилось.
Странно, в эпоху энергичных комсомолок, бурных собраний, пионерских слетов, призывов, пламенных речей, бесконечной борьбы с врагами она жила тихо и по-прежнему как во сне. И вся эта внешняя бурная возня словно бы ее не касалась. Она не лезла наверх, жила незаметно, и ее не трогали. Она почти что выпала из времени. Случайно, по какому-то наитию, поступила в элитный институт, где преподавали такие «нежизненные» (по выражению матери) предметы, как литература и философия.
И вот тут Гусман, читавший спецкурс по теории искусства, ее зажег, пробудил (как потом оказалось – на свою голову). Чем? Философией? О нет! Безумной горячностью своей «строгой логики», бесконечным обаянием дыбом стоящих черных волос и странной полуулыбкой в уголке губ.
Оказалось, что и в ней давно копилась какая-то бурная и страстная энергия. Что она любит линии, цветные пятна и слова. Что она может часами разглядывать человеческие лица в электричке и упивается внутренним ритмом, загадочным свечением, мощным напором какого-нибудь эрмитажного «Святого Себастьяна».
И еще она бесстрашно вступается за правду, ненавидит фальшь и ложь во всех их проявлениях. Но интуитивно она не лезла в политику, ощущая, что там не найдет того обжигающего свечения, которое заново открыл ей Григорий Гусман, молодой преподаватель, невероятно живой и умный каким-то особым, облагороженным чувством, умом. И даже его марксизм был омыт такими чистыми струями ума, что казался юным и прекрасным, почти столь же прельстительным, как при своем головокружительном начале.
Она посещала его лекции не только на своем, но и на параллельном курсе. И он, ну да, он запомнил эту невысокую, смущенную, неловко улыбающуюся студентку, некрасивую, умненькую. Все ее вопросы были по делу. Все ее учебные работы отличались отточенностью мысли и элегантностью формы. Откуда бы это?
Ей самой элегантности явно не хватало, чего нельзя было списать только на бедность. Бедны были практически все студентки. Но как-то исхитрялись походить на звезд немого кино в удешевленном варианте Эллочки-людоедки.
И он разочарованно смотрел на ее серенький, вытянутый, с широкими накладными плечами шерстяной жакет и бледное, серьезное лицо, почти закрытое большими очками.
Однажды она прочла эти его мысли столь отчетливо, что после лекции побежала к тете Гале, соседке по дому, портнихе с огромным стажем и, волнуясь и путаясь, попросила ей сшить что-нибудь «человеческое». Рассмешила Галину Степановну чуть ли не до слез. Та из каких-то своих закромов вытащила «старорежимное» платьице, которое немножко ушила и укоротила. Люда в нем стала походить на гимназистку с белым кружевным воротом у самого горла. Что-то от Веры Фигнер мерещилось Люде в его строгом и изысканном крое.
И на следующей лекции Гусман с удовлетворением отметил, что студентка с первого ряда, Мальцева, кажется, уже меньше доставляет неприятностей его капризному визуальному восприятию. Напоминает строгую Стрепетову в белом воротничке с портрета Ярошенко.
Он любил красивых нарядных девушек, а тут взгляд постоянно упирался в это некрасивое и непородистое лицо. И одета мешковато. Хотя и прежняя ее мешковатость как-то на него действовала, почти умиляла сиротским равнодушием к внешнему виду, столь для России свойственным…
…Он был особенный. Сначала она даже не понимала, в чем тут дело. Казалось, что то красное, пламенеющее сияние увиденного некогда заката освещает его лицо. Потом к ней стал клеиться студент со схожим горячим блеском в глазах и диковиной чернотой волос. Эти приметы только усугубляли его непохожесть на Гусмана.
Но что-то общее все же было. Потом до нее донеслось, что и Анатолий (студент), и Гусман (преподаватель) оба – космополиты. Словечко только входило в оборот, звучало еще под сурдинку, чтобы после войны зловеще прогреметь.
Прошло бурное собрание, где Анатолий, избравший для курсовой тему по западному искусству, виновато щурился и лепетал что-то жалкое, а Григорий Гусман, в белом костюме, вел себя надменно и переспорил всех своих обвинителей, которым не нравились его ссылки на буржуазных философов. Он был, как всегда, прекрасен и блистателен.
Анатолия отчислили, а Гусман, этот вечный любимец счастья, продолжил читать лекции, правда уже факультативно и на вечернем отделении. Изредка он с интересом взглядывал на сидящую впереди некрасивую студентку Мальцеву, которая стала приходить на эти его вечерние лекции.
После того собрания она поднесла ему рыжий солнечный ноготок. Сорвала его на глазах у всех с клумбы возле институтских ворот, догнала и поднесла. Ей тогда показалось, что он смутился, хотел поцеловать ей руку, но потом просто пожал. Анатолий был этой сценой так восхищен, что тут же сделал ей предложение. А Люда никогда не узнала, что подаренный ноготок Гусман поставил в стакан с водой и нарисовал яркой цветной пастелью, подписав под рисунком дату: 12 июня 1939 года.
В том же году Анатолий поступил работать на механический завод. Тогда же, в 1939-м, они поженились. У него было одно большое преимущество, на Людин взгляд. Он был из космополитов, а всех космополитов Люда с того самого собрания обожала.
Стала звать его, как щенка, Атолл, а он дома ходил за ней по пятам. И смотрел огромными сияющими глазами преданно, тоже как щенок.
Она была «умной», а он оказался из тех редких мужчин, которые это опасное для женщин качество ценят.
Когда началась война, занятия прекратились. Да и сам институт, столь избыточно элитарный, был расформирован и никогда уже больше не возрождался.
Атолла тут же призвали, и он, уйдя на фронт, не написал ни одного письма. Видно, просто не успел, канув в безвестности. Судя по всему, его эшелон разбомбили по пути на фронт, и даже документов никаких не осталось.
А Люду с маленькой дочкой Тамарой энергичная мать послала в городок под Рязанью, где жила бабушка. Брат какими-то неправдами получил бронь и остался с матерью в Москве, которую на сей раз не сдали.
В Борчанске Люда оказалась совсем в одиночестве, в бедственном положении неумелой мамаши, у которой к тому же ничего нет ни для ребенка, ни для собственного обихода.
Старая глухая бабка, сырая изба с пушкинским «разбитым корытом», непролазная осенняя грязь, отсутствие денег и вещей для обмена у местных на продукты, непрерывные склоки приехавших эвакуированных, хамство, несправедливость и воровство на всех этажах местного начальства, начиная от чиновника в отделе прописки, – все это на Люду так подействовало, что она впала в какое-то сумеречное оцепенение, какое было у нее в детстве. Не жила, а прозябала, словно снился глухой сон о чужой жизни. Автоматически совершала какие-то действия, чтобы спасти Тамару, редкостно выносливую и жизнелюбивую. Вот той хотелось жить! Однажды, уже совсем замерзая в нетопленой избе и не реагируя на плач Тамары, Люда припомнила лицо Гусмана. Да и не лицо вовсе, а его пленительную полуулыбку, слегка подрагивающие уголки губ – не то радуется, не то иронизирует, как античный курос или кора, открытые всему космосу со всеми его трагедиями. И словно ток жизни прошел по жилам – написать ему! Он спасет, выручит, оживит, как однажды уже спас и оживил! Куда писать? Она знала от одной сокурсницы, случайно оказавшейся в Борчанске, что Гусман ушел на фронт как военный корреспондент и, кажется, недавно вышел из окружения. Во всяком случае, его жена имела такое известие. И он был жив! Люда была несказанно рада, что он жив, словно сама жила его силой, его мужеством, его красотой. Он ее спасет!
Письмо было путаным и почти безумным. Она таких никогда прежде и никогда впоследствии не писала. Это было «письмо Татьяны», но Татьяны горьких и безутешных дней бесконечного хаоса, неверия в жизнь и полного отчаяния. Лишь надежда – о нет, не на победу в войне, а на то, что Григорий Гусман действительно жив и отзовется – делала это письмо хоть и не вполне любовным, но охваченным каким-то пылким и неистовым чувством.
Плачущую Тамару развлекала в это время глухая бабка, которую Людмила упорно не признавала своей бабушкой. Совсем чужая, глупая, жадная – что в ней родственного? Впрочем, как и в матери, и в брате. Только Атолл давал ей жизненное тепло, но и Атолл исчез, растворился в недружелюбном холодном пространстве.
И когда на ее письмо местный почтальон, мальчишка в старой дедовской бескозырке «времен очаковских», принес ей проштемпелеванный, измятый, проверенный военной цензурой конверт с ответом, она даже не удивилась. Как не удивлялся ученик хождению Иисуса по водам.
Да ведь и ее письмо содержало заряд силы атомной бомбы, еще неизвестной тогда человечеству, и на него невозможно было не ответить. И он ответил. Лаконично. Строго. Осмысленно.
«Дорогая Люда! Я только что вышел из окружения. Рад был получить от вас весточку. Что-то вы совсем загрустили. Уверяю вас: мы еще встретимся и посмеемся нашим былым бедам! Ваш Григорий Гусман».
Он ее снова оживил!
«Мы встретимся, – написал он. – И посмеемся!» Она взглянула в треснувшее зеркало шкафа на свое бескровное, безвозрастное, одичавшее отражение. Где-то в сумке лежали крем и помада, подаренные Атоллом на ее прошлый день рождения. Услышала плач дочери. Вспомнила разговоры соседей, что в местной газетенке ищут машинистку и за это обещают паек.
В ней пробудился инстинкт жизни. Она побежала из избы хоть как-то устраивать свою и Тамарину жизнь. Ведь они еще должны были с Григорием Гусманом встретиться. И не там, в загробном сумеречном мире, Дантовом чистилище, которое она давно для себя облюбовала, а здесь, на земле, на московской аллее, на Чистых, среди кленов и лип…
…Ох, не к месту и не ко времени случились пражские события! Гусман перестал получать письма от своего чешского «дорого Марека». А когда получил, то письмо было словно шифрованное и все какими-то обиняками, хотя и Марек, и Григорий Яковлевич пражских событий не одобряли, но методы, сами методы борьбы с инакомыслием, как говорится, оставляли желать…
Люда возмущения не скрывала. Горячо высказывалась даже на заседаниях отдела при настороженном молчании безликого большинства. Даже смахивающий на дьявола Вася Вехов отсел от нее подальше и демонстративно отворачивался, когда она бурно и страстно выражала свою солидарность с чешской оппозиционной интеллигенцией. Но Вехов и от Гусмана отдалился, безошибочно вычислив, что тому теперь с его некстати оживленным марксизмом, – несдобровать. Он прятался и отводил глаза от Гусмана при встречах в коридоре. В конце концов тот стал первым сворачивать в сторону – все это ему было знакомо-перезнакомо.
Расширенное переиздание альбома о Краке срочно прикрыли. И теперь о докладе Мальцевой речи уже не шло.
Заведующий отделом без конца ходил на «консультации» с директором института, умелым чиновником, выплывающим при всех «прижимах». Вопрос стоял так: кого из двоих, Мальцеву или Гусмана, выгнать первым и с какой формулировкой?
Но все как-то само собой для Алексея Алексеевича Пирогова уладилось. Как говорится, малой кровью. Гусман сам подал заявление об уходе, и несколько лет, сидя без официальной работы, писал «в стол» памфлеты о западном искусстве, один ядовитее другого.
И Людмила Мальцева потихоньку утихомирилась. Альбом о Краке через несколько лет все же вышел, правда, в усеченном виде и с большими изменениями в авторских комментариях. Все свои силы она бросила на разоблачение массовой культуры (до которой Гусман был большой охотник и даже указывал в ряде своих статей на низовые и профанные истоки всего мирового искусства).
Завязалась газетная полемика, которая редко приводит к чему-либо хорошему. К тому же Гусман и впрямь владел «секретным оружием» – отточенной диалектикой. И одолеть его было невозможно.
Людмила Эрастовна взялась за писание умных и внятных книг для интеллигентного читателя – о Краке, о Пикассо, о Дали.
Когда-то Ахматовой казалось, что от ее встречи с Исайей Берлиным что-то существенно изменилось во всей эпохе. Такое же чувство было у Людмилы Эрастовны. Ей казалось, что она спорит не просто с Григорием Гусманом, она отстаивает для России «европейский путь», ведущий к прогрессу, к терпимости, к мировому объединению, к свету и радости.
Ее прежний кумир – Гусман – в этой ее борьбе превратился в какого-то реакционного старикашку, жуткого консерватора, пытающегося загнать Россию на какой-то особый путь уже отгремевшего и смешного учения…
…Однажды, уже во времена развала империи, Людмила Эрастовна Мальцева, немолодая, но подвижная сухощавая дама с нервным и чрезвычайно интересным, как бы освещенным внутренним светом лицом, в красиво на ней сидящем темно-синем брючном костюме, сшитом явно на заказ, шла в задумчивости по Чистым. Вечерело. Было начало осени. Под ногами уже хрустели листья. Дочка Тамары, недавно вышедшая замуж за российского олигарха, как раз в эти дни ожидала прибавления в семействе. Муж отправил ее в немецкую клинику. Все российское уже давно не вызывало никакого доверия. Но Людмилу Эрастовну все это мало трогало. Общественное одичание последних лет привело ее в то полусонное, призрачное состояние, которое было с детства ей присуще. По-настоящему пылко и страстно она жила только в своих писаниях. И сейчас она шла, обдумывая очередную главу книги о Пикассо. Сказать правду, со временем ее стала раздражать эта его бесконечная изменчивость, словно бы он гнался за меняющимися вкусами богатеньких заказчиков и даже старался их опередить.
Что-то стало мешать ее размышлениям. Она подняла глаза – на небе сиял розово-красный, бурный, совсем не городской, с каким-то невероятным преувеличением, закат.
«Закат?» – подумала она, что-то смутно припоминая. И тут увидела идущего ей навстречу Григория Гусмана. Она не видела его много лет.
Он был все таким же сияющим и невыразимо прекрасным. Лысым? Или со стоящими дыбом волосами? Со своей необыкновенной полуулыбкой? Или с надменно сжатым ртом? Она ничего этого не успела рассмотреть. Главное – это был он!
И она кинулась к нему, как девчонка, со всем нерастраченным пылом однолюбки Татьяны Лариной, которой, кроме ее Онегина, никто, ну совсем никто не нужен. И даже бедный чудесный Атолл был только блеклой копией, подменой! А нужен лишь этот – необыкновенный, яркий, чудовищный, старый, облезлый, обладающий все тем же невыразимым обаянием!
Она наконец-то выскочила из заколдованного круга своей жизни – мыслей, рассуждений, логики, жалких слов!..
Незнакомый человек, совсем не похожий на Гусмана, глядел на нее с удивлением и испугом.
Она с трудом разомкнула руки, обхватившие его шею, покраснела до слез и на ходу, убегая, пробормотала извинение. Она ошиблась, простите.
И внезапно подумала, что и этот – из космополитов. Так что судьба, вероятно, неспроста ей его подбросила на безлюдной аллее Чистых прудов, приоткрыв какую-то смутную тайну. И теперь она будет ее разгадывать вплоть до Чистилища, где им двоим (она в это радостно, без всяких сомнений, совсем по-детски верила) суждена новая встреча.
Гадкий утенок
Сергей Прокофьев и Мира Мендельсон
В конце августа вдруг стало солнечно и жарко, как он любил. Ведь вырос в украинских степях, на просторах Дикого поля. Фланировал по кисловодскому санаторию в белой шляпе с отогнутыми полями и щегольском белом полотняном костюме, купленном на развале в одном из французских городков, где сравнительно недавно гастролировал вместе с Линой Ивановной. Друзья удивлялись, как их выпустили из Советского Союза в турне по Европе и Америке (потом выяснилось, что это было последнее их путешествие за границу). В тот раз Лина Ивановна почти не пела. Что-то случилось с голосом. Впрочем, он объяснял ее частые простуды перед выступлениями обыкновеннейшим страхом сцены. И стоило столько учиться вокалу в Италии, чтобы потом так трусить перед каждым концертом?! Но даже когда она пела небезупречно (а такое частенько случалось), кто-нибудь из зала непременно подносил ей цветы. Уж очень мило она выглядела в этих своих воздушных платьицах, маленькая, ладная, яркая, ну точно куколка!
Забавно, но во время этого их недавнего турне она спела в Париже французскую версию «Гадкого утенка» так провально, что зрители хихикали, а критики в рецензиях возмущались. Но белые лилии ей всё же поднесли.
Он спускался с гористой санаторной тропы. Было еще очень рано, часов пять. В шесть у него была назначена встреча у колоннады главного корпуса с одной отдыхающей. Договорились вместе прогуляться в горы. Но ему не спалось, захотелось побродить в одиночестве, подумать, помечтать, что было для него новостью. Сентиментальных мечтаний он за собой давненько не замечал. Они познакомились позавчера вечером, 26 августа (день, который они потом будут отмечать), в гостиной санатория. Он вышел в гостиную после шахматной партии с профессором Боголюбским в тайной надежде, что ее тут увидит. Он ее уже давно приметил, но поначалу испытывал какие-то странные, противоречивые чувства. Увидев в столовой санатория впервые (она тоже бросила на него робкий, ускользающий взгляд), он испытал нечто такое, что французы называют ударом молнии – какая-то неведомая сила пронзила его насквозь. Еще пламенея и недоумевая, он с опаской взглянул на Лину Ивановну, но та ничего не заметила, капризно отодвинув тарелку с яйцом, оказавшимся крутым. А она любила всмятку. Через несколько дней Лина Ивановна уехала в Москву к сыновьям. Кисловодск, в отличие от него, она не любила.
Его случайные встречи с этой молодой особой были странными, возможно, виной стала близорукость, но девушка ему то нравилась, то нет. Лицо казалось то нежным и печальным, то грубоватым, почти вульгарным. Эти ее преображения его несказанно удивляли. Случайно он услышал, как кто-то назвал ее Ниной, и вздрогнул – имя было для него значимым. Так звали его когдатошнюю невесту. Однажды все у той же колоннады главного корпуса он увидел двух прохаживающихся вместе молодых девушек, примерно одного роста, черноволосых и круглолицых. Ага, значит, их две? Как в русской сказке, нужно было найти «настоящую». Он остановился у колонны и, никем не замеченный, внимательно вгляделся: вульгарная оказалась Ниной, а другая… Имени другой он не знал. Несколько раз они едва не познакомились, столкнувшись в холле, но оба почти одновременно в испуге отпрянули друг от друга. И вот в гостиной, куда он по какому-то наитию вошел и остановился у рояля, – она к нему подошла. В этой круглой гостиной с тяжелыми голубыми портьерами и обитыми синей плюшевой тканью стульями сидели отдыхающие. Все тут были или знакомы, или почти знакомы – в санатории собралась научная элита двух столиц. Но вот странность, с первого раза, с первого ее пустячного вопроса о его концерте, им обоим стало совершенно безразлично, что за ними наблюдают. Они об этом просто забыли, поглощенные общением. Он помнил, что испытал какую-то безумную, острую радость, когда она задала свой вопрос. Словно что-то сдвинулось такое, что мешало дышать. Он сам подойти не смел: был женат, но дело было даже не в этом. Он был намного старше и не хотел показаться смешным. И вот она, как Татьяна, взяла на себя этот пудовый первый шаг, несмотря на свою врожденную робость, жуткую стеснительность. На следующий день в письме к жене он написал, что познакомился в Кисловодске со своей поклонницей. Она поклонницей вовсе не была. Не слышала прежде его сочинений. Вообще больше любила драму, не пропускала премьер в Художественном. Но ему необходимо было с кем-то поделиться, хоть с Линой Ивановной. Он писал жене о «поклоннице» словно бы не всерьез, с юмором, и она не отнеслась к его знакомству серьезно. Да, ее звали Мирой. Это было почти единственным, что он запомнил из их путаного разговора в гостиной. Потом выяснилось, что сама Мира так волновалась, что не запомнила и вовсе ничего. Даже свое имя она произнесла таким тихим, срывающимся голосом, что ему пришлось переспросить.
– Мира, – повторила она, еще сильнее смутившись.
В имени был звук «р», который она не выговаривала. Но голос звучал приятно и не раздражал его привередливого композиторского слуха, и даже эта легкая картавость… Что-то она ему напомнила, очень жгучее и одновременно опасное, отчего он ездил в Кисловодск после своего возвращения в Советский Союз (это было второе его посещение южного курорта) со страхом, но и с каким-то юношеским волнением. Как перед тайным свиданием.
В Кисловодске незадолго до революции он жил на съемной даче своих знакомых – богатых промышленников Мещерских – и всерьез увлекся их молоденькой дочерью Ниной. Она очень похоже картавила. И вообще, что за гадкий она была утенок! Во всех отношениях. Ужасный переменчивый нрав! А внешность? Почти лилипутка, ему по пояс, черная, как жук, с жесткими курчавыми волосами! Кошмар! Его мать, когда ее увидела, обомлела. Не такую, мол, я ждала невестку. Успокойся, мама, все равно ведь ничего не вышло. Всем богатым буржуазным семейством отказали молодому нахалу, начинающему музыкальному гению (о его гениальности твердила молва). А ему ее внешность чем-то нравилась, притягивала, пьянила. И эта картавость была мила, и сросшиеся сердитые брови. Он сам тогда все еще ощущал себя гадким утенком, хотя уже был почти знаменит. С юности стыдился своих желтых цыплячьих волос, чрезмерно высокой костлявой фигуры, нескладной походки, круглых очочков, которые приходилось носить из-за сильной близорукости.
Сколько они с Ниной тогда гуляли по окрестностям! И произвели вдвоем странное сочинение, не то неестественно длинный романс, не то монооперу, опередившую время. Нина написала текст по сказке Андерсена «Гадкий утенок», а он сочинил музыку. Они оба казались себе гадкими утятами, в этом была их страшная тайна, их загадочное сродство. «Убейте меня!» – грустно и безнадежно вскричал гадкий утенок, завидев прекрасных лебедей. И вдруг обнаружил… Да, да, увидел, что сам способен летать! Для того и писа́лось! Больше всего на свете он ценил миги преображений.
…Он шел по легкому утреннему холодку. На дорожках никого не было. Анютины глазки на клумбах и магнолии вдоль тропинки его радостно приветствовали. Какие-то неясные мысли об этом неожиданном знакомстве вертелись в голове. Позавчера в гостиной он зачем-то спросил ее отчество. Она сказала, что отца зовут Абрам, но она Александровна. Это второе, домашнее имя папы. А ее по паспорту зовут Мария-Цецилия, но бабушку звали Мира. И она взяла себе это имя.
На следующий день, обдумывая шахматную комбинацию, он внезапно понял, зачем нужны были все эти перестановки с именем. Не для того, чтобы скрыть опасную национальность, ведь имя Мира все равно было еврейским (а он за три года после возвращения из Америки понял, что государственный антисемитизм и при большевиках в России вполне процветал). А для того, чтобы что-то важное в себе определить. Найти свою «музыкальную тему», как он это назвал. При всей внешней скромности эта девушка таила в себе глубину.
Такая тоненькая, взволнованная, неловкая и ходит как цапля или как балерина – совершенно прямыми ногами. Лина Ивановна, услышав в Москве его полуюмористический рассказ о новой почитательнице, будет всю жизнь твердить, что Мира была неизящной и ходила, представьте себе, не сгибая коленей. Деталь была взята из рассказа мужа, но тот просто обожал Мирину походку. Они оба ходили «странно», да он еще при этом любил вечеринки с танцами то в санатории, то в Доме ученых и тащил на них упирающуюся Миру…
Ему было жаль, что Мира не присутствовала даже на недавнем концерте в московской консерватории. На нем Лина Ивановна пела «Гадкого утенка», его юношеское сочинение, написанное совместно с Ниной Мещерской в пору их тайной любви. И снова пела неважно. Вот уж кто никогда не был гадким утенком и не мог себя им представить! Всегда куколка, всегда светски оживленная на людях и капризно недовольная дома. Такая буржуазистая пташка, любительница светских раутов и обожающих мужских взглядов. Ну не получалось у нее преображение в лебедя! Она лебедем петь начинала и им же заканчивала. Строптивым, красивым и порой злобно шипящим лебедем. Но ей все равно достался букет. И все ее потом хвалили, кроме его друзей-музыкантов. Он стоял красный (в тот день после концерта у него поднялось давление) и радостно улыбался. Так их и засняли вдвоем после концерта, улыбающихся: его, композитора и дирижера, и ее – певицу, красавицу и жену знаменитости. Но ведь Мира, хотя и не была на концерте, видела в санатории его жену. Видела, какая она красивая. Испанка с польской кровью. В России издавна ценятся испанские и польские дамы…
…Спросив имя, он впервые тогда прямо взглянул на Миру, которая стояла, опустив черноволосую голову. Но стояла, а не уходила, хотя видно было, что ей очень неловко. Все в гостиной на них пялились. И тут его осенило – она же гадкий утенок! Совсем дурнушка в сравнении с Линой Ивановной! Ростом несколько выше низенькой Нины. Пожалуй, повыше и Лины Ивановны, но та кругленькая, аппетитная. А эта – худюля, правда очень стройная. И одета совсем не броско, в синенькое, простое, без изысков платье, точно гимназистка в форме. И лицо – не улыбчивое и в ямочках, как у Лины Ивановны на светских раутах, а озаренное внутренним волнением; лицо, какое было, вероятно, у Татьяны Лариной или у Наташи Ростовой, когда они мечтали о любви. Боже, неужели ему снова так повезло?! Неужели ему вновь послали его уплывшее некогда счастье? И все, все тогда окупается – это его безумное, с точки зрения американских друзей, да и русских композиторов-соперников Стравинского и Рахманинова, втайне завидующих его решительности, – возвращение в «коммунистическую» Россию! Его сюда неудержимо влекло, он мечтал о какой-то новой жизни, о новом вдохновении, которое его здесь непременно посетит. И Европа, и Америка с их размеренными буржуазными правилами и узкими денежными интересами ему давно опротивели. Он хотел встряски! Но, вернувшись, кроме бурного эмоционального подъема, вылившегося в разнообразной музыке, он испытал и бесконечные сомнения, и стойкое предчувствие зловещей коды. Его терзали странные отношения с переменчивым вождем, то казнившим, то милующим, и уйма свалившихся житейских неприятностей. Но все, все тяжелое и мутное окупалось с лихвой встречей с этой тихой девушкой!
Он напишет сонату, где будет менуэт, медленный церемонный танец, который Мира с ним танцует. Он и она, люди со «странной походкой», гадкие утята, непохожие на других. Танец, скрывающий безумное, жгучее, солнечное волнение, охватившее обоих…
Они тогда вышли из гостиной санатория на воздух, сделали несколько стремительных кругов вокруг главного корпуса, потом столь же быстро спустились в город. Он повел ее в недавно облюбованный закуток, где продавались восточные сладости. Его тут уже знали, буфетчица радостно заулыбалась.
Он накупил рахат-лукума и попросил положить в две нарядные коробки.
– Сергей Сергеевич, – обратилась Мира к нему, смешно и прелестно картавя.
Он нетерпеливо поправил:
– Сергей. Обойдемся без отчеств.
– Уже поздно. Меня родители ждут, – в волнении сказала Мира.
– Подождут. Вы взрослая. Сколько вам лет? восемнадцать?
Он даже схватил ее за руку, чтобы не убежала, не улетела, как лебеденок, внезапно почувствовавший за спиной крылья.
– Нет, мне гораздо больше. Уже двадцать три.
– Совсем старушка, – рассмеялся он, тщетно пытаясь вычислить в уме, насколько она младше. Не получалось. А ведь мог просчитать множество ходов в шахматной партии!
По дороге назад, не выпуская ее руки из своей, он узнал, что она студентка Литинститута, что сочиняет стихи и переводит их с английского, что хотела бы писать либретто для музыкальных спектаклей.
– Хороший либреттист – мечта моей жизни, – проговорил он смеясь. – До встречи с вами самому приходилось мучиться. Беру вас в свои либреттисты. Согласны?
– Но вы же, но я… – Мира совсем запуталась. И вдруг сказала, подняв на него глаза, загадочно просиявшие в фонарном свете: – Согласна! Я согласна!
Мимо них в противоположном направлении проходила его соседка по столу – доктор каких-то наук. Ему показалось, возможно сослепу или из-за сумерек, что она улыбнулась. Нельзя было не улыбнуться – так все у него с Мирой прекрасно складывалось! И вечер был таким теплым неспроста!
На самом деле соседка изумилась. Они казались такими счастливыми и шли, взявшись за руки, так открыто и спокойно, словно это было в порядке вещей. Соседка знала, что он знаменитый композитор, видела его красавицу-жену. А это кто? Какая-то студентка, да еще еврейка, привезенная в этот привилегированный санаторий отцом, ученым-экономистом. Но чтобы ходить за руку так открыто?! Так сиять?! Кто-нибудь ведь наверняка доложит его жене. Или напишет в самые высокие инстанции о разложении нравов в композиторской среде! Ясно, что он недавно вернулся из-за границы и ничего тут не понимает! Но какова девица! Небось, комсомолка!
Соседка жгуче завидовала. Таких сильных чувств она не испытывала уже лет… Сколько же? Да ведь и в юности – никогда!..
…Мыслей, чувств, воспоминаний было так много, что, когда он издалека увидел появившуюся у колоннады девичью фигурку, он даже немного огорчился – чего-то самого важного не успел додумать. Он пошел, почти побежал к Мире своей нескладной походкой, руки двигались не в такт с ногами – и это у композитора! И издалека ощущал тот ускользающий дивный аромат, который почувствовал еще тогда в гостиной. Едва ли духи были французскими, но они словно специально создавались для его придирчивого нюха…
…А Лина Ивановна «Гадкого утенка» больше ни разу не исполняла. Нет, неправда, однажды спела. Но это было как бы в другой жизни, которая не в счет. В лагере в Абези, где она участвовала в художественной самодеятельности, мотая непомерный срок. И за что? За пропажу каких-то листочков, которые она переводила для военных целей! И все понимали, и следователи, и конвоиры, что никакая она не шпионка, капризная маленькая женщина с ломким голосом, жена известного композитора. Но тогда он уже от нее ушел и даже, как после возвращения она узнала, женился на этой своей иудейке, которая ходила «не сгибая коленей». Слышите? Ха-ха, ходила не сгибая… Она хохотала немножко наигранно, разглядывая себя в многочисленных зеркалах вдоль стен своей московской квартиры. В лагере зеркал не было. И возле зеркал на лаковых столиках лежала дорогая косметика, которой там тоже не было. При Хрущеве Лину Ивановну полностью реабилитировали, и она даже сумела отсудить у Миры часть имущества, завещанного той умершим мужем. А потом, оказавшись за границей, вернулась наконец в тот мир светской жизни, приемов, раутов и концертов, посвященных ее мужу-композитору (Миру она настоящей вдовой не считала), для которого была создана.
Но тогда, до всего этого, сыновья прислали ей в лагерь ноты «Утенка», и местный пианист, бывший концертмейстер Большого театра, его за один день разучил. Да еще говорил, что безмерно счастлив такой удаче. А она не стала ничего повторять, чтобы не расстраиваться – все равно голоса уже никакого не было из-за жутких здешних морозов и на нервной почве. Одна из заключенных, с которой они вместе убирали барак и выносили помои, смастерила ей из белой бумаги два небольших крылышка. На больши́е не хватило материала. Лина Ивановна спрятала руки с крылышками за спиной. Пела почти беззвучно, невнятно, высоким надтреснутым голоском, закрыв глаза и немного откинув голову. Зато аккомпаниатор вовсю наяривал, наслаждаясь экспрессивной музыкой.
– Убейте меня! – вдруг выкрикнула она так отчетливо и горестно, что задремавший было конвоир проснулся и удивленно уставился на поющую Лину Ивановну, коротко остриженную, с обиженными складками вдоль губ, неузнаваемую для тех, кто помнил ее на воле. И тут она взмахнула белыми крылышками и словно взлетела. И зал, набитый заключенными, облегченно вздохнул и разразился аплодисментами…
…А в кардиологическом санатории «Подлипки» под Москвой, где Сергей и Мира отдыхали весной 1952 года, за год до его внезапной смерти, он ненадолго словно ожил, забыв обо всех постигших его невзгодах. О предательстве консерваторского друга юности; запрете на исполнение произведений, в которых нашли «формалистические извращения»; о двух своих инсультах; о трагических смертях ближайших соратников – великолепного Мейерхольда, как боязливо шептались, расстрелянного в тюрьме, и талантливейшего Эйзенштейна, не выдержавшего травли… Но было и другое. Ведь было же! Все, все, что он писал вместе с Мирой, искрилось радостью и вдохновением. Все было освещено безумным пыланием любви, тайны, волшебства, начиная с искрометного «Обручения в монастыре» и кончая фольклорно-многоцветным «Сказом о каменном цветке».
Сидел на скамейке, почти по-зимнему экипированный Мирой в шляпу и пальто с поднятым воротником, но все еще с претензией на элегантность, и играл в огромные деревянные шахматы, стоявшие на столах вдоль аллеи у каждой скамейки. Желающих поиграть было много, несмотря на ветреный день. Зеваки толпились у каждой доски, делая отрывистые замечания. Его напарником оказался пожилой еврей, занимающий какой-то важный пост в министерстве финансов. Тот взглянул вслед удаляющейся в санаторный корпус Мире и промурлыкал невнятно, чтобы толпящиеся возле зеваки не услышали:
– Излучает тишину. Вам всё ж таки исключительно повезло, особенно если иметь в виду вашу профессию. Должно быть, многое ей посвятили?
– Начал посвящать еще до знакомства, – рассмеялся он. – И даже, кажется, до ее рождения!
Финансовый работник не выразил удивления, словно ждал такого ответа, но воспользовался заминкой композитора и сделал точный ход, так что партию с трудом удалось свести к ничьей.
Когда Мира его уводила в корпус, он неожиданно спросил, какими духами она душилась, ну, тогда, в Кисловодске. Мира была озадачена: разве были какие-то духи? Но потом вспомнила, что папа привез ей из командировки в Болгарию малюсенький флакончик розового масла, а она взяла его с собой в Кисловодск и по капельке утром терла им за ушами.
– Восхитительный запах! – воскликнул он, взволнованный воспоминаниями. – Тонкий, почти исчезающий, а я его ощущал на большущем расстоянии. Давай еще прогуляемся по парку, все же весна. Скоро листья появятся на здешних липках.
Они шли по мокрой от вчерашнего дождя тропинке молча, держась за руки, как когда-то в Кисловодске. И он думал, что все навалившиеся несчастья, все притеснения диких невежественных чиновников, зачисливших его в «гадкие утята» советской музыки, и даже сама смерть, дыхание которой он в последнее время явственно ощущал – это всё неправда, всё внешняя шелуха, всё обман чувств. А настоящая жизнь – это их с Мирой бесконечный лебединый полет под торжественно-ликующие звуки менуэта и дурашливые инструментальные выкрики, за которыми таятся жгучие вопросы к вечности зрелых его сочинений…
Сквер на Пироговской
Наталья Роскина и Николай Заболоцкий
Он позвонил, как всегда, внезапно, крикнул заполошным голосом (наверное, был пьян): «Наташа, ты мой цветок!» – и тут же повесил трубку на рычаг своего черного телефона. Она, разумеется, не перезвонила. Зачем? Все уже сказано. А цветком она была у него своеобразным. Не лилией, не ромашкой, не нарциссом – хрупким и нежным, как полагается цветам и девицам. Нет! Какое там! То чертополохом, который своими яростно и жарко оперенными стрелами вонзается прямо в сердце, то кустом с сиреневыми можжевеловыми ягодами, напоминающими холодные гордые аметисты, ожерелье из которых он ей подарил. Единственный ценный подарок, не считая книг. Но и этот куст врезается в сердце смертоносной иглой. Аметисты эти приносили несчастье, она их хотела передарить, но не знала кому – не дочери же, которая вообще была против всех подобных «буржуазных» финтифлюшек и носила модные рваные джинсы, из-за чего один их хороший ленинградский знакомый-литературовед в ужасе написал Наташе в письме, что та плохо следит за дочерью и бедно ее одевает. Они с дочерью после этого пассажа долго смеялись – это был последний писк американской моды, просочившийся в гуманитарные круги советской молодежи. Да, а ее, Наташу, литературовед шутливо называл змеей за злой, меткий язычок. Вот это уже было ближе к чертополоху и смертоносным можжевеловым кустам с их металлически звенящими ягодами. Он кое-что в ней разглядел, но не всё, конечно, не всё. Как и тот звонивший изредка со своей Беговой. Ленинградский литературовед, барственный и ярко-талантливый, притягивал интеллигентных женщин, хотя был невысокий и тучноватый. А тот, тот, наверное, мог считаться по сравнению с ним почти красавцем. Правда, лысоватый, в круглых очках, но по крайней мере высокий и стройный, несмотря на ужасы сталинской тюрьмы, где ему пришлось побывать. На фотографии, той единственной, где они вдвоем, он кажется ее папой, строгим, но и любящим (некоторым завистливым дамам в Малеевке даже казалось, что безумно любящим). Но ведь и это безумие было волчьим, потому что он сам был Безумный волк. Так что они с ним были квиты: если она чертополох, пронзающий его сердце, то он бешеный волчище, загрызающий свое самое драгоценное. Какая же она неказистая на той фотографии, словно смертельно замерзшая в своем простеньком, без рукавов, ситцевом платьице. Пришлось ехать в нем в малеевский писательский санаторий, больше ничего не было; вот только аметисты скрашивали бедность наряда и это ее худое, подмороженное, гордое лицо девицы, обвенчанной в чистом поле с Ветром Ветровичем. Вот что было точно им схвачено – только с ветром она бы и ужилась: он в одну сторону, она в другую – полная раскрепощенность и полная свобода. Только почему, когда она читала последние две строчки его позднего стихотворного признания, где он называл ее красавицей (может, немножко все же любил?), она и в самом деле всегда, ну просто всегда начинала безудержно не плакать даже, а рыдать? Руки полуголые, черные восточные брови, совсем другая, чужая, опасная, не такая, как его первая жена, по какой-то необъяснимой прихоти от него ушедшая к его другу – талантливому литератору, а потом, к большой его и собственной радости, вернувшаяся. Вот та была мамочкой, любила, холила, не прекословила, без него, обретавшегося в лагере, растила двоих детей. А эта – чужачка, да еще и «ужасный ребенок», вечный ребенок с комплексом сиротства: мама умерла, когда она была подростком, а отец-литератор, в семье не живший, погиб на войне. «Сиротка, круглая сиротка», – жалостно завывала строгая бабушка, проведшая с ней тяжелейшую военную эвакуацию. Но она поджимала губы и сопротивлялась этой навязанной жалости. Она сама по себе, и никто, никто ей не нужен! Да ведь и он, несмотря на свой почтенный возраст, был все еще «трудный ребенок», капризный, избалованный, до глубины души уязвленный, порой жестокий. Оба они были «трудные дети», и никто не хотел уступать. О, она помнит, как он, не сойдясь с ней по какому-то политическому вопросу, кажется событиям в Венгрии (эти материи были для него ненужной и непонятной «химией», из-за которой, правда, он, поэт, совершенно равнодушный к «злободневности», угодил в чудовищный сталинский лагерь, а ее они глубоко задевали). Лишь однажды, расчувствовавшись, он сказал ей, что социализм несет искусству смерть. А тогда он вдруг вскочил со стула и стал собирать в старый саквояж свои нехитрые вещички. Он в то время переехал к ней в коммуналку на Мещанской, теснились в одной комнате, а восьмилетнюю дочку пришлось поместить у соседки – там было попросторнее, и дочка этому радовалась или показывала, что радуется, из любви к ней. Вещички стал собирать, видите ли, как упрямый ребенок, а она не сдвинулась с места, оскорбленная. И тогда он остановился у двери и прямо-таки разрыдался: как же так, почему она его не останавливает? Прежняя жена, мамочка, уж точно бы остановила! И из-за такой ерунды! Ведь он сам признавался, что когда с ней спорит о «химии», то всегда, всегда думает совсем о другом: какие у нее хорошие тонкие духи или какой отрадный, летящий, звонкий голос. А ведь все равно в конце концов собрал вещички и ушел, возможно повторяя при этом строчку с некоторых пор самого любимого своего российского поэта: «И манит страсть к разрывам». Вот-вот, к разрывам, и чем сильнее страсть, тем крепче желание порвать. Как сам он выразился, «счастья до гроба не будет, мой друг». Да ведь и у нее было подспудное убеждение, что настоящее чувство никогда хорошо не кончается…