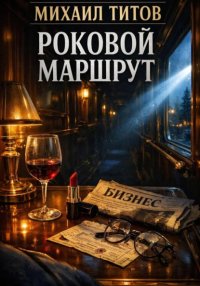Читать онлайн Последний экспонат бесплатно
- Все книги автора: Михаил Титов
Первый экспонат
Тишина в музее была иного качества. Не та густая, выглаженная тишь библиотек или соборов, а тишина напряженная, прислушивающаяся. Она висела между стеклянными витринами и дубовыми стеллажами, в пыльных лучах утреннего солнца, пробивавшихся сквозь узкие арочные окна Зала судебной медицины. Она была звонкой, как тонкая стеклянная нить, натянутая до предела.
Маргарита Павловна почувствовала это сразу, едва переступила порог зала со своим потертым пластиковым ведром. Воздух был не просто холодным – он был колючим. И пахло не привычной смесью воска для паркета, пыли и старого металла. Сквозь эти знакомые запахи пробивался другой, резкий и медицинский – формалин, едкая сладость антисептика, что-то еще… что-то медное, влажное. Она замерла, ее пальцы, похожие на сухие корни, сжали ручку швабры. Скрип паркета под ее стоптанными тапочками прозвучал как выстрел.
Она попыталась отмахнуться от предчувствия, как от назойливой мухи. Сунула руку в карман халата, нащупала гладкую поверхность иконки и прошептала что-то, глядя в темный угол зала, где стояли гипсовые слепки лиц знаменитых преступников. Их пустые глазницы, казалось, смотрели не на нее, а мимо, на что-то в центре помещения.
И тогда она увидела.
В центре зала, под самым большим световым фонарем в потолке, стоял массивный мраморный стол. Музейный, не настоящий. Его привезли из старого анатомического театра, отреставрировали, отполировали до холодного, молочного блеска. Он был пустым. Всегда. На него лишь иногда ставили временные экспозиции: восковые модели органов, наборы хирургических инструментов в бархатных ложементах.
Сейчас на столе лежал Аркадий Семенович.
Он лежал на спине, прямо, по струнке, как солдат на параде. Его служебный ватник был расстегнут, серая рабочая рубаха – аккуратно разрезана сверху донизу и разведена в стороны, обнажая грудь и живот воскового, синевато-белого цвета. Но не это заставило Маргариту Павловну издать тонкий, мышиный всхлип и отшатнуться, ударившись спиной о витрину с коллекцией пулевых отверстий в оргстекле.
На обнаженной груди сторожа, от ключиц до низа живота, зиял разрез. Идеальный, четкий, словно проведенный по линейке. Буквой Y. Ветви шли от ключиц к центру грудины, а единый стержень – вниз, к лобку. Края разреза были неестественно ровными, чуть подсохшими и завернутыми наружу, обнажая темную, багрово-черную глубину. И еще. На его высоком, морщинистом лбу, прямо над переносицей, было нарисовано что-то. Черное, тушью или чернилами. Символ, напоминающий глаз в треугольнике, но более сложный, с завитками.
Рядом, на небольшом подвижном столике для инструментов, который обычно стоял у стены, лежал один-единственный предмет. Пожелтевшая фотография в картонном паспарту. Лицом вверх.
Маргарита Павловна не подошла ближе. Она стояла, прижавшись к холодному стеклу, и дышала часто-часто, как птица. Ее взгляд скользнул с мраморного стола на темные линзы стеклянных шкафов, на немые тени в глубине зала. И ей показалось, что тени эти шевельнулись, отозвались на ее присутствие. Она перекрестилась судорожно, трижды, повернулась и почти побежала, ее тапочки шлепали по паркету, нарушая тишину, которая теперь казалась ей зловещим, сознательным молчанием сообщника.
***
Сергей Корнев стоял под аркой главного входа и чувствовал, как холод от серого гранита стены просачивается сквозь тонкую ткань его пиджака. Он смотрел на массивную дверь, окованную черным железом, и ему хотелось закурить, хотя он бросил два года назад. Внутри кармана пальцами нащупал пачку жевательной резинки, но не достал.
– Корнев! Небось, красоту набираешься? – раздался сзади грубоватый голос.
Игорь Ставицкий, его начальник, тяжело поднимался по стертым гранитным ступеням. Его лицо, широкое и жесткое, как топор, было окрашено в нездоровый утренний багрянец. – Внутри труп, СМИ еще не пронюхали, но это вопрос часов. Так что давай, Эркюль Пуаро, включай свои серые клеточки. Мне нужно быстрое и чистое закрытие. Понял? Не исторический трактат, а имя в протоколе.
– Понял, – отрывисто кивнул Корнев, избегая прямого взгляда. Он ненавидел этот тон. Ненавидел давление, которое начиналось еще до того, как он увидел место преступления. Он толкнул тяжелую дверь.
Стон, низкий и резиновый, вырвался из массивных петель. Холл встретил их гулом тишины и запахом старого мрамора, пыли и чего-то еще – тревожного, чуждого. Оперативники, уже тут работавшие, говорили вполголоса, их голоса приглушенно отражались от сводчатого потолока. Кто-то из местных, в форменной рубашке участкового, капитан Игнатьев, с растерянным, почти испуганным лицом, поспешил к Ставицкому.
Корнев не стал ждать. Он пошел по коридору, следуя указателю «Зал 4: Судебная медицина. История вскрытий». Его шаги гулко отдавались в пустоте. Паркет скрипел под подошвами, каждый скрип отзывался эхом в длинном, слегка изогнутом коридоре, стены которого, обшитые темным дубом, казалось, сдвигались, сужая пространство. Свет от тусклых бра отбрасывал на пол дрожащие овалы.
Дверь в зал была открыта. Из нее лился неестественно яркий, холодный свет прожекторов, поставленных оперативниками. И тот самый запах – формалина, крови и чего-то горького, почти озонного – ударил в ноздри, смешавшись с запахом старого дерева и воска.
Корнев остановился на пороге.
Он видел фотографии. Видел схемы. Даже бывал на местах происшествий после драк в подворотнях или нелепых бытовых убийств. Но это было иное. Это была инсталляция.
Тело на мраморном столе лежало так правильно, так нарочито, что не казалось совсем уж реальным. Оно было частью интерьера, самым новым и ужасающим экспонатом. Y-образный разрез. Чернильный символ на лбу. Корнев заставил себя сделать шаг внутрь. Его взгляд скользил по деталям, цепляясь за них, пытаясь построить логическую цепь уже сейчас, сию секунду, чтобы отгородиться от давящего, театрального ужаса происходящего.
Мрамор стола был холодным даже на расстоянии. Кровь, ее было не так много, запеклась в желобках, предназначенных столетие назад для стока жидкостей при настоящих вскрытиях. Цвет ее был темным, почти черным в холодном свете. Тело сторожа, Аркадия Семеновича (эту информацию он получил в машине), выглядело не просто мертвым, а подготовленным. Выставленным.
Он подошел ближе, надевая перчатки. Его пальцы, длинные и тонкие, повисли в воздухе над разрезом. Идеально. Слишком идеально для обычной резни. Это работало на контрасте: дикость содержания и хирургическая точность исполнения.
– Жуть, да? – раздался у него за спиной тихий, негромкий голос.
Корнев обернулся. В дверях, почти сливаясь с темным дубом панелей, стоял невысокий, плотный мужчина в клетчатой рубашке и жилете из твида. Его лицо, обросшее седой щетиной, было бледным, восковым. Глаза, маленькие и очень острые, были прикованы к столу. В них читался не ужас, а какая-то иная, сложная эмоция – узнавание? Тревога?
– Антон Леонидович Волков, главный хранитель, – представился мужчина, не протягивая руки. Его пальцы, испачканные чем-то темным у ногтей, нервно перебирали край жилета. – Меня вызвали… для консультации.
– Корнев, следователь, – откликнулся Сергей. – Вы знали его?
– Аркадия? Да, конечно. Он здесь двадцать лет работал. Тихий. Боялся темноты в подвале. – Волков сделал шаг вперед, его взгляд прилип к чернильному знаку на лбу. Он покачал головой, и в движении была такая тяжесть, будто он нес на плечах невидимый груз. – Это… это кощунство. Но не случайное.
– Что вы имеете в виду?
Волков молча подошел к столику с фотографией. Он не стал брать ее в руки, только наклонился, щурясь. – «Дело студента-медика Тихомирова. 1913 год. Тело обнаружено в анатомичке Императорского университета. Вскрытие произведено постфактум, Y-образным разрезом. На лбу – вырезан символ, схожий с клеймом одной из масонских лож, интересовавшихся танатологией. Не раскрыто». – Он произнес это на одном дыхании, ровным, дикторским голосом, как будто зачитывал музейную табличку. Потом поднял глаза на Корнева. – Это точная реконструкция. Деталь в деталь. За исключением… – он кивнул в сторону лба, – здесь нарисовано. В оригинале было вырезано. Но идея… идея та же.
Корнев почувствовал, как у него в животе похолодело. Не от страха. От возбуждения. Логический ум, его ум, уже начал обрабатывать данные: не бытовуха, не спонтанное убийство. Копирование. Историческое. Значит, подготовка. Знание. Интеллект.
– У вас есть материалы по тому делу? – спросил он, и его собственный голос показался ему чужим, слишком спокойным для этой обстановки.
– В архивах. Микрофильм. Папка плохой сохранности. – Волков отвечал рассеянно, его взгляд блуждал по залу, будто он проверял, все ли экспонаты на месте, не тронул ли убийца что-то еще. – Но зачем? Зачем это повторять? Это же…
– Театр, – тихо закончил за него Корнев.
Волков вздрогнул, посмотрел на него с новым интересом. – Да. Именно. Театр. И мы все… – он не договорил.
В дверь, громко топая, вошел Ставицкий. – Ну что, установили? Бывший зэк, на которого Аркадий когда-то показывал? Или родственничек, делящий квартиру? – Он окинул холодным взглядом сцену, его лицо скривилось от брезгливости. – Господи, какой цирк. Волков, вы тут чего? Не мешайте следствию.
– Я просил его о консультации, – ровно сказал Корнев, ощущая внезапный прилив раздражения. – Убийство стилизовано под нераскрытое дело 1913 года.
Ставицкий фыркнул. – Стилизовано. Модное словечко. Маньяк-историк. Ищите среди ваших коллег, Антон Леонидович. Кто имеет доступ? Кто знает эти ваши страшилки? – Он повернулся к оперативникам. – Осмотреть все выходы, опросить всех, кто живет рядом! И убрать этого деда отсюда, на стол к Соколовой. Корнев, оформляй, не мудри.
Ставицкий удалился, оставив за собой шлейф административного нетерпения. Давление снова сомкнулось вокруг Корнева, более материальное, чем музейный холод. Он видел, как Волков, стиснув губы, отвернулся и стал изучать ближайшую витрину с набором скальпелей XIX века, его спина выражала молчаливый протест.
Корнев снова подошел к столу. Он должен был осмотреть все сам, до того как тело увезут. Его глаза, привыкшие выискивать несоответствия, скользили по рукам покойного. Пальцы были слегка сжаты, закоченевшие. Правая рука лежала ладонью вниз. Но в кулаке левой, прижатом к бедру, виднелся какой-то темный, маленький предмет.
Сердце Корнева стукнуло громче. Он наклонился. Осторожно, пинцетом из набора криминалиста, разжал окоченевшие пальцы.
Там лежал обломок. Маленький, меньше ногтя. Керамика. Белая, с синим, почти выцветшим рисунком – часть какого-то растительного орнамента, веточки. Край был острым, свежим, не обтертым временем. Это не было частью экспоната. Он знал инвентарь этого зала – здесь была медицинская утварь, инструменты, гипсовые слепки. Ничего подобного.
Он поднял голову, ловя взгляд Волкова. Хранитель уже смотрел на него. Корнев показал ему обломок, зажатый в блестящих браншах пинцета. Волков приблизился, его лицо стало еще сосредоточеннее. Он покачал головой.
– Нет. Это не отсюда. Это… похоже на старый фаянс. Очень старый. Возможно, даже XVIII век. Но у нас такой в экспозиции нет. В фондах… не припомню.
Корнев опустил обломок в пробирку. Звук, сухой и легкий, как падение бусины, отозвался в тишине зала. Эта маленькая, никому не заметная деталь была диссонансом. Ошибкой в безупречной постановке. Или… намеренным знаком?
Он встретился глазами с Волковым. В остром, умном взгляде хранителя он прочитал то же самое понимание. Это было только начало. Игра уже шла, и они оба, сами того не желая, стали ее участниками. Корнев сунул пробирку в карман, чувствуя, как холодный пластик прижимается к бедру. Первый экспонат в его личном, еще не осознанном коллекционировании улик. Коллекционировании, которое уже не имело ничего общего с учебниками и протоколами Ставицкого.
Снаружи, в коридоре, затикали часы. Гулко, размеренно, отмеряя время до следующего акта.
Архивная пыль
Архивная пыль имела особый вкус. Сладковатый, с горчинкой тления, с едва уловимым химическим шлейфом от разлагающейся бумаги и старого клея. Она оседала на языке тонким, вяжущим налетом, когда Корнев, склонившись над столом в крошечной комнате для работы с фондами, перелистывал копии дела 1913 года.
Волков принес их утром, аккуратно упакованными в бескислотную папку. Он двигался бесшумно, как тень, и поставил папку на стол с таким видом, будто возлагал венок.
– Оригинал не выдают, – сказал он тихо. – Микрофильм плохого качества, но текст читаем. Фотографии… я сделал распечатки. Они нечеткие, но достаточно.
Он не уходил. Стоял, опершись о косяк двери, и смотрел, как Корнев погружается в прошлое. Его пальцы, все те же, испачканные чем-то, барабанили по дереву. Нервный, прерывистый стук.
Дело студента-медика Тихомирова представляло собой тонкую пачку листов, исписанных выцветшими чернилами и отпечатанных на печатной машинке с прыгающими буквами. Протокол осмотра. Описание тела. Y-образный разрез. Символ на лбу, вырезанный ножом. Отсутствие следов борьбы. Показания коллег: тихий, увлеченный анатомией, имел странный интерес к тайным обществам. Дальше – ничего. Дело заглохло, упершись в стену молчания и непонимания. Последняя записка: «Приостановлено за отсутствием улик».
Но фотографии. Распечатанные на современной бумаге, они все равно несли в себе зернистость, размытость столетия. Корнев положил рядом снимок с места преступления в музее, сделанный утром. Он закрыл глаза, открыл. Детали сползались, как части двойного изображения в стереоскопе.
Поза. Расположение на столе. Распахнутая одежда. Разрез. Даже угол, под которым была откинута голова. Все, до мельчайших, казалось бы, случайных деталей – складка на рукаве, положение рук – было воспроизведено с музейной, таксидермической точностью. Только символ был нарисован, а не вырезан. И не было старого, пожелтевшего снимка рядом с телом Тихомирова. Его роль играла та самая фотография в паспарту, лежавшая на столике. Она была современной копией, искусно состаренной.
Корнев почувствовал, как по спине пробежал холодок не от страха, а от щемящего, почти интеллектуального восторга. Какая точность. Какое знание. Какое… уважение к оригиналу. Он тут же с отвращением отогнал эту мысль, но она засела где-то глубоко, как заноза.
– Вы видите? – тихо спросил Волков. Он подошел ближе, его дыхание пахло крепким чаем и чем-то химическим. – Это не пародия. Это реконструкция. Почти научная. Он исправил лишь одну деталь – не стал резать лоб. Оставил знак, но иным способом. Как будто… бережливый.
– Бережливый? – Корнев поднял на него глаза.
– К материалу, – безжалостно уточнил Волков. – Тело – тоже материал. В оригинале была ненужная, на его взгляд, жестокость. Он ее устранил. Он не маньяк в обычном смысле. Он… реставратор.
Слово повисло в воздухе, тяжелое и многозначное. Корнев сглотнул, снова почувствовав на языке пыль.
Дверь в комнату резко распахнулась, без стука. Ставицкий заполнил собой проем. Его взгляд скользнул по папкам, по фотографиям, по бледному лицу Волкова, и губы начальника сложились в нечто, отдаленно напоминающее презрительную улыбку.
– Ну что, историки, нашли своего Джека Потрошителя? – Он шагнул внутрь, и маленькая комната сразу стала тесной, душной. – Я уже отдал распоряжение. Сегодня начинаем обыски у всех сотрудников музея. От хранителей до уборщиц. Проверим доступы, алиби, психологический портрет. Кто из них мог увлечься этим старьем до такой степени?
Корнев медленно поднялся. Он чувствовал, как мышцы на спине напряглись, как будто готовясь к удару.
– Товарищ полковник, это… преждевременно. Мы отпугнем того, кто, возможно, еще вернется на место. Или оставит след. Это слишком прямолинейно.
– Прямолинейно? – Ставицкий фыркнул. – Это называется работа. А твои умствования, Корнев, называются затягиванием. У нас труп, скандал, а ты тут в пыли копошишься. Версия номер один – внутренний. Всегда так. Кто имеет доступ? Они. – Он ткнул пальцем в сторону Волкова. – Ищите здесь. А не в позавчерашнем дне.
– Но убийца может следить за расследованием, – настаивал Корнев, слыша, как его голос звучит тоньше, чем хотелось бы. – Если мы начнем давить на сотрудников, он уйдет в глубокое подполье или ускорит темп. Мы потеряем нить.
– Ты уже считаешь, что у тебя есть нить? Замечательно. – Ставицкий наклонился, уперев ладони в стол. Его лицо оказалось в сантиметрах от лица Корнева. – Вот мое решение. Обыски – с завтрашнего утра. Ты их курируешь. А сегодня ты едешь к Соколовой. Пусть «Айс» расскажет, что она нашла в этом шедевре. Может, отвлечешься от своего детективного романа.
Он развернулся и вышел, оставив за собой запах дорогого лосьона после бритья и раздражения. Давление, физическое, как изменение атмосферного давления перед грозой, спало, но осталась тяжесть.
Волков молчал. Он смотрел в стол, его пальцы теперь были сложены в замок. Белые костяшки.
– Он поступит так, как сказал, – произнес хранитель наконец. – Он разворошит муравейник. И испортит все… тонкие следы.
– Какие следы? – резко спросил Корнев.
Волков поднял на него глаза. В них была усталость и та самая отстраненность, которая так резала Корнева с первого дня.
– Пыль оседает не сразу, Сергей Валерьевич. Ее можно потревожить. И тогда уже не понять, где лежала книга, которую передвинули, и где стояла нога, которая пришла позже. Архив – это не просто бумаги. Это застывшее время. Его можно разрушить одним неосторожным движением.
Он говорил не об архиве. Или не только о нем.
***
Кабинет судебно-медицинского эксперта Соколовой находился в подвальном помещении старого корпуса бюро. Чтобы попасть туда, нужно было пройти по длинному коридору, выложенному кафелем цвета увядшей зелени, мимо закрытых дверей с табличками «Рентген», «Гистология», «Токсикология». Воздух был стерильным, холодным, с примесью формалина и хлора. Звуки здесь гасли, поглощались плиткой и тяжелыми дверями.
Соколова сидела за столом, заваленным бумагами и распечатками. На фоне белых стен и холодного света люминесцентных ламп ее темно-синий халат и собранные в тугой узел каштановые волосы казались инородным, но абсолютно гармоничным элементом. Она не подняла головы, когда Корнев вошел.
– Закрой дверь. Сквозняк, – сказала она ровным, без интонации голосом.
Он закрыл. Подошел к столу. На краю, в стороне от бумаг, лежала предварительная справка по Аркадию Семеновичу.
– Ну? – спросил Корнев, не в силах выдержать паузу.
Соколова наконец оторвалась от микроскопа, возле которого работала. Ее глаза, серо-стальные, без единой теплой искры, уставились на него. Она взяла справку.
– Причина смерти – острая кровопотеря вследствие торакотомии и последующего вскрытия брюшной полости, – зачитала она монотонно, как диктор. – Однако. Порез кожи и мягких тканей выполнен одним движением, очень острым, скорее всего, хирургическим скальпелем, профессионально, без рваных краев. Сердце и легкие извлечены с минимальными повреждениями, почти аккуратно. В мышечной ткани, в месте предполагаемого введения препарата – следы сукцинилхолина. Миорелаксант. Короткого действия, но достаточного, чтобы полностью обездвижить субъекта на пятнадцать-двадцать минут.
Она положила справку. Пауза была леденящей.
– Сукцинилхолин, – повторил Корнев, чувствуя, как в голове щелкает очередной логический затвор. – Его сложно достать?
– Для врача, медсестры, ветеринара, сотрудника лаборатории или музея с соответствующими коллекциями – нет. Для обывателя – практически невозможно. Это рецептурный препарат строгого учета. Но, как всегда, есть лазейки. – Соколова откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. – Ваш субъект не сопротивлялся. Его уложили на стол, ввели препарат. Через несколько минут, когда наступил полный паралич, но сознание, вероятно, еще сохранялось, приступили. Вскрытие было проведено при жизни. Смерть наступила в течение трех-пяти минут от начала операции.
Корнев представил это. Тихо. Без криков. Только скрип паркета под ногами убийцы, возможно, тихое шипение шприца, собственное дыхание жертвы, которое становилось все поверхностнее, пока не остановилось вовсе. И молчаливая, методичная работа. Как на уроке. Как на экзамене.
– Это медицинская точность, – сказал он вслух, больше для себя.
– Это медицинское преступление, – поправила Соколова. – Разница существенна. Ваш убийца не врач. У врача был бы другой почерк. Более… экономичный. Это работа человека, изучившего анатомию по учебникам и, возможно, на практике, но не в клинике. Он копировал. Он следовал схеме, возможно, даже иллюстрации из старого атласа. Он старался, чтобы было красиво. По канонам.
«По канонам». Слово Волкова снова всплыло в памяти. Реставратор. Копиист.
– Значит, он готовился, – пробормотал Корнев. – У него было все: препарат, инструмент, знание анатомии, доступ в музей ночью…
– И спокойные нервы, – добавила Соколова. Ее тон не изменился, но в глазах мелькнуло что-то похожее на профессиональное любопытство. – Это первое?
– Первое такое, да.
– Поздравляю. Вам повезло. Большинство всю карьеру режут пьяные дебоши. А вам достался художник. – Она снова повернулась к микроскопу, явно давая понять, что разговор окончен. – Будьте осторожны, Корнев. Такие художники часто пишут сериями.
Ее слова повисли в стерильном воздухе, как диагноз. Корнев вышел, и холод подвального коридора показался ему теперь внутренним. Он чувствовал себя не следователем, а студентом, которому выдали слишком сложную задачу. И в этом ощущении, стыдном и горьком, пробивался странный, возбуждающий интерес.
***
Вечер застал его снова у гранитного фасада музея. Он не планировал возвращаться. Просто сел в машину, и руки сами повернули руль сюда. Окна здания были темными, лишь в одном из них, на первом этаже, вероятно, в комнате охраны, тускло светился желтый квадрат. Он представил, как Маргарита Павловна, сменившая, наверное, дневную уборщицу, ходит по темным залам с ведром и тряпкой, шепча молитвы. Он не позвонил, не предупредил. Просто использовал служебный ключ, выданный на время расследования, чтобы открыть небольшую калитку для персонала сбоку от главного входа.
Скрип железа прозвучал оглушительно в вечерней тишине набережной. Внутри пахло по-другому. Днем запахи были приглушены людьми, светом, движением. Сейчас они выползали наружу: древесина, воск, пыль, камень, и под ними – тот самый сладковатый запах тления, который, как он теперь понимал, исходил не только от бумаг.
Он не пошел в Зал судебной медицины. Вместо этого он направился в Зал 1: «Средневековое правосудие и пыточные орудия». Инстинкт? Или логика? Если убийца реконструировал старые дела, то где-то здесь, среди железных дев, дыб и гаррот, могла быть зацепка. Не та, что бросается в глаза, а та, что осталась на периферии. Как обломок керамики.
Он включил мощный фонарик. Луч, резкий и белый, резал бархатную темноту зала, выхватывая из мрака фрагменты кошмара: оскал маски позорного столба, тусклый блеск цепей, острые зубья железной гребенки для пыток. Воздух здесь был еще холоднее, словно холод исходил не от температуры, а от самой сути экспонатов. Корнев двигался медленно, стараясь ступать бесшумно. Скрип паркета под его ботинками казался предательским.
Он проверял витрины одну за другой. Стекло было чистым, без отпечатков. Экспонаты лежали на своих местах, аккуратно, как учил Волков. Но его взгляд, уже настроенный на поиск диссонанса, искал что-то, что не вписывалось в эту мертвую гармонию.
И нашел. На витрине с коллекцией средневековых кандалов и наручников, в правом нижнем углу стекла, была царапина. Неглубокая, но свежая. Белая, не успевшая заполниться пылью. Она шла под углом, примерно в пять сантиметров длиной. В протоколе осмотра зала после убийства этой царапины не было. Ее могли сделать оперативники, но они работали в других залах. Или уборщицы. Но царапина была на уровне колена, в неудобном для случайного повреждения месте.
Корнев присел на корточки, направив луч фонарика прямо на повреждение. Под определенным углом свет выхватил не только саму царапину, но и мельчайшие блестки вокруг нее. Осколки стекла? Нет. Что-то другое. Металлическая пыль? Он достал из кармана чистый зип-пакет и кончиком пинцета аккуратно собрал несколько крупинок. Они блестели в луче фонарика тускло, серебристо-серым.
В этот момент где-то в глубине здания громко щелкнул выключатель. Звук был сухим, одиноким, и за ним последовала полная тишина. Или нет. Корнев замер, затаив дыхание. Ему почудился шорох. Не скрип паркета, а именно шорох, как будто кто-то перелистывает страницы в соседнем зале. Или перетаскивает что-то мягкое, тяжелое по полу.
Он резко выключил фонарь. Темнота нахлынула, густая, почти осязаемая. Она давила на глаза, на барабанные перепонки. Корнев прислушался. Сердце стучало где-то в горле, громко, неровно. Он пытался дышать бесшумно, через рот.
Тишина. Та самая звонкая, напряженная тишина музея ночью. Но теперь она была наполнена не пустотой, а присутствием. Кто-то был здесь. Может быть, с самого начала наблюдал за ним. Может быть, ждал.
Он не двинулся с места. Просто сидел на корточках в темноте, лицом к витрине с кандалами, и чувствовал, как холод от мраморного пола просачивается через брюки, поднимается по ногам, сковывает спину. Он был и охотником, и добычей. И понимал, что игра, которую он начал считать своей, на самом деле шла по чужим, еще не понятным ему правилам. А единственной новой уликой были несколько крупинок серебристой пыли в пакете, зажатом в потной ладони.
Второй акт
Шум начался еще до рассвета. Не крики, а сдержанный, деловой гул голосов, прерывистые переговоры по рации, визг тормозов под окнами отдела. Корнев, дремавший в кресле у себя в кабинете над раскиданными фотографиями и схемами, вздрогнул и выпрямился. Шея затекла, во рту был противный, медный привкус бессонницы. Он посмотрел на часы. Пять утра. Звонок на рабочем телефоне разрезал тишину вибрирующим, назойливым треском.
– Корнев? Высылай группу. Музей. Второй. – Голос Ставицкого был сдавленным, в нем булькала ярость, едва сдерживаемая. – Журналист. Тот, что вчера названивал, Малышев. Нашли в железной бабе. В прямом смысле.
Корнев почувствовал, как желудок сжимается в холодный комок. Не удивление. Предчувствие. Художник пишет сериями. Слова Соколовой отозвались в висках тупым ударом.
Дорога до музея промелькнула в серой, предрассветной мути. Город был пуст, фонари отбрасывали на мокрый асфальт маслянистые, желтые круги. В голове стучало одно: реагирует. Убийца следил. Читал новости, которых еще не было в печати, но которые уже гуляли в кулуарах. Игорь Малышев. Цепкой, не талантливый, но амбициозный падальщик от криминальной журналистики. Он звонил Корневу вчера днем, голос настойчивый, сиплый от сигарет: «Сергей Валерьевич, там же контекст! Музей – это символ! Давайте встретимся, я нашел кое-что по старым делам…» Корнев отмахнулся, вежливо, но твердо. Теперь он сидел в машине и грыз изнутри себя за эту вежливость. Надо было согласиться. Вывести его на свет. Защитить. Или использовать как приманку. Теперь поздно.
Музей стоял, окутанный сизым, сырым туманом, поднимающимся с реки. Гранитные стлы казались мягкими, размытыми, но от этого еще более неприступными. У главного входа уже толпились люди в форме и без, мигали синие огни. Ставицкий, в расстегнутой шинели, жестикулировал, отдавая распоряжения. Его лицо в холодном свете фар было землистым.
– Всё, – бросил он Корневу, когда тот подошел. – Всё, конец тихой гавани. Пресса уже в курсе. Через час тут будут съемочные группы. Ты хоть понимаешь, что ты упустил?