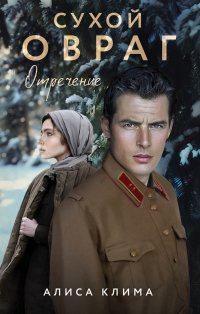Читать онлайн Эмиссары. Фермион Марии бесплатно
- Все книги автора: Алиса Клима
Дизайн обложки Янины Клыга
Иллюстрации на форзацах Елены Вартанян
© Клима А., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
От автора
Дорогой читатель!
Что такое «Эмиссары»?
Роман? Да. Историческая эпопея? Да. О любви ли он? Несомненно. О любви земной, гражданской, братской и божественной… Есть в романе еще Время и Метафизика. Время – тоже герой повествования, а Чудо – часть нашей личности, которую мы вызываем на помощь для борьбы с Судьбой. И что тогда Чудо? Божественный промысел или способность человека верить и побеждать? Или и то и другое?.. Как две стороны одной медали…
«Эмиссары» – необычное, по форме уникальное художественное произведение, в котором сочетаются приемы, обычно не использующиеся в беллетристике. Именно поэтому предисловие кажется уместным и нужным.
Прежде всего, роман состоит из нескольких книг и охватывает значительный период времени: с 1861 года до наших дней, с перерывами между эпохами.
Во-вторых, в романе описываются реальные события и присутствуют как исторические личности, так и вымышленные персонажи, взаимодействующие друг с другом.
Наконец, художественный текст опирается по меньшей мере на 107 источников, демонстрируя переплетение форм и жанров: лирику, анализ, философию, мистику – все грани жизни. Авторское высказывание порой заканчивается цитатой мемуариста. Речь героев состоит из авторского текста и цитат из их же, исторических лиц, воспоминаний, как бы возрождая и оживляя человека, некогда участвовавшего в важных для нашей Родины и мира событиях.
Иными словами, «Эмиссары» – немного волшебный роман: в нем оживают те, кто оставил нам свидетельства, и оживают с собственными, ими изложенными мыслями…
Хочется остановиться на некоторых особенностях подробнее.
Этот роман был бы невозможен без сносок, ведь каждая цитата имеет указание на источник. Сноски подразделяются на четыре вида: с расшифровкой имен определенных исторических лиц (прикреплены к именам соответственно); атрибутивные сноски к цитированию (прикреплены к кавычкам цитат); пояснительные и постраничные – с переводом текста на иностранном языке.
Но не пугайтесь! Я даже советовала бы не отвлекаться на первые два вида сносок: они дают лишь общую, дополнительную информацию об историческом лице или источнике информации. Пояснительные сноски могут оказаться полезными в процессе чтения, но их значительно меньше, и они все приводятся внизу страниц.
В книге также содержатся QR-коды, глубже раскрывающие некоторые важные, интересные темы.
В конце книги прилагается список использованной литературы, который дает дополнительное представление о номенклатуре историографии, базисе содержания, а также служит авторской рекомендацией для самостоятельного изучения читателем приведенных в перечне трудов.
Почему вообще было решено использовать указание источников?..
Действительно, в прошлом беллетристы либо перерабатывали тексты источников в оригинальный авторский текст, либо брали текст в кавычки без указания источников (так или иначе, источники указывались редко и не во всех случаях).
Однако это была пора, когда в жизнь читателей еще не вошел Интернет и необъятное разнообразие «контента», информации и данных, доступных, как говорится, по щелчку.
Современный читатель – читатель пристрастный, искушенный, информационно и технологически подкованный и внимательный к деталям. И следовательно, он может не согласиться с каким-либо авторским суждением, тезисом или информационными данными. Наличие источников позволяет понять, кто автор оригинальной информации, изучить исходный документ подробнее и сделать обоснованные выводы.
Приведу пример. Читатели проявили живой интерес к моей трилогии «Сухой овраг», также основанной на исторических событиях, и отмечали «исторические отсылки и вставки… гигантскую работу мысли и души»1. Однако были и вопросы к тому, какие материалы использовались… Отчасти эти потребности покрывались за счет QR-кодов с предложенными небольшими статьями, дополнительными сведениями.
Но вопросы такие оправданны и естественны.
Сегодняшний читатель хочет иметь «дорожную карту» исторической книги (пусть это и роман), понимать, каков, образно выражаясь, под ней фундамент, из какого состава изготовлены кирпичи, какова пропорция песка и цемента в адгезиве – не водит ли автор за нос. К тому же читатель прав в своем пристрастии. Ведь нам известны произведения, где присутствуют не одни лишь безобидные фантазии писателя, помещающего историческое лицо в новый (художественный) контекст, но и случаи искажения фактов не в пользу, так сказать, героя. Было бы спокойнее, если бы вымышленные факты служили сохранению доброго имени ушедшего человека, за которого порою некому постоять. Но встречаются и малоприятные выдумки, которых достаточно и без беллетристов. Молва жестока, а мифы устойчивы…
Таким образом, в «Эмиссарах» вопрос кажется решенным, и дорогих любому исследователю педантичных обладателей «Эмиссаров» ждет сюрприз – сотни сносок!
Кроме того, об описываемых событиях мы знаем далеко не все, и далеко не все архивы открыты и доступны; имеется немало лакун, которые заполняются постепенно благодаря неустанному, самоотверженному труду историков, исследователей, биографов и постепенной публикации и оцифровке архивных материалов… Оставляя «следы» в виде сносок, я стремилась облегчить сложный путь подбора материалов – нередко разрозненных, хранящихся в различных фондах, в разных городах и даже странах и континентах.
Разумеется, «Эмиссары» – не монография и не исследовательский проект, но вместе с тем они повлекли значительное штудирование тысяч страниц монографий, мемуаров и прочего, представив в конце концов концентрат в виде художественного воплощения сложного замысла.
В процессе работы становишься то историком и биографом, то искусствоведом и культурологом, то экономистом и политологом, то психологом и метафизиком… Это неизбежно в заданном формате и хронотопе произведения. Именно поэтому ссылки сослужат добрую службу пытливому, консервативному читателю для погружения и изучения и не помешают более либеральному скользить по тексту без «запинок» и оглядки.
К специфике книги стоит отнести также наличие текста на иностранном (чаще французском) языке и редко употребляемые в обиходе термины, например балетные, архитектурные, устаревшие и т. д. Они подробно объясняются в сносках. Текст на иностранном языке дается в переводе.
Это – все по сноскам, и, пожалуй, самое важное.
В дополнение отметим, что в ходе более чем двухгодичной работы над книгой проведено не только исследование многочисленных документов и литературы, но и обследованы почти все физически доступные объекты, упомянутые в книге, включая «живые» и заброшенные церкви, дворцы, усадьбы, дворы, вокзалы, станции и даже клубы, аукционы, места общепита и торговые точки; прослушано 1100 часов онлайн- и очных лекций, в том числе в виде экскурсий; проведено множество консультаций с историками, искусствоведами, авторами книг по исследуемым темам, биографами и специалистами институтов и музеев. Особенно приятным было соприкосновение с фактурой изучаемых объектов искусства, включая балетные и оперные постановки.
Однако, несмотря на документальную основу произведения, его сквозная фабула остается вымышленной. Кажется, что такая многопрофильная проза не поддается жанровому определению. Может ли исторический роман-эпопея быть сентиментальным и остросюжетным? Думаю, читатель найдет там всё.
Но что же стоит за названием «Эмиссары»?
Однажды, в передаче искусствоведа Николая Солодникова, я услышала о книге Евграфа Васильевича Кончина «Эмиссары восемнадцатого года».
Заинтересовало. Что за эмиссары такие? Оказалось, что в официальном советском мандате так именовали тех, кто должен был обеспечить в годы революции и гражданского противостояния сохранность культурных ценностей России.
С этого начались «Эмиссары».
Но… позднее выяснилось, что аналогично называли и наших военных представителей в разных странах.
Много значений, много глубоких смыслов – широко поле. Непростая история. Ухватившись за эту ариаднину нить, выпустить ее из рук стало невозможно.
Она берет начало во времена правления Александра II. Вот и познакомимся получше с этими загадочными эмиссарами. И читатель сам, думаю, рано или поздно ответит себе на вопрос, кто они есть!
Искренне ваша,
Алиса Клима
Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно[1].
Часть 1. Увертюра
Глава 1. Накануне
– Как думаешь, Саша, мама́ знает про роман папа́? – Алеша смотрел на брата, как мальчик, который не понимал смысла того, о чем говорил, но чувствовал что-то неприятное и враждебное в знании, скрываемом ото всех (и прежде всего, от матушки): отец встречался с молодой женщиной за спиной боготворимой и любимой всеми матери.
– Замолчи! – буркнул грузный и высокий для своих шестнадцати лет юноша. – Страдания душки Ма – вот все, что можно думать об этом. Мне нет дела до той женщины!
– Она хороша? – Оля, как нарочно, спросила с азартом, верно чувствуя, что в вопросе адюльтера дядюшки крылось много запретных, а стало быть, любопытных подробностей. Оле было десять лет, но Сашу она не боялась: кто не знал, что за его грозным видом скрывался кроткий нрав? – А? Хороша?
– Оля! – оборвал ее Саша. – Хоть ты, голубчик, запрети всем обсуждать это, – обратился он следом к старшему брату с мольбой, нежностью и одновременно свирепостью, происходившей больше от сломавшегося уже, будто немного простуженного голоса.
Так говорили дети, сидя вокруг большого костра на опушке леса. Николай – старший среди них – отрешенно ворошил костер длинной палкой. Его вытянутое лицо с большими, бледными, слегка опущенными во внешних уголках глазами и узким носом с небольшой горбинкой, казалось всегда немного меланхоличным и вместе с тем спокойным и даже величественным. В нем проступало редкое сочетание хладнокровного интеллекта и добросердечности.
– Поговорим лучше о вашей фотографии в салоне, – Николай лукаво улыбнулся. – С кем решили идти?
Альберт (тоже шестнадцати лет), похожий чем-то на ежа сухопарый юноша, с уже проросшими маленькими усиками, тонкогубый и будто всегда ироничный, покосился на Сашу.
Саша казался раздосадованным, но тихо ответил:
– Папа́ позволил идти в «Светопись» с Володей, Берти и Рома́новским сразу после Рождества. Не желаешь?
– Его мысли теперь все о женитьбе, – ухмыльнулся Альберт. – Хотя зачем в целом жениться, да при том на достойной девушке, если не быть ей затем преданным?
– Я бы не хотела замуж! – снова влезла Оля. – Ведь не смогу раздевать елки, и конфеты станут получать другие дети. А конфеты поважнее!
Саша уставился на пламя. Будто смотрел сквозь него.
Как можно предвидеть свою судьбу даже на час вперед, знать что-то о ней или тем более о судьбе своих детей или внуков?
Разве могла предположить мама́, бросая все прежнее и привычное, родное и любимое ради жизни с папа́, что родит ему много детей и потом будет слышать от «доброжелательных» знакомцев мимоходом и небрежно брошенные намеки на встречи ее супруга с любовницей в комнатах собственного дома.
И вот теперь даже бестолковая кузина, ничего еще не понимающая ни в супружестве, ни в жизни, вольна всуе говорить о постыдном деле уважаемого отца – его увлечении барышней, да еще много моложе его! Это вызывало особенную боль именно за матушку, прекраснее которой не было на свете не то что женщины, но вообще человека.
Как может быть уверен старший брат, что выбор будущей супруги обернется счастьем и что не станет жизнь невыносима на второй же после венчания день? И что при всех его благородстве и светлом уме не удостоится он, обзаведясь детьми и взыскательным положением, ловить потом ничтожные развлечения с ее розовощекой dame compagnon?[2]
– Я хотел бы знать свою судьбу, – произнес Саша будто невпопад.
Альберт и Николай улыбнулись его наивности.
– Саша всегда был романтиком, – Николай тихо засмеялся, зная, как Саша уже бессильно злился в душе.
– А я свою знаю, – заявила Оля с хвастовством ребенка. – Я стану сестрой милосердия и выйду замуж за самого красивого кавалергарда[3].
Мальчики загоготали и на несколько минут затихли.
– Зачем тебе знать судьбу? – Альберт подмигнул Николаю.
Саша казался угрюмым и смешным, похожим на крестьянина, бросившего на опушке дровни, чтобы погреться у барского костра. Но почему-то надевшего будто снятую с чужого плеча подбитую бобром, с коричневым2 бобровым же воротником «николаевскую шинель»3.
– Не знаю… На ферме Аполлинария Никифоровна давно говорила, что раньше люди владели тайнами изменения судьбы. Она сказала, что на Святки на Царицыном лугу4…
– Саша! – Николай прервал его смехом, впрочем, сочувственным. – Ты милейший из всех родных. Но как можно верить сказкам безграмотных крестьянок?
Саша опустил ресницы. Он любил, даже боготворил брата, но не видел ни в нем, ни тем более в других домочадцах ни малейшего сочувствия его чаяниям. Да и знали ли об оных?..
И эта история с изменой папа́! Какая противная пошлость! Хотелось бежать из дома, затеряться в толпе и стать другим человеком…
– Пора возвращаться, – Николай поднялся.
– Еще денек, и нам дадут много конфет и пряников! – Оля захлопала в ладоши. – Саша, что ты подаришь мама́?
– Я нарисовал ей картину! – воскликнул вперед всех Алеша.
– Саша станцует, – захохотал Альберт, зная, что тот своего тела стеснялся и не любил танцевать.
Молодежь принялась весело тушить костер. Все ждали, что Саша, как самый сильный и могучий среди них, принесет сейчас мокрый валежник и задавит костер одним махом.
Они двинулись через пролесок и вышли на лужайку, за которой на холме виднелся сияющий желтыми окнами во тьме их загородный дом – Гатчинский дворец5.
Среди детей трое были родными братьями: Николай (Никс или Никса) – уже совершеннолетний старший сын государя Александра II – будущий император, следовавший за ним Саша и младший из собравшихся братьев одиннадцатилетний Сейчик (так прозвали с рождения похожего на херувима голубоглазого Алешу). Оля – обожаемая племянница государя по брату и сподвижнику Константину Николаевичу – любила проводить время с кузенами и по возможности избегала скромных, тихих девичьих игр и увлечений. Альберта Саксен-Альтенбургского – сына немецкого принца Эдуарда из Саксен-Хильдбургхаузена и родственника Романовых по женам-немкам6, пригласила провести зимние праздники в Петербурге добрейшая «душка Ма» – императрица Мария Александровна.
Саша обожал Никсу, пребывая в восхищении от любого слова или дела брата, а Оля и Сейчик обожали Сашу за его непосредственность и доброту ко всем и неумение никого нарочно задеть, осудить или оценить. Альберт, к его чести, будучи возрастом равным с Сашей, но ниже по положению, не показывал в своем отношении с венценосными товарищами никакой разницы, умел шутить с серьезным лицом и нравился всем этим навыком сочетать ироничность с благодушием.
Саша в 1860 году нашел два увлечения: игру на корнет-а-пистоне и фотографию. И особенно хотел ехать в «Светопись» Левицкого7 на Невском завтра после службы, но не для того, чтобы позировать, – он как раз ужасался всяким выступлениям, позерству и необходимости в бесконечных осенне-зимних светских раутах танцевать на подростковых[4] балах, где каждая девочка стремилась подражать дамам beau monde, говорить правильно и казаться привлекательной в свои тринадцать лет, а для того, чтобы до и после сеанса Левицкий позволил смотреть удивительные приспособления: изобретенный им фокусировочный мех и мокроколлоидный способ фотографирования.
«В России церковь мрачно относилась к фотографии. Духовник отца священник Боженов сказал: «Бог создал человека по своему подобию, и никакой аппарат не смеет зафиксировать подобие Бога»8. Однако остановить это греховное чудо никто не мог и не желал.
С детьми намеревался ехать родной брат государя, несчастный в браке дядя Низи9, над которым, не стесняясь, любили подшучивать Володя (третий по старшинству сын государя) и Оля, несмотря на постоянные укоры помощника воспитателя Саши и Володи Николая Павловича Литвинова10. Государь поручил дяде Низи и Литвинову везти молодежь с собственным конвоем завтра утром в Петербург и велел оставаться и ждать уже там возвращения из Гатчины остальных.
Государь иногда испытывал подспудное чувство вины перед Сашей и младшими сыновьями за недостаток с его стороны внимания: вся опека с давних пор направлялась на Никсу – наследника и будущего российского императора. Потому он и шел порой на поводу у Саши, в просьбах которого находил ребячество и капризы. В этом его без стеснения убеждал и Литвинов, считавший Сашу для своих лет незрелым и недостаточно воспитанным.
Накануне сочельника, завершавшего Рождественский пост, предстояло много визитов, которые требовали огромных усилий от каждого вовлеченного и сами по себе были целой индустрией и неукоснительной обязанностью всех сторон. Помимо les grands bals[5], государь, будучи либеральным и все еще молодым мужчиной, находил радость в посещении детских и отроческих праздников, особенно у Шереметевых и Шуваловых, кои по задумкам изобретательных хозяев славились весельем и затейливостью. Рождественский сочельник же повелось встречать в Гатчине еще со времен Николая Павловича.
Многие недолюбливали Гатчину, потому что сюда перевезли постель убитого Павла I, «безобразные портреты которого»11 развесили повсюду в парадных залах второго этажа.
Но это скорее касалось старшего поколения. Дети Гатчину обожали: чудесный парк, просторы и много света давали раздолье для шалостей.
Царская семья занимала левое крыло дворца (со стороны Арсенального каре): Александр II с супругой жили на первом этаже, а великие князья, княжны и старейшие статс-дамы – на втором. «В правом корпусе помещалась свита и служащие; …многочисленные, ежедневно сменяющиеся в Гатчине гости: министры и другие сановники…»12
Саша, желая уединиться, прошел к винтовой лестнице в покоях почившего в Бозе дедушки Николая. Он услышал наверху тихие голоса и замер. Голоса эти были знакомы ему и слышаны сотни раз. Один из них принадлежал папа́, а другой – княжне Долгорукой13, фрейлине мама́.
Саша вспыхнул.
– Tu iras assurément à Elaghine, – настойчиво шептал государь. – Marie ne sera pas là et nous pourrons passer encore un peu de temps ensemble après mon passage chez les Cheremetieff[6].
– Я страшно скучала весь вечер, – ответила любовница, и над лестницей наступила тишина, которая в подобной ситуации могла означать лишь возникшую ласку.
Саша повернул обратно и, стремительно пройдя через всю длинную гостиную Арсенала, заполненную семьей и окружением, не обращая внимания даже на призыв мама́, а, может, в особенности на ее призыв, не смея взглянуть ей в лицо, поднялся по мраморной лестнице Арсенального каре в апартаменты, определенные для него и Володи в «квартирах» дворца.
Там он рухнул на кушетку и растер лицо. Сердце стучало от стыда за отца и боли за матушку. Сложнее всего давалось понять папа́ и примирить любовь к нему и обиду за такое гадкое отношение к матушке, ее унижение этими ничтожными связями, продиктованными неуемной отцовской похотью и страстью к женщинам; объяснить себе непонимание отцом всего ужаса по отношению к семье своего блудливого нрава – при всех его доброте, уме и честности в делах государственных, которые, напротив, вызывали гордость.
«Как хорошо было бы родиться в другой семье, – подумал Саша со всей страстностью. – И хорошо еще и потому, что все эти узкие обязанности положения мгновенно бы утратились в пользу свободы жить собственной желанной судьбою».
Участь в семье год от года казалась все тягостнее. Он не любил охоту, не любил строй, балы и войну, не любил политику и не выказывал терпения в учебе. Особенно балы, охота, строй и война виделись столь же невыносимыми, сколь и в их мире неизбежными.
Саша слыхал дворцовые притчи. Что и двоюродный дедушка Александр I, и родной дедушка Николай I – оба не вынесли груза этой роли правителей самой большой страны в мире, чьи границы требовалось беспрестанно охранять, а часто и расширять силою штыка, и что непереносимость этого груза и стала истинной причиной их преждевременной смерти.
Из придворных сплетен следовало, что Александр I, мол, настолько страстно грезил отречением, что его матушка Мария Федоровна в сердцах записала в дневнике разговор с сыном, который будто бы сказал: «Как я буду радоваться, когда увижу вас проезжающих мимо меня, и я в толпе буду кричать вам «ура!», размахивая своей шапкой»14.
Александру I исполнилось двадцать четыре года, когда он взошел на трон вслед за убитым Павлом I «в окружении льстецов, женщин и интриг, но у него хватило сил на то, чтобы всегда оставаться человечным и благожелательным. Вначале он был привержен либеральным и конституционным идеям; направляя ими принципы управления, он искал изменений, полагая, что находил улучшения. Он предавался любви. Ему нравилась политика, но она не стала для него главным занятием. Он позволил вовлечь себя в войны и завоевания, хотя всячески стремился их избежать. Он искал славы и оваций либеральной Европы. Он даровал конституции Польше и завоеванной Финляндии, раздражая свой собственный народ и сея зерна оппозиции и недовольства у своих подданных. Затем он вернулся к принципам деспотизма, гипертрофированной религиозности, сектантским взглядам, мистицизму.
Недовольный настоящим, не уверенный в будущем, строгий к самому себе, он стал несчастливым, потерял вкус к жизни и к своему могуществу. Он умер в скорби о потерянных иллюзиях и в предвидении будущих бедствий»15.
Какие же русские цари не умирали «в скорби о потерянных иллюзиях и в предвидении будущих бедствий»? Лишь те, что покинули мир внезапно или не по своей воле. Прочие же скорбели, так и не решившись предпринять что-либо радикальное для предотвращения «бедствий»…
Дворцовые «знатоки» шептались, когда папа́ начал продвигать преобразования, что государь взваливает на себя непосильную и неблагодарную ношу реформатора в России и что даже его сильный и самодержавный отец Николай Павлович не вынес ярма власти и намеренно застудился под конец, делая в лютый мороз несколько подряд смотров в Манеже16, без шинели, будучи уже больным инфлюэнцей, дабы умереть и покончить со страданиями. И что он решил так не только и не столько из-за неудач армии под Севастополем и Евпаторией, а оттого, что эта судьба самодержца изначально тяготила и не переставала его тяготить все правление.
На следующий после вынужденного принятия присяги день, 14 декабря, Николай Павлович написал сестре: «Молись за меня Богу… Пожалей несчастного брата – жертву воли Божьей и двух своих братьев»17.
Посему напрасно, по мнению некоторых приближенных, включая фрейлину Тютчеву18, сестра дедушки великая княжна Мария Павловна обвинила лейб-медика и тайного советника императора Мартына Мартыновича Мандта в отравлении монарха, руководствуясь тем, что тот якобы шел на поправку в момент начала агонии и что затем запретил вскрытие19. Альковные аналитики молодого поколения считали, что если Николая Павловича и отравили, то с собственного согласия, и именно поэтому вскрытие он запретил.
Саша доверял размышлениям Анны Федоровны. Она казалась самым умным, образованным и честным человеком среди всех фрейлин недавно ушедшей из жизни бабушки Александры Федоровны. Не потому ли некоторые «прихлебатели» Тютчеву презирали?
Хотя поэт Федор Тютчев похлопотал за место для дочери, Тютчеву, «как девушку благоразумную, серьезную и не особенно красивую»20, в свою свиту выбрала мама́, причем исключительно по письмам к Карамзину, увидев в них состоятельное «литературное развитие»21.
Теперь с конца пятидесятых Анна Федоровна служила гувернанткой при «маленьких»: Даки, Геге и Пице[7].
Саша любил беседы с Тютчевой – сердечной, искренней и наблюдательной девушкой в этом сонме лицемерных, истеричных, ловких дам. Именно она всерьез задумалась о более глубоких причинах скоропостижного ухода из жизни дедушки Николая, помимо тех пустяковых, что муссировали прочие царедворцы и члены семьи:
«В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которые он воображал, что поднял Россию. И тем не менее именно среди кризиса последней катастрофы блестяще выявилось истинное величие этого человека. Он ошибался, но ошибался честно, и, когда был вынужден признать свою ошибку и пагубные последствия ее для России, которую он любил выше всего, его сердце разбилось, и он умер»22.
Но принял смерть с величайшим спокойствием и достоинством, нередко повторяя при верном Бенкендорфе23: «Меня охраняет сам Господь, если я больше не буду нужен России, он меня призовет»24.
Ведь дедушка изначально не только не желал правления, но и уговаривал всячески старшего брата Константина Павловича не отрекаться и принять власть.
Когда Александр I (за два года до внезапной и таинственной смерти в Таганроге) подписал секретный Манифест, согласно которому обнародовалось отречение от трона Константина и назначение Николая Павловича наследником, тот, редко писавший в дневнике, на сей раз не удержался и записал: «Государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения»25.
А что же Константин Павлович, о котором мечтала всесильная гвардия, руками, ногами и шарфами которой совершались все предыдущие перевороты?
Гвардия требовала на трон Константина, ибо присвоила ему способности в либеральных начатках. Наполеоновские войны заставили историю громко кричать о необходимости реформ в России. Уже созрел заговор, который кончился восстанием декабристов на Сенатской площади. Сам Николай Павлович умолял брата взять трон и даже приказал гвардии присягнуть Константину, только узнав о смерти Александра в Таганроге.
Но Константин сбежал! Умчал в Варшаву, и никакие уговоры и письма, мольбы матери не заставили его ногу ступить в Петербург. Отказался возвращаться, даже чтобы прилюдно отречься, – так страшился, что его уговорят стать царем26.
И дедушка Николай принял ношу, в тот же день вынужденный принять и вызов бунтовщиков. В день 13 декабря, когда Николай Павлович присягнул, ему принесли и конверт с сообщением о заговоре гвардейцев. И уже 14 декабря началось.
Тот день никто из взрослых членов семьи Романовых позабыть не смог. Страшная ночь навсегда отметила прекрасное лицо Александры Федоровны нервным тиком27, с годами затихшим, но никогда полностью не излеченным, проявлявшимся особенно в минуты волнения. «Нервные конвульсии безобразили черты ее лица, заставляя иногда даже трясти головой»28.
Спустя много лет, 14 июля 1839 года в день свадьбы ее дочери и внука Наполеона Бонапарта по Жозефине Богарне припадки Александры Федоровны повергли маркиза де Кюстина (колесившего в то время по России) в сострадание: тот принял конвульсии за признак чрезмерного волнения и усталости императрицы.
Не забыл тот день и маленький еще наследник – теперешний император Александр II.
И если почти всех предков постигла неожиданная судьба лишиться власти без согласия на то или, наоборот, принять под ответственность Россию, не желая того, то и над ним – Сашей – по злому стечению обстоятельств тоже могла посмеяться судьба.
Но Саше нравились красота и простота. И в самой простоте он находил красоту. «Все, что выходило из его ума, из его души – было просто, ясно и чисто. Можно, конечно, говорить, что это есть свойство детской души; что и для детей все представляется ясно, просто и чисто, и все, что не ясно, и не просто – им недоступно»29.
Но дело было не в уме, ибо ум как рассудительность не обладает чувствительностью, необходимой для созерцания и созидания красоты и добра. Ум Саши произрастал из сердца: то есть был лишен гордыни, но наделен состраданием.
Он любил природу, любил рисовать и смотреть на рисующих художников, любил музыку и мог слушать ее долго и терпеливо, блуждая в слоях недоступной сознанию реальности. Его любимым поэтом за страсть и печаль стал Лермонтов.
Саша хотел созерцать жизнь глазами обычного человека. Это желание все чаще посещало его теперь именно потому, что все придворное представлялось тягостным и душным само по себе, а измены папа́ толкали чуть ли не бежать инкогнито в никуда. Если б то стало возможно, сколько всего грустного не случилось бы с ним при дворе.
Да и кому бы навредило?
Он не был любимым сыном в семье: отец занимался наследником, с младенчества готовил того к правлению Россией, а Саша оставался «резервом» у императорского трона; мать обожала, боготворила Никсу, все менее удостаивая лаской остальных детей. А Саша являлся тяжелой тенью брата.
И это складывалось хорошо и правильно, потому что Никс был создан для того, что вызывало лишь апатию у него, у Саши. Кроме того, за ним следовали и Владимир, и Сейчик, и Серж, и Паша! Никто бы не заметил его исчезновения из венценосной конструкции. «Папа́ позаботился о запасных…» – как метко пошутил как-то Берти.
Но позаботился в значительной мере лишь количественно. Что же до качественного воспитания и образования «резерва» русского трона, тут дело обстояло, по мнению (уже разжалованного) главного воспитателя великих князей Зиновьева30 и придворного историка Татищева31, непростительно кисло.
Зиновьева, назначенного на руководство образованием великих князей с их малых лет (по мере взросления последних), отодвинули в сторону влиятельный и умный граф Строганов32, определенный главным наставником при Никсе, и честолюбивый Гримм33, занимавшийся Сашей, Володей и Алешей. И если первый представлял собою незаурядного русского мыслителя и государственного деятеля, то второй оставался при детях лишь благодаря протекции Александры Федоровны и влиянию Гримма на мнительную Марию Александровну.
Положение Гримм снискал еще при Командуре34. Государь же, некогда имея в собственных наставниках блестящего Жуковского, не нашел ничего лучше, чем вызволить вернувшегося в Дрезден Гримма для приставления его к «младшим».
Саша и Володя росли подвижными, любознательными и веселыми детьми. И обстоятельства поистине сложились не в их пользу не только потому, что сам Гримм и все до единого преподаватели основных дисциплин оказались иностранцами, но потому, что относились к своей работе те сухо и формально, постепенно убивая у мальчиков жажду к знаниям и усердие.
Сменивший после смерти императрицы-матери немца Гримма Перовский35 улучшил ситуацию с обучением и воспитанием Саши и Володи, но не столь качественно, сколь требовалось. Да и время было упущено. Саше исполнилось четырнадцать.
Этой замене предшествовали конфликт и душевная драма, в которой Зиновьев проявил смелость и искренность, если не сказать любовь.
Отодвинутый Гриммом от воспитания Саши и Володи, Зиновьев в совершенном уже отчаянии решился отправить императрице полное претензий и горечи смелое письмо, в котором открыто высказался, что все силы родителей направлены на Никсу: «Прочие Ваши дети остались в пренебрежении. Преподаватели без наблюдения за ними, без поощрения становились все более и более равнодушными к своим обязанностям; дети – менее чем когда-либо усердными к труду, на что я счел долгом неоднократно обращать Ваше внимание ‹…› Неужели Ваши два сына – Александр и Владимир – должны одни страдать от этого несчастного стечения обстоятельств? Они еще настолько молоды, что успеют наверстать потерянное время, если искусная, твердая, опытная в деле воспитания рука – а последнее условие, по мнению моему, необходимо в хорошем инспекторе классов – умело возьмет бразды их ученья и заставит их трудиться»36.
Но Мария Александровна письмо проигнорировала, чувствуя к Зиновьеву неприязнь, порожденную наветами Гримма.
Тем временем Зиновьев подал императору прошение об отставке, снабдив его подробными объяснениями. При встрече государь заплакал и поначалу воспротивился прошению. Приставил к Гримму Строганова, который, несмотря на заискивания немца, полностью подтвердил опасения Зиновьева.
В итоге достигли компромисса: государь согласился с отставкой Зиновьева, чтобы удовлетворить супругу, а та согласилась на отправку Гримма от детей.
Сашу и Володю, ничего не знавших об интригах взрослых, известие об уходе Зиновьева (о чем им сообщил другой военный преподаватель Казнаков) ошарашило и страшно огорчило.
«Отчего это? – восклицали они, обращаясь к Казнакову. – Мы этого не хотим! Мы вас любим! Мы не хотим с вами расставаться!» Этот взрыв отчаяния еще более усилился после того, как Казнаков объяснил, что и он, и Гогель уходят вместе с Зиновьевым, а когда Гогель пошел в комнату, чтобы сменить Казнакова на дежурстве, Александр Александрович, громко рыдая, бросился ему на шею.
В глубоком горе и с глазами, опухшими от слез, нашел обоих великих князей протоиерей Рождественский, пришедший дать им урок Закона Божия. На вопрос его, что случилось, Александр Александрович ответил: «Николай Васильевич нас оставляет. Как же нам не плакать? Ведь мы себя без него не помним!» В этот печальный день великие князья отказывались от всякой прогулки, от всякого удовольствия и, как ни старались, не могли скрыть следов пролитых слез, когда в обычные часы ходили к родителям. Их глубокое, безутешное горе от потери любимого наставника растрогало саму императрицу. Приближенные ее говорили, что видели, как в этот вечер она сидела, низко склонив голову над рукоделием, и как на него падала слеза за слезой37.
Тем не менее, растроганная мать оказалась в своем решении тверда. «В Николин день38 состоялся Высочайший приказ об увольнении генералов Зиновьева, Гогеля и Казнакова от должности состоящих при наследнике и великих князьях Александре и Владимире Александровичах, а Зиновьева и от заведования Конторою Августейших детей»39.
Прощание с детьми, которое, впрочем, произошло не единожды, обернулось трогательным и теплым. Саша и Володя снова плакали и обнимались со стариком.
«От государя Зиновьев отправился к императрице, она в смущении просила его на нее не сердиться. Зиновьев отвечал, что ни на кого никогда не сердится, потому что он иначе не мог бы с спокойной совестью читать «Отче наш»40. Зиновьев не преминул уверить государыню, что не обмолвился ни словом великим князьям о том, что причиной его ухода стала, в сущности, она – их мать…
Так в жизнь Саши и Володи пришли новые люди во главе с Перовским.
«В помощники себе Перовский избрал двух артиллерийских офицеров: полковника барона Валлена и поручика Литвинова. Но Валлен по расстроенному здоровью должен был вскоре оставить эту должность и заменен в ней моряком – капитаном 2-го ранга Боком, назначенным состоять при великом князе Владимире, тогда как Литвинов состоял ближе к великому князю Александру»41.
Теперь Саше уже было почти семнадцать. И теперь уже Перовский сетовал на юношу, оставленного родителями на попечение негодных новых наставников весьма длительное время, в течение которого Саша не продвинулся в образовании и воспитании, но все равно рос «чутким и внимательным юношей»42.
Перовский сообщал о своем недовольстве государю в самых прямолинейных выражениях, ссылаясь на жалобы преподавателей и Литвинова:
– Александр Александрович учился нехорошо, а главное, несообразно своему возрасту, – говорил он после очередного провала, – и это у него происходит не от лени, а от этого несчастного непонимания состояния, в котором он находится, от совершенно детского взгляда на самого себя, на свою будущность, на все, что его окружает43.
Какой чудовищной насмешкой судьбы обернутся эти слова генерала: менее чем через двадцать лет его внучатая племянница Сонечка Перовская будет караулить государя у Екатерининского канала, где его настигнет смерть, а его теперешний подопечный отдаст приказ ее повесить…
Однако Перовский неверно воспринимал своего воспитанника, чье «чуткое, отзывчивое сердце»44 искало отклика на подлинные его запросы. Прежде всего в виде признания, ласки и человеческого общения, коего преподаватели совершенно не давали, а родители давали все реже. Саша хотел любви.
«Едва ли не главною причиной глубокого разлада между великим князем Александром и его наставниками и преподавателями было совершенно ускользавшее от внимания воспитателя графа Перовского полное отсутствие в его образовании живительной национальной струи.
‹…›
Из всех прочих учителей ‹…› ни один, за исключением законоучителя Рождественского, не носил русского имени. Столь живая в царственном юноше любовь к Отечеству и ко всему родному, русскому, не находила во всех этих лицах никакого отклика. Они не умели, не могли возбудить в чуткой душе его тот пытливый дух, который животворит и оплодотворяет приобретаемые знания. Мало того: в них русский царевич не находил ни малейшего удовлетворения собственным стремлениям, предпочтениям, вкусам. Запросы его впечатлительного ума оставлялись ими без ответа»45.
Перовский не находил ничего лучше, чем предлагать государю отменить для Саши уроки фортепиано и музыки, ввиду того, что тот в них не преуспевал и, по всей вероятности, музыку не любил.
Но как прискорбно было такое предположить! Вместо того, чтобы идти навстречу устремлениям Саши, который музыку страстно любил, но не находил в уроках радости. Зато сам освоил корнет-а-пистон и затем великолепно на нем играл46.
Перовский и, что самое грустное, родители находили самое простое неудачам Саши объяснение – лень, либо «несчастное непонимание состояния, в котором он находится». Знали бы, насколько это состояние он понимал!
Но зато всего того, чего Саша не мог снискать во взрослых, «он в изобилии обретал в старшем, нежно любимом брате. Соединяла его с ним и тесная дружба с первых детских лет, и общие им равно дорогие основные начала их миросозерцания. Оба они горели одинаковою любовью и к русской народности, и к русской старине; и в бесконечных задушевных беседах с глазу на глаз цесаревич передавал дорогому своему Саше все, что сам воспринял из богатой сокровищницы своего воспитания, от лучших русских умов, от светил отечественной науки. Они готовили его к тому, чтобы со временем с честью занимать Русский Престол, а он, как бы в предвидении никому неведомого будущего, насаждал в душе брата семена правды и добра, так пышно расцветшие в собственной душе его.
Когда только могли, братья были неразлучны. По воскресеньям Александр Александрович рано утром приходил пить чай к наследнику. После завтрака оба вместе ездили кататься на коньках в Таврическом саду. Иногда старший брат побуждал застенчивого и довольно необщительного младшего вместе с ним вращаться в дамском обществе.
Так, однажды завез он его к невестке своего попечителя графине Строгановой. «Не знаю, доволен ли был Александр Александрович тем, что его заставили делать визиты, – писал об этом случае полковник Рихтер47 государю. – Предвидя возражения с его стороны, Николай Александрович не предупредил его о сюрпризе, который ему готовился, а только у подъезда дома Строгановых объявил, что он собирается представить Александра Александровича графине. Возражать было поздно; Александр Александрович храбро вошел, faisant bonne mine à mauvais jeu[8]»48.
Саша вздохнул, поднялся с кушетки и подошел к старинному елисаветинскому зеркалу. Он тоскливо смотрел на свое отражение, скованный гнетущей действительностью. Как жаль, что в их мире не было возможно настоящее чудо, волшебство…
– Мопся[9], скорее в гостиную! – прокричал Володя, ворвавшись вихрем в комнату. – Мама́ приказала ужинать и ложиться спать. Завтра выезжаем рано! – И тут же умчался обратно вниз.
Выезжать следовало в любом случае: завтра наступал Рождественский сочельник, а двадцать пятого декабря, в Рождество отмечался праздник «Воспоминания избавления Церкви и державы Российския от нашествия французов и с ними двадесяти язык»49.
В Зимнем дворце по этому поводу проходил Рождественский парад, на который приглашались военные, имеющие серебряную медаль за кампанию 1812 года либо медаль за взятие Парижа. Парад проходил в Военной галерее и состоял из нескольких церемоний: grand défilé[10], литургии в Большой церкви Зимнего дворца, богослужения в Военной галерее и возвращения во внутренние апартаменты, сочетая, таким образом, религиозные и военные начала. Парад представлял этим уникальное зрелище: Рождественское шествие под военную музыку ветеранов Отечественной войны 1812–1814 годов с участием сводных команд от всех гвардейских полков, а впоследствии – и заслуженных ветеранов других военных кампаний.
До Крещения давно запланировали несметное количество визитов, выходов в театры и на балы, именины, разводы, прогулки и катание в Таврическом саду под присмотром Литвинова. Обеды, чаепития и всенощные с семьей, как и уроки, составляли дела обыденные. Вставали великие князья, за редким исключением, ежедневно не позднее семи утра.
Пришло время готовить подарки к Рождеству и Новому году. В семье не было принято дарить на Рождество дорогие подарки. Самыми ценными считались те, что созданы собственноручно.
Глава 2. Мари
В доме Апраксиных на Литейном не летали под потолком разве что престарелая графиня Лядова – подруга семьи и фрейлина Е. И. В., и пьяный ямщик графа Ивана Александровича Апраксина Захар, дремавший на черной лестнице.
У Апраксиных с конца октября гостили дальние московские родственники его жены Евдокии Николаевны – в девичестве Небольсиной, дочери предводителя московского дворянства, одного из богатейших сенаторов Москвы.
Еще по осени, по первому снегу, караваны повозок начинали стекаться из уездов в Петербург и Москву для участия в самом любимом развлечении знати России – балах.
Как и многие дворяне, граф Федор Ильич Стрельцов мечтал попасть на «ярмарку» лучших женихов и решить важное дело для семьи, осчастливленной пятью детьми, из которых пришла пора пристраивать восемнадцатилетнюю Ксению, но и завязывать узелки, как говорила старуха Лядова, на идущего вслед за ней Константина семнадцати лет и, хоть еще и совсем юную, но обещающую несговорчивый нрав, Мари.
Федор Ильич ежегодно тратился на приемы и благотворительность, потому как имел мягкое сердце и (в чем была уверена его жена Анна Андреевна), как и граф Апраксин, не умел не тратиться. И все откладывал дела семьи на потом.
В сентябре Анна Андреевна решилась и написала Апраксиной письмо с просьбой принять их в Петербурге и содействовать устройству жизни старших детей. Если «Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками»50, то Петербург славился женихами, как Волга осетрами.
Апраксины незамедлительно выразили радость, так как имели репутацию людей расточительных и гостеприимных. Да и сами имели двух дочерей Машу и Дуню, которым уже тоже минуло восемнадцать и четырнадцать соответственно, и сочувствовали заботам Стрельцовых.
Лядова и Апраксина похлопотали и вскоре обрадовали семейство Стрельцовых, что пора готовиться к выезду: их пригласят на Рождественский бал к Шереметевым, где будет государь; а младшим детям после Нового года посчастливится попасть на подростковый бал к Шуваловым, куда, не исключено, также может заехать сам государь, любивший веселые и непринужденные праздники и маскарады Шуваловых в прелестном дворце Нарышкиных на углу Фонтанки и Итальянской улицы. Балы, отмеченные государевым визитом, получали высший статус. Там собирались самые заманчивые женихи и невесты.
Анна Андреевна всецело доверилась Лядовой и Апраксиным, ибо (в отличие от Москвы) в Петербурге приглашения доставлялись нарочно, а не требовали визитов. А бумага действовала умиротворяюще на беднеющего из года в год Федора Ильича. Все ж какая-никакая, а гарантия.
Еще в том году он заложил мызу на Псковщине и снарядил обоз в Петербург. Денег на это хватало, а все прочее было непонятно на что промотано. Анна Андреевна теперь уже не терзалась из-за возможной потери имения, потому как либеральные деяния государя ставили под сомнение возможность получать прежние доходы с наделов. Реформы не разлучали помещиков и крестьян окончательно, но подвели черту под давно начавшей разлагаться старой усадебной жизнью.
Весь ноябрь и даже часть октября шли приемы и приготовления к важным выходам в свет столицы: шились наряды, тратились средства, а младшие дети получали много радостей от казусов, новых знакомств, прогулок и визитов к забавным петербургским снобам.
Шитье дамского гардероба составляло чуть ли не главную часть издержек, так как в моду вошли кринолины, и на юбки уходили несметные сажени ткани.
Няня Мари, Алевтина, в которой набожность, как в любом русском человеке, уживалась с суеверием, нашептала Анне Андреевне вскоре после приезда к Апраксиным, что в Петербурге можно гораздо дешевле закупаться на Фоминой неделе.
Но она начиналась после Пасхи!
И графиня Апраксина с Анной Андреевной и Лядовой ездили и в «Лионские ткани», и в шляпный бутик Madame Louise на Невском, и в «Английский магазин» на углу того же Невского и бывшей Малой Миллионной51, который не переставал «доставлять почтеннейшей публике «самые лучшие и модные товары за сходную цену»52.
«Все, что рассеяно во множестве разнородных магазинов и лавок, все изделия различных фабрик и промышленности, находятся здесь в лучшем виде, лучшей доброты. От драгоценных камней до простой глины, от платины до железа, от бархату до простой байки, от шелковых материй до ситцу, все постепенности богатства, искусства и промышленности»53 можно было найти у Кохуна «в разнообразных видах и превращениях»54.
Апраксина считала обязательным условием приобщение к Петербургу «московских провинциалов» через эти приятные в ее разумении траты: надо понимать – сам покойный государь Николай I покупал у Кохуна рождественские подарки для своей семьи. Тут заказывали материалы для балетных постановок великого Мариу́са Петипа́!55
Анна Андреевна, вздыхая, расставалась с деньгами, так как в ее уме «сходная цена» никак не сходилась ни с падающими доходами, ни с возрастающими долгами семьи, но платила с хрупкой улыбкой на бледном лице в надежде помочь этими тратами устроить жизнь детям.
Передвижение по зимнему Петербургу оказалось куда приятнее, чем по осеннему, невзирая на внезапные порывы северного ветра: на улицах более не мешала чавкающая, вязкая грязь, перемешанная с навозом, и при всей неровности мощеных путей перекатываться по их волнам в санях ощущалось куда приятнее тряски в теплое время.
Графиня Апраксина повезла подругу и к ювелиру, чьи работы находила интересными, хоть и необычными.
Это оказался небольшой магазин с мастерской на Большой Морской, 12, открытый малоизвестным купцом второй гильдии, лифляндцем Густавом Фаберже. В лавке их встретил худощавый подросток – сын купца Карл. Густав любезно принял дам и попросил «Карлушу», как он называл его на русский манер, предъявить гостьям новинки.
– Они, конечно, не могут соперничать с Болиным56, – шепнула Апраксина, – но весьма недурно исполняют безделицы.
Пятнадцатилетний Карл показал им не только новые украшения и аксессуары, но и собственное первое изобретение – маленькую золотую курочку. Курочка при нажатии на хвостик открывалась, а внутри пряталась рубиновая подвеска в форме яйца.
– Что за прелесть, – умилилась графиня Апраксина. – Надо непременно заказать такие к Пасхе для моих filles[11].
– Да, – рассматривала курочку Анна Андреевна. – Правда, прелесть. Вы делаете такие на заказ?
Мастер Густав улыбался доброй и нежной улыбкой:
– Карлу еще предстоит многому научиться, но для вас мы готовы сделать подобный заказ с приятным дисконтом.
Женщины удалились, купив в итоге костяную57 табакерку для графа Апраксина и новые carnets de bal[12] для Ксении и Мари, – подарок Апраксиной. У Анны Андреевны не имелось средств на все столичные изыски: предстояло оплачивать модисток для себя и дочерей. После Фаберже подались домой.
Теперь в доме шли последние приготовления к подростковому балу у Шуваловых. Завтра отмечали Рождественский сочельник, а бал назначили на третье января, в святочную неделю. Время выбрали самое выгодное: новогодняя шумиха немного уляжется, а сочельник Крещенский – только пятого января.
На обед заехала дальняя родственница графа Апраксина княгиня Елена Михайловна Инсарова в «переходных» (словами Лядовой) летах, которой самой было уже семьдесят на лице и восемьдесят – на шее. Сорокалетняя Елена Михайловна приехала с визитом с сыном Павлом и дочерью Натали. Их отправили к детям Апраксиных и Стрельцовых в детские покои, чтобы немного посплетничать до обеда.
– Давеча на именинах у Перовского было море цветов, – докладывала высокая, с сытными плечами Елена Михайловна, раскидывая небрежно и вместе с тем умело фалды и воланы юбки. – Самый роскошный букет цвета «Бедер испуганной нимфы»58 от «Марселя», конечно, прислал сам государь.
– Там заказывают цветы и для княжны Долгорукой, не так ли? – немного язвительно проронила Лядова.
– Графиня, вы не снисходительны к чужим слабостям, – засмеялась кокетливо Елена Михайловна.
– К чему? – махнула сухой рукой Лядова. – Я и к своим никогда не была!
– Перовские сделали весьма постный стол. А как прелестна юная Ирэн Берг! Уже девушка… Сам Перовский много раз подчеркнул, что благоденствует в воздержании. При этом постоянно выходил куда-то и возвращался каждый раз все более румяным и благодушным. А уж к вечеру стал вконец цвета кармина и добрым и неожиданно пожаловал фон Бергу пять отменных борзых и двух меделянок!
Женщины посмеялись и согласованно прильнули к чашечкам.
– А как возмужал и как прекрасен великий князь, – продолжала княгиня Елена.
– Который из них? – вежливо спросила Апраксина, подливая Инсаровой чаю.
– Ах, конечно, Николай Александрович! – всплеснула руками Елена Михайловна. – Юный Александр Александрович ne daigne pas être courtois[13] и может выйти, не дослушав собеседника. Мари Мещерская – себе на уме, хоть и прикидывается елейной незабудкой: вздумала влюбить в себя царственного медведя. А он, кажется, к ней неравнодушен. Однако так неуклюже оказывает невинные знаки внимания. Это не пустые пересуды! – добавила княгиня ревностно, словно кто-то подозревал ее в наветах. – Все это доподлинно видел и слышал Шереметев59. Но, несомненно, Александр Александрович – любимец собак, детей и пожилых дам.
Женщины снова негромко засмеялись (смеялась и Лядова, пожилой себя не считавшая) и взялись было за чашки, как дверь в гостиную резко распахнулась, и в комнату вбежала рослая курчавая темноволосая девочка.
– Мама́! – она ринулась к Анне Андреевне. – Мама́! Привезли платья!
Княгиня Елена чуть не расплескала чай на свою драпированную юбку.
– Мари, ну как же так можно?! Ты не поздоровалась с княгиней… Это – моя средняя – Маша…
Лядова заговорщически подмигнула Мари. Мари сделала стремительный книксен, словно хотела поскорее отмахнуться от церемоний. Привезли бальные платья от модистки, и ей не было никакого дела до пожилой дамы. Хотелось поскорее увлечь мама́ и всех домочадцев смотреть примерку. Впрочем, Мари не было особого дела и до платья. Во всем ее интересовало больше само действие, чем результат.
Ксения привыкла уже к капризам сестры, считая ту легкомысленной и глуповатой. А младших Апраксиных потешала ежедневная смена увлечений Мари: то после визита в балет она говорила, что станет танцовщицей, то после концерта собиралась петь, то писала бунтарские стихи после услышанного от литератора модного салона рассказа о «Лавке Смирдина» и теперешнем бедствии его детей, то занималась рисованием под впечатлением от Брюллова, увиденного в Новом Эрмитаже.
Теперь Мари особенно радовалась из-за бала у Шуваловых. Она менее всего помышляла о поиске возможного жениха, а хотела впитывать все веселое, новое и необычное. Ее манили приключения. И мысль об однажды предстоящем замужестве наводила лишь скуку.
Мари видела, как в любви, но бесконечных, как ей казалось, бессмысленных хлопотах жили родители и остальные вокруг; как однообразны старания и интересы взрослых; как предсказуемы все эти разговоры за чаем. Чего же они желали? Чтобы она тоже стала такою же приученной к однообразию и довольной этим? Нет! Мари вознамерилась найти свое предназначение в бесконечной пылкой деятельности. Мечтала о неординарной судьбе! И даже мужчина, которого она полюбит, будет со страстью искателя проживать жизнь, а не томиться в душных салонах с душными людьми.
Мари росла дитем, напитанным либеральным ветром. Она чувствовала эти революционные ветра. Народилось поколение Сонечки Перовской, которое всей душой требовало перемен и было к ним готово любой ценой.
В свое время Николай Павлович сказал своему гостю маркизу де Кюстину:
– Я понимаю республику – это прямое и честное правление, или, по крайней мере, оно может быть таковым. Я понимаю абсолютную монархию, потому что сам ее возглавляю. Но представительного образа правления я постигнуть не могу. Это – правительство лжи, обмана, подкупа. Я скорее отступил бы до самого Китая, чем согласился бы на подобный образ правления60.
Но уже тогда сверкнули зарницы – признаки надвигающейся грозы. Да что тогда? В 1790 году Радищев подарил Екатерине и империи предсказание. И сколько их еще будет! А предсказание есть не что иное, как обостренное чувство созревающего нарыва, еще до того, как тот вылезет через кожу наружу и прорвется с болью, кровью и гноем, угрожая всему организму погибелью.
«Не ведаете ли, любезные наши сограждане, – обратился Радищев ко всем жителям империи, как к равным и заинтересованным в ее и своей судьбе, – коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением движение не приходящее, тем укрепят и усовершенствуют внутренние чувствования. Поток, огражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наша, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себя на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.
Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горе́ постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникший на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся»61.
Мари не понимала многого в разговорах взрослых, но уходящий 1861 год стал незабываемым: в начале его отменили крепостное право в России!
Это был особенный год. Год, пронизанный духом долгожданной свободы, но и тревоги. Екатерина II, невзирая на упреки Радищева, понимала необходимость отмены крепостничества, но не смогла. А ведь как была властна и умна! Слишком решительным оказалось противостояние высшего класса, на который опиралось ее державие.
Да что высшего класса? Все общество воспротивилось упразднению крепостного права на созванной императрицей Уложенной комиссии. И матушке пришлось отступиться.
И Николай I – этот величественный, грозный командир послушной армии под названием «русское общество» – вынужден был ретироваться.
А скромный и умеренный государь смог. Знал бы народ, как долго он молился на коленях в Малой церкви62 дворца в то утро 19 февраля, когда росчерком пера в его руке было сломлено многовековое рабство в России.
«В этот достопамятный день Александр Николаевич находился в самом светлом, радостном настроении: «Это лучший день в моей жизни, – говорил он своим приближенным. – Мне кажется, что сегодня – точно Светлое Христово Воскресенье»63.
Он вырвал из топки Радищева64, поднял растоптанную отцом в ярости «Россию 1839 года» Кюстина65 и понял, что тянуть дальше смертельно опасно не только для самодержавия, но для империи.
Вокруг только и говорили об освобождении крестьян и что-то беспокойное о переделе земли и ссудах. Но Мари не осознавала перемен. И не оттого, что не доросла умом до понимания сказанных слов, а оттого, что не доросла сознанием до воображения следствия перемен и тем более до интереса к развитию страны. Интерес ее пока сосредотачивался на собственной персоне и на волнующих и беспокойных ощущениях созревания в девушку.
Из всего услышанного она поняла главное – государь был исключительным и храбрым человеком: он посмел двинуться вперед после стольких колебаний предшественников.
И как красив и мужествен государь! Красота его и шла от смелости и воли в чем-то очень важном, чем казалось само слово «освобождение». И почему иные слезливые старики и матроны с пудрой в складках кожи называли его «вторым Антихристом»? И кто же был первым?..
Глава 3. Ротомаго
Лампы и свечи придавали всему желтый оттенок и искажали цвет ткани. И дамы энергично занялись примеркой, чтобы рассмотреть все подробно еще при холодном, сером свете петербургского дня: бал у Шуваловых начинался в полдень, когда комнаты наполнял уличный свет.
Алевтина помогла Мари надеть кремовое платье из грогрона в тонкую бледно-розовую полоску с маленькими рукавами-пуф и высоким декольте, розовым атласным поясом и белым алансонским кружевом, которое стоило четверти деревни графа. Короткий, до середины лодыжки подол украшали ряды воланов из того же кружева. Она походила на нежный императорский зефир с вишенкой в виде темных блестящих волос сверху. Женщины восхищались девочкой, попеременно используя то русские, то французские эпитеты.
Мари подбежала к зеркалу, и лицо ее внезапно преобразилось. Счастливая улыбка ожидания сменилась на недоуменное, почти испуганное разочарование.
– Мари, тебе нравится, дитя? – спросила Анна Андреевна обеспокоенно, но с надеждой.
– Оно… – Мари хотела сказать, что оно очень скучное, но, увидев в отражении лицо матери, не сказала: должно быть мама́ потратила кучу денег на ткань и модистку, и было бы гадко сейчас упрекать ее. – Оно… очень милое, – Мари подбежала к Анне Андреевне и поцеловала ее. – Но когда я вырасту, непременно надену красное платье из газа с несметным количеством воланов! Чтобы я выглядела в нем как…
– Вавилонская блудница, – хитро прищурилась Лядова, а из-за ее плеча выглянула озадаченная Алевтина.
– Нет! – засмеялась Мари. – Как графиня де Монтихо66.
Инсарова шутливо хлопнула по руке Лядовой веером.
– Однако вы шалунишка! – засмеялась Апраксина. – С’est toute la jeunesse[14].
– Барыня Лядова, поди, чумная, – буркнула Алевтина в ухо Анне Андреевне. – Графиня, а все одно срамные вещи говорит. Как же такое можно про мадемуазелю мою сказать? Воздуси на небеси…
Анна Андреевна прыснула и толкнула Алевтину.
– Поди, милая, лучше приготовь одежду Ксюше и Мари на завтра.
Ксения примерила точно такое же, как у Мари, платье, только длиною в пол, и обрадовалась результату. Дуня и Маша – дочери Апраксиных – тоже довольно обсуждали с Ксенией наряды из бледно-голубого грогрона. Девушки крутились у зеркал, качая нарочно кринолинами, чтобы волны шелка вздымались, словно уже паря в вальсе.
Марии Апраксиной минуло восемнадцать, и она, как и Ксения, собиралась на взрослый бал. Дуня Апраксина и Мари, которым было по четырнадцать, шли к Шуваловым. Но кого, кроме неуклюжих и стеснительных подростков, там встретишь?
«Да и что с того, что у меня нет красного платья из дымки?! – думала Мари. – У Шуваловых не будет красивых кавалергардов и гусар – одни малявки! Хотя что с того, если бы они там и были? Кто вообще на меня взглянет?»
Мари считала себя некрасивой, что не мешало ей порой часами позировать перед зеркалом и разыгрывать мимические картины, наслаждаясь отражением. Немного пухлый нос, широкие темные брови, большие подвижные карие, чуть тронутые зеленью по границе радужной оболочки глаза и копна темно-русых, почти графитовых кудрей, которые ей не нравились, придавали Мари при всей белокожести немного восточного флера. Наступил возраст стремительных изменений во внешности, и Мари раздражалась всем внешним. При этом признавалась постоянно в любви своим талантам, уму и способности в любой ситуации найтись что сказать.
– Владимир Иванович[15] недавно вернулся из Парижа, – приглушенно сплетничала княгиня Инсарова, – и рассказал почти скандальную историю. Наполеон Третий в пику оппозиции демонстративно приказал Davioud67 поставить Théâtre du Châtelet на месте снесенной тюрьмы, и дал театру то же имя, что было у тюрьмы!
Дамы издали вздохи удивления, недоумения и восхищения одновременно.
– Теперь в августе для его супруги там дадут первый спектакль – безумную сказку со странным названием Rothomago. Все так тонко в свежей шутке Панина: «Tous les Napoléons détruisent des prisons pour ériger des théâtres forains. Et tous les Russes détruisent les théâtres forains pour construire des prisons qui redeviennent des théâtres forains»[16].
– Gentil mais banal[17], – заключила Лядова, и графиня Инсарова немного расстроилась из-за того, что ее каламбур обесценили.
– Все же это очень по-французски – сделать из тюрьмы цирк и театр в одном флаконе! – не сдавалась Инсарова. – Так недалеко и до Тиля Уленшпигеля[18]. До чего они дойдут в этом Шатле, только богу известно.
– Смешно вообразить, чтобы из театра с такой репутацией вышло что-то стоящее, – пожала плечами Апраксина, словно забыв, что и Мариинский воздвигли на месте театра-цирка, как и то, что современные театры пришли с Запада.
Мари подбежала к матери, услышав спор. Наконец-то женщины обсуждали что-то увлекательное, а не великих князей, фрейлин и борзых!
– Что же все-таки означает Rothomago? – улыбнулась Анна Андреевна. – Звучит так таинственно.
– Ну что, ma Lys d’Or[19], – довольный разговором с графом Апраксиным, вошел в комнату Федор Ильич. – Скоро nos petits choux[20] едут развлекаться в город?
– Папа́, можно мы поедем на гулянья на Марсово поле? Там чудесные горки! – Мари прыгнула на отца и обхватила его широкую талию.
Алевтина округлила васильковые маленькие треугольной формы глаза и неодобрительно качала головой, в то же время любуясь своей Машей.
– Мы думали ехать на Адмиралтейскую площадь, – пожала плечами Ксения. – Зачем же еще на Марсово поле? Мы замерзнем…
Инсарова после ужина откланялась, и все разошлись по спальням.
Ксения быстро заснула. Мари забралась под одеяло, а Алевтина старалась подоткнуть его под Мари. У кровати дрожала свеча.
– Алевтина, присядь, душка, – Мари радостно поманила Алевтину. – Что ты все бубнила весь вечер?
Алевтина тихо засмеялась через нос, как она всегда делала, каким-то особенным смехом, который сам по себе казался смешным, и уселась на край кровати.
На Мари пахнуло лампадным маслом. У Алевтины имелась странная привычка. «Она щедро поливала голову керосином, смешанным с лампадным маслом, и утверждала, будто именно благодаря этому волосы у нее такие густые»68.
– А чего бы и нет? Старуха Лядова дюже остра на язык. Тоже мне – коза в сарафане! Ведьма она – точно говорю. Чур меня! Воздуси на небеси…
Мари засмеялась громко и заливисто, потом заозиралась на спящую Ксению и обняла Алевтину. Та стремительно перекрестилась.
Никто в семье не знал, что означало «воздуси на небеси», но Алевтина употребляла его в самых разнообразных обстоятельствах, лишь изменяя тон. И «воздуси на небеси» могло означать как высшую степень восторга и одобрения, так и полное возмущение и негодование, а то и страх.
– И на Царицын луг нечего шастать, – деловито продолжала Алевтина.
– А это отчего?
– А вот и оттого. Я на блошинке была да слыхала, что один старик толковал.
– Что же там? – Мари обожала тайны и заелозила на кровати.
– А вот и то. Темное там место! Говорят, после захода солнца из реки русалки, чудища и лешие выходят и людей хватают и переносят в другой мир…
– Что за мир такой? – Мари снова засмеялась под сурдинку.
– Да кто ж его знает, воздуси на небеси, – возмутилась Алевтина. – Оттуда еще никто не докладывал. Могут в прошлое умыкнуть или в грядущее. А то и в Неву уволокут. И – ищи-свищи!
– Ну что за вздор ты говоришь? – Мари ласково ущипнула Алевтину за щеку. – В прошлое, в грядущее. Так бы уж полстолицы туда сгинуло.
– А вдруг и сгинуло! – Алевтина резко встрепенулась. – Старик торочил, что городовой там давеча пропал. А он, вестимо, при оружии ходит. Только шлем и нашли наутро69. Нечего там делать – вот и весь сказ!
– Теперь уж точно поедем, – Мари плюхнулась в перину и, хихикая, натянула до ушей одеяло.
– Э-эх, – Алевтина улыбнулась и пожамкала Мари в одеяле, как тесто. – Неугомонная вы барышня, однако. Вам лишь бы приключения на гузку искать!
Алевтина задула свечу и ушла. А Мари все мечтала о походе на Марсово поле. Но она не думала о русалках и леших. Ей казалось, что там будет что-то совершенно необычное, не виданное прежде никем и нужное именно для нее. Ведь чудеса случаются в чудесных местах.
Потом Мари представляла себя в красном платье из дымки. Лиф его обязательно должен быть строгим и сидящим идеально по корсету с тонкой шелковой аппликацией виноградной лозы по обеим сторонам груди; с длинными прозрачными и самыми узкими рукавами без всяких рюш и складок, чтобы подчеркивали красивые, длинные и тонкие руки; а юбка – непременно с небольшим шлейфом – должна быть многочисленными ярусами беспорядочно усеяна таким количеством косых воланов из дымки, чтобы любое движение поднимало бы попеременно слои, даже не напоминая нежность лепестков розы, но создавая аромат розы, едва уловимое видение розы, притом что цвет сообщал бы весь скрытый за этой легкостью порыв силы света первого солнца.
Она вскоре согрелась и уснула…
Глава 4. «Светопись» Левицкого
Саша, Володя, Альберт и Николай Романовский70 никак не ожидали встретить в «Светописи» фрейлину Лядову, тем более в такой час. Они, как подобает молодежи, робко топтались у входа в студию, оставив в гардеробе шинели и фуражки.
Для фотографии отроки пришли в домашних темно-синих «венгерках»71, отороченных черной смушкой[21], расшитых более скромными, чем парадный доломан, гладкими золотыми шнурами в пять рядов, с воздушными петлями и басонами по контуру обшлагов, в серо-синих брюках, – и выглядели браво и нарядно во всех этих «выпушках, погонах, петличках» и при саблях72. Альберт надел статское платье, поскольку не был причислен к русской армии, а являлся германским подданным и не имел права носить мундир, находясь в России.
Володя, как самый бойкий, прошел к Лядовой и весело поздоровался. За ним последовали остальные. Лядова невольно вспомнила вчерашнюю характеристику Инсаровой великого князя Александра Александровича и задорно окинула взглядом его крупную фигуру.
– А на ярмарку на Марсово поле вас отпустят? – неожиданно и без церемоний спросила она, уже расплатившись с Левицким.
– А что там? – поспешно спросил Саша и мгновенно покраснел.
– Святки – время таинственное. Разве можно предугадать все чудеса? – Лядова загадочно улыбнулась.
– Нам не разрешат, – сердито сказал Володя.
– Il faut savoir convaincre[22].
Лядова ухмыльнулась и вежливо и вместе с тем небрежно простилась с романовскими мальчиками, задержав на некоторое время взгляд на Саше, словно хотела что-то сказать. Но потом, вильнув кринолином, как метлой, скрылась за дверями.
– Она переходит всяческие границы! – заметил Романовский.
– И при том старушка обожает делать свои портреты и продавать их кадетам на благотворительных балах, – засмеялся Альберт. – Хорошая тем не менее придумка – делать деньги из ничего!
– Вам известно, Сергей Львович, что же особенного на ярмарке в эти Святки? – спросил вдруг Саша, подходя уже к Левицкому. Ему показалось, что Лядова не могла затеять этот разговор просто из нелепой шутки.
– Ничего необычного! – Левицкий улыбнулся, глядя поверх очков на забавного юношу. – Ведьмы, лешие, русалки, чародеи и гадалки…
– …и они за мной, за мной по Садовой, по Сенной, – Володя громко засмеялся, придумав в тон Левицкому продолжение.
Левицкий показал жестом, что декорации готовы. Сделав несколько фотографий в приличных и чинных позах, мальчишки отстегнули оружие и выстроились один за другим этажеркой: Альберт сел на пол по-турецки и принял невозмутимый, холодный вид, хотя был самым из всех острым на язык; за ним, опершись локтями на Альберта, встал Саша; за Сашей на табурет забрался Володя и тоже оперся на Сашу локтями; замыкал этажерку сверху Коля. Последние двое показывали языки. Володя казался каким-то особенно дьявольским с высунутым языком и поднятыми указательными пальцами, а Саша улыбался своей ласковой и чуть лукавой улыбкой из-под заметных уже светлых усов. Левицкий сделал еще несколько снимков.
– Эти будут лучшие, – уверил он. – Предлагаю повторять их ежегодно! Потом сравните.
Саша подошел к Левицкому и рассматривал фотомашину.
– Как так получается, что я вижу себя в зеркале как будто наоборот, а фотография выходит иначе? – спросил Саша, и мальчики засмеялись над его наивностью, делая вид, что все понимают.
– Стекло, отражающее солнечный свет, инвертирует изображение: та сторона, которая была левой, становится правой. Изначально зеркало видит ваше высочество как я, как Володя или графиня Лядова, – улыбнулся Левицкий, глядя на Сашу поверх очков. – Отражение – это не то, какой ты есть в пространстве, а то, каким видит тебя мир. Чтобы увидеть себя так, как есть, нужно перенести перевернутый негатив на бумагу, как бы создав двойное отражение.
– Зеркало в зеркале?..
– Образно выражаясь. Но, следуя вашей аналогии, невозможно будет понять, где материальный объект, а где проекция, – сказал Левицкий. – Ведь зеркало против зеркала создает бесконечность…
Саша вздрогнул. Просквозило в этом и что-то пугающее, манящее, совершенно непостижимое и вместе с тем очевидное.
– Хватит задавать смешные вопросы, Саша, – вмешался бесцеремонно Володя, впрочем, он всегда был таким – резким, быстрым и упрямым.
Мальчики простились с Левицким и покинули салон. Левицкий задумался и, все еще улыбаясь, подошел к окну. Он вскоре увидел этих обычных мальчиков из необычной семьи выходящими из парадного, где их ждали сани и сопровождающие.
– Саша, упроси мама́ пустить нас на ярмарку хоть с конвоем, – заныл Володя, как только покинули Левицкого.
– Колядовать на Олю будешь? – смеялся Альберт.
– Я хочу на горки и в балаган, – не сдавался Володя. – Умоли Никсу упросить мама́. Она его послушает и добьется разрешения папа́. Я хочу посмотреть Петрушку… Я не хочу ехать вечером в балет. Там скучно… Балет скучный…
Саша походкой лесоруба молчаливо шел к саням, у которых расхаживал Литвинов. За ним брели остальные.
Глава 5. Ярмарка
Кто не бывал на праздничных ярмарках, тот не знает России. Зимой гуляли от Рождества до самой Масленицы, а весной – на Пасху. Самыми славными считались масленичные гуляния, так как проходили перед Великим постом и в ту пору, когда самые веселые забавы – катания с горок, на катках, дрожках, санках – предлагались легко самой зимой. А уж как детвора, да и взрослые обожали ингерманландские «вейки»![23]
«Вероятно, это возбуждение являлось все по той же склонности ребенка к беспорядку, к нарушению будничной обыденщины. Извозчик, что городовой, что дворник с метлой, что почтальон с сумкой или трубочист со стремянкой, что разносчик с лотком или нищий на перекрестке – органически сросшееся с улицей существо. Вейка же – нарушитель уличной обыденщины. Во-первых, это иностранец, то в самом деле не понимающий русского языка, то притворяющийся, что он его не разумеет – для вящего шика. Лошадь его не просто лошадь, а шведка. А затем это какой-то бунтарь, для которого законы не писаны. Он едет другим темпом… он берет не то дешевле, не то дороже обыкновенного, на нем можно усесться и вдвоем, и вчетвером, и вшестером – скорее, нечто неудобное, но по этому самому и приятное в дни повального безумия, в дни общественных вакханалий»73.
На Святках колядовали, ходили ряжеными; играли в снежки, крепости и прочие зимние увеселения. Ведь зимы были длинные и холодные.
До начала Великого поста ярмарки, особенно в выходные дни, развлекали народ от мала до велика. Еще при Екатерине II площадь перед Адмиралтейством вымостили, и самые известные гулянья проходили там и на Марсовом поле. Императоры Павел I, Александр I и Николай I отдавали предпочтение военным смотрам. При них Марсово поле вытоптали до такой степени, что народ Петербурга стал называть его «Сахарой».
Граф Петр Панин в свое время язвил, что любовь к строю пропадет у Романовых только с рождением в династии императора-калеки74. Старый николаевский лакей, глядя на молодежь, частенько махал обреченно рукой и вздыхал: «Был бы Командур… Командура на них нет…»
Однако после смерти Командура Царицын луг снова разрешили использовать под гулянья75. О том жителей информировали местные газеты, в частности «Северная пчела», подробно рассказывая и о подготовке к гуляньям, и об инцидентах, коих случалось немало еще со времен Екатерины Великой: от сгоревших76 шатров и балаганов до замерзших пьяных или затоптанных людей, которых находили наутро.
Строились развлекательные ярмарки недели за две-три до начала празднеств. Хоть и временные, и разбирались после сезона гуляний, сооружения эти внешне представляли солидно организованное и обширное по площади пространство. Настоящий городок.
Здесь сколачивали купеческие лавки, где продавалось съестное и предлагался чай, а то и что покрепче. Иногда лавки походили даже больше на пригожие чайные домики или магазины, в которых имелись порядочные столики, витрина, курились самовары и вкусно пахло хмелем, медом и калачами. В торговых рядах обосновались ремесленники. Безделушки, платки, варежки, кушаки – чего тут только не было. Ходили между рядов и громко выкрикивали сбитенщики «с огромными медными баклагами, закутанными в большие куски полотна, чтобы напиток подольше не остывал»77:
- Вот сбитень! Вот горячий!
- Кто сбитню моего!
- Все кушают его:
- И воин, и подьячий,
- Лакей и скороход,
- И весь честной народ.
- Честные господа!
- Пожалуйте сюда78.
Рядом с торговыми и «обжорными» рядами через небольшую площадь строили балаганы для цирковых и театрализованных представлений: от шатровых, больше походивших на шапито, до дощатых, сколоченных из крупных досок хвойных пород и ящиков из-под чая. Менее состоятельные покрывали крыши полотном или мешковиной, а горбылем – если хозяин побогаче. Наружные стены сплошь обклеивали лубочными афишами. В то же время стали появляться рекламные цилиндры или тумбы, как те, что ставили теперь против театров.
Балаганы строились не абы как, а с привлечением строительных подрядов, под руководством театральных плотников и под надзором архитектора от округа путей сообщения. Перед балаганом располагался приличный помост-раус[24] для выступления зазывал, которые кричали, а то и лицедействовали, да порой так искусно, что на них собиралось поглазеть больше народу, чем в иной цирк.
Балконы и крыши имели особое и важное предназначение. Там выступали паяцы. Пластика некоторых поражала мастерством. Бывало, некий Петрушка душещипательно играет и размахивает руками, а потом как свесится с перил вниз головой. Да висит и болтается из стороны в сторону, как маятник, точно его тело сделано не из костей, а из тряпки, вызывая восторг и трепет публики, которая будто и ждет, и одновременно боится, что Петрушка свалится на пол и расшибется.
Внутри балаган устраивали вполне как миниатюрный театр кустарного пошиба79: имелись ложи, партер для взыскательных посетителей и галерка – для третьесортной публики, не брезговавшей полузгать семечки и поплевать шелухой во впереди сидящих зрителей, что нередко заканчивалось потасовкой.
Пьеро, Арлекин и Коломбина долго оставались основными образами первой половины XIX столетия, заимствованными, как опера и балет, из итальянской культуры. Да и сами владельцы балаганов были иностранцами80. Но уже в середине века артисты все больше напоминали русских персонажей – Петрушку, Солдата и Матрешку – по совпадению характеров. Хотя последние с незапамятных времен присутствовали в постановках уличных театров, в частности кукольных и в особенности нестоличных.
Помимо таких балаганов, ярмарка пестрела развлечениями на любой вкус: факиры, фокусники, вольтижеры и канатоходцы, дрессированные медведи, комедианты, гадалки и куражные цыгане. То там, то тут можно было наткнуться на балалаечника или гармониста. Где-то звенела гитара, а рядом уже весело и бойко гудели трубы, стучали барабаны, тарахтели трещотки, свистели дудки и деревянные водяные соловьи; «старинные наигрыши владимирских рожечников перебивались звуками многочисленных шарманок; ярославский вожак с ученым медведем выступал бок о бок с демонстрировавшим свои фокусы китайцем; отставной солдат-раешник старался перекричать балаганного деда-зазывалу; тут же Петрушка отбивал зрителей у балаганов с учеными канарейками, а кабинет восковых фигур соперничал с куклами, разыгрывавшими «Доктора Фауста»81.
С двадцатых годов появились первые «косморамы» и «панорамы», которые называли попросту «райка́ми». Ящик на колесах в полтора аршина[25] шириной с двумя или тремя увеличительными стеклами и был тот самый раек, в котором перематывались изображения. Хозяин крутил ручку и растолковывал картинки, предлагавшие виды достопримечательностей, в основном – европейских стран, но попадалась и экзотика. Памятные события, великие личности, поразительные для русского взора пейзажи – эта предтеча синематографа пользовалась огромной популярностью не только у простого люда, но и у респектабельных посетителей, получавших удовольствие от ярмарочного «смешения» с народом и не брезговавших поглазеть в глазок райка за «копейку с рыла», а то и прикупить лубочную картинку с изображением: хочешь – Колизея, хочешь – Венеры с Аполлоном, а хочешь – свадьбы медведей.
Раевщики говорили нарочито монотонно или, напротив, эмоционально, но никогда не останавливаясь. И пока зрители, оттопырив зады, стояли, прильнув к окошку, раевщик под гогот публики трещал сотни раз произнесенную руладу: «Вот, смотрите в оба, идет парень и его зазноба: надели платья модные, да думают, что благородные. Парень сухопарый сюртук где-то старый купил за целковый и кричит, что он новый. А зазноба отменная – баба здоровенная, чудо красоты, толщина в три версты, нос полпуда да глаза просто чудо: один глядит на вас, а другой в Арзамас. Занятно!»82
Новогодняя пора полнилась чудесами. В это время русские цари даже давали «мужицкий бал», на который тысячи простых людей приходили в Зимний дворец есть, пить, веселиться и получать елочные подарки, умудряясь при этом не стащить ни единой ложки. А если что и умыкали, то не царскую собственность, а искушения, торчавшие из карманов гостей!83
Немного в стороне от пира для души и желудка возводились огромные «русские горки» для пира телесного, о котором иностранцы отзывались с особенным восхищением. Виже-Лебрен84 под впечатлением написала: «Невзирая на прежестокую стужу, они [русские] устраивают катание на санях, как днем, так и ночью при свете факелов. В некоторых кварталах сооружают снежные горы и по ним с бешеной скоростию скатываются вниз, впрочем, без малейшей опасности, поели́ку85 нарочито приставленные люди сталкивают вас сверху и принимают снизу»86.
Катальные горы часто сооружались и на окраине Петербурга – в Екатерингофе и на Крестовском острове, «которые простоят всю зиму и во всякое время будут открыты для публики»87.
Мари уговорила-таки Анну Андреевну и Апраксину пустить молодежь на ярмарку на Марсово поле. Обе матушки согласились только с условием, что пойдут и старшие дети с Алевтиной.
К обеду хозяйский ямщик Захар прикатил компанию к углу Миллионной улицы. Обратно решили идти пешком, чтобы лишний раз прогуляться по Невскому. Старшим ассигновали деньги на развлечения и покупки.
Ярмарка поглощала мгновенно, как черная дыра. Повсюду слышались зазывалки:
- Ярмарка огневая, яркая!
- Ярмарка плясовая, жаркая!
- Гляньте налево – лавки с товаром!
- Гляньте направо – веселье даром!
Мари находила компанию Ксении, Константина, Дуни и Маши скучной. Было бы куда веселее с одной только Алевтиной, которая хоть и ворчала по каждому поводу, но была забавницей и смехотуньей. Однако что поделать? Все захотели сразу идти в балаган к Авербуху, у которого толпилось больше всего народу: стало быть, тут давали самые забористые представления.
Мари, ожидая билеты, за которыми пошел Константин, с интересом смотрела на разогрев публики, исполняемый неким Федотом Бужениновым, как тот сам себя с гордостью величал. Косматый, бородатый и грубый мужик, он вдруг совершенно преображался, как только начинал играть с публикой.
– Продавай штиблеты, покупай билеты! Смотри Федоту в рот, а не наоборот! – кричал Буженинов, и из-под его будто отлитых из чугуна черных, роскошных, формованных усов валил пар. – Не пучь глаза, купеческая краса! Господин князь, в балаган залазь!
Мог он мгновенно придумывать подобие эпиграмм, подмечая особенности человека в толпе и либо его возвеличить, либо опозорить на всю ивановскую. Не страшился ни чинов, ни полиции – мог и по городовому пройтись, вызывая угрозу его огромного, как кувалда, кулака и добродушный смех.
– Ложись назём, городничего везем! – драл грудь Буженинов, бессовестно засовывая под косоворотку мешок, чтобы состряпать себе объемное пузо.
Тут на крыше показался паяц с бледным, словно обсыпанным мукою лицом, на котором выделялись криво начертанные брови. Большой, неловко нарисованный рот изображал скорбь. На голове сидел не то колпак, не то шапка Мономаха с бубенцом на хвосте; рукава рубахи свисали ниже варежек; ноги путались в мешковатых бурых шальварах. Он сопровождал пантомимой спектакль Буженинова, а потом опасно перекинулся через перила и повис на одной руке. Толпа ахнула. Мари испугалась за несуразного Петрушку.
Вдруг рука его выскользнула из варежки, и он плюхнулся наземь. Из балагана выскочил Арап и принялся дубасить несчастного юродивого огромной фальшивой дубинкой. Затем схватил за сапоги и поволок внутрь. Народ галдел: одни возмущались жестокости Арапа; другие же находили в этом забаву и еще подначивали, жаждали больше ярости. А Мари почему-то не могла никак понять, упал ли паяц все-таки нарочно или свалился по-настоящему. И как бессердечно Арап тащил его за ноги!
Дети Стрельцовых и Апраксиных уже вошли в балаган, а Романовы – Саша, Володя, Сейчик, Оля с Берти и Романовским в окружении отряда[26] казаков собственного Его Императорского Величества конвоя, – вошли на ярмарку.
Второго января праздновали день рождения Сейчика, и государь с государыней оказались благодушными. Володе удалось уговорить Никсу, и тот похлопотал и упросил родителей позволить отрокам ехать на Марсово поле88 под присмотром Литвинова и казаков. Однако для большей безопасности Саша, Володя, Сейчик и Коля Романовский поехали в повседневной форме лейб-гвардии Преображенского полка. Впрочем, мундиры и оружие скрывались теплыми «николаевскими шинелями».
Саша чувствовал себя на этой шумной и бесшабашной ярмарке непревзойденным идиотом в окружении солдат конвоя, превосходивших вдвое число тех, кого они блюли.
– Вояки пожаловали, – послышался смешок в толпе.
– Хочу на Петрушку, – тут же начал проситься в балаган Авербуха Володя, увидев ту же сцену с зазывом, что еще недавно наблюдали дети Апраксиных и Стрельцовых.
Петрушка так же лихо брякнулся на пол, и его так же грубо уволок Арап. Саша, как до него Мари, почувствовал замирание сердца, когда паяц сорвался с балкона и упал навзничь. Что-то в этом виделось несмешное и горькое. И особенно досадно стало от того, что среди народа оказались те, кто радовался избиению Петрушки. Это уже не было представление. Они ратовали за тумаки по-настоящему.
– А я хочу на карусель! – Оля потянула Сашу за рукав.
Саша огляделся. У кассы выстроилась очередь, но Саша не имел ни малейшего представления, что полагалось делать, не понимал, как происходит покупка билетов.
Литвинов имел при себе выделенные средства и вознамерился показать царским детям, как обычные люди их тратят. В конце концов Саша интуитивно пристроился в конце хвоста, чем вызвал смех Берти и замечания Литвинова, хорошо знавшего блажливые повадки Саши и Володи на публике. Казаки обступили очередь, и прочие люди недовольно озирались, не понимая происходящего.
– Все это постыдно, – ворчал Саша, а Романовский и Берти хохотали. – Мы представляем для этих людей бо́льших скоморохов, чем те, что орут у балагана.
Очередь продвигалась. Крупная женщина впереди постоянно отступала назад, отдавливая Саше сапоги.
– Вас не затруднит не наступать мне на ноги? – тихо попросил ее он.
– А ты пузо подожми! – бросила толстушка и недовольно мотнула головой.
Саша пожал плечами, а Берти почти сложился вдвое.
– А на карусель что же? – лезла Оля.
– Пойдем после балагана, – ответил Саша, поправив фуражку, из-под которой, несмотря на стужу, блестел пот.
Глава 6. Предсказание
Наконец предыдущий сеанс в балагане завершился. Зрители повалили на улицу, а новая партия могла уже входить.
Саша заметил в толпе девушку, совсем еще юную. Она шла, спрятав руки в меховую муфточку, и сияла от радости. Глаза любопытно скользили по толпе, ни на ком особенно не останавливаясь, словно выискивая самое интересное и не находя. Из-под отороченной норкой шапочки выглядывали темные кудри.
В окружении подростков она прошла мимо, не заметив его. Саша обернулся ей вслед. Почему-то хотелось смотреть на нее. Молодежь шла в сторону купеческих рядов. За ними семенила смешная женщина с пивными под платком волосами. На вид – nounou[27] младших.
– Пора пить чай, – велела с серьезным видом Маша Апраксина, и все покорно зашли в чайную купца Парамонова.