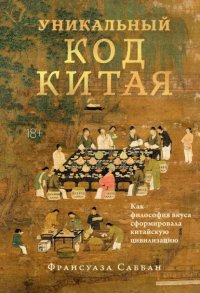
Читать онлайн Уникальный код Китая. Как философия вкуса сформировала китайскую цивилизацию бесплатно
- Все книги автора: Франсуаза Саббан
Мы узнаём тысячу вещей, полезных для дипломатии и понимания страны, в том числе то, что палочки – это символ культурного превосходства Китая над остальным миром.
Le Figaro
Опираясь на литературу и исторические хроники, а также на современные СМИ, Франсуаза Саббан описывает Поднебесную, словно ухватив ее палочками. И даже если она не даёт рецептов, читать эту книгу – настоящее удовольствие.
Le Point Références
Автор погружается в изучение кухни, «уникальной по своим принципам, достижениям и образу», а из кухни ей открывается дверь к пониманию китайской цивилизации. Блюда, описанные ею с большим изяществом, поражают самобытностью и бесконечным разнообразием.
Le Monde des Livres
Разговор о китайской кухне касается и тёмных времен голода, многочисленных в истории этой огромной страны, и сегодняшнего изобилия, ставшего символом экономического успеха Китая. В своем изысканном стиле Саббан предлагает нам взглянуть на Китай по-новому.
Etudes Published
Françoise Sabban
LA CHINE PAR LE MENU
Cuisine, culture culinaire et traditions alimentaires chinoises
© 2024, Société d’édition Les Belles Lettres
Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
КоЛибри ®
Вступительное слово
Когда я была еще совсем юной китаисткой, я получила приглашение на незабываемый завтрак в кругу нескольких китайских профессоров. Выбравшись из коммунистической изоляции, они, казалось, искренне радовались возможности оказаться во Франции, а я – редкому случаю наконец побеседовать с носителями языка. Разговор шел своим чередом, но вдруг мой взгляд упал на руки китайца, сидевшего напротив. Он держал вилку очень забавно и, похоже, никак не мог разрезать мясо ножом. Да, в тот день в столовой нам подали не самый мягкий бифштекс, но едва ли все дело было только в жесткости мяса! Оказалось, что этот уважаемый специалист по французской литературе попросту не умел правильно пользоваться ножом и вилкой. Разумеется, он знал об их существовании, но так и не освоил их на практике. Никогда в жизни не пересекавший Великую стену в западном направлении, он просто не привык к тому, как у нас принято вести себя за столом. Его миром были библиотеки, и, конечно, он не знал правил и манер западных обществ, ему ведь никогда не приходилось их посещать. Однако все остальные, кроме этого необычного гостя, кажется, весьма неплохо ориентировались в наших привычках.
Впрочем, знание столового этикета действительно не появляется само собой, а умение держать вилку и нож – казалось бы, простая для нас вещь – требует тренировки. Неожиданно для себя я осознала, что забыла о феномене доместикации[1], хотя, только начав обучение, уже знала всю теорию. И вот теперь он был передо мной во всей красе. Достаточно вспомнить, с какой ловкостью едят китайские дети, не роняя ни единого зернышка риса со своих палочек, тогда как мы, молодые студенты из Франции, с трудом управляемся с ними, чтобы не умереть с голоду за столом у наших китайских друзей. Ведь они учились пользоваться этими палочками с самого детства, как и мы неуклюже тренировались обращаться с нашими столовыми приборами так, чтобы не пораниться.
Меня осенила до смешного банальная истина: в привычках и манерах нет ничего естественного, они – результат обучения. Но впитываются эти навыки так незаметно, что кажутся врожденными, хотя на самом деле это выучка, корней которой не проследить.
Совру, если скажу, что именно этот незамысловатый случай подтолкнул меня к исследованиям в области питания, в частности китайской кухни и ее истории. Однако воспоминание о нем осталось со мной и побудило продолжить наблюдения, на сей раз более организованным методом – посредством не только наблюдения, но и внимательного прочтения китайских авторов, древних и современных. С тех пор меня стало интересовать в их размышлениях, ценностях и представлениях все то, что связано с пищевой и кулинарной культурой в современном Китае, к которой они, казалось, очень глубоко привязаны. Для этого я перелопатила всевозможные источники, которых так много сегодня. Помимо текстов, о которых я уже сказала, мне помогли еще и случайные разговоры о привычках, которыми мы обменивались на встречах с китайцами, документальные и игровые фильмы, видео, информативные веб-сайты и разнообразные блоги. Все это было очень полезно для моего знакомства с практиками, техниками, представлениями и ценностями, которые зачастую считаются чем-то незначительным, ведь они – часть нашей повседневности.
Задача оказалась не из легких – так по сей день глубоко наше незнание о китайских пищевых привычках. Как, впрочем, и о многих других. И все же с начала XXI века Китай приковывает к себе внимание: достаточно упомянуть почти полуторамиллиардное население и ту ключевую роль, которую он теперь играет для планеты. Его взлеты и падения постоянно мелькают в международных новостях.
Трудности, с которыми сталкиваешься, пытаясь понять Китай, связаны с его историей, включая отношения с другими странами, особенно западными. На самом деле, интерес европейцев к Китаю возник очень давно, а образ, который складывался на протяжении веков, воспринимался нами то с восхищением, то с отторжением. С началом XXI века реакции западного мира стали более сдержанными. Они отражают смешанное с восхищением удивление, которое вызывает стремительный скачок в развитии, совершенненный этой огромной страной всего за полвека. Эта новая великая держава теперь требует равенства с теми, кто до сих пор считался лидерами развитого мира, и фактически устанавливает его. Но сейчас, если говорить прямо, у западных стран появляется настороженность в отношении Китая, а порой и настоящая тревога перед амбициями его руководителей, чья власть стала еще более авторитарной.
Такие же перепады чувств и оценок не обошли стороной и китайские интеллектуальные и политические круги, за последние два века сильно изменившие свое отношение к западным странам. От порой неуверенного стремления соперничать с Западом и Японией в конце XIX – середине XX века, вызванного желанием модернизировать общество, но прерванного коммунистическим застоем после 1949 года, они пришли к жажде реванша, что можно понять в свете антиколониальной проблематики, ныне распространенной среди правящих слоев многих развивающихся стран. Эти негативные представления порой отрицательно сказывались на международных отношениях, которые китайское правительство выстраивает с 1980-х годов. А ведь именно зарубежные страны предоставляли инвестиции, необходимые для развития страны. Иногда это доходило до нарушений промышленных контрактов, кражи научных данных и недобросовестного поведения в переговорах, когда ставились на кон якобы ущемленные китайские интересы.
Чтобы понять эти противоречия, необходимо обратиться к совсем недавней истории Китая. Она не только изменила восприятие китайцами своего государства, но и позволила людям значительно улучшить условия жизни благодаря крупной экономической реформе, проведенной Дэн Сяопином в 1978 году – всего через два года после смерти Мао Цзэдуна. Начало 1980-х ознаменовал разрыв с прежней, едва отошедшей от маоизма социальной системой. А это в свою очередь повлияло на то, что является темой этой книги, – на пищевые привычки и кулинарию китайцев, а также на их гастрономические представления[2].
Одна из первых задач Дэна Сяопина заключалась в улучшении уровня жизни граждан, особенно в плане питания. Надо сказать, страна давно шла к этому. Подавляющее большинство китайцев в период с 1949 по 1980 год жили в «культуре голода», подобно европейскому населению до начала XIX века. XX век не положил конец голоду в мире, и многие развивающиеся страны, охваченные трагическими конфликтами, до сих пор сталкиваются с ним. В Китае последний крупный голод пришелся на 1958–1961 годы[3]; он унес до 50 миллионов жизней. Трагедия происходила вдали от посторонних глаз: весь мир считал, что страна выходит из бедности под руководством Мао Цзэдуна. Хуже того, официально отрицался голод даже в тех регионах, которые пострадали от него сильнее всего; его ужасы стали известны только в 1990-е годы, но власти при этом продолжали преуменьшать масштабы. Многие молодые китайцы в то время почти ничего не знали о голоде – настолько трудно было признать, что обещание «никто больше никогда не умрет с голоду», данное сорок лет назад при основании КНР в октябре 1949 года, было нарушено.
Шесть десятилетий спустя воспоминание об этом времени оставалось столь же живым – об этом свидетельствует речь Ли Кэцяна[4] во время визита в сельский округ провинции Хэнань накануне его назначения премьер-министром весной 2013 года: «Мне трудно поверить, что нам удалось решить жизненно важный вопрос пропитания и минимального благополучия китайцев (вэньбао вэньти)[5], ведь на протяжении всей нашей истории угроза нехватки еды (зерна, нашей основной пищи) постоянно была тяжким бременем на плечах нашего народа и давила на страну, словно нависшее черное облако, которое никогда не рассеивалось»[6]. Стоит уточнить, что Ли Кэцян был экономистом и прекрасно понимал, о чем говорил. Так что еще десять лет назад способность прокормить собственное население оставалась поводом для гордости китайских властей – примечательное обстоятельство на фоне ошеломляющих экономических успехов страны, с восхищением признанных международными институтами.
И все же, несмотря на то что в Китае из-за голода погибли миллионы, страна издавна считалась родиной высокой гастрономии. Об этом противоречии еще в VIII веке великий поэт Ду Фу написал в двух строках, ставших хрестоматийными: Чжумэнь жоуцзю сю / Лу ю дунсы гу:
- Запах мяса и вина – из двери богача,
- А на дорогах – вмерзшие в землю скелеты [7].
Чем объяснить такой разрыв между богатством и бедностью, изобилием и нищетой, пирами богачей и нуждой бедняков? Вопрос, часто обсуждаемый синологами и другими специалистами, в основном сводится к простому объяснению, прямо связывающему голод с высокой кухней. Китайцы, вынужденные веками искать спасение от голода, якобы проявили исключительную изобретательность и таким образом создали выдающуюся кулинарную традицию. Подобный детерминизм, на первый взгляд кажущийся очевидным, в действительности оскорбителен для китайцев. Хотя некоторые китайские авторы порой и склонялись к этой обманчивой логике. Ведь если задуматься, то почему другие народы, также знавшие ужасы голода – а их в истории немало, – не создали кухни, равной китайской? Действительно, такие «наглядные» факты почти всегда кажутся простыми и неглубокими, поэтому люди охотно довольствуются поверхностными рассуждениями, чтобы их объяснить. Из этого как будто следует, что повседневная жизнь человека лишена загадок и не заслуживает серьезного теоретического осмысления. Даже наиболее авторитетные мыслители порой поддавались этому заблуждению, увлекаясь объяснениями слишком прямолинейными, чтобы быть убедительными.
Британский антрополог Джек Гуди[8] в свое время выдвинул гипотезу, позволяющую объяснить это любопытное противоречие. Он связывал возникновение изысканных кулинарных практик и утонченного гурманства у отдельных народов со спецификой общественного устройства, к которому они принадлежали. По его наблюдению, только в иерархических обществах мог сформироваться высокий уровень кулинарного мастерства, ведь именно такие общества отличались разнообразием административных, экономических, политических и культурных институтов. Эта структурная сложность создавала условия для появления специализированных навыков, в частности – кулинарных. В таких условиях кулинарное искусство могло процветать за пределами домашнего очага, превращаясь в ремесло, которым чаще всего занимались мужчины. Гуди противопоставлял Евразию Африке, где большинство обществ были традиционными, а кухня оставалась в основном домашней, ограниченной семейным кругом. Там она не документировалась, как в некоторых странах Евразии, таких как Франция или Китай, где создавались трактаты, книги рецептов и различные письменные памятники гастрономии. При этом Гуди не выносил оценочных суждений о такой кулинарной классификации. Его гипотеза справедлива в том, что профессионализация была ключевым элементом развития кулинарной практики в отдельную специализированную деятельность, которую сегодня иногда рассматривают как настоящее, если не самое выдающееся, искусство.
Такая «профессиональная» кухня находила ценителей и среди высших слоев общества – там, где богатство давало простор для экспериментов, а развитая письменная традиция позволяла ученым и писцам фиксировать накопленные знания в трактатах, домовых книгах и других текстах о гастрономии. Эти сочинения никогда не были частью высокой литературы, а считались скорее бытовой письменностью. Нередко к ним относились пренебрежительно, как бы свысока. Однако стоит отметить, что тексты о еде уже давно хранятся в библиотеках во Франции, в Китае и, конечно, других странах. В противоположность этому, по мнению Гуди, в обществах, где рецепты и кулинарные знания передавались из уст в уста, кулинарная традиция сохранилась в меньшей степени, поскольку таким способом невозможно в точности сохранить различные тонкости готовки. Но именно это устное знание передавало опыт из поколения в поколение.
Тем не менее приготовление пищи и способы ее употребления нельзя свести к простому набору случайных обстоятельств или к единственной причинно-следственной связи между наличием съедобных продуктов и их превращением в готовую еду. Кулинарные практики и само потребление пищи всегда укоренены в особой «культуре питания». Последняя, с одной стороны, определяется тем, как общество осваивает окружающую среду, а с другой – связана с его системой представлений и ценностей, формирующих цельную картину мира. Этот факт давно признан и уже не вызывает сомнений с тех пор, как антрополог Клод Леви-Стросс вывел свою знаменитую формулу: недостаточно, чтобы нечто было приятно съесть, еще нужно, чтобы о нем было приятно думать. Многочисленные комментаторы и интерпретаторы превратили ее в своего рода аксиому, о чем мы поговорим позже.
Что касается культуры питания самих китайцев, то какой бы непривычной она ни представлялась нам, она также является частью общечеловеческой истории. В ней есть немало черт, сближающих ее с другими культурами. Эти черты становятся еще более очевидными, когда мы вспоминаем о традиционных крестьянских обществах, которые в разных уголках мира обеспечивали себя едой похожим образом. При этом собственно китайская кухня, созданная совместным трудом поколений поваров и гурманов, остается уникальной в своих принципах, реализации и созданных ею образах. Но за пределами Китая она по-прежнему известна не так широко, несмотря на заметные сдвиги, связанные с расселением многочисленных китайских диаспор в США, Канаде или Австралии. И сегодня в нашем «глобализованном» мире культурные институты и цифровые каналы недостаточно освещают эту часть китайской культуры. Но справедлив ли до сих пор вывод, сделанный Жоржем Переком еще в 1967 году?
Несколько лет назад мне в течение трех месяцев представился случай четыре раза поужинать в четырех китайских ресторанах, располагавшихся в Париже (Франция), Саарбрюкене (Германия), Ковентри (Великобритания) и Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки). …До этого я наивно полагал, что китайская (французская) кухня была кухней китайской; но китайская (немецкая) кухня оказалась поразительно похожа на кухню немецкую, китайская (английская) кухня – на английскую (повсюду зеленый горошек), китайская (американская) кухня напоминала все что угодно, кроме хоть чего-нибудь китайского, разве что чувствовалось что-то американское[9].
Сегодня слова остроумного писателя неверны, как бы ни были точны его наблюдения о характере народов. В свое время он был, конечно, прав: китайские рестораторы, обосновавшиеся в Европе, стремились лишь угодить вкусу клиента, думая о быстрой прибыли. Зачем было разочаровывать французов, которые обильно поливали рис соевым соусом, чтобы придать ему хоть какой-то вкус, и так и не осознали, что трапеза должна состоять из множества блюд на общем столе, а не из индивидуальных порций, ревниво охраняемых каждым едоком? Торговцы приспосабливались к жизни в новой стране, следуя негласному правилу: не нарушать привычек посетителей. Иначе, рассуждали они, публика попросту разойдется. Да и китайский ресторан тех лет был прежде всего дешевой забегаловкой, не претендовавшей ни на изыск, ни на славу. Подобных мелких предпринимателей китайская традиция учености всегда презирала за неспособность подняться выше сиюминутной наживы. Но сегодня ситуация иная. Новое поколение поваров, выросших и получивших образование в Европе или приехавших из Пекина, Гуанчжоу, Шанхая или Гонконга, старается вплести родную культуру в европейскую повседневность, предлагая европейцам более достоверное и многогранное представление о китайской кухне.
Одной из задач этого исследования является попытка яснее показать одну из важнейших составляющих китайской культуры в надежде уменьшить нашу «слепоту» к чужому, которая нередко подпитывается поверхностными знаниями и сводится к нескольким упрощенным образам. И это при том, что сегодня в нашем распоряжении уже имеется богатый корпус аудиовизуальных материалов, включая, например, документальные фильмы о продуктах питания и их приготовлении в китайской глубинке.
Но даже подобные усилия едва ли способны устранить досадное неравенство: китайцы – как, впрочем, и японцы – зачастую знают о Европе куда больше, чем мы о Восточной Азии. Однако и их знания, кажущиеся достаточно объемными, порой строятся на укорененных стереотипах и фантастических клише. Ведь, если не считать редких исключений, даже образованный француз затруднится назвать более двух китайских писателей (и то, скорее всего, наугад), тогда как любой китаец или японец, прошедший школьную программу, спокойно перечислит Золя, Гюго, Бальзака и многих других классиков европейской, русской и японской литературы. Как тут не пенять на нашу неграмотность в отношении истории и жизни значительной части человечества?
Впрочем, путь к пониманию иной цивилизации можно начать с самого простого – с еды. Прикоснуться к культуре через еду довольно легко, если только мы готовы отложить в сторону наши предубеждения, отказаться от чувства собственного превосходства и от наивной уверенности, будто уже отлично разбираемся в азах чужой кухни. Войти в мир китайской кухни – значит почувствовать, как глубоко укоренено в китайцах уважение к прошлому и вместе с тем как естественно они живут в ногу со временем. Это ощущение – истинное удовольствие, от которого не стоит отказываться.
Но и здесь дорога полна ловушек. Первая опасность – взглянуть на Китай как на монолитную сущность, приписав ему застывшую и таинственную «вечность» и забыв о богатстве и разнообразии его гастрономических вселенных, которые порой разительно отличаются друг от друга. Вторая – недооценить бурные социально-политические перемены последних десятилетий, напрямую влияющие и на кулинарные практики, и на питание в целом. Можно ли сказать, что начало экономической реформы, то есть переход от режима дефицита и карточек к эпохе изобилия, изменило, а возможно, и коренным образом перестроило представления о пище, систему ценностей и образы, связанные с ней? К сожалению, нет. Несмотря на неизбежные перемены в повседневных привычках, особенно среди молодежи (о чем мы еще скажем ближе к концу книги), основы китайской пищевой культуры в целом остались неизменными. И мы постарались это показать.
Издавна в Китае забота о продовольствии была делом государственного масштаба. Как и прежде, власти КНР стремятся обеспечить «продовольственную независимость» от других государств, без которой страна не может быть вполне стабильной. Нехватка зерна, ограниченные поставки молока и в особенности желанного миллионами китайцев мяса по-прежнему остаются ключевыми вопросами аграрной политики. Мы же видим лишь верхушку айсберга в виде закупки китайскими компаниями сельскохозяйственных земель по всему миру, в том числе в Африке. Однако специалисты[10] предупреждают, что создание этой «продовольственной независимости» остается под большим вопросом, и потому внутри самих государственных структур разгораются острые дискуссии[11].
Вопреки распространенному представлению, повседневная жизнь в Китае не подчиняется отполированным политическим программам авторитарного правительства. В сфере питания и кулинарии критика находит свое выражение через многочисленные каналы связи: СМИ, издательства, социальные сети, которыми активно пользуется молодежь. Чтобы власть не испытывала реальной угрозы, критика высказывается завуалировано: либо осторожно, чтобы никак не затронуть господствующую идеологию, либо очень изобретательно и так тонко, что цензоры этого не замечают[12]. Именно так можно проследить, как в современном китайском обществе на фоне устоявшихся представлений о прошлом происходят значимые изменения, хотя цепочку этих процессов уловить трудно.
Пример тому – рост числа молодых людей, выбирающих вегетарианский рацион в рамках борьбы за права животных. Идея не нова: в прошлом некоторые ученые и литераторы тоже придерживались строгой растительной диеты, но по другим причинам. Они хотели дистанцироваться от навязанной и не слишком безопасной профессиональной жизни и потому уезжали в деревню и довольствовались овощами со своего огорода, исключая мясо из своего рациона. За этим стояло желание жить иначе, противопоставлять себя коллегам, вовлеченным в государственные дела. Часто они поступали так, руководствуясь личными соображениями, во многом религиозными. Строгие диетические привычки, явно или нет, становились способом показать альтернативную модель жизни, противопоставить себя обществу.
На бытовом уровне кухня сохраняет память о древних оппозициях сырого и вареного, горячего и холодного, которые для древних китайцев отличали «варваров». Новые поколения уже не боятся вреда от холодных напитков, и их выбор отражает пересмотр традиционных ценностей, остающихся неизменными в других слоях населения. А «варвары» – больше не чужие народы, которых нужно держать на расстоянии. Теперь это источники новых привычек, из которых извлекаются только полезные уроки и практики. Быть может, эволюция Китая представляет собой известную формулу: «Если хочешь, чтобы ничего не изменилось, нужно, чтобы все изменилось»?[13]
В этом эссе мы попытались понять культуру китайцев, рассматривая их интерес к кулинарии, с древних времен бывшей одной из основ их цивилизации. Например, бронзовый котел дин стал символом власти и легитимности правителя еще при династии Шан и Чжоу (1700–221 годы до н. э.), а сегодня древняя символика этого кулинарного сосуда, его форма, декор и ритуальное использование, имевшее место в доимперском Китае, помогают лидерам Китая заявить о своей легитимности даже в первых рядах ООН в Нью-Йорке! Ярким примером стал подарок от президента Цзян Цзэминя в 1995 году. Об этом мы еще поговорим позже.
Демонстрируя свои серьезные амбиции с помощью незамысловатых бытовых аналогий, высокопоставленные люди Китая и в наши дни сравнивают свое управление страной с техникой приготовления пищи на огне, где главное – внимательность и мастерство повара. Одна из знаменитых рекомендаций «Книги пути и добродетели» («Дао Дэ Цзин»)[14] гласит: «Править великой страной – это как уметь готовить маленьких жареных рыбок». Но чтобы блюдо получилось, повар должен действовать умело и точно, что идет вразрез с принципом неделания, о котором говорит автор философского текста. Мясо рыбы крайне нежное, а у мелких видов – еще и хрупкое, поэтому повар во время приготовления должен проявить настоящее мастерство. Так же и лидер должен действовать с точностью и вниманием, чтобы управлять страной успешно. Именно об этом напомнил Си Цзиньпин вскоре после своего избрания в марте 2013 года, выступая перед группой иностранных журналистов. По его словам, управлять страной с населением в 1,3 миллиарда человек нужно так же, как готовить жареную мелкую рыбу – «с глубоким пониманием своего народа и осознанием того, что порой приходится ходить по тонкому льду»[15].
Но не стоит обольщаться способностью этой риторики играть с парадоксами, соединяя полярные идеи так, будто многогранную реальность можно понять только с помощью многомерного и чуткого взгляда, замечающего внезапные перемены. Продолжая аналогию о приготовлении на огне, нужно отметить, что для мелкой рыбы он должен быть небольшим. Но, как подтвердят повара, для крупной рыбы нужен больший огонь, иногда даже языки пламени, охватывающие котел. Тут все зависит от умения повара: нужно точно и быстро поймать момент, чтобы завершить приготовление. Ошибка может привести к последствиям, которые не всегда удается исправить или забыть.
Глава I
Основы
Попробовать на вкус
Нам подали несколько больших подносов с устрицами, уже открытыми и похожими на моллюсков величиной с мячик для пинг-понга. Они лежали в створках раковин – свежие, гладкие, словно камешки. Для меня это стало настоящим открытием: ведь я никогда раньше не пробовала сырых устриц. <…> В конце концов я решилась. Первая холодная устрица скользнула в горло так быстро, что я даже не успела ее прожевать. На языке осталась почти невыразимая морская прохлада. Новый для меня вкус оказался так хорош, что дальше я проглатывала устрицы одну за другой. Эта тонкая, чистая йодистая свежесть была их настоящим вкусом – подлинным дыханием океана, без малейшего рыбного запаха. Настоящее наслаждение. Я пожалела, что столько лет обходила их стороной. Тут один из друзей принес устриц вареных – они еще дымились в картонной коробке. Но кто бы мог подумать, что после сырых они покажутся совершенно безвкусными? От огня их плоть стала жесткой, утратила нежность и свежесть. Ничего общего с той прохладой, что остается на языке после сырой устрицы. Какая досада!
– Видишь, – сказал мне друг, – чтобы понять, нужно сравнить!
Я продолжала уплетать устрицы и уже не могла сосчитать, сколько их съела. В это время у меня в голове вертелась одна мысль: а принесло ли человечеству открытие и использование огня подлинное наслаждение от пищи? Ведь и сырой стейк, говорят, – настоящее лакомство. Не пропагандируют ли жители развитых стран своего рода возвращение к природе? <…> После устриц в сыром виде казалось, никакая другая еда уже не имеет вкуса[16].
Этой восторженной похвалой «странной и холодной изысканности» устрицы, столь любимой ценителями, Чжан Канкан, известная в Китае писательница, сама того не зная, вторила рассуждениям американки М. Ф. К. Фишер, автору очаровательной книги «Сентиментальная биография устрицы»[17]. Но при этом нельзя не заметить: Чжан прекрасно понимала, какие восторги вызывает этот моллюск в Европе, где восхищение вкусом сочетается с отвращением к этому маленькому серому тельцу, бесформенному, скользкому, блестящему, лежащему в створке, заполненной водой. Дегустация устриц в Балтиморе, описанная ею в путевых заметках о поездке по Европе и США в начале 1980-х, занимает едва ли не самое протяженное место в книге, превосходя другие кулинарные впечатления. Еда для Чжан Канкан – шанс открыть для себя другой мир, находящийся за пределами родины. Ведь для нее, как видно, трапеза и напитки были не только предметом живого любопытства, но и настоящим мерилом, с помощью которого можно было выставить высокую оценку Китаю и одновременно – невольно подчеркнуть отставание посещенных ею стран в этой области. И это несмотря на их превосходство в других сферах жизни.
Но что еще важнее: наблюдения Чжан Канкан подрывают привычное, стереотипное суждение о западных пищевых практиках. Ее сомнение в том, что «приготовленное» (традиционно китайское) должно стоять выше «сырого» (ассоциированного с Западом), безусловно искреннее. Однако, как мы увидим, оно вписывается в куда более широкий и концептуальный спор, вспыхнувший в интеллектуальных кругах Китая во времена так называемой «культурной лихорадки», последовавшей за политикой реформ и открытости, объявленной Дэн Сяопином в декабре 1978 года[18]. Для Чжан Канкан и ее коллег-писателей, приглашенных зарубежными культурными институтами в начале 1980-х, после трех десятилетий почти полной замкнутости страны, это путешествие стало не только шансом узнать новые вкусы, но и возможностью взглянуть на мир иначе.
И все же за игривой манерой и слегка самолюбивой интонацией эпизода, описанного Чжан, ясно проглядывает вопрос о роли огня как первого инструмента, с помощью которого человечество научилось заботиться о собственном питании. Не случайно свои сомнения она формулирует именно в англосаксонской стране, чья репутация в гастрономии была в глазах китайцев далеко не блестящей. И характерно, что Чжан не проводит никакой связи между удачной дегустацией сырых устриц и тем знанием морепродуктов, которым, несомненно, владели повара, чтобы так приготовить угощение. Она не отмечает их особого мастерства, а напротив – сводит все к простой идее: жители «развитых стран» лишь проповедуют возвращение к природе. Такой поворот мысли был полностью согласован с ожиданиями ее китайских читателей. Ведь задача Канкан заключалась не просто в том, чтобы разделить с ними свое наслаждение. Такой «пищевой» аллегорией она стремилась утвердить картину мира, разделенного надвое: на Китай с одной стороны и на Запад – с другой. Это противопоставление, столь глубоко укорененное, живо и поныне, и именно оно станет центральной линией нашего дальнейшего рассуждения. Китайцы неизменно стремятся сравнивать себя с «западными людьми», то есть с европейцами и североамериканцами.
Модель общества и культура питания
Очарование, вызванное дегустацией сырых устриц, заставляет Чжан Канкан усомниться в, казалось бы, незыблемом принципе китайской культурной традиции: огонь – абсолютно необходимый инструмент для превращения животного мяса в съедобную пищу. Однако это сомнение оказывается встроено в инаковость европейцев, которые «едят вилкой и ножом, уплетают кровавую говядину, потребляют сыр и сливочное масло» и таким образом «сохраняют в себе значительную часть своей первобытной, животной природы – куда большую, чем у народов-земледельцев». Такой вывод о дикой, воинственной сущности западных народов – «потомков варваров севера Европы», как говорит нам роман «Тотем волка», – ставит под вопрос некоторые внешние проявления их цивилизованности. Автор этого произведения, Цзян Жун (под псевдонимом Лю Цзяминь), который в 2004 году создал автобиографическую историю, ставшую в Китае бестселлером и легшую в основу фильма Жан-Жака Анно «Последний волк»[19], – не кто иной, как муж Чжан Канкан[20].
Впрочем, Цзян Жун далеко не единственный, кто прибегает к этому расхожему клише, основанному на предполагаемых пищевых привычках западных, или «чужих», народов. Оно регулярно встречается в текстах китайских писателей, журналистов и специалистов по питанию еще с начала ХХ века. Аналогичные суждения бытовали и в Японии еще в эпоху Мэйдзи, во время ее первой индустриализации[21]. Однако если мы признаем некую воображаемую превосходящую силу западной цивилизации, которая объясняется именно мясным рационом и физической мощью, то вместе с тем соглашаемся, что этот рацион наглядно демонстрирует и оборотную сторону – животное начало и агрессивность.
Стереотип этот сохранялся вплоть до начала XXI века, хотя постепенно терял свою убедительность по мере того, как Китай занимал место в ряду сильнейших мировых держав и включался в процессы глобализации. Более того, в это же время новые поколения – самые обеспеченные, урбанизированные и молодые – стали, «как во всем мире», есть говядину, приготовление которой их родители еще несколько десятилетий назад сочли бы за признак бедности. Любопытно, кстати, что французские переводчики «Тотема волка» не удержались от добавления красочного эпитета «кровавый» (фр. saignant) к описанию европейского стейка, тогда как в оригинале было написано только: «едят вилкой и ножом, их пища: говяжьи ребра, сыр и сливочное масло»[22]. Этого, впрочем, достаточно, чтобы противопоставить европейцев китайцам – оседлым земледельцам, чья еда строится прежде всего на злаках. А уж то, что «они» рвут мясо острыми приборами, которые с китайской точки зрения не должны покидать пределы кухни, лишь усиливает выведенное противопоставление: ведь китайцы используют палочки – орудие мирное, безобидное, управляемое всего одной рукой[23].
Удивительно, но подобные стереотипы о питании по-прежнему живы, и даже художественная литература не смогла ничего с этим поделать. Даже Чэнь Чжэнь, один из положительных персонажей «Тотема волка», заимствует мысль у великого писателя Лу Синя (1881–1936). Он говорит, что «в западных людях животное начало проявлено куда больше, чем у китайцев с их более мягким характером»[24]. Цена этой «мягкости», замечает Чэнь Чжэнь, такова, что китайцы в течение века оставались овцами, подвергавшимися нападкам западных волков: «Мягкость характера определяет судьбу народа».
Заимствованный у Лу Синя тезис о звериной западной силе в противовес китайской слабости и сомнения Чжан Канкан по поводу вкусности сырой говядины – все это работает как аллегория традиционно закрепленных ролей Китая и Запада. Но сами эти тезисы подсказывают: граница, столь тщательно проведенная между «нами» и «ими», может быть стерта, если китайцы признают живительную силу западного рациона – и даже его гастрономическую ценность, – ведь в таком случае они сами могли бы претендовать на ту самую мужественность людей Запада. Сегодня этот образ «волков-воинов» перерос в стратегию Коммунистической партии Китая, которая, как это видят международные инстанции, демонстрирует некоторую воинственность в дипломатических выступлениях[25].
В те времена, когда Лу Синь рассуждал о миролюбии китайцев, оно, как известно, не принесло успеха, ведь они не смогли противостоять имперским амбициям западных держав в середине XIX века. Его взгляды находят отклик в работах ряда китайских врачей и ученых, часто учившихся за границей и ставших новыми приверженцами западных антропометрических наук. Перенеся вопрос в область здоровья и тела, они убедились, что физическая слабость китайцев, подтвержденная программой по измерению тел определенных групп населения, является причиной упадка страны. Одной из главных причин этой общей слабости они считали рацион китайцев, признанный бедным питательными веществами[26].
Хотя размышления Чжан Канкан далеки от гурманских практик, которые нас интересуют, они выполняют роль ключа к пониманию тех представлений, которые с конца XIX века занимали умы китайских интеллектуалов и политиков, порождали многочисленные дебаты и стимулировали исследования, порой влиявшие на политические решения. В том числе – на нововведения националистического правительства Гоминьдана (1927–1949), которые были направлены на улучшение гигиены и образа жизни населения[27]. В последней главе этой книги мы вернемся к пересмотру этих концепций в китайском обществе XXI века, где происходит быстрая пищевая трансформация, которая, несомненно, обрадовала бы врачей предвоенных лет, но последствия которой в области здравоохранения их, вероятно, напугали бы.
Таким образом, связь между моделью общества и рационом стала очевидной для китайских интеллектуалов, когда они начали искать причины «слабости» Китая, вынужденного после череды так называемых «неравноправных» договоров, начиная с 1842 года, уступать требованиям западных держав. Выразимся анахронично, но по сути последние были тогда одержимы идеей создания полностью свободного рынка. Китайским мыслителям было ясно, что их соотечественники, питавшиеся зерном и овощами, были заметно слабее физически в сравнении с «мясоедами», черпавшими силы из рациона, насыщенного животными продуктами.
Истоки этой логики корнями уходят в эпоху задолго до того, как Лу Синь обрушивал критику на своих соотечественников; эта несколько упрощенная корреляция прослеживается на протяжении всей истории. Рассуждения, насыщенные ссылками на классические тексты, читаемые буквально или переосмысляемые в зависимости от обстоятельств, до сих пор сохраняют актуальность. Так прошлое незримо вплетается в настоящее.
Огонь и культура обработки злаков
Замечания Чжан Канкан и утверждения Цзян Жуна в его романе позволяют предположить, что отсылки к древнему китайскому обществу продолжают формировать основы некоторых представлений о пище и отражаются в современных пищевых практиках. Разумеется, было бы преувеличением проводить прямую связь между старым исчезнувшим миром и настоящим, несколько смутным временем, которое реконструирует и изобретает так называемые «традиционные» обычаи. Тем не менее отдельные черты древнекитайской культуры, своего рода общий «фонд» достаточно простых образов, дожили до наших дней. Во многих мифических повествованиях питание и человечность связаны: именно они объясняют возникновение китайской цивилизации. Посредством питания двуногие существа, населявшие территорию, которую сегодня называют «Китай», превратились в настоящих людей, и так возникла целая цивилизация. Эта легенда изложена в самых древних ритуальных и философских трактатах доимперского периода (VII–III века до н. э.), которые, как полагают, были собраны самим Конфуцием[28]. Она состоит из двух ключевых элементов: один связан с пропитанием, другой – с приготовлением пищи, позволившей этой трансформации состояться, а именно: с земледелием и освоением огня.
В статье о мифе золотого века Китая Жан Леви показывает, как со временем среди образованной элиты сложился более правдивый рассказ об эволюции человечества, который опирается на легендарные и идеализированные представления о возникновении цивилизации и тем самым подчеркивает уникальность китайцев по сравнению с их соседями[29]. В этом повествовании ключевое значение придается образу жизни, то есть тому, что помогло совершить переход от варварства (или дикости) к цивилизации. Изначально жители будущей территории Китая были дикими существами: они обитали на деревьях или прятались в пещерах, питались сырой плотью и глотали кровь, шерсть и перья целиком. В общем, ничем не отличались от зверей.
Позднее, благодаря благотворному влиянию изобретательных правителей, эти будущие люди познакомились с огнем и спасительным земледелием, в частности с выращиванием зерновых. Они смогли питаться культивированным зерном и есть приготовленную пищу, не рискуя отравиться и не разрушая свой организм. Так они отделились от варваров, которые не ели зерно и/или не готовили пищу (буквально «не использовали огонь для еды»)[30]. Освоение земледелия и огня стало основой порядка в мире, дало начало организованному обществу и появлению полноценного человека.
Эта версия происхождения человечества закрепляет за китайцами статус земледельцев: выращивание зерновых признается их основной деятельностью и символом цивилизации. Такая культурная традиция строится также на распределении ролей между мужчинами и женщинами: мужчина работает в поле, женщина – дома, у ткацкого станка. Япония глубоко прониклась китайской культурой и следует некоторым старым представлениям до сих пор, поддерживая эту традиционную модель даже в императорском доме: император выращивает рис на специальном участке во дворце, а императрица занимается разведением шелкопряда[31]. Фотографии монархов за работой ежегодно публикуются в императорском календаре[32].
Сырое и вареное
Древнее разделение народов на «варварские» и «цивилизованные» время от времени оживает в ироничных сравнениях китайцев с европейцами. Современные «варвары» – это жители западных стран с их внушительной растительностью на лице и теле, что воспринимают в Китае как след природной дикости. Они считаются любителями почти сырой говядины[33]. Говоря антропологическим языком, они «мясоеды», тогда как китайцы – прежде всего «растительноядные». Подобное деление – западные народы, питающиеся мясом и молоком, и китайцы, живущие за счет зерна, – в сущности покоится на глубинных принципах двух общественных моделей: здесь кочевники-скотоводы, активные и представляющие угрозу, а там – земледельцы, привязанные к своей земле и занятые мирным трудом.
Заметим, что эта классификация была выведена не только китайцами: греки создавали аналогичные образы «варваров» – тех «иных», с которыми они вечно вели борьбу[34]. В Китае же дихотомия «сырое/вареное» иногда доводится до абсурда. Так, любят повторять, что «некоторые западные люди находят удовольствие в кровавых говяжьих стейках – недоделанных, не доведенных до кулинарной завершенности. А вот китайцы не могут есть рис, если все зерна не сварились одинаково»[35]! Смысл этих замечаний в одном: кровь в куске мяса на тарелке воспринимается как явный знак недостаточной обработки продукта.
Такое неприятие крови в еде уходит корнями в древние представления о «животном состоянии» – полулюдском, недопустимом[36]. Кулинары уточняют: любители стейков предпочитают мясо, «прожаренное на семь или восемь» по условной десятибалльной шкале. Но и семь, и восемь из десяти – это все еще недожаренное мясо[37]. Отсюда и вывод: степень готовности красного мяса становится маркером цивилизованности. И именно из-за страсти западных людей к полусырому мясу с кровью китайцы невольно сомневаются в их полной принадлежности к цивилизованному миру. Противопоставление «стейк с кровью» – «рис, приготовленный аль денте» выглядит притянутым за уши, но оно стремится выстроить аналогию: Китай – зерно, Запад – мясо.
Не случайно многие китайцы, родившиеся до 1980 года, до сих пор признаются, что вид крови в мясе вызывает у них недоумение и даже брезгливость. Ведь назначение кухни они видят в том, чтобы преобразовать дары природы – с помощью огня, техники, пряностей – так, чтобы от их первозданного состояния не осталось ничего. Это касается в первую очередь говядины. В китайской деревне бык был уважаем за свою незаменимую роль в хозяйстве, поэтому его почти не разводили на убой. Строгого запрета на употребление говядины не существовало, за исключением отдельных религиозных практик[38]. При этом кровь других животных, например свиньи, овцы, птицы, вполне использовалась в ряде региональных кухонь, но непременно проходила тепловую обработку.
Антропологи давно изучают противопоставление шэн («сырое») и шу («вареное»), которое впервые вывел в своих трудах Клод Леви-Стросс[39]. Впоследствии оно несколько изменялось и уточнялось в течение всего XX века, как мы увидим дальше. А существует эта оппозиция еще с древности как критерий определения «варваров», которым пользовались китайские власти, различая соседние народы по степени их «цивилизованности». «Варвары вареные», несмотря на другую культуру, подчинялись китайским законам, платили налоги и выполняли повинности. «Варвары сырые» находились полностью вне цивилизации[40]. Выбор эпитетов говорит сам за себя: они были взяты из повседневной реальности, из кухни, и перекликались с представлениями о начале человеческой истории как истории еды.
При этом использование этих прилагательных может ввести в заблуждение, если интерпретировать их согласно нашим представлениям. Слово шу («вареный») обозначает не только переход от сырого к приготовленному, но прежде всего желанный результат процесса трансформации – будь то варка, созревание или выдержка продукта. Так, в Китае и огонь, превращающий сырой ингредиент в готовое блюдо, и солнечное тепло, доводящее фрукт до зрелости, мыслились через одно и то же понятие шу[41]. Цивилизация оказывала аналогичное действие на варваров: «доводила» их до того уровня, когда они могли называться «своими». И это тоже одно из значений слова шу. Так, цивилизация уподоблялась огню в очаге или солнечным лучам, постепенно «смягчающим» варваров. Антоним шэн («сырой») не менее многогранный: он означает и незрелый плод, и сырой ингредиент, и необработанный материал – например, руду, которую нужно переплавить.
Семантическое поле обоих слов отсылает к представлению о совершенствовании, о готовности как о результате успешной работы человека или вселенной над природным веществом. В этом ряду зерно и мясо ставятся на один уровень: первое становится съедобным с помощью солнечного света, второе – за счет огня. Говоря конкретнее, огонь способствует разогреванию блюд, а тепло, исходящее от них, становится доказательством того, что еду приготовили должным образом. Согласно китайским правилам, кушанья следует есть как можно более горячими. Западным людям постоянно ставили в упрек равнодушие к температуре еды, привычку довольствоваться холодными закусками и перекусами, что считалось вредным для здоровья[42]. В Китае холодная пища вызывает стойкие негативные ассоциации, так как напоминает Праздник чистого света (Цинмин цзе): через две недели после весеннего равноденствия люди тушат домашние огни и отправляются на кладбище для ритуальной уборки могил и холодной трапезы[43].
Именно поэтому для китайцев холодная и сырая пища была синонимична грубым, примитивным культурам. Китай же представлялся как центр цивилизации «вареного и горячего», основанной на кропотливом возделывании зерновых и на четком разделении труда: мужчина – в поле, женщина – за ткацким станком под «защитой» домашних стен. Этот стереотипный образ противопоставлялся столь же клишированному варварскому быту и нередко находил выражение в поэтических произведениях. Так, поэты оплакивали судьбу несчастных принцесс, которых выдавали за иностранцев, чтобы наладить с ними дипломатические отношения[44]. И как не сопереживать знаменитому «плачу» Люй Сицзюнь (130–101 годы до н. э.), которую отец-император из династии Хань (206–203 до н. э.) выдал замуж за владыку усуней, варварского народа далеко на западе?
- В юрте живу я, заперта в войлочных стенах,
- от дома далеко.
- Мясо – пища моя, а питье – кислое молоко.
По легенде, принцесса сумела приспособиться к местным традициям, чтобы угодить новому мужу, и таким образом выполнила дипломатическую миссию, но вернуться в Китай ей не позволили. Эти два стиха передают трагизм ее судьбы: вместо каменного дома и утонченной кухни – войлочная кибитка и грубая еда, плохо влияющие на здоровье[45].
Сегодня же роль сырой и холодной пищи в рационе изменилась. Молодежь привыкла к холодным напиткам, тогда как старшее поколение даже в жару предпочитает обжигающе горячую чашку зеленого чая. То же касается говядины и еще больше салатов из сырых овощей, которых в повседневном меню китайцев до 1980–1990-х почти не было. Это отдельная тема для рассуждений, которую мы затронем в конце книги. Главное же остается неизменным: основной принцип китайской кухни – процесс доведения блюда до готовности, «идеального завершения». Кулинария традиционно понимается как последовательность шагов, требующих большого внимания и абсолютного мастерства повара.
Неслучайно символом китайской кухни стала сковорода вок[46] (в кантонском[47] варианте, а по-мандарински го), известная во всем мире. Можно возразить, что историк скорее вспомнит дин – бронзовые ритуальные сосуды эпохи Шан и Чжоу (1700–221 годы до н. э.), обнаруженные при многочисленных археологических раскопках. Эти котлы весьма внушительных размеров подчас становились шедеврами древнего китайского искусства. Они использовались для приготовления пищи – скорее всего, мяса, – а также служили вместилищем для жертвенных приношений духам на торжественных церемониях в императорских и аристократических домах.
Легендарный котел дин
Современные образы огня и варки, сложенные на основе двойной оппозиции между сырым и вареным, холодным и горячим, представляют собой систему, восходящую к великим классическим текстам. И хотя их содержание с веками поблекло, эти представления остались в нашей памяти. Вклад в формирование кулинарных представлений внесли и иные источники, например поразительные археологические находки, сделанные с середины XX века в нескольких регионах страны. Среди прочего были найдены великолепные бронзовые блюда и сосуды эпохи династий Шан и Чжоу, чьи формы, а иногда и назначение, восходят к керамическим сосудам неолита.
В кулинарной практике для работы с огнем необходима специальная кухонная утварь. Да, приготовление пищи в земляных ямах или на раскаленных камнях существовало и продолжает существовать по сей день как у некоторых «экзотических» народов, так и в развитых обществах (достаточно вспомнить планчу[48]). В Китае для приготовления пищи на огне используют особую сковороду вок. В древности для этого использовался котел дин. Он служил в первую очередь ритуальным сосудом, а также символом власти всей китайской цивилизации.
Дины были двух типов: либо с округлым туловом и вогнутым дном, на трех ножках, либо в форме ящика на четырех ножках, с двумя припаянными ручками. Некоторые дины были значительных размеров и весили более тонны. Судя по всему, они использовались для приготовления мяса, а также как сосуды для жертвенных приношений духам во время больших и малых церемоний при императорском дворе[49]. Более редкие четырехногие экземпляры, обнаруженные в императорских усыпальницах, предназначались исключительно для монархов и их супруг, тогда как трехногие дины, которых находят значительно больше, принадлежали аристократии.
В научной литературе эти трехногие сосуды обычно именуют «котлами» (фр. chaudron). Отлитые по особой технологии, богато декорированные зооморфным и геометрическим орнаментом, со временем они превратились в один из главных символов китайской древности. На протяжении всей китайской истории дины вызывали интерес ученых, коллекционеров и мастеров-литейщиков, создававших многочисленные реплики. Более того, эта страсть к динам распространилась и в Японии, где их также коллекционировали ценители[50].
И сегодня дин – высоко почитаемый предмет. Он занимает центральное место в экспозициях древней бронзы в Национальном дворцовом музее Тайбэя и Шанхайском музее. Некоторые историки отмечают[51], что почитание, близкое к помешательству, проявляется в современном использовании дина на церемониях, кульминацией которых становится открытие огромного сосуда, изготовленного по образцу древних. Самый впечатляющий пример – дин высотой 11,07 метра и весом 30 тонн, открытый в ноябре 2012 года в честь годовщины основания Советской республики Жуйцзинь в провинции Цзянси (7 ноября 1931 года). Этот крупнейший дин в Китае установлен на вершине восьмипролетной лестницы, в центре которой высеченна цитата Си Цзиньпина.
Современное почитание такого рода продолжает историческую традицию, восходящую к ритуальной роли дина, найденного в императорских гробницах. Владение подобными сосудами строго регулировалось: археологические находки, сопоставленные с древними текстами, позволили воссоздать социальную иерархию конца эпохи Западного Чжоу (1050–771 до н. э.)[52]. Владение определенным количеством динов и другой бронзовой посудой демонстрировало положение в обществе. На вершине иерархии были, конечно, императоры: им полагалось, скажем, девять динов, вельможам – семь, пять, три или два соответственно. Простолюдины, разумеется, были лишены возможности владеть этим предметом.
Раскрывать вопросы социальной структуры во всех подробностях мы здесь не станем – это задача для узких специалистов. Именно они, опираясь на впечатляющие археологические открытия XX века, существенно изменили привычное понимание ранней истории китайской цивилизации. Эти находки показали, что ее истоки вовсе не сводятся к единому «плавильному котлу» в среднем течении Хуанхэ, как долгое время считалось. Наоборот, цивилизация возникла из сложной системы взаимодействий между несколькими периферийными культурами и Центральной равниной, которой традиционно отводили роль ее колыбели[53]. В рамках нашей темы достаточно отметить то, на чем настаивают сами китайские историки: дин, наиболее впечатляющий образец древней бронзы Китая, – это символ самой китайской цивилизации и ее устойчивости. Именно поэтому он по-прежнему присутствует в коллективной памяти современного общества.
Со временем дин, обросший символическими смыслами, превратился в объект для «перевода с символического языка предков»[54]: его значение постоянно переосмысляется в зависимости от идеологических ориентиров правительства и Коммунистической партии Китая (КПК). Неудивительно поэтому, что очертания дина можно обнаружить даже в архитектуре Шанхайского музея, перестроенного в начале 1990-х годов и хранящего одну из лучших коллекций китайских бронзовых изделий. План музея – круг на квадратном основании – напоминает древний символ Земли и Космоса, и явственно перекликается с формой древнего котла. Две арки, возвышающиеся над фасадами здания, вызывают ассоциацию с массивными ручками дина. Однако главный архитектор всячески опровергает эту трактовку, называя ее плодом богатого воображения, и предпочитает утверждать, что проект был задуман в абстрактных формах, но выражен на языке китайской архитектурной традиции[55]. Осторожность в его словах понятна: невозможно предвидеть перемены в интерпретациях прошлого, возникающие в соответствии с текущими идеологическими потребностями.
Что уж говорить о жесте Цзян Цзэминя (1926–2022), который 21 октября 1995 года преподнес в дар Организации Объединенных Наций огромный трехногий дин? В одно мгновение сосуд, чья история уходит в глубокую древность, покинул свою родную культуру. Этот подарок – «тяжелый» и в прямом, и в переносном смысле – был вручен тогдашнему генеральному секретарю ООН Бутросу Бутрос-Гали: бронзовый дин весом около полутора тонн, высотой 2,1 метра и диаметром 1,5 метра, инкрустированный пятьюдесятью бирюзовыми вставками, был выполнен по образцам династий Шан и Чжоу[56]. Его размеры имели особый символизм: они отсылали к дате основания ООН (24 октября 1945 года), пятидесятилетнюю годовщину которой праздновали в тот день, и указывали на наступление XXI века. Неслучайно этот сосуд получил название «Священный треножник столетия» (шицзи баодин).
Сегодня этот внушительный дин стоит в саду, окружающем здания ООН, среди сотни других произведений искусства, подаренных разными странами. Эти дары, по словам хранителей коллекции, должны нести послание мира и взаимного уважения и при этом не задевать ничьи чувства. И вот тут возникает вопрос: действительно ли дин отвечает этой идее? Ведь в Китае он является объектом почти фетишистского почитания, символом глубоко внутреннего самосознания, понятным прежде всего самим китайцам. Для сравнения: знаменитый револьвер с узлом на стволе, произведение шведского скульптора Карла Фредрика Рейтерсварда, прочитывается мгновенно и однозначно – как осуждение насилия. Китайский же сосуд остается для посетителя загадкой.
В своей речи Цзян Цзэминь объяснял, что дин, некогда бывший утварью для приготовления пищи, со временем стал ритуальным предметом, символизирующим единство и мощь народа. В новом контексте он становится своего рода талисманом, который должен принести процветание и мир в будущем. Он уточнил, что сосуд отлит специально к пятидесятилетию основания ООН и выражает добрые пожелания от имени 1,2 миллиарда китайцев[57]. Таким образом, «Священный треножник столетия», установленный в садах ООН, официально преподносился как послание мира, пришедшее из Восточной Евразии.
Тем не менее трудно не задуматься о подтексте этого жеста, учитывая, что отношения КНР с рядом стран-членов ООН с тех пор лишь усложнялись и дружеский настрой оказался не таким и дружеским в XXI веке. Важно помнить, что в 1995 году Китай еще ждал приема во Всемирную торговую организацию – чего ему удалось добиться только в 2001 году. Руководству страны было крайне важно продемонстрировать международным структурам благонадежность. Послание было услышано: Бутрос Гали ответил Цзян Цзэминю, что дин в китайской древности олицетворял устойчивость, спокойствие и мир[58].
Вот так мы внезапно оказываемся весьма далеко от кастрюли и кухни современности. Беглый обзор, который мы только что совершили, лишь пунктиром обозначает значение этого сосуда – и как кухонной утвари, и как ритуального предмета. Разумеется, мы не коснулись ни художественной ценности древних образцов дина, ни их многозначного употребления, ни их длинной истории и географического разнообразия. Ведь найденные в захоронениях дины бывают всевозможных размеров – от совсем маленьких в 15 сантиметров до внушительных метровых сосудов весом в сотни килограммов. К тому же они составляли лишь часть «сервиза», включавшего различные емкости для приготовления пищи и зерновых вин, употреблявшихся в жертвенных церемониях или преподносимых душам умерших.
Так, наряду с динами, археологи находят сосуды ян – китайские «кускусницы», состоящие из двух частей: верхней, с перфорированным дном, и нижней, где разогревалась вода. В них готовили зерновые на пару. Здесь проявляется важнейшее разграничение: дины – для мяса, яны – для круп. Эта оппозиция «мясное/зерновое», зафиксированная в ритуальных трапезах древности, сохраняется в базовых представлениях китайской гастрономии до наших дней[59].
Хотя археологи, изучающие китайские бронзовые сосуды, неизменно подчеркивают их священное предназначение – они были главным посредником в ритуальном общении с предками, – все они отмечают и другое: формы этих драгоценных предметов восходят к их керамическим прототипам эпохи неолита. До такой степени, что, по словам историков, «отливка древних китайских бронз на деле знаменовала триумф техники изготовления керамических предметов»[60], ведь «бронзовые сосуды чаще всего были ритуальными эквивалентами повседневной керамики»[61]. Если сказать проще, складывается впечатление, будто императорские дома тех далеких времен нуждались в особой парадной посуде, предназначенной исключительно для общения с духами и предками, которая четко отделила бы священнодействие от обыденной трапезы. Здесь сам материал и технология становились границей между профанным и сакральным: бронза ценнее керамики, и потому именно она возводилась в культ.
Но не стоит забывать и о кухонном предназначении этой утвари, о процессах приготовления пищи той эпохи, о которой мы почти ничего не знаем. Хотя именно они и были одной из первичных функций таких сосудов, особенно треножников динов. Технические особенности их использования самым непосредственным образом влияли на религиозную жизнь Древнего Китая. Как бы то ни было, переход от керамики к бронзе не прервал линии преемственности: те же формы живут и сегодня, в самом простом воке, который, утратив ножки, тем не менее сохранил главное – вогнутую металлическую форму, позволяющую готовить еду на огне[62].
Остается последний вопрос: почему именно дин стал символом Китая и его тысячелетней цивилизации? Ведь помимо него существуют и другие бронзовые шедевры не меньшей красоты и величия: сосуды для зерновых вин, огромные барабаны, внушительные колокола. Все они могли бы претендовать на роль символа народа. И все же был избран именно дин. Вероятно, так произошло потому, что именно его всегда упоминают, говоря об истоках китайской цивилизации. О том, что прежде чем стать ритуальным сосудом, он был кухонным инвентарем. В этом и заключается его уникальная символика: сам акт приготовления пищи на огне, осуществляемый с помощью дина, стал знаком цивилизованности Поднебесной. Как мы увидим далее, владение огнем и сочетание ингредиентов и пряностей – основа ремесла повара. И в этом он порой сближается с государем: ведь правитель, как и кулинар, должен уметь пользоваться своими инструментами, чтобы удерживать порядок и направлять своих подданных.
Философия еды: мораль и политика
Обычай приносить жертвоприношения предкам в виде пищи и есть рядом с умершими во время Праздника чистого света (Цинмина) показывает, насколько важно питание в каждый момент жизни – даже для тех, кто уже покинул этот мир. Еда – одна из базовых человеческих потребностей, выраженная в известной в Китае формуле и-ши-чжу-син, по которой для нормальной жизни человеку необходимо одновременно иметь одежду (и), еду (ши), кров (чжу) и возможность передвигаться (син). Все четыре условия одинаково важны для нашего существования.
Следует отметить, что забота о еде отражается даже в привычных формах приветствия, которые когда-то были очень распространены, а сегодня постепенно выходят из употребления. Например, фраза Ни чифань лэ мэйю? буквально означает «Ты уже поел?», но используется в качестве обычного приветствия. Через этот будничный «привет» человек старался понять, смог ли собеседник сегодня поесть – хотя бы одну порцию злаков, – следовательно, сможет ли он прожить до завтра. Такая форма приветствия сегодня чаще встречается на севере Китая, как пишут пользователи Интернета, и воспринимается именно как обычное приветствие. Однако мнения порой расходятся: говорят, смысл этой фразы не всегда однозначен и может вводить в заблуждение. Например, если молодой человек обращается так к девушке, это может подразумевать определенные намерения по отношению к ней. Несмотря на это, в стандартной программе преподавания китайского для иностранцев это выражение учат именно как эквивалент нихао – «здравствуйте».
Молодые китайские пользователи иногда удивляются, что за пределами Китая нет аналогичной формы приветствия, связанной с приемом пищи. Но тут они ошибаются: подобная практика существовала и в других культурах. Так, в знаменитом автобиографическом произведении Карло Леви «Христос остановился в Эболи» автор описывает аналогичную формулу приветствия у жителей одной деревни в Лукке (современная Базиликата): Beh! Che cos’hai mangiato oggi? – «Ну! Что ты сегодня ел?» Ответ зависел от социального статуса: если собеседник был крестьянином, он обычно молчал и делал отрицательный жест рукой, сжатой в кулак, но с вытянутыми большим пальцем и мизинцем. Крестьянин слегка покачивал рукой на уровне лица, что означало «почти ничего» или «ничего». Эти привычные формы приветствия – как в Китае, так и в некоторых пострадавших после войны регионах Италии – свидетельствуют о прямой связи между пищей и выживанием. Для крестьян, веками живших в условиях частых неурожаев и голода, еда была жизненно важна, и ее дефицит представлял реальную угрозу для жизни.
Еда – это рай
Хотя обычно каждый человек заботится о себе сам, иногда помощь может исходить от высших сил. Так, старая формула «Для народа рай – это еда» (минь и ши вэй тянь), которую должны были помнить правители, отвечающие за души людей, иллюстрирует именно это. Здесь речь уже не об отдельном человеке, живущем ради удовлетворения биологических потребностей, а о народе как о едином целом, чьей главной заботой является обеспечение пропитания. Рай в этом контексте – не просто высшая трансцендентная сущность, а некий организующий принцип, «понятие, охватывающее все аспекты человеческого опыта, включая сверхчеловеческое, но одновременно ограничивающее его мифический и религиозный потенциал»[63], как отмечает Анн Шен. Рай становится абсолютной точкой опоры, к которой обращаются за средствами к существованию; оно «источник и гарантия ритуального порядка, изначально установленной гармонии», а кроме того, оно отвечает за погоду – неизменного союзника или врага земледельца[64].
Фраза «Для народа еда и есть рай» настолько популярна сегодня, что превратилась в символ и неизменное вступление к любому разговору о питании или кулинарии. Ее показывают на экранах, используют в названиях книг, блогов, фильмов и телепередач, ресторанов, магазинов и предприятий[65]. По данным исследователя Цзи Хун Куна, автора книги о китайской культуре питания[66], первая глава которой как раз называется Минь и ши вэй тянь, в 2008 году Google выдавал более 700 000 ссылок на эту классическую фразу. К зиме 2022–2023 годов их количество достигло более 18 800 000. Фраза часто употребляется вместе с другой, смысл которой со временем был забыт большинством людей, кроме наиболее образованных из них: «Для правителя рай – это народ, а для народа рай – это еда» (Ванчжэ и минь вэй тянь, минь и ши вэй тянь). Изначально это был совет будущему императору, который скорее означал: «Для правителя его народ должен быть как рай, а для народа рай – это еда». Роль «кормильца» для монарха, да и для всей знати и ее свиты, подтверждается надписью на знаменитом бронзовом сосуде западной династии Чжоу: Маогун фандин. Его владелец, гун Лю из Мао, использовал его, чтобы угощать своих близких[67]. Слияние двух параллельных частей одной фразы наглядно показывает связь между правителем и подданными: народ живет заботой о пище, а первостепенная обязанность правителя – это забота о народе.
Знание этого двойного принципа помогает лучше понять один эпизод из «Истории правителей династии Хань», описывающий битву Лю Бана, основателя династии Хань, с его главным соперником Сян Ю за владение территорией, позже ставшей Империей. Мудрый Ли Ицзи (268–204 до н. э.), известный своим пристрастием к алкоголю и прозванный «пьяницей из Гаояна», напомнил будущему императору простую истину: кормя народ, он исполняет свой будущий долг правителя[68]. Будущий император Хань, правивший под именем Гао-цзу (202–195 до н. э.), действуя по его совету, захватил житницу противника, наполненную просом. Это обеспечило продовольствием армию, а значит, и весь народ. Такая гарантия безопасности считалась ключевым фактором для избрания императора. Добавим, что Ли Ицзи, несмотря на талант стратега, погиб трагически… и «кулинарно»: его приговорили к смерти через варку в котле – форму казни, практиковавшуюся в те времена китайскими правителями[69].
Таким образом, обеспечение населения продовольствием с самых ранних времен рассматривалось как императорская обязанность. В перечне восьми задач правителя в «Классическом своде документов» забота о том, чтобы «кормить свой народ», занимала первое место[70]. Это не уникальная особенность Китая: подобные функции выполняли, например, и короли Франции. Среди причин, которыми историки XVIII века объясняют французскую революцию 1789 года, явно прослеживается роль спекулянтов зерном и некомпетентность монарха, вовсе не думавшего о вопросе продовольствия[71]. Не стоит забывать, что придворная должность «Великий хлебодар Франции» (фр. grand panetier de France) напоминает о крайне важной роли поставщиков хлеба, некогда бывшего основой рациона у французов. Эта аллегория столь же наглядна, как и история будущего китайского императора, уяснившего, что для обеспечения народа пропитанием необходимо овладеть запасами проса.
В Китае идея такой императорской обязанности сохранилась надолго. По словам Цзи Кун Куна, она все еще проявляется в формуле «Для народа еда и есть рай», даже если мало кто помнит ее первую часть. Он также напоминает, что Сунь Ятсен, основатель Китайской Республики, в 1911 году придавал первостепенное значение питанию людей[72]:
Без пищи невозможно обходиться ни дня. Все живые существа это знают: и младенец, только что появившийся на свет, и цыпленок, пробивающийся сквозь скорлупу, не нуждаются в наставлениях учителя, чтобы это понять!
Базовые потребности – возможность одеваться, есть досыта, иметь крышу над головой и свободно передвигаться – классическая тема конфуцианских мыслителей. А для Сунь Ятсена они были фундаментальными требованиями, которым власти должны уделять первоочередное внимание. Он ясно выражает это в своих августовских речах 1924 года о народном благосостоянии (миньшэн), когда рассуждает о модернизации экономики страны[73].
Зерно и суп
Целью набега, совершенного будущим основателем династии Хань, были значительные запасы зерна, а именно проса – злака, который на протяжении многих веков был главным продуктом Северного Китая. Центральный бассейн Хуанхэ считался колыбелью китайской цивилизации вплоть до династии Сун (960–1279). Обеспечение населения зерном всегда было одной из главных забот китайских правителей. Так, по словам Цзи Хункуня, не мог ее избежать и Мао Цзэдун, что подтверждается одним из его лозунгов: «Когда зерно в наших руках, сердце спокойно». Однако, отмечает он, Мао потерпел неудачу, «доведя идеологию классовой борьбы до крайности»[74], и лишь Дэн Сяопин сумел наконец добиться того, чтобы китайцы были сыты. Действительно, в выражении минь и ши вэй тянь слово ши, которое обычно переводят как «пища, еда», вполне можно понимать и как «зерно, злаки»[75]. В таком значении пословица звучит еще точнее: именно зерно испокон веков считалось основной пищей китайцев.
Подобно многим другим народам, китайцы с глубокой древности воспринимали зерновые как главный источник жизни. В монархической Франции мысль была сходной: аптекарь Антуан Пармантье называл зерно «пищей первой необходимости». При этом в Китае речь шла скорее в целом о продуктах, содержащих крахмал, а не только о зерновых в ботаническом смысле слова. В древних агрономических и ботанических трактатах под «зерном» понимали и бобовые, а в некоторые эпохи – даже клубнеплоды[76].
Ежедневная порция таких продуктов была жизненно необходима для каждого – от правителей до простых людей. В «Книге обрядов» (Лицзи), составленной в IV–III веках до н. э., в разделе «Внутренние правила» говорится: «Похлебку (гэн) и вареное зерно (ши) едят все без исключения, от императоров до простолюдинов»[77]. Эта классическая антология обрядов подчеркивает незаменимость не только зерна, но и другого блюда – гэн, которое условно можно перевести как «похлебка». В современном китайском понимании это приправленная мясная или овощная подлива, блюдо в соусе разной густоты. По данным «Словаря кулинарных терминов Древнего Китая» (1993)[78], вплоть до эпохи Сун слово гэн[79] чаще всего обозначало мясо в соусе, позднее – бульон или суп, что близко к нынешнему значению слова. Сегодня мы не можем с уверенностью сказать, каким именно блюдом был гэн, но это название закрепилось за особым видом супов[80]. Главное то, что он всегда служил дополнением к продуктам, содержащим крахмал, которые считалась главной пищей человека.
Роль этого дополнения была важной, хоть и второстепенной. В крайнем случае оно могло сводиться к простейшей форме – воде. Известно, что Конфуций, находясь в трауре или готовясь к обряду очищения, довольствовался «грубым зерном и водой» для поддержания жизни. Таким образом, еще до начала нашей эры в трактатах о ритуалах описывался простой повседневный рацион, основанный на сочетании двух элементов – богатых крахмалом продуктов и жидкого блюда, как минимум простой воды. Эта «каноническая» модель питания сохранялась в повседневной китайской трапезе вплоть до наших дней. Несмотря на изменения, привносимые общественными трансформациями с начала 1980-х годов, она по-прежнему остается важным культурным ориентиром, который то отвергают, то заново осваивают в зависимости от модных тенденций. Формы питания при этом непрерывно меняются на протяжении последних тридцати лет.
Мясоеды и травоеды
Для древних китайцев главным способом отличить себя от «варваров» было разделение на «мы» и «они», но внутри самой китайской цивилизации существовало другое, не менее важное разделение. Со временем оно стало не таким заметным, однако продолжало оказывать влияние на представления и обычаи, связанные с едой, вплоть до конца XX века. В обществе четко разграничивали верх и низ социальной пирамиды: богатых называли «едоками мяса», тогда как простолюдины довольствовались ролью «едоков травы» – то есть зелени и овощей. Такое деление ясно говорит о статусе мяса: с глубокой древности и до наших дней именно оно оставалось признаком богатства. Подобное разделение общества по потребляемой пище, конечно, встречается во многих культурах. Но в Китае доимперской эпохи право есть мясо закреплялось не только обычаем, но буквально законом как привилегия высших слоев общества. Оно не могло быть «заработано» или куплено. Вероятно, именно этот престиж мяса объясняет, почему оно стало центральным элементом китайского жертвенного ритуала: именно через ритуальные подношения мяса и зернового вина общество закрепляло социальные различия и структуру иерархии. В среде знати также существовала сложная система распределения мяса в зависимости от ранга, отражавшая строгий сословный порядок. Хотя эта тема крайне важна для понимания того, как древние общества функционировали посредством ритуальных жертвоприношений, в рамках данной книги мы не будем ее подробно рассматривать, а оставим анализ специалистам и филологам, изучающим доимперскую китайскую культуру[81]