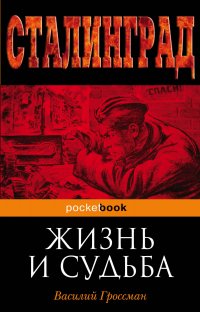Читать онлайн «Обо мне не беспокойся…». Из переписки бесплатно
- Все книги автора: Василий Гроссман
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®
От Составителей
Эта книга, объединившая под одной обложкой письма Василия Гроссмана к отцу, его переписку с женой Ольгой Губер и письма к Екатерине Заболоцкой, – первая крупная публикация эпистолярного наследия писателя[1].
Гроссман переписывался со многими людьми – с некоторыми на протяжении десятилетий, – но до сих пор не установлено, что именно из его корреспонденции сохранилось. До недавнего времени было известно о собрании писем в РГАЛИ, нескольких письмах в Литературном музее, коллекции Семена Липкина в университете Нотр-Дам в Индиане, семейных архивах наследников Гроссмана, архиве в библиотеке Гарвардского университета, в котором хранятся копии писем к отцу и некоторых других писем. К этому списку теперь можно добавить и частный архив Ильдара Галеева: в нем находится собрание писем к Екатерине Заболоцкой – собрание, о существовании которого ранее практически никто не знал.
Предыдущие публикации писем Гроссмана немногочисленны. Первая из них – письма к Ольге Губер из его поездки в Армению в 1961 году, подготовленные к печати самой Ольгой Михайловной и вышедшие в ереванском сборнике «Глазами друзей» в 1967-м (Гроссман 1967b). Пять писем военного времени были напечатаны в 2015 году в книге «„Мы предчувствовали полыханье…“. Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны» (Горяева 2015a: 51, 132, 181, 333; Горяева 2015b: 196). В 2016 году в журнале «Знамя» Елена Макарова опубликовала письма Гроссмана к его ближайшему другу Семену Липкину (Гроссман 2016) – некоторые из них были уже опубликованы, полностью или частично, в книгах Липкина «Сталинград Василия Гроссмана» (Липкин 1986) и «Жизнь и судьба Василия Гроссмана» (Липкин 1990).
Отдельно следует остановиться на подборках корреспонденции, которые пасынок Гроссмана Федор Губер публиковал с конца 1980-х годов (Губер 1988; Губер 1989; Губер 1990; Губер 1996; Гроссман 1997; Губер 1998; Губер 2005). Конечным результатом этой работы стала книга «Память и письма. Книга о Василии Гроссмане», вышедшая в 2007 году (Губер 2007). В этих публикациях, несомненно, было использовано множество ценнейших и недоступных для исследователей материалов из семейного архива, однако они имеют скорее мемуарный, чем научный характер.
Между тем корреспонденция всегда служит важнейшим материалом для реконструкции биографии, глубокого понимания личности писателя, его идей. В случае же Гроссмана это еще более справедливо: число архивных документов, доступных исследователям в настоящее время, невелико, и в работах, посвященных писателю, неизбежно возникают пробелы или гипотезы, не подтвержденные фактами. Мы надеемся, что наша книга поможет заполнить некоторые из этих лакун и подтвердить или опровергнуть некоторые гипотезы.
Абсолютное большинство писем, вошедших в этот сборник, публикуется впервые. Книга состоит из трех основных собраний, и у каждого – своя удивительная судьба. Первый корпус – письма Василия Гроссмана к отцу Семену Осиповичу (Соломону Иосифовичу, 1870–1956) и одно письмо отца сыну: с частью этого корпуса выборочно работают ученые, но широкой публике он неизвестен. Второй корпус – переписка между Гроссманом и его второй женой Ольгой Михайловной Губер (1906–1988): о его существовании знали многие, прежде всего из публикаций пасынка Гроссмана, упомянутых выше, но до недавнего времени никто, кроме семьи Губер, его не видел. Третий корпус, вошедший в книгу, – письма Гроссмана к его последней любви, Екатерине Васильевне Заболоцкой (1906–1997): эта коллекция хранилась в семье Заболоцких, а затем в частном архиве, мало кто о ней знал и почти никто не упоминал.
Три этих корреспондента были в числе самых близких людей Василия Гроссмана, переписка с ними охватывает без малого 38 лет его жизни, и нам представляется важным включить в первое книжное издание эпистолярного наследия Гроссмана именно эти собрания писем[2].
Содержание писем
Все три корпуса, публикуемые в этой книге, дополняют друг друга. Читая их, мы наблюдаем за Гроссманом, без каких-либо дополнительных фильтров, с декабря 1925 года до октября 1963-го. Безусловно, в этом отрезке есть и периоды, от которых ничего не сохранилось или сохранилось очень мало. Например, мы немногое знаем о московской жизни Гроссмана до 1927 года; почти не дошло до нас писем 1936–1939 годов.
Мы видим, как Гроссману живется студентом: он загуливает с друзьями, скитается по съемным квартирам, с переменным успехом учится и постепенно понимает, что химия никогда не станет центром его жизни. Мы видим, как он мучается одиночеством, заводит роман со своей киевской знакомой и очень быстро женится, а через два года семейной жизни на два города рождается дочь Катя, которая вскоре окажется в Бердичеве, у бабушки Екатерины Савельевны. Гроссман пытается работать инженером-химиком в Донбассе, снова страдает одиночеством и в конце концов возвращается в Москву. Разводится с женой и начинает новую жизнь.
Корреспонденция показывает и становление Гроссмана как писателя. Он пробует силы в публицистике в конце 1920-х годов, при поддержке своей двоюродной сестры Надежды Алмаз, работавшей секретарем у Соломона Лозовского. В начале 1930-х пишет повесть «Глюкауф» и рассказы, в конце 1933-го – начале 1934 года сближается с перевальцами, и первое время его писательская карьера идет неизменно в гору: печатаются рассказы, он пишет и публикует роман «Степан Кольчугин» в нескольких книгах. Однако 1930-е приносят Гроссману не только литературный триумф, но и становятся временем первых утрат: в 1933-м арестована и отправлена в ссылку Надежда Алмаз, и вот уже не она помогает своему брату, а он отправляет ей деньги; подвергнуты репрессиям многие его друзья.
Письма показывают, как меняет Гроссмана война, как он работает над осмыслением этого опыта, как тяжело проживает вторую половину 1950-х и последние годы жизни. Сражается за издание романа «Сталинград» («За правое дело»), пытается печатать рассказы и раз за разом получает отказ, пишет «Жизнь и судьбу» – с ощущением надвигающейся трагедии и невозможности ее избежать. Отправляется в Армению, где занимается переводческой работой, а затем создает путевые заметки «Добро вам!». Характерно, что о работе над повестью «Все течет» (1955–1963), которую Гроссман и не думал публиковать, в корреспонденции нет ни слова.
Письма открывают нам многое о личности Гроссмана, о его отношениях с родителями, дочерью и пасынками, с тремя женщинами, которых он любил, с друзьями; мы узнаём о тех, кто ему был симпатичен и кто вызывал антипатию. Важная черта эпистолярных текстов Гроссмана заключается в том, что он никогда не ставит себя в центр вселенной, не сосредотачивается на самом себе, а уделяет основное внимание своему корреспонденту или же другим людям, о которых рассказывает.
Мы узнаём также и о круге его повседневных интересов, о привычках и хронических болезнях: какие он читал книги, какие стихи знал наизусть, какие фильмы смотрел в кино, какие карточные игры предпочитал; как болел астмой, как бросал курить и как следил за своим весом – словом, обо всех тех чертах, без которых не может сложиться объемный портрет живого человека (подробнее об этом см.: Krasnikova, Volokhova 2023; Volokhova, Krasnikova 2025).
Письма к отцу
Родители Василия Гроссмана разошлись вскоре после рождения сына, но остались друзьями. Гроссман вырос с матерью, однако с отцом Семеном Осиповичем его связывали тесные отношения на протяжении всей жизни. Как рассказывала дочь писателя Екатерина Короткова-Гроссман, Василий Семенович «родителей очень уважал, обожал, и это было широко известно всему Союзу писателей, потому что он всюду со своим папашей ходил» (Волохова 2020b).
Первое письмо к отцу, известное нам, датируется 1925 годом: двадцатилетний Гроссман учится в Московском университете, а отец, недавно поступивший на службу в Донецкий областной институт патологии и гигиены труда, содержит сына-студента. Последнее письмо, дошедшее до нас, написано в октябре 1955 года, когда оба уже живут в Москве: сын стал знаменитым писателем, его пока еще публикуют, и теперь уже он заботится об отце и его материальном благополучии.
В нашей книге опубликованы все найденные на сегодня письма Гроссмана к отцу и одно сохранившееся письмо отца к сыну. Этот корпус состоит из трех частей: первая хранится в РГАЛИ и была передана туда Екатериной Заболоцкой. Именно с этими письмами до настоящего времени работали биографы Гроссмана. Вторая часть – письма, найденные нами в 2024 году в семейном архиве Василия Семеновича. О них не знали исследователи, Федор Губер не цитировал их в своих подборках, и, следовательно, нынешняя публикация не только впервые делает эти документы доступными широкому кругу читателей, но и одновременно впервые вводит их в научный оборот. И наконец, третья часть – две записки Гроссмана к отцу, которые находятся в архиве Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.
Фонды РГАЛИ
История обретения писем к отцу, хранящихся сейчас в РГАЛИ, настолько примечательна, что обойти ее вниманием невозможно. Весной 1963 года перед операцией по удалению почки Василий Гроссман передал Екатерине Заболоцкой пачку писем, завернутых в бумагу, сказал, что это письма от его матери к его отцу, и попросил уничтожить их после его смерти. Екатерина Васильевна хранила долгие годы этот пакет, не открывая, а когда в 1990 году решилась наконец выполнить обещание, то, по совету Семена Липкина, посмотрела, что в нем находится, и оказалось, что это действительно письма к Семену Осиповичу, но их автор не мать, а сам Василий Гроссман. Заболоцкая не смогла их сжечь и передала в ЦГАЛИ (теперь РГАЛИ: Ф. 1710. Оп. 3. Ед. хр. 62–75), сопроводив краткой преамбулой, описывающей историю этих писем и состав коллекции и объясняющей ее решение: «Оправдываюсь перед Василием Семеновичем Гроссманом тем, что обещала я сжечь письма Екатерины Савельевны, а оказались в пачке письма его» (наст. изд.: 32). В архиве сделали четыре копии этого собрания: для Екатерины Коротковой-Гроссман, Федора Губера, Семена Липкина и для самой Заболоцкой.
С момента передачи писем в ЦГАЛИ в декабре 1990 года доступ к ним был закрыт по воле Федора Губера. Ограничения на их использование были сняты только в 2002 году, и с тех пор с подлинниками могут работать все желающие. При этом Екатерина Заболоцкая в начале 1990-х годов передала копию всего корпуса американским ученым Джону и Кэрол Гаррард, которые использовали эти материалы в своей книге «The Bones of Berdichev. The life and fate of Vasily Grossman» («Кости Бердичева: Жизнь и судьба Василия Гроссмана»; Garrard, Garrard 1996; новое издание – Garrard, Garrard 2012). Благодаря Гаррардам копии писем Гроссмана к отцу в конце концов попали – как и многие другие документы, имеющие отношение к Гроссману, – в Хоутонскую библиотеку Гарвардского университета и стали доступны исследователям.
Таким образом, с письмами к отцу не был знаком, например, Анатолий Бочаров, автор биографического очерка о Гроссмане, вышедшего в 1970 году (Бочаров 1970), и монографии, опубликованной в 1990-м (Бочаров 1990). С середины же 1990-х годов, и особенно после снятия ограничений в РГАЛИ в 2002 году, этот материал использовался всеми биографами писателя (Garrard, Garrard 1996; Anissimov 2012; Бит-Юнан, Фельдман 2016; Popoff 2019). Более того, иногда он оказывался единственным источником информации, позволявшим с той или иной степенью точности реконструировать некоторые события жизни Гроссмана в определенные периоды: например, в студенческие годы, во время работы в Донбассе или же в самом начале его писательской карьеры, – а также определить круг его общения – от друзей и родственников до коллег и знакомых.
Екатерина Заболоцкая сообщает в преамбуле, сопровождающей корпус писем к отцу, что в пачке находилось 200 писем без конвертов, 180 датированных и 20 недатированных, написанных с 1925 по 1956 год, и к тому же одно письмо Семена Липкина и одно – Екатерины Коротковой-Гроссман. Екатерина Васильевна немного ошиблась в подсчетах, атрибуции и датировке писем. В корпусе содержится 206 документов: 196 посланий Гроссмана отцу (в основном это письма, но есть также одна телеграмма и несколько записок), письма Липкина и Коротковой-Гроссман, о которых писала Заболоцкая, – и, кроме того, два письма Гроссмана к матери, от 9 мая 1928 года и 20 февраля 1929 года, два его письма к жене отца Ольге Семеновне Роданевич, от 12 февраля 1927 года и 11 июня 1933 года, два письма к Женни Генриховне Генрихсон (Гендриксон), от 1941 года и 5 октября 1942 года, доверенность на имя отца от 1943 года и краткая недатированная и неатрибутированная записка, написанная женщиной (записка найдена нами лишь в архиве Хоутонской библиотеки, а в РГАЛИ не обнаружена). Последнее письмо Гроссмана отцу из этого корпуса датируется 15 августа 1950 года.
Письма, открытки, телеграммы и записки Василия Гроссмана к отцу мы публикуем в первом разделе нашей книги, а остальные документы из этого пакета, переданного когда-то Екатерине Заболоцкой, – в четвертом разделе «Разное».
Не все письма к отцу сохранились хорошо: в некоторых чернила поблекли настолько, что расшифровать их было непросто – отдельные строки, например на сгибах, стерлись практически полностью. Ксерокопии писем, изготовленные в начале 1990-х, из архива Хоутонской библиотеки низкого качества, что делает прочтение ряда писем, особенно написанных карандашом, затруднительным. К тому же некоторые письма при ксерокопировании лежали неровно, и отдельные строки и слова по краям листов не отпечатались.
Екатерина Заболоцкая, очевидно, пыталась расположить письма в хронологическом порядке, причем последовательность подлинников, находящихся в РГАЛИ, и копий из Хоутонской библиотеки иногда не совпадает, и реальная хронология в обоих архивах нарушается. В первую очередь это касается недатированных документов и документов, в которых проставлена лишь дата и месяц, но не год. Так, например, в РГАЛИ в папку за 1931–1932 годы попали два письма, написанные 21–22 августа и 13 сентября 1928 года, а также одно от 10 июля 1929 года. В той же папке разрозненно хранятся два фрагмента одного письма, написанного в мае 1932 года.
Еще один пример: начало письма от 16 мая 1934 года находится в папке с письмами за 1933 год, а его окончание – в папке с документами за 1934-й, из-за этого некоторые исследователи прежде воспринимали события мая 1934 года как произошедшие годом ранее, причем в июне (Бит-Юнан, Фельдман 2016: 134; Popoff 2019: 70).
Изучив содержание всего корпуса, мы соотнесли его с установленными фактами из жизни Василия Гроссмана и упоминаемыми внешними событиями и постарались датировать письма и восстановить их хронологический порядок. Некоторые сложные случаи, касающиеся датировки, описаны ниже в этом предисловии, в разделе, посвященном принципам публикации писем.
Избавление от хронологической путаницы, частично присутствующей в архивах, и чтение всего эпистолярного корпуса подряд позволили нам установить некоторые факты, остававшиеся в тени при выборочном чтении. Вот один из примеров: прежде было известно, что в письмах к отцу два раза упоминается некий Штрум, и выдвигалась гипотеза, что это – киевский физик Лев Штрум (Dettmer, Popoff 2019). Между тем одно из упоминаний встречается в письме от 27 июня 1933 года, в котором Гроссман спрашивает отца: «Почему вдруг Ленинск? Ей-богу, „Штрумск“ мне кажется более подходящим» (наст. изд.: 123). Значение этой фразы становится яснее в контексте писем, написанных в июне 1933 года Гроссманом отцу и жене отца Ольге Семеновне Роданевич. Осип Семенович работал шахтным инженером-химиком в разных центрах добычи угля Украины и России, в 1933 году он оказался в Новосибирске, явно не был доволен своим местом службы и подумывал о том, чтобы сменить его. 11 июня Василий Гроссман пишет Ольге Семеновне: «Вы пишете о Днепропетровске. По-моему, за эту возможность следует ухватиться. Это большой, хороший город – Киев, Харьков, Москва, Криница, черт возьми, не так далеко от него. Работа интереснее, вероятно, чем в Сталино и тем более чем в Новосибирске. Мой вам совет, дорогие мои, держите курс на юг» (наст. изд.: 775). 16 июня он пишет отцу: «Ты решил ехать в Прокопьевск? Во всяком случае, не связывай себя никакими обязательствами на долгие сроки, чтобы можно было уйти оттуда» (наст. изд.: 152). В этой ситуации очень вероятно, что «Штрумск» отсылает не к киевскому физику, а к другому Штруму: Илье Яковлевичу (1880–1946), служившему директором Института гигиены и патологии труда в Сталине (Донецке), в котором работали в свое время и отец, и сын Гроссманы. К тому же с 1932 года Илья Яковлевич Штрум возглавлял еще и кафедру гигиены труда в медицинском институте, где преподавал Василий Гроссман. Иными словами, Сталино представлялся Василию Гроссману более подходящим местом работы для отца, чем Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области (подробно об этом и других аналогичных случаях см.: Krasnikova, Volokhova 2023).
Семейный архив Гроссмана – Губер
Долгое время считалось, что в фондах РГАЛИ содержатся все сохранившиеся послания Гроссмана к отцу. Однако в 2024 году в семейном архиве писателя мы обнаружили два с лишним десятка писем, о существовании которых ранее не было известно: 25 писем периода 1951–1955 годов и фрагмент письма от 21 декабря 1933 года – все они хранились в разных местах семейного архива и не были никак систематизированы (об этом корпусе см.: Volokhova, Krasnikova 2025). Все письма хорошо сохранились – их расшифровка была проведена без особых затруднений.
Возможно, в 1950-м или начале 1951 года отец упаковал письма, полученные от сына в 1925–1950 годах, – и именно эту пачку Василий Гроссман затем передал Заболоцкой, – а те, что получал позже, Семен Осипович в пакет не добавлял. Фрагмент письма 1933 года – исключение; предположительно, он мог затеряться и поэтому не был присоединен к остальным, когда Гроссман-старший упорядочивал свою корреспонденцию.
Этот фрагмент – последняя страница письма, хранящегося в РГАЛИ, в котором Гроссман рассказывает о своем дебюте на собрании перевальцев (наст. изд.: 134–135). Первые две страницы письма не датированы, и ранее высказывались гипотезы о том, когда именно оно было написано и когда состоялась читка рассказов Гроссмана: в начале декабря 1933 года (Бит-Юнан, Фельдман 2016: 180), в конце 1933 года (Popoff 2019: 72), в 1934 году (Губер 2007: 23). Теперь же, благодаря работе в семейном архиве, мы смогли установить точную дату письма: 21 декабря 1933 года, – и собрания: 20 декабря.
Важнейшей находкой нам представляется единственное обнаруженное на сегодня – и, возможно, сохранившееся – письмо отца к Василию Гроссману (наст. изд.: 269–271). Написанное в сентябре 1945 года, оно проливает свет на отношения Семена Осиповича с матерью Гроссмана Екатериной Савельевной. До настоящего времени было известно лишь, что после расставания они поддерживали дружескую переписку. В своем же откровенном письме Семен Осипович пишет сыну, что продолжал любить Екатерину Савельевну, глубоко раскаивается в том, что не провел последние годы с ней; пишет, что хотел бы быть рядом в ее последние дни и погибнуть вместе в Бердичеве.
Записки из Литературного музея
Как было указано выше, к корпусу писем отцу мы добавили еще две непубликовавшиеся записки от 1935 года из архива Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (ГЛМ ОР. Ф. 76. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1–2). Они были переданы в коллекцию музея в 2001 году Дмитрием Юрьевичем Кукоевым и представляют ценность, поскольку позволяют более точно датировать перемещения Гроссмана между Москвой и Донбассом в 1935 году и свидетельствуют об общении с Борисом Губером в этот период.
Переписка с Ольгой Губер
С Ольгой Губер, женой писателя Бориса Губера, Гроссман познакомился, когда завел дружбу с перевальцами в первой половине 1930-х. 12 октября 1935 года Ольга Михайловна ушла к Гроссману, оставив мужу двух сыновей, Мишу и Федю, официально же новые отношения были оформлены 28 мая 1936 года. За почти тридцать лет брака пара прошла через многое. В 1937 году арестовали и расстреляли Бориса Губера, вслед за ним в феврале 1938-го арестовали и Ольгу; Гроссман забрал к себе Мишу и Федю и сумел добиться освобождения жены. В 1942 году в эвакуации в Чистополе погиб шестнадцатилетний Миша. Серьезным испытанием для обоих стал роман Василия Гроссмана с Екатериной Заболоцкой, начавшийся в 1956 году. И наконец, болезнь Гроссмана, которая дала о себе знать в 1962-м. Все эти годы, когда один из супругов находился в отъезде, между ними велась переписка – привычка, не нарушавшаяся, даже когда Гроссман жил с Заболоцкой.
Самое раннее письмо Гроссмана к Ольге Губер, публикуемое в книге, было написано Гроссманом в марте 1937 года, самое позднее – в октябре 1963-го; таким образом, переписка охватывает более 26 лет.
О том, что эта корреспонденция существует, было известно в первую очередь из публикаций Федора Губера. При этом, как упоминалось выше, в них письма использовались, скорее, в качестве документальной канвы воспоминаний. Эдиционные принципы здесь не всегда ясны, архивные источники не описаны и в основном цитируются выборочно, а не целиком; тексты не установлены критически, некоторые датированы неверно, регулярно нарушается их хронологический порядок. В силу этого некоторые биографы Гроссмана осознанно отказались от использования в своей работе материалов книги «Память и письма» и предшествовавших этой книге журнальных изданий (см., напр.: Garrard, Garrard 2012; Бит-Юнан, Фельдман 2016).
Переписка Гроссмана с женой хранится в семейном архиве и до недавнего времени была недоступна исследователям. Мы обнаружили эти письма в два этапа. На первом, описанном в нашей статье «Letters to father, wife and last love: Vasilii Grossman’s epistolary legacy» (Krasnikova, Volokhova 2023), в мае 2023-го Елена Кожичкина, дочь Федора Губера, передала нам для ознакомления три папки, в которых находились письма, конверты, открытки и телеграммы Василия Гроссмана и Ольги Губер, собранные и систематизированные Федором Борисовичем. Документы в папках были рассортированы по конвертам формата C5, на которых стояли чернильные или карандашные пометки, сделанные Федором Губером. Эти пометки отражают его работу по установлению датировок и упорядочиванию корпуса по хронологии – работу, которая не была доведена до конца. Хотя большинство датировок соответствуют действительности, одни материалы остались недатированными, другие были датированы неверно. В некоторых конвертах письма лежали в хронологическом порядке, в некоторых – нет. В папках было найдено около двухсот писем и открыток от Гроссмана к жене и более пятидесяти писем и открыток от Ольги Михайловны к мужу.
На следующем этапе при разборе семейного архива были обнаружены новые письма. Они хранились разрозненно и не были систематизированы. В некоторых случаях фрагменты писем были обнаружены в разных местах и затем соединены. Один из примеров – письмо Ольги Губер мужу, написанное между 5 и 9 августа 1942 года (наст. изд.: 375–377): первый его отрывок хранился в папках, переданных нам для работы Еленой Фёдоровной Кожичкиной, два других, найденных позже, – в разных частях семейного архива.
На втором этапе было обнаружено еще 74 письма и открытки Василия Гроссмана к жене, все они включены в книгу. Писем и почтовых карточек Ольги Михайловны к мужу несколько сотен, и так как все они не могли попасть в настоящее издание, мы отобрали из них часть, руководствуясь следующими принципами: публикуются все письма военного времени (это самые ранние из сохранившихся писем Ольги Губер к Гроссману), а в более поздней переписке – те, что Ольга Михайловна отправляла из Москвы, когда ее муж был в отъезде, так как в них содержатся важные факты о семейном быте, круге общения, редакционных делах, публикациях Гроссмана.
Исключениями из этого правила стали письма, которые Ольга Губер отправляла Гроссману в ноябре 1960 года, когда он был в Гаграх, и в ноябре – декабре 1961-го в Армению – по той причине, что письма самого Гроссмана к жене из Абхазии если и сохранились, то пока не обнаружены, его письма из Армении мы печатаем по публикации, подготовленной женой, с купюрами, а послания Ольги Михайловны в этих двух случаях содержательно и тематически перекликаются с другими ее письмами, не добавляя нового. Остальные письма Ольги Михайловны, не вошедшие в нашу книгу, написаны из ее поездок в Крым – с середины 1950-х по начало 1960-х годов она ездила туда два раза в год. Она подробно описывает свою южную жизнь, отношения с хозяевами комнаты, которую снимала, или соседями по дому отдыха, походы в коктебельские бухты в поисках полудрагоценных камней, приводит много бытовых подробностей. Все эти письма мы надеемся опубликовать в будущем, в полном издании корреспонденции Василия Гроссмана и Ольги Губер.
Большинство писем хорошо сохранились, за исключением писем Ольги Михайловны из эвакуации в Чистополе, многие из которых написаны карандашом, поблекшим от времени и стершимся на сгибах. На письмах также есть и карандашные пометы, по-видимому Федора Губера: подчеркнуты некоторые предложения или же – на полях – более крупные фрагменты текста.
Это собрание – единственное в нашей книге с существенной долей писем, написанных корреспондентом Гроссмана. Знакомясь с ним, нужно учитывать одну особенность: по этой переписке отчетливо видно, что она велась не по принципу «письмо – ответ», не по принципу диалога, в котором каждая из реплик является реакцией на предыдущую. В условиях, когда не всегда было понятно, дойдет ли письмо, а если дойдет, то через сколько дней или недель (и это касается не только военного периода), переписка походила, скорее, на два потока писем, которые время от времени «пересекались». Этим и обусловлен принцип расположения писем в нашей книге. Поскольку не всегда возможно найти письмо, на которое отвечает корреспондент, или же в силу того, что это письмо написано давно и уже после были отправлены другие письма с обеих сторон, мы решили следовать строгому хронологическому принципу. Так, например, во время своей поездки в Ялту в 1959 году Гроссман отвечает 17 марта на письмо Губер, написанное 10 марта, однако между этими двумя письмами стоят письма супругов от 12 и 14 марта. В тех случаях, когда письма Гроссмана и Губер датированы одним и тем же числом, сначала публикуется письмо Гроссмана, а уже за ним – письмо Губер.
Почти все письма, вошедшие в нашу книгу, публикуются впервые и по архивным источникам. Но для переписки Василия Гроссмана и Ольги Губер мы сделали исключение. К корпусу архивных материалов из семейной коллекции мы добавили письма из поездки Гроссмана в Армению в 1961 году, изданные в 1967 году в сборнике «Глазами друзей». Как следует из пояснения редактора-составителя книги, тексты были напечатаны с сокращениями и подготовила их сама Ольга Михайловна (Авакян 1967: 427). В настоящий момент подлинники не обнаружены – ни в семейном архиве, ни в издательстве, – однако по ряду причин нам представляется важным дать читателям возможность познакомиться с этими письмами: из-за того, что они вышли единственный раз несколько десятилетий назад в малодоступном издании, из-за того, что в них запечатлено последнее путешествие Гроссмана, вдохновившее его на создание путевых заметок «Добро вам!», а также потому, что в следующем разделе нашей книги, собрании Екатерины Заболоцкой, мы публикуем большой блок писем к ней из этой же поездки. Письма жене мы снабдили примечаниями, а в одном случае внесли существенное исправление: хотя в ереванском сборнике корреспонденция была оформлена как 12 писем, на самом деле их 13 – в издании два письма, от конца декабря 1961 года и от 3 января 1962 года, были напечатаны как одно, датированное 3 января. Мы же их разделили.
Всего из корпуса корреспонденции Василия Гроссмана и Ольги Губер мы публикуем 373 документа: 275 посланий Гроссмана (из них 13 печатаются не по архивным источникам) и 98 посланий Губер.
Письма Екатерине Заболоцкой
Гроссманы и Заболоцкие с конца 1940-х годов были соседями: обе семьи получили квартиры в писательских домах на Беговой улице в Москве и подружились. С дружбы семьями и начался роман Василия Гроссмана и Екатерины Заболоцкой; осенью 1956 года они начали жить вместе. Каждый из них не прерывал общения с супругом, от которого ушел, для каждого ситуация была очень тяжела. В результате Екатерина Васильевна решила вернуться к Заболоцкому, и с сентября 1958 года снова жила на Беговой, проведя с мужем последние полтора месяца его жизни. Гроссман тоже вернулся в свою семью, хотя, как показывают письма, публикуемые в нашей книге, его отношения с Екатериной Васильевной продолжались.
Екатерине Заболоцкой Гроссман оставил часть своего архива: письма отцу, черновую машинопись «Все течет» и другие документы. Долгое время было известно лишь о тех бумагах, которые Заболоцкая передала в 1990-е годы Джону и Кэрол Гаррард, а они, в свою очередь, – Хоутонской библиотеке Гарвардского университета.
Однако недавно выяснилось, что существует и вторая часть архива Екатерины Васильевны, имеющая отношение к Гроссману, которая хранилась в семье Заболоцких. Сейчас она находится в архиве Галеев-Галереи, и мы очень благодарны Ильдару Галееву за возможность работать с этими документами и разрешение издать корреспонденцию.
По нашей просьбе Ильдар описал в июле 2023 года, как именно архив Заболоцкой был обнаружен и попал к нему. Мы публикуем здесь его свидетельство:
Мое знакомство с материалами архива Василия Семеновича Гроссмана произошло для меня неожиданно и во многом благодаря моей галерейной и публикаторской, на ниве изобразительного искусства, деятельности.
В 2012 году, занимаясь подготовкой художественной выставки учеников так называемой школы Мастеров Аналитического Искусства, возглавляемой Павлом Николаевичем Филоновым в середине 1920-х гг. в Ленинграде, мне посчастливилось узнать об интересной подробности. Как оказалось, эту школу несколько раз посещал Николай Алексеевич Заболоцкий.
В одной из публикаций мне попался на глаза автопортрет, исполненный Заболоцким под непосредственным наблюдением Павла Филонова. Благодаря помощи и поддержке специалиста по творчеству Заболоцкого – Игоря Лощилова – я был приглашен в гости к Никите Николаевичу Заболоцкому, автору замечательных исследований, посвященных жизни и творчеству поэта, и его жене Наталье Андреевне. Автопортрет, интересовавший меня, вскоре участвовал в одной из выставок, которую я курировал у себя в галерее.
В 2014 году Никиты Николаевича не стало, а с Натальей Андреевной мы продолжали видеться, подружились, и в какой-то момент она решила поделиться со мной семейной тайной. Помню волнующий момент, когда она извлекла из комода пачку рукописных материалов. Это были письма Василия Гроссмана, адресованные Екатерине Васильевне Заболоцкой – жене поэта, чьей невесткой была Наталья Андреевна. Кроме писем Гроссмана, в этом архиве находились и другие материалы Василия Семеновича, Ольги Губер и Екатерины Васильевны.
Наталья Андреевна Заболоцкая сообщила мне, что она хотела бы передать архив в мои руки, так как не может доверить его государственным архивам и сделать открытым для публикаций и обсуждений. История взаимоотношений двух людей воспринималась ею как нечто личное, не подлежащее огласке. К тому же была жива дочь Гроссмана – Екатерина Короткова, которая, как полагала Наталья Андреевна, могла бы реагировать строго на публикацию писем.
Было еще одно обстоятельство, которое повлияло на решение передать эти материалы мне на хранение: Наталья Андреевна была неизлечимо больна, боролась с недугом и опасалась за сохранность эпистолярного наследия. На мою просьбу определить срок запрета обнародования этих писем и возможность их публикации в обозримом будущем Наталья Андреевна ответила предельно просто: когда сочтете нужным.
Наталья Андреевна Заболоцкая хранила письма Гроссмана, публикующиеся в настоящем сборнике, долгие годы. Многие события тех лет сегодня воспринимаешь с поправкой на обстоятельства жизни людей той эпохи, доминирующего идеологического фона, сложившейся системы ценностей поколения. Но рано или поздно судьбы людей этого поколения должны быть оценены нашими современниками объективно. В изменчивости исторических и социально-культурных декораций одно остается неизменным – человек и все то, что его волнует и делает счастливым. В текстах Василия Семеновича эти чувства проявляются с наибольшей убедительностью. Именно поэтому я решил, что для публикации этих материалов час пробил.
Собрание включает в себя фотографии из поездки Гроссмана в Армению, письма Гроссмана к Екатерине Васильевне, краткие воспоминания Заболоцкой о Гроссмане, одно письмо Заболоцкой Гроссману, одна записка, адресованная Екатерине Васильевне ее дочерью Натальей, несколько писем Заболоцкой мужу и одно письмо Николая Алексеевича жене, несколько неидентифицированных фотографий и машинописи некоторых произведений Гроссмана, с его правкой и с правкой, сделанной рукой Заболоцкой. Кроме того, сохранились и сухие ветки с комментарием Екатерины Васильевны: «Это остаток букета осенних веток, которые В. С. Гроссман сорвал в сквере, где сидел после того, как отнес свой роман в редакцию. Ему хотелось, чтобы я сохранила этот букет. Остались две веточки…»
В нашей книге мы публикуем все письма, телеграммы и записки из архива Галеев-Галереи, отправленные Василием Гроссманом Екатерине Заболоцкой: это 45 писем, 4 телеграммы и 4 записки. Следуя желанию семьи Заболоцких, письмо Екатерины Васильевны и записку Натальи Николаевны мы в этом сборнике не печатаем.
Самое раннее письмо Гроссмана Заболоцкой датируется мартом 1959 года, самое позднее послание – записка от 31 декабря 1962 года. Кроме того, в этом архиве обнаружилось и письмо Ольги Михайловны Губер к Екатерине Васильевне, написанное в 1957 году, его мы публикуем в четвертом разделе «Разное». Все письма и записки из этой коллекции написаны чернилами и сохранились хорошо.
Письма Екатерине Заболоцкой ценны еще и тем, что отличаются по тону и стилю от всех других известных нам писем Гроссмана. Обычно Гроссман в переписке избегает говорить о своих чувствах – основное внимание он уделяет своему корреспонденту и рассказу о других людях; описания своей жизни он часто ограничивает фактами, а если и говорит о своих переживаниях, то довольно скупо. В письмах же к Заболоцкой, напротив, он стремится выразить себя как можно глубже, описать свои эмоции и мысли. Так, например, в нескольких письмах 1959 и 1960 годов отражается его ощущение надвигающейся трагедии, связанной с романом «Жизнь и судьба». 7 сентября 1959 года он пишет: «Работать продолжаю, но видит ли бог мою работу. Хоть бы он глянул на нее, не надеюсь я на людские глаза» (наст. изд.: 718). 3 октября того же года: «Нет в моей душе покоя, издергался, а впереди, совсем уж рядом, большие и жестокие испытания, которые связаны с главной моей работой в жизни. Кто поможет, на кого опереться, как писал Гоголь: „…все чужие, враждебные лица“. К ним и пойду» (наст. изд.: 719). Тревога за будущее «Жизни и судьбы», чувство, что он должен был, не мог не написать эту книгу, ощущение необходимости поделиться ею с людьми – все это звучит и в других письмах Гроссмана Заболоцкой.
Разное, фотографии
К трем основным разделам книги мы добавили четвертый, «Разное», поместив в нем те документы из пакета, переданного Екатериной Заболоцкой в ЦГАЛИ, что не являются частью переписки между Гроссманом и его основными корреспондентами, а также одно письмо из архива Галеев-Галереи. Одиннадцать документов расположены в хронологическом порядке.
Корреспонденцию Гроссмана в книге дополняют фотографии из частных архивов. Многие из этих фотографий публикуются впервые.
Принципы публикации писем
Во всех собраниях письма изначально были расположены с нарушением хронологического порядка, некоторые документы были датированы неверно или не датированы вовсе, некоторые письма были разделены и хранились в разных местах. При подготовке этой книги мы стремились восстановить хронологию внутри каждого корпуса на основе документально подтвержденных фактов биографии писателя, данных архивных источников, сведений, полученных при сопоставительном анализе писем и оценке упоминаемых событий. Если дата не была проставлена в письме самим адресантом, а установлена нами, то она заключена в квадратные скобки. Если датировка письма была установлена по штемпелю на конверте, мы оговариваем это в сноске, также заключая дату в квадратные скобки.
В процессе работы мы сталкивались с рядом сложностей. Например, в корпусе писем к отцу были обнаружены два недатированных письма без конвертов, написанных Гроссманом на железнодорожном вокзале Ростова по пути из Криницы. На одном из писем не указан год, а только дата и месяц – 21 августа, второе не датировано вовсе. При этом из содержания писем ясно, что Гроссман отдыхал в Кринице в компании своего отца и жены Анны Мацук (Гали). Достоверно установлено только одно подобное путешествие – в августе 1928 года. Не обладая иными документально подтвержденными сведениями о поездках Гроссмана в Криницу в конце 1920-х годов, мы датируем оба этих письма августом 1928 года.
Работа над датировкой и упорядочиванием писем по хронологии позволила нам установить и объяснить ряд фактов. Так, например, мы обнаружили, что в разных источниках указывается разная дата рождения дочери Гроссмана Екатерины Коротковой: 23 (а иногда 26) июня и 23 января. Поговорив с родственниками, мы выяснили, что Екатерина Васильевна родилась 23 января 1930 года, но ее зарегистрировали только 23 июня, поэтому официальная дата ее рождения, указанная в паспорте, – 23 июня 1930 года. Сама же Екатерина Васильевна отмечала день рождения только 23 января.
Для каждого письма мы устанавливали и место, в котором оно было написано. В том случае, если место не проставлено самим автором в начале или конце письма, мы указывали его в квадратных скобках. Для его установления мы использовали как сведения из самого письма и информацию на конверте или почтовой карточке, так и другие источники: например, военные записные книжки и архивные документы.
Письма внутри каждого корпуса мы делили на подразделы, соответствующие определенному периоду переписки или той или иной поездке.
Орфография и пунктуация были приведены к норме, за редкими исключениями. Эти исключения сделаны в том случае, когда речь идет о намеренном искажении, имитирующем, например, определенное произношение: «Бефдичев» вместо «Бердичев», «доктура» вместо «доктора» и так далее. При этом необходимо отметить, что в текстах Гроссмана существуют регулярные нарушения орфографической нормы, и хотя нам было жаль нормализовывать в нашей публикации написание этих слов, их мы тоже решили исправлять, поскольку провести границу между «постоянными и заслуживающими внимания» и «случайными и незначимыми» ошибками не представляется возможным. Вот некоторые из подобных случаев: Гроссман редко использует дефис, практически никогда не ставит его перед постфиксами «-то», «-либо» и проч. («кто то», «где либо»); всегда или почти всегда пишет «мущина», а не «мужчина», «объязательно» через «ъ», «черезвычайно», «вообщем».
Особняком стоит написание его фамилии: в 1920-х годах Гроссман пишет свою фамилию – например, в своих или отцовских адресах или же цитируя университетские документы, – неизменно с одной «с»: «Гросман». Более того, с одной «с» пишется эта фамилия и в двух его первых статьях, вышедших в 1928 году: «Ислахат» (Гросман 1928a) и «Узбечка на кооперативной работе» (Гросман 1928b). Очевидно, что это не описки и не ошибки, и, возможно, причина в том, что фамилия отца Гроссмана при рождении – Гройсман (его братья Владимир Иосифович и Арнольд Иосифович, эмигрировавшие в Америку, сохранили именно ее). Написание, привычное нам, закрепляется уже в 1930-х годах: и в письмах Гроссмана, и в печати. Однако во многих официальных документах, сохранившихся в семейном архиве, фамилия Гросман пишется с одной «с» вплоть до первой половины 1940-х годов: в паспорте, в расчетной книжке практиканта, справке из Донецкого областного института патологии и гигиены труда от 22 марта 1933 года, справке с Государственной фабрики им. Сакко и Ванцетти от 31 января 1934 года, в справке из редакции газеты «Красная звезда» от 22 сентября 1943 года. В ответе Центрального справочного бюро Гроссману на его запрос о судьбе матери, полученном в апреле 1942 года, фамилии обоих также написаны с одной «с».
Следует учитывать, что иногда написание слов и знаки пунктуации в корреспонденции не читаются однозначно. Например, при расшифровке писем не всегда было возможно различить некоторые буквы: например, «и» и «а» или «о» и «а», особенно на конце слов. Что же касается пунктуации, то наиболее ярким примером, пожалуй, может послужить использование тире. Тире – излюбленный знак препинания Гроссмана, и в то же время он часто ставит штрих, напоминающий тире, перед началом слова. В каждом неочевидном случае, опираясь на синтаксическую и логическую структуру фразы, мы старались выбрать наиболее вероятный вариант.
Деление эпистолярных текстов на абзацы также не всегда было простой задачей, учитывая, что корреспонденты часто экономили бумагу, а начиная абзац, не делали отступа или делали его минимальным. В тех случаях, когда у нас возникали сомнения, мы прибегали к тематическому принципу: если был переход темы, то абзац ставили; если не было, то набирали текст в подбор к предыдущему.
Мы использовали два типа служебных скобок. Разворачивая сокращения, мы использовали угловые скобки (например: «М〈ария〉 М〈ихайловна〉»), если же восстанавливали часть текста или информацию о письме, то ставили ее в квадратные скобки («…потому что [в] Берсуте у них летнее помещение»).
Научно-вспомогательный аппарат
Научно-вспомогательный аппарат издания, помимо этой статьи, состоит из примечаний и комментариев, расположенных в постраничных сносках, аннотированного именного указателя, списка архивов и изданий, в которых находятся публикуемые письма, списка использованной литературы и реестра всех писем. В реестре для писем из государственных архивов мы указывали ссылки на конкретные документы.
Комментарий и аннотированный указатель задумывались как инструменты, взаимодополняющие друг друга: комментарии, касающиеся отдельных людей, в основном помещались в сноске при первом упоминании человека, указатель же построен так, чтобы помогать читателям ориентироваться в книге. Если нам не удалось идентифицировать человека и мы знаем о нем только то, что содержится в тексте писем, мы не ставили сноску, но, разумеется, помещали его имя в указатель. Указатель содержит имена людей, присутствующие в текстах корреспонденции. Имена людей, упоминаемых только нами в предисловии или сносках, туда не вносились. Кроме того, мы добавляли в указатель и клички домашних питомцев Гроссмана и Губер.
Рассматривая комментарий не как справочный аппарат, но и как научно-исследовательскую работу, при его составлении мы обнаружили некоторые новые факты, а также новые лакуны, касающиеся биографии Гроссмана. Так, например, повсеместно указывается, что первое издание повести «Глюкауф» состоялось в первом и втором номерах журнала «Литературный Донбасс» за 1934 год. При этом ни в одной работе не указываются страницы, на которых напечатана повесть. В письмах, публикуемых в нашей книге, Гроссман сообщает отцу, что повесть должна печататься то с первого номера, то – со второго, а также что он прочитал в газете о выходе журнала с повестью, но достать его не смог. Во всех библиотеках России и Украины, в которые мы обращались с запросами, первый и второй номера «Литературного Донбасса» отсутствуют, и подшивка журнала начинается с третьего номера 1934 года – и в нем опубликовано, без указания страниц, содержание предыдущих двух номеров и, в частности, повесть «Глюкауф», разбитая на два выпуска. Уже отчаявшись найти эти выпуски в библиотеках, мы внезапно обнаружили их в семейном архиве Гроссмана – Губер и установили точные страницы публикации (Гроссман 1934e). Надеемся, в будущем удастся установить, что именно произошло с январским и февральским номерами «Литературного Донбасса» за 1934 год, и если их изъяли из всех библиотек, то по какой именно причине и в какой момент.
Другой пример подобного рода: когда речь идет о начале 1930-х годов и истории взаимоотношений Гроссмана с Максимом Горьким, часто указывается, что Гроссман отправил тому на суд рассказ «Три смерти» и повесть «Глюкауф» (Бочаров 1990: 10; Popoff 2019: 64). В этом утверждении исследователи опираются на опубликованный критический отзыв Горького (Горький 2019: 218), где он действительно называет «Три смерти» рассказом. Однако, если попытаться установить, что это за текст, выясняется, что рассказ с подобным заглавием никогда не публиковался, не сохранилось его и в архивах. При этом сам Гроссман в письме к отцу от 6 июля 1932 года сообщает о нескольких рассказах под этим заглавием: «Рассказы „Три смерти“ через пару дней будут отпечатаны на машинке и начнут путешествовать по редакциям» (наст. изд.: 113). Гипотеза, которую мы выдвигаем, чтобы объяснить все эти несоответствия, заключается в том, что Гроссман мог тематически объединить под одним заголовком три своих ранних рассказа. На наш взгляд, это могут быть: «Главный инженер», «Запальщик», «Товарищ Федор» (или, возможно, «Жизнь Ильи Степановича»).
Работа над составлением комментария помогла установить и некоторые факты из истории гроссмановских публикаций. Например, становится ясно, как именно и почему Гроссман решил публиковать роман «Сталинград» («За правое дело») не в журнале «Знамя», с которым был уже заключен договор, а в «Новом мире». Контракт со «Знаменем» Гроссман расторгает 24 ноября 1948 года в результате того, что главным редактором журнала был назначен Вадим Кожевников (наст. изд.: 440). 26 ноября Василий Семенович сообщает жене, что попросил перевести деньги, которые ему «должны за книгу, в погашение долга журналу» (442) – и уже 28 ноября пишет о том, что аванс был возвращен (там же), а также что договор с «Новым миром» еще не заключен. На настоящий момент достоверно неизвестно, какое именно издательство перевело деньги «Знамени», чтобы погасить долг Гроссмана, но, возможно, это Воениздат, выпустивший в 1949 году книгу «На Волге (главы из романа „Сталинград“)».
Для комментирования корреспонденции мы пользовались не только печатными и архивными источниками, но и задавали вопросы родственникам Гроссмана, его друзьям и знакомым. На наши вопросы в переписке и личных беседах любезно отвечали внуки Гроссмана Елена Кожичкина, Алексей Коротков и его жена Светлана Крайнова, Мария Карлова – дочь близкого друга Гроссмана Вячеслава Лободы, Татьяна Менакер – внучка Розалии Менакер, родственницы Екатерины Савельевны, Татьяна Левченко – родственница Федора Левина, хранительница и исследовательница его архива, сын Корнелия Зелинского Владимир Зелинский. Благодаря их содействию нам удалось получить новые сведения об окружении Гроссмана: о родных, друзьях, знакомых и даже о дворниках, служивших в домах, где он жил, о его домашних питомцах. Мы также обращались за консультациями к раввину Раву Цви Патласу, историкам Алексею Гусеву и Олегу Будницкому, литературоведу и специалисту по Николаю Заболоцкому Игорю Лощилову.
Будущее
В семейном архиве мы обнаружили ряд писем, которые, хотя и представляют большую ценность, не вошли в данный том: прежде всего это письма матери Гроссмана Екатерины Савельевны к его отцу Семену Осиповичу и самому Гроссману; письма Гроссмана к матери, написанные им после ее смерти; некоторые письма Ольги Губер, о которых мы упоминали выше; письма Гроссмана пасынкам Михаилу и Федору Губерам и письма пасынков к нему; отдельные письма Михаила Зощенко, Бориса Пастернака, Рувима Фраермана, Виктора Некрасова, Бориса Ямпольского и других писателей; корреспонденция друзей и родственников (Николая Сочевца, Семена Тумаркина и др.), письма читателей, официальные письма из организаций. Мы продолжаем работу в архивах и надеемся, что эта книга – только первый шаг в публикации эпистолярного наследия Василия Гроссмана.
При этом многое из корреспонденции Гроссмана еще не найдено. Известно, что Василий Семенович состоял в переписке с дочерью, Екатериной Коротковой, и со своей первой женой Анной Мацук. В публикуемых письмах есть упоминания о продолжающейся переписке с друзьями и родственниками: с двоюродной сестрой Надеждой Алмаз, с Кларой Шеренцис (женой его двоюродного брата Виктора), с Ефимом Кугелем, Семеном Гехтом, Фаиной Школьниковой, Мариам Черневич и другими. Мы просим всех читателей, у которых хранятся письма Гроссмана или письма к нему, всех, кто обладает информацией о местонахождении корреспонденции Гроссмана, писать нам на адрес: grossmansletters@gmail.com.
Благодарности
Мы благодарны хранителям частных архивов Гроссмана за доверие и всем, к кому мы обращались за консультациями, за щедрость и содействие: Елене Кожичкиной, Алексею Короткову и Светлане Крайновой, Ильдару Галееву, Олегу Будницкому, Алексею Гусеву, Владимиру Зелинскому, Марии Карловой, Татьяне Левченко, Игорю Лощилову, Татьяне Менакер, раввину Раву Цви Патласу. Мы очень признательны Наталье Заболоцкой за разрешение опубликовать текст Екатерины Заболоцкой и Елене Макаровой за разрешение опубликовать письмо Семена Липкина.
Отдельно мы хотим поблагодарить и первого редактора этой книги Александру Карпову.
На разных этапах работы нам помогали друзья, коллеги и знакомые. Евгения Бельская, Анна Бонола, Мария Ботева, Елена Вигдорова, Кузьма Волохов, Мауриция Калузио, Марина Козлова, Елена Костюкович, Наталия Крупенина, Надежда Крученицкая, Илья Кукулин, Наталия Лесскис, Катарина Леттау, Илья Овчинников, Анна Разувалова, Серджио Резегетти, Анастасия Токмашева, Роберт Чандлер, Анна Шмаина-Великанова, Софья Ярошевич – большое вам спасибо!
Из переписки Василия Гроссмана
Письма к отцу
Преамбула Екатерины Заболоцкой[3]
200 писем + 2 = 202 Василия Семеновича Гроссмана.
В 1963 году, подготавливаясь в Боткинскую больницу на операцию удаления почки[4], Василий Семенович принес мне пакет писем, завернутых в серую оберточную бумагу, перетянутую белым шнуром. Объяснил, что этот пакет хранил его отец Семен Осипович. В нем собраны письма его мамы Екатерины Савельевны к Семену Осиповичу. Просил хранить, а после его смерти уничтожить.
Прошли годы, не стало Василия Семеновича, мои годы достаточно преклонны[5] – пришло время выполнить обещание. Но нелегко поднять руку со спичкой, чтобы пламя уничтожило рукописи. Я обратилась за советом к Семену Израилевичу Липкину – другу Василия Семеновича. Он посоветовал – прежде чем жечь, прочитать письма и выписать из них строки, касающиеся литературной работы Василия Семеновича.
И вот я раскрыла пакет. Увидя знакомый почерк, была потрясена: это письма Василия Семеновича к Семену Осиповичу!
Любовно собраны и сохранены все письма, незначительные записки, даже обрывок страницы с непонятными записями рукой Василия Семеновича. Конечно, я не могла их сжечь.
Оправдываюсь перед Василием Семеновичем Гроссманом тем, что обещала я сжечь письма Екатерины Савельевны, а оказались в пачке письма его.
Право издать книгу писем остается за наследниками В. С. Гроссмана[6].
29. XII.90[7]
Е. Заболоцкая.
Всего 200 писем за годы 1925-й по 1956-й. Письма по месяцам мною разложены в обложки.
За этот период по месяцам распределяется не одинаково[8]:
1925 – 1
1927 – 8
1928 – 16
1929 – 23 (год окончания университета)
1931 – 4
1932 – 14
1933 – 14
1934 – 23
1935 – 8
1936 – 7
1939 – 2
1940 – 7
1941 – 16
1942 – 22
1943 – 5
1945 – 3
1946 – 2
1947 – 1
1948 – 2
1950 – 2
1956 – 1
180 писем [плюс] 20 писем с необозначенными датами.
Всего 200 писем.
Самыми нижними в пачке хранились одно письмо С. И. Липкина и одно Кати Гроссман. Они вложены в обложку с записками. Все письма были без конвертов.
Университетский период, 1925–1929
В 1925 году Василий Гроссман учится на химическом отделении физико-математического факультета 1-го Московского государственного университета. Его отец Семен Осипович – инженер-химик, специализирующийся на газоанализе, – в это время живет в Сталине (Донецке).
1
2 декабря 1925[9], [Москва]
Дорогой папа, получил сегодня твое второе письмо. Извини меня, действительно напрасно обвинял тебя в молчании. Сам свинья. Меня очень огорчило твое здоровье. Береги себя, дорогой мой. Не переутомляйся. Ты знаешь, теперь я доволен собой, много работаю[10], устаю (счастливая усталость после долгого безделья), и единственная тяжесть – это мамино здоровье[11] и ты. Я себя чувствую как бы виноватым перед вами. Не знаю почему, но, когда думаю о том, что ты так одинок, мне кажется, что я не делаю для тебя того, что могу сделать.
Папка, почему ты думаешь, что я бы смеялся над твоей работой? Ей-богу, ничуть не смешно, наоборот, я очень рад за тебя. Смешно только, что ваш Институт[12] до сих пор не работает. «Спеши медленно».
Какие вам нужны реактивы и неужели их негде купить?
Напиши, какую работу вы начнете? Мне жаль старого Семена Максимовича[13]; вдруг вспомнил все, что ты о нем рассказывал: «Осип Семенович», «Радоневич, когда я к тебе приду на пирижки?»[14]. Думаю, что ты, папок, со всеми своими болезнями проживешь не меньше его. А что с Ольгой Семеновной, чем она больна, работает ли еще в Каменке?[15] Будешь писать, кланяйся ей от меня. Папа, какова судьба нашей киевской квартиры, поселился ли там кто-нибудь? Имел письмо от мамы, экзема продолжает ее мучить. По-моему, ей следовало бы съездить в Киев, она посоветуется с врачами и немного развлечется от ужасной бердичевской обстановки.
Когда я приезжаю на пару недель, то чувствую, как давит этот паршивый город[16]. А ей там жить годы, да еще прикованной к кровати. Тяжело.
Я работаю усиленно в лаборатории, делаю четвертую задачу на кислоты[17]. Что сказать? Интересно, очень интересно. Но «ничего иль очень мало, но чего-то не хватало»[18]. Полного, стопроцентного удовлетворения я не чувствую. Во всяком случае, мне теперь несравненно лучше, чем когда ты меня видел в свой приезд. Вообще, мне кажется, быть вполне удовлетворенным и счастливым может только дурак. Следовательно, я не дурак. У нас на Рождественские каникулы едет экскурсия старших курсов химического отделения в Германию. Посетят Берлин, Гёттинген, Баден, Рейнский водопад. Все удовольствие стоит 70 р. Предприятие заманчивое, но Бог с ним, я не поехал бы, если даже были б деньги (два «бы»). На Рождество, видно послушавшись твоего совета, поеду в Бердичев дней на 10–14.
Папа, ты летом получишь отпуск, и мы поедем на море, как в этом году. Ладно? Обязательно так сделаем, конечно, при условии, что старуха-земля не рассыпется за это время, шутка сказать: 6 месяцев.
Ну, хватит болтать.
Крепко тебя целую, береги себя,
Вася.
2.12.25 г.
2
15 февраля 1927, [Москва]
Дорогой батько[19], только сел писать тебе письмо и посвятил первую страницу его сплошной ругани по поводу твоего долгого молчания, как получил твое письмо. Посему снова начинаю сначала. Во-первых, я очень рад, что ты избавился от ушной боли. Будь теперь осторожен, не простуживайся.
Описал бы ты подробней свое путешествие. Каких это старых знакомых ты видал, которых не видел по 20 лет? Как здоровье Стаха?[20] Как долго ты думаешь еще сидеть в Сталине, может быть, за время своей поездки наметил себе что-нибудь? Ты спрашиваешь, почему я кончу к Рождеству? Во-первых, зачеты, их у меня 4 крупных и 3 мелких, а еще, вероятно, добавят один предмет – термодинамику.
Во-вторых, практические по физич〈еской〉 химии, если не удастся попасть в Менделеевском институте[21], то в университете попаду не раньше октября месяца. А в Менделеевском на физ〈ическую〉 химию тоже создалась очередь – 140 чел〈овек〉, и это чрезвычайно печальное обстоятельство. Но работы моей это пока не тормозит, ее хоть отбавляй. Мне кажется, что часть будущего года придется посидеть в Москве, но в этом нет ничего страшного. Батько, я не льщу себя надеждами, что после окончания попаду в царство божие. Отнюдь, и даже наоборот. Но это будет жизнь, какая бы она ни была, а жизнь лучше, чем не жизнь.
Ты спрашиваешь, приеду ли на лето поработать к тебе. Ей-богу, не знаю, как еще сложатся дела, может быть, у меня останется от занятий только месяца полтора и мы вместе махнем куда-нибудь просто отдохнуть. Как твой съезд в Москве: приедешь ли сюда в марте? Это было бы чудесно. Занимаюсь я теперь много, готовлю зачет по органической химии, это один из самых крупных экзаменов, займет по крайне〈й〉 мере месяца полтора. Развлекаюсь умеренно, был сегодня в Большом театре на «Сказании о граде Китеже»[22] и чуть не погиб от тоски. Не понимаю оперы совершенно.
Да, папа, у меня к тебе просьба: сын Кати, Васька, уже 2–3 месяца без работы. Если б ты мог найти ему какую-нибудь работу у вас в Ин〈ститу〉те или где-нибудь на заводе, то буквально бы спас парня. Ему 20 лет, он член союза, работал на заводе года 2. Если найдешь что-нибудь, напиши мне. Ну, пока всего хорошего.
Крепко тебя целую,
Вася.
Книгу Ольге Семен〈овне〉 я выслал в воскресенье.
Батько, пиши мне почаще.
15 февр. 27 г.
3
9 июля [1927, на пароходе между Нижним Новгородом и Казанью]
Дорогой батько, отъехали 100 верст от Нижнего Новгорода[23]. До Казани осталось 380. Дует сильный противный ветер. Езды еще 6–7 дней. Волга прекрасна, широка дьявольски. Закат и восход солнца на ней замечателен.
Целую, Вася.
9. VII
4
16 [июля 1927, Казань]
Дорогой батько, приехали в Казань. Здесь конец нашему путешествию. Завтра или в крайнем случае послезавтра поедем поездом в Москву. Теперь уж могу наверное сказать, что не утону. Дней через 6 увидимся.
Сейчас займемся ликвидацией имущества на толкучем рынке. Крепко тебя целую, Вася. 16.
5
19 июля 1927, [Москва]
Дорогой батько, приехал вчера вечером в Москву. Здесь вонища, духотища, в общем, гадость. Думаю через 2 дня выехать к тебе. Чувствую себя великолепно, ударом кулака убиваю большого быка[24]. Сегодня проявил верх эксцентричности – пошел… кататься на лодке. Пока всего хорошего. Крепко тебя целую, Вася.
19. VII.27 г.
6
4 августа 1927, [Бердичев]
Дорогой батько, сижу в Бердичеве на теткиных хлебах[25]. Поправляться уже некуда.
Дня через 3–4 думаю поехать в Москву. Получил от товарища письмо – занятья уже начались, но никто почти не приехал, думаю, что никуда не опоздаю. Как-то ты, бедняга, проводишь свои одинокие дни, очень ли скучаешь[26]. Напиши мне обязательно в Москву.
Пока крепко тебя целую, Вася.
4. VIII.27
7
8 октября 1927, [Москва]
8. X.27
Дорогой батько, был очень рад наконец получить твое письмо – первое из Сталина. Завидую тебе, что ты завален работой, что начинаешь работать в шахтах (ты себе, вероятно, не завидуешь). Если мне удастся к Рождеству выкроить 2–3 недели, обязательно приеду в Донбасс. У меня хороших новостей нет – продолжаю искать комнату, с лабораторией физич〈еской〉 химии вышла заминка – в этом месяце не попаду в нее, вероятно, только в середине ноября или даже в декабре, меня это не очень беспокоит, работы хватит – буду прорабатывать пока технический анализ. Особенно неприятно, конечно, это отсутствие комнаты, не говоря уже о материальной тяжести такого положения[27]. Это скверно, особенно тем, что дезорганизует жизнь. Не дает возможности дома читать и работать. Надеюсь, что в течение ближайших двух недель мне удастся найти комнату. Надя мне упорно предлагала переехать к ней[28], но я отказался, хочется с ней сохранить хорошие, дружеские отношения, а при совместной жизни это, конечно, невозможно. Батько, я подумал о том, как незаметно во мне произошла большая ломка – ведь почти с 14 лет до 20 я был страстным поклонником точных наук и ничем решительно, кроме этих наук, не интересовался и свою дальнейшую жизнь мыслил только как научную работу. Теперь ведь у меня совершенно не то. Если быть откровенным, то на месте старых разрушенных «идеалов» я не воздвиг ничего определенного; во всяком случае, мои интересы перенеслись на вопросы социальные, и мне кажется, что именно в этой области я буду строить свою жизнь, работать на этом «под прище». Химик из меня, безусловно, выйдет не блестящий: конечно, я свободно справлюсь с текущей работой на производстве, хватит и уменья и знанья, но химик – двигатель науки, исследователь – это, кажись, не по мне.
Ну ладно, пока всего хорошего.
Крепко тебя целую, напиши мне, как только будет время,
Вася.
Привет Ольге Семеновне.
P. S. Если ты вышлешь Кларе 40 рублей по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, 11, кв. 7, К. Г. Шеренцис[29], она тебе немедленно вышлет куртку; на предложение выслать в кредит я получил отказ – они люди трезвого ума.
Деньги я получил[30].
8
10 октября 1927, [Москва]
Дорогой батько, пишу пару слов, так сказать, по делу. А дело вот в чем. Я нашел комнату за городом за 25 р. (с отоплением и всякой штукой)[31], комната не ахти какая, но есть 4 стены, пол и потолок, семья тихая, так что можно будет заниматься без помехи, а это самое важное для меня.
Теперь так: необходимы некоторые расходы для организации постели и прочих элементов семейного уюта, посему слезно прошу Вас, папаша, не откажите мне в моей покорной просьбе и вышлите 20 р. ассигнациями, как положение мое есть бедственное и я безработный до мозга костей.
Кроме этой новости, особенных новостей у меня нет. Рад очень, что нашел комнату, и даже заниматься перестал, думаю туда переехать через 3–4 дня.
Пока всего хорошего.
Целую тебя, Вася.
10. X.27 г.
9
22 января 1928, [Вешняки]
Дорогой батько, получил твое письмо.
В первых строках сообщаю, что я жив и здоров. Батько, дорогой, меня очень огорчило то, что у тебя сто и одно несчастье. Правда, ты мне рассказал о двух только, но и этого достаточно; что может быть хуже грязных неурядиц по службе? Скажи Косолапову, что я ему побью морду, если он «не оставит этих глупостей». По какой, собственно, линии он на тебя нападает – служебной или просто личных сплетен? Батько, а касательно того, что доктора тебе категорически запретили работать в шахтах, то, ей-богу, нельзя к этому подходить с наплевательской точки зрения. Нельзя значит нельзя. Либо передай эту работу помощнику, либо, если это никак не возможно, то вообще оставь эту работу. Ты пишешь, что у тебя «другого выхода нет», но ведь спускаться в шахты, когда это смерти подобно, меньше всего похоже на выход. Тогда, по моему мнению, не надо откладывать на осень решение покинуть Сталин, а осуществить его сейчас. И еще, дорогой мой, я хочу сказать тебе, что если в твоем желании остаться в Сталине до осени хоть какую-либо роль играет мысль о том, что ты не сможешь, уехав, помогать мне, то я категорически протестую против этого. Этого ни в коем случае не должно быть. Плавать я немного умею и, безусловно, не утону, а если малость хлебну соленой водички, то ничего, кроме большой пользы, из этого не извлеку. Чуешь, батько? Что касается насчет твоего жительства в Москве, то что ж, скрепя сердце, пару деньков сможешь у меня прожить. Я, между прочим, решил переехать в город и предпринял поиски комнаты; хочу поселиться вместе с товарищем: он служит; вместе мы сможем платить рублей 50–60 в месяц, а за такие деньги комнату можно найти. Радушно приглашаю тебя в эту комнату, к сожалению, только не могу еще указать адреса; разве – Москва, Васе Гросману[32]. А в Вешняках моих – снег, сосны и тишина, – в этом тоже большая прелесть, очень большая, но все ж таки очень уж утомительна эта езда взад и вперед. Ну ладно, посмотрим.
Теперь перехожу к описанию себя. Ты спрашиваешь, как я мыслю себе общественную работу. Господи Иисусе, всякая работа есть общественная, если объектом работы являются не только колбы и бюретки.
Ты говоришь о хлебе насущном: ведь я учусь «на химика» и буду работать как химик (вероятней всего). Я только хочу сказать, что химия для меня не является целью главной и единственной. Мне особенно привлекательны и кажутся для меня интересными и способными дать мне настоящее удовлетворение, наполнить меня всего два вида деятельности: политическая и литературная (их можно совместить). Я прекрасно знаю, что явись я сейчас в ЦК ВКП или в редакцию толстого журнала и предложи свои услуги, то мне предложат закрыть дверь за собой с наружной стороны.
Но я не собираюсь этого делать. Это перспектива, так сказать, цель, и думаю, что в своей повседневной работе мне постепенно удастся приблизиться и приобщиться и к этой работе. Ведь всё впереди, ты это сам говоришь. Из этого не следует, что надо сидеть сложа руки потому, что не успею оглянуться, как все будет позади. Время – это самый коварный зверь; с ним шутить опасно. Рассуждаю я, как змий, мудро и рассудительно, но, откровенно говоря, в моем нынешнем «бедственном» положении на меня иногда нападает такая тоска и черное безразличие ко всему, что вешаться впору.
Но ничего, надеюсь увидеть более светлые, осмысленные дни. Ну вот, батько, ты меня просил написать тебе по этому поводу, я и написал.
Ну, о моих «киевских похождениях», как ты выражаешься, могу сообщить: если будет на то воля Аллаха, то, по-видимому, я женюсь, если не сейчас, то через год; нравится мне мой предмет очень («влюблен» я стесняюсь писать), скучаю по нем смертельно, взаимностью полной я пользуюсь, кажется, эти условия, на языке математиков, «необходимы и достаточны» для женитьбы[33]. Ну вот, пожалуй, и всё об этом. Как-нибудь напишу подробней (если интересуешься), а теперь чего-то не хочется.
Ты спрашиваешь о маме. Мама физически чувствует себя хорошо (сравнительно, конечно), нога почти не бунтует, почки не дюже важно; душевное состоянье у нее скверное – очень уж одиноко и тоскливо жить в Бердичеве; я тайком удивлялся ее мужеству – в такой неприглядной обстановке сохранить бодрость, живую душу, регулярно заниматься с учениками, массу читать, не опускаться и крепко держать себя в руках – это очень и очень много. И так жить могут люди с большой внутренней жизнью и большой силой души. Вот. Буду кончать. Папа, дорогой мой, пиши мне почаще, пиши о своих сто и одном несчастье, вместе будем плакать. Будь здоров, крепко тебя целую,
Вася.
22 января 28 г.
Привет Ольге Семеновне.
10
30 марта 1928, [Вешняки]
Дорогой батько, как-то ты доехал со своим аппаратом? Молчишь, не пишешь. Что с шахтами, начали работать уже? Смотри же, не лезь в них без крайней нужды. Пускай молодые «лазають». Напиши мне обязательно поскорей.
Что у меня новенького? Кое-что есть. Во-первых, работа, которую мы начали при тебе. Она разрослась до больших размеров – Надина комната превратилась в настоящее советское учрежденье[34]. Две машинистки трещали с утра до вечера, и я как управдел важно диктовал им. Вчера, слава богу, закончили.
Вышло почти 70 страниц. Надя отнесла сей труд в Комакадемию, и начальство одобрило. Будем денежки скоро считать. Возможно, что на днях будет еще одна работа. Был я на конгрессе Профинтерна – над столом президиума красные транспаранты с лозунгами – есть и твоя работа. Интересное впечатленье производит вид стольких иностранцев. Кого там только нет – немцы, американцы, негры, японцы, индусы, турки. И все это галдит на своих языках.
Вчера пошел (по собственной инициативе) в театр 〈на〉 «Горе уму»[35]. Скажу – как отец-эконом говорил: «не ндравится мне это, не ндравится»[36]. К чему этот фокстрот? К чему Лиза стреляет из монтекриста? К чему дурацкая символика и искусственные конструкции? «Не ндравится». Хочу посмотреть «Блоху», «На дне» и «Гамлета»[37]. Ведь я решил стать театралом.
Сегодня уже начал заниматься. Эти дни я совершенно не занимался, был занят с утра до позднего вечера. Да, батько, мне предложили замечательнейшую вещь – на два месяца поехать в самые заброшенные углы Туркестана[38] – почти на отрогах Памирского плоскогорья. Ехать с экспедицией на 2 месяца, отъезд в начале мая. Если дело выгорит, я поеду, чего там, ведь такой случай может наклюнуться раз в 100 лет. Такого там навидаю и насмотрюсь, что почище тысячи и одной ночи. Ей-богу.
Ну, будь здоров, пиши мне обязательно, береги себя. Крепко целую,
Вася.
Привет Ольге Семеновне.
30. III.28 г.
11
12 апреля 1928, [Вешняки]
Дорогой батько, получил твое письмо. Прежде всего, большое тебе спасибо за те строки любви, что ты написал мне. Дорогой мой, я не умею выразить своих чувств, но когда я прочел твое письмо, сидя у себя в Вешняках, то вдруг заплакал как дурак. Почему? Я не знаю, может быть, как битая собака скулит, когда ее кто-нибудь погладит. Это преувеличенье – я не битая собака, конечно, – но ты прав, мне порядком холодно жить на этом свете. Не знаю отчего, но во мне нет ощущенья радости жизни. Пожалуй, единственное, что я воспринимаю остро и полно, – это природу и тяжелый человеческий труд. Ей-богу, люди очень несчастны.
Я ехал сегодня поездом домой – вагон набит рабочими, все кошмарно пьяны (скоро Пасха); поглядел я на старика одного – он пел что-то высоким тонким голосом, «веселился», лицо изъедено заводской пылью, глаза мутные, неподвижные, как у мертвеца (пьян), и стало мне чертовски тяжело – жизнь течет в тяжелых буднях изнурительного труда, а приходит праздник, которого ждут целый год, – Пасха, – и люди веселятся в истерическом пьяном чаду; от «веселья» ходят неделю хмурыми, больными, а потом опять ждут праздника[39]. Горький часто говорит: «людей жалко»[40]. Действительно, жалко людей.
Ну ладно, перейду, так сказать, к повестке дня. Вопрос о моей поездке в Фергану решен в положительном смысле.
Утвердили меня. Отъезд назначен на 2 мая. Срок поездки – 2 месяца. Жалованье, собаки, мне дали совсем малюсенькое – 60 р. в месяц, проезд, конечно, на казенный счет. Работа будет очень интересная – обследование экономических, культурных, бытовых условий местного населенья. Кроме того, будем знакомиться с тамошней нефтяной, шелковой, хлопковой промышленностью, вероятно, посетим знаменитые радиевые прииски[41]. Это, так сказать, сторона поездки «серьезная». А «несерьезная» меня тоже очень интересует, говорят, что в мае месяце степь цветет – вся покрыта красными тюльпанами, в июне она уже превращается в пустыню – солнце выжигает. Наверное, чудесное зрелище – цветущая пустыня. И звезды там, наверное, не такие, как у нас. В общем, я очень доволен, что еду. Боюсь только, а вдруг в последнюю минуту выйдет заминка и дело расстроится.
Теперь относительно лаборатории – я место за собой зафиксирую, так что задержек у меня не будет осенью, потеряю только эти 2 месяца. Но, ей-богу, мне кажется, что я, наоборот, выиграю, а не потеряю.
Батько, дорогой мой, напиши мне, если будет свободное время.
Береги себя, если почувствуешь себя скверно – объявляй забастовку.
Крепко целую тебя,
твой Вася.
12 апреля 28.
12
25 апреля 1928, [Вешняки]
Дорогой батько, все время хотел написать тебе и был так собачьи занят, что никак не мог урвать ни минуты. Да и теперь тоже занят. Навалились на меня все дела сразу – подготовка к туркестанской поездке, надо читать, входить в курс будущей работы; хочу перед отъездом сдать зачет – усиленно готовлю его; дорабатываю задачу в лаборатории; улаживаю всякие административно-хозяйственные истории; в общем, хлопот полон рот.
Батько, и ты молчишь, я беспокоюсь, не заболел ли ты? Если ты очень занят и не можешь написать письма, то черкнул бы открытку в пару слов. А то, ей-богу, нехорошо получается, месяц от тебя никаких известий. Что я могу сказать о себе? Очень доволен, что еду в далекие страны, ведь это почти что Владивосток. А так у меня ничего нового нет, даже настроенья нет, когда человек много занят, то он ни о чем не думает, живет, и больше никаких. Получил сегодня письмо от Лёвы[42], ему там весьма скверно – жалуется, что начал кашлять, температурить. Наши хлопоты о нем кончились неудачно – никто ничего не хотел сделать. Бедняга.
Получил, батько, костюм, мне он очень понравился, отдал его перешить за 15 руб. Спасибо тебе, когда одену его, сразу приобрету вид посланника.
Теперь, батько, я хочу с тобой поговорить о делах. Денег ты мне не присылай ни в мае, ни в июне. Мне хватит жалованья, кот〈о〉ро〈е〉 буду получать. Потом, батько, вот что. Я бы очень хотел по возвращении поехать в Криницу[43], поехать с женой (жуткое слово)[44]; вернусь я, самое позднее, числа 5-го июля. Если б ты списался с Хариными[45] заранее, чтобы они оставили комнаты нам, было б очень хорошо.
Между прочим, Надя очень хочет после своих грязей тоже поехать в Криницу, ты поедешь тоже; ей-богу, не стоит ни в какие другие места ехать – все равно ничего лучше в СССР нет.
Вот мы и составим колонию. Так вот, ежели ты спишешься – я бы по возвращении из Туркестана сразу бы махнул в сей рай земной. Теперь относительно денег – вернусь я, вероятно, с весьма небольшим капиталом. Так ты мне вышли в конце июня в Москву.
Ну вот. Теперь вот что и совершенно серьезно: если у тебя какие-либо другие планы или ты хочешь летом «подкопить» денег, то, ради бога, ни в коем случае не реализуй моих планов. Слышишь, папа? Ведь это, в конце концов, баловство, и если для тебя это стеснительно, то ни в коем случае не делай этого. Слышишь?
В Москву мне не пиши, я, вероятно, еду 2 мая, так что письмо твое меня не застанет. Напишу тебе по прибытии на место. Пока всего хорошего, крепко целую тебя, будь здоров. Вася.
Привет Ольге Семеновне.
25. IV.28 г.
13
9 мая 1928, [Ташкент]
Дорогой батько, сижу в Ташкенте. Завтра еду на место работы – городок Каунчи[46] Ташкентского округа – 30 минут езды от Ташкента. Пока все очень интересно, масса новых впечатлений.
Жара здесь меньше, чем в мартеновском цеху; хотя говорят, что в июле здесь бывает около 70°, но в июле меня здесь уж не будет – пробуду здесь 6 недель. Очень хотелось бы по окончании работы на день съездить в Самарканд – если останутся деньги, обязательно это проделаю. В материальном отношении я вполне обеспечен; стол у нас будет коммунный – ведь нас приехало 30 человек студентов-обследователей. В общем, все хорошо. Через несколько дней напишу подробней.
Пока всего хорошего.
Крепко целую, Вася.
Привет Ольге Семеновне.
9 мая 1928
14
18 мая [1928, Каунчи]
Дорогой батько, окончательно обосновался. Доволен. Работа интересная; благодаря ей знакомлюсь не только с внешностью Востока, но и с интереснейшими процессами экономики, культурной жизни и пр. Езжу по кишлакам, наблюдаю быт; сведений, впечатлений, интересных фактов, встреч, разговоров много. Очень интересен здесь базар – прямо-таки слепит глаза яркость и пестрота красок, никак не могу привыкнуть к виду упряженного верблюда. Вчера был в очень интересном кишлаке, переходящем на новые рельсы, – строится большая школа, радио, мечети пустуют, есть большой колхоз, трактор, женщины снимают паранджу. Ей-богу, здорово! Председатель тамошнего сельсовета, инициатор и вдохновитель всех этих новшеств, – высоченный узбек, не умеющий говорить по-русски, безграмотный, но, как говорится, «министерская голова». Все дела он вершит, сидя в чайхане, скрестив ноги и попивая бесконечное количество чая. Разговор мой с ним был несколько скучен, т. к. общих слов у нас оказалось не больше 10.
Ты меня извини за коротенькое письмо, надо бежать. Обязательно и всенепременно напиши мне возможно скорей. Крепко целую, Вася.
Привет Ольге Семеновне.
Мой адрес:
Ст〈анция〉 Кауфманская (Ср〈едне〉-Аз〈иатской〉 ж〈елезной〉 д〈ороги〉),
Каунчи, Районный комитет партии, В. С. Гросману.
18 мая
15
1 июня 1928, [Каунчи]
Дорогой батько, сижу в Каунчи уже 3 недели. Чего я делал это время? Работал – обследовал, подбирал статистические данные о социальной дифференциации кишлака и аула, считал ишаков, лошадей и верблюдов и всякая такая штука. Ты знаешь, у меня создается впечатленье, что здешние дехкане гораздо революционнее наших российских крестьян – агрономы, землемеры, сов- и партработники рассказывают, с какой охотой идут здесь к новым методам обработки земли, как требуют трактора, удобрения; агроном прочел за 5 месяцев 135 лекций крестьянам «о правильной» обработке земли; говорит, что агропункт не в состоянии удовлетворить всех требований дехкан об устройстве на их земле показательных участков. Чувствуется большая тяга к знанью, по району имеется несколько школ ликбеза для взрослых, организуются с осени еще новые. Безграмотность здесь тем не менее потрясающая, – как правило, председатели кишлачных советов и секретари ячеек безграмотны. Но это не так страшно, народ хочет учиться, учится и, конечно, выучится.
Особенно бурно и с болезненными эксцессами здесь идет кампания за раскрепощение женщины, снятие паранджи. Часты убийства мужьями жён, снявших паранджу. Позавчера здесь вышел трагический случай – жена-узбечка желала учиться, муж не давал, она решила с ним развестись; пришли в каунчийский совет, когда церемония развода кончилась, муж выхватил нож и воткнул ей в сердце. Она через пару часов умерла; совсем еще девочка – 17 лет. Бедняга, ей в женотделе уже обещали послать ее в Ташкент учиться, и вдруг…
Ну-с, расскажу о себе – устроился я неплохо, комната хорошая, на пять человек, правда; студенты, с которыми я приехал на работу, народ очень славный, некоторые из них говорят хорошо по-узбекски, что очень помогает не знающим языка; одна беда здесь – собачья дороговизна, гораздо дороже, чем в Москве, мне моих 60 рублей хватает, но, что называется – как раз; ни копеечки не остается на «высшие потребности». Стол, папиросы, прачка, квас – этим я обеспечен.
Чувствую себя хорошо, даже поправился. Жары настоящей еще нет, она начнется только в июле месяце; пока термометр показывает 40° с хвостиком, местные жители говорят «тепло».
Работа наша кончится 20 июня. Числа 27–28-го я буду уже в Москве. Батько, я послал тебе из Ташкента 2 письма и отсюда письмо, пару открыток с дороги, от тебя пока ни слова не имею. Неужели письмо еще не дошло? Или ты его не написал? Очень прошу тебя, ответь на мое это письмо немедленно, не то, если отложишь на несколько дней, я не получу его – оно меня не застанет. Напиши обязательно, как твое здоровье, лазишь ли в шахту, какие у тебя планы насчет будущего.
Крепко тебя целую, будь здоров, Вася.
Теплый привет Ольге Семеновне. (При переводе понятия «теплый» со среднеазиатского на российские градусы получается «горячий».)
1 июня 1928 г.
На всякий случай сообщаю еще раз свой адрес: ст〈анция〉 Кауфманская (Ср〈едне〉-Аз〈иатской〉 ж〈елезной〉 д〈ороги〉), Янги-Юльский райком КП(б), Уз〈бекистан〉. В. С. Гросману.
16
[Июнь 1928, Каунчи]
Дорогой батько, я тебе катаю письма и открытки, а ты молчишь, так упорно, будто со злым умыслом. Не знаю, что и думать. Не заболел ли ты, аль рассерчал на меня? Как будто не на что – работаю здесь в поте тела и лица на благо социалистического отечества, насчет выпивки принял решение (новое) в Москве еще – постановил поставить точку, постановленья этого держусь строго, не нарушал и не нарушу.
Нет, серьезно, я очень беспокоюсь тем, что ты не пишешь. Мне все кажется, что с тобой что-то случилось, когда ты в шахту лазил, – камень на тебя свалился или с сердцем неладно. Сюда уже поздно писать, письмо меня не застанет – пиши в Москву на адрес Клары, Чистые Пруды, 11, кв. 7, а то Надя и тетя Лиза тоже уедут к началу июля и на квартире у них никого не будет.
Да, батько, как будет с Криницей. Ты писал туда? В каком месяце ты берешь отпуск?
Что у меня слышно? Работу кончаю 20-го, значит к 25-му буду в Москве. Впечатлений набрал такой ворох, что всего не опишешь; увидимся – расскажу много интересного. Чувствую себя, в общем, хорошо, настроенье хорошее. Беда только, что очень жарко становится – в тени 45–50°, пот катит, как водопад, да и москиты проклятые появились – кусают зверски. Ну ладно, очень прошу тебя, напиши мне в Москву.
Крепко целую тебя, будь здоров, Ва.
Привет Ольге Семен〈овне〉.
17
22 июня [1928, Каунчи]
Дорогой батько, получил твое письмо наконец-то. Ей-богу, это свинство. Мама написала, что ты ей давно не пишешь, и я на мои письма получал в ответ упорное молчанье – решал, что с тобой бог весть что случилось, хотел телеграфировать, ехать в Сталин. Последние дни совсем укрепился в мысли, что ты в лучшем случае болен, и думал об этом все время с утра до вечера. Наконец получил твое письмо, оказывается, их Величество не могло собраться написать; ну ей-богу же, это свинство. Ладно, пущай так, абы ты был здоров. Все ж таки очень прошу, напиши мне в Москву поскорей и не «задерживайся» опять на два месяца. Я выеду в Москву, вероятно, через 2 дня – почему ты удивляешься, что так скоро? 2 мая выехал из Москвы, 28 июня вернусь – 2 месяца без четырех дней, это не так мало. Подводя итоги, остаюсь очень доволен: во-первых, практически поработал, получил целый ряд навыков, сведений и т. д. Во-вторых, имел возможность своими глазами увидеть целый ряд интереснейших явлений нового строительства в Узбекистане. Ты чего-нибудь знаешь о земельно-водной реформе в Средней Азии в 1925 г.?[47] Собственно, с этой реформы и ожил весь Средний Восток. У баев была отобрана вода и земля (несколько сот тысяч десятин), и все извечные батраки, рабочие, издольщики – чайрикёры, были наделены землей, инвентарем, водой, скотом. Но отобранной земли не хватило, чтобы наделить всех безземельных, и было приступлено к орошению, «обарычиванию» степи. В 10 верстах от Кауфманской находится как раз кишлак Ислахат (по-русски «Реформа»), до 1925 г. на этом месте была голая степь, которая летом выгорала совершенно, теперь там 492 хозяйства, 2000 десятин засеяны хлопком, есть 3 школы, радио, красная чайхана. Этот Ислахат населен дехканами, которые сплошь до 1925 года либо батрачили у баев, либо работали рабочими по прорытию арыков. Весной у них работало 26 тракторов, почти вся запашка была общественной, создано 11 колхозов. В общем, здорово[48]. Ну да ладно, увидимся летом, обо всём потолкуем, а то я начну писать целый реферат, и будет скучно. Ты спрашиваешь относительно лета? Что ж, батько, я всячески хочу поехать в Криницу, больше того, я уже почему-то считал это дело решенным и написал Гале, чтобы она взяла себе льготный проезд до Новороссийска[49]. В университете лекции кончились 1 мая, а практические занятия – 15 июня, так что к моему приезду все будет давно закончено. Сидеть мне в Москве нечего, и я хотя бы на второй день могу выехать в Новороссийск. В Сталино мне заехать будет неудобно, мне кажется. Ты мне напиши, можно ли туда, в Криницу, сразу поехать, может, Харины сдали комнаты? Вообще, так сказать, конкретно. Насчет денег я с собой ничего не привезу – тут такая собачья дороговизна, вдвое дороже, чем в Москве. Ну да ладно, как-нибудь.
Батько, дорогой мой, езжай в Криницу и Ольгу Семеновну убеди, ей-богу, на Волге в 100 раз хуже, а тебе тем более надо хорошо отдохнуть. Ей-же-ей, лучшего места нет – обязательно приезжай, чуешь, батько? С какого месяца ты берешь отпуск?
Ну-с, что рассказать о себе – чувствую я себя хорошо, только похудел малость, от жары, вероятно, да москиты безбожно покусали. Тут удивительно однообразный стол – плов и шашлык, шашлык и плов, хучь плачь[50]. Что касается здешней жары, я ее переношу очень свободно, да и жара-то настоящая начнется в середине июля, а теперь, как говорят местные жители, «тепло» – градусов 40–45. Между прочим, интересно, как человек ко всему привыкает – в первые дни я разиня рот глядел на верблюжьи караваны, узбеков в чалмах и халатах и всякую восточную штуку, а теперь привык – идет верблюд или живописнейшая группа восточных людей сидит в чайхане, а я хоть бы что, никакого вниманья, как будто в Бердичеве по Белопольской улице[51] хожу, это немного обидно, что острота новизны так быстро притупляется; самая приятная штука – новизна-то эта. Тут у меня еще одно несчастье – это путешественный зуд. Ведь отсюда очень близко во всякие замечательные места – 2 дня до Китая, 2 дня до Памира, 2 дня до Индии, Персии, Афганистана, – лежишь ночью, глядишь вверх, и такая охота попереть во все эти страны, что вспоминаю твою детскую надпись на карте: «Эх, если б мне крылья».
Ну ладно, пока всего хорошего, целую тебя крепко, Вася. Привет Ольге Семеновне.
P. S. Батько, так ты мне отвечай немедленно в Москву, ведь если такой переписки ты не ведешь, то отвечайте, сударь, на «деловые» письма.
22 июня.
18
3 июля 1928, [Москва]
Дорогой батько, приехал в Москву. По дороге чуть не сдох от собачьей жары. Никого и ничего не застал – всё и вся закрыто и уехало. Думаю посидеть здесь дня 3–4 и поехать в Киев. Из Киева тотчас же на Криницу. Получил вчера твое письмо на Кларин адрес; ты насчет Криницы ничего определенного не пишешь, но я думаю, что комнату можно будет найти; хорошо, если свободны харинские комнаты; ну да ладно, увидим на месте. Ты пишешь, что с 1 августа идешь в отпуск – обязательно и всенепременно ты приезжай в Криницу, ей-богу, лучшего места не найти, да и проживем вместе, наговоримся о всякой всячине, я уж соскучился по тебе, очень хочется с тобой увидеться. Насчет поехать сейчас в Сталино, по-моему, будет очень неудобно в смысле «транспорта». Лучше уж давай увидимся сразу в Кринице, ведь немного осталось – недели три. Я думаю взять билет, льготный, Москва – Новороссийск через Киев; если дадут, то этот крюк обойдется всего в пару рублей. Ну-с, значит, решено (когда?), что ты всенепременно прямо из Сталина прикатишь в Криницу. А как Ольга Семеновна, все еще хочет по Волге? Ей-богу, не стоит, отсоветуй ей. Деньги – 50 р. у Клары я получил, да и у тети Лизы есть еще 40 р. моих; с этой монетой можно будет добраться до места и на первое время хватит. Ты уж мне сюда не пиши, очевидно, письмо не застанет, но вот ежели напишешь «Геленджик до востребования И. С. Гросману», то письмо твое меня как раз поймает. Я тебя очень прошу, так и сделай, по пути в Криницу я в Геленджике заполучу твое письмо, может быть, ты узнаешь чего-нибудь насчет комнаты, и я буду знать, куда сразу заехать. Так ты уж нарушь свой обычай, напиши, непременно.
Пока всего хорошего, до скорого свиданья, крепко целую тебя, Вася.
Передай мой среднеазиатский привет Ольге Семеновне.
Ольга Семеновна, чего Вам на Волгу ездить?
Ну, Волга,
ну, пароход,
чтоб я так жил, ничего интересного.
Нет ничего лучше, чем «морэ».
3. VII.28
19
18 июля [1928, Криница]
Дорогой мой, пришел почтальон и сейчас уходит; пишу пару слов, больше не успею. Остановился(ись) у Наталии Григорьевны в комнате б〈ывшей〉 Ольги Семеновны, через три дня освободится вторая комната, условился с Нат〈алией〉 Григорьевной оставить ее для тебя. Здесь чудесно, обязательно приезжай тотчас, после сможешь поехать по Волге, а то не застанешь нас – я думаю числа 15–20 августа уехать. Так что обязательно приезжай сейчас. Убеди и Ольгу Семеновну, пущай едет. Здесь чудесно хорошо.
Обязательно напиши мне сейчас же, что думаешь делать; через пару дней напишу подробней.
Целую,
Вася.
Адрес, надеюсь, ты не забыл.
P. S. В Геленджике получил письмо и деньги.
18 июля.
20
21 июля [1928, Криница]
Дорогой батько, пишу подробней об криничанских делах. Поселились в той комнате, в которой жила Ольга Семеновна. Завтра освобождается вторая комната – Наталья Григорьевна ее оставляет свободной для тебя (ведь к 1 августа ты приедешь?). Плата 20 р. в месяц. Со столом хуже. Кормить нас Наталья Гр〈игорьевна〉 отказалась – нет лошади возить воду. Столуемся у ее дочери – это неудобно довольно – бегать четыре раза в день, да и народу там много, 20 человек, весьма противная публика, дамы весом от шести пудов и выше, и за столом тошнотные разговоры. Кормят хорошо. Берут 60 р. в месяц с души. Может быть, когда ты приедешь, то найдешь ход к сердцу Натальи Гр〈игорьевны〉 и убедишь ее столовать нас дома. С хлебом здесь не благополучно[52], но, в общем, ничего страшного, фатает. В смысле красот природы все по-прежнему великолепно. Море тихое-тихое эти дни. Ну ладно. Батько, я по тебе очень соскучился, приезжай обязательно, потолкуем о всяких всячинах.
Наблюдаю себя в положении женатого человека – очень занятно, хотя без привычки неловко немного. Крепко целую тебя, Вася.
21 июля.
Думаю, что вместо ответа на это письмо ты приедешь сам. Привет Ольге Семеновне.
21
[20–21 августа 1928, Ростов]
Дорогой батько, приехали в Геленджик как раз в тот момент, когда отходил автобус, пришлось поехать катером, сильно качало. Людмила и Галя по дороге несколько раз заезжали в Ригу[53], почти всех укачало, только я и капитан чувствовали себя прекрасно. На вокзал приехали за 20 м. до отхода поезда, но успели взять билеты (3 р. носильщику). Из Новороссийска поезда отходят в 5 и 6 ч. 10 м. вечера. Не езди с Колей, лучше вызови извозчика из Геленджика, укачает на подводе смертельно. Пишу тебе в Ростове на вокзале за тем самым столом, у которого мы ждали поезда с тобой. Немного грустно. После дорожной пыли, шума, гвалта Криница представляется как страна обетованная, рай на земле. Сиди здесь до последней возможности, купайся осторожно, гуляй побольше и не скучай. Крепко тебя целую, Вася.
22
21 августа [1928, Ростов]
Дорогой батько, [нрзб.] Теперь сидим в Ростове. Пока путешествие шло блестяще. Густав нас привез в 3 часа так, что мы едва успели скакнуть на катер, а затем с той же стремительностью на поезд (скорый). Посадка была легкая, вагоны полупустые. Кстати, к твоему сведенью – есть 2 поезда, один поезд в 7 ч. 25 м., другой в 9. В Ростове сидеть целый день – поезд на Екатеринослав (через Ясиноватую) в половине восьмого[54]. Купил кучу газет и журналов, бандеролей здесь в продаже нет, кое-как обклею, не знаю, дойдет ли[55]. На всякий случай сообщаю «последнюю информацию» по всему земному шару: ничего особенного, все продолжается по-прежнему, войн и революций нет[56].
Как-то ты, батько, живешь в Кринице, очень ли было коломытно первое время? Скучаешь ли сейчас, как устроился с едой – все эти вопросы меня весьма интересуют. Я себе так живо представляю, как ты пьешь чай на веранде – полстакана настоя, полстакана молока; а вокруг сидят практиканты: лицемерный Норд-Ост, лукавый серый кот, черный кот, меланхоличный и равнодушный, как Печорин, лицо твое вдруг приняло хищное выражение, блеснул нож и легкомысленная оса, рассеченная ножом, упала в тарелку с налистниками; а вот ты сидишь на площадке и глядишь на море, такой же меланхоличный и грустный, как хромой черный кот. Батько, ей-богу, плюнь на все и береги свое здоровье. В это наше свиданье мы с тобой по душам не говорили, может быть, я ошибаюсь, но у меня создалось впечатленье, что у тебя какие-то неприятности, о которых ты мне не хотел сказать. Так ли это?
Ей-богу, мне так было тяжело глядеть на тебя последние дни – чувствовалось, что есть какой-то червячок. Батько, дорогой мой, я тебя очень люблю, не чуди, пожалуйста.
Интересно, что мы объясняемся по большей части в письменной форме. Вот до чего дошел бюрократизм, проник и в отношенья отца с сыном.
Ну ладно, будь здоров, не грусти, поправляйся.
Целую тебя крепко, Вася.
Кланяется тебе Галя.
21. VIII
23
26 августа 1928, [Одесса]
Дорогой батько, после долгих странствий и мытарств прибыл в Одессу. Погода здесь великолепна, купаюсь в том же море, что и ты, и вместе смотрим на одни и те же горизонты. Мама чувствует себя хорошо – ничего не болит, поправилась, продолжает лечиться в городе[57]. Я ее убеждаю остаться возможно поздней – числа до 10–15-го, деньги у нее есть (прислали из Аргентины)[58]. Я думаю ехать отсюда числа 31-го и в Киеве посидеть дня 3. Как-то ты живешь теперь, очень ли скучаешь, как сердце?
Не знаю, получу ли от тебя письмо в Одессу, если нет, то очень жаль – не буду знать, когда ты уезжаешь: 1-го или 13-го. Получил ли ты газеты и журналы – я послал из Ростова и Екатеринослава? Сегодня пошлю еще пачку. Вообще сообщаю последние новости: Ланцуцкий был выпущен из тюрьмы, через 4 дня снова арестован и после массовых протестов выпущен опять[59]. Сегодня подписывают пакт Келлога[60], Венизелос будет президентом Греции[61]. Остальные новости не дюже важные. Ну ладно, иду на почту, не скучай, дорогой мой батько, поправляйся и пиши мне в Москву. Крепко тебя целую, Вася.
26 августа 1928 г.
24
13 сентября [1928, Москва]
Дорогой батько, вот уже два дня, как я в Москве. Занятья ввиду ремонта у нас начнутся только 24 сентября. Ужасно досадно, что я порол такую горячку, уехал из Криницы, сидел в Одессе как на иголках и все такое.
Здесь положенье у меня скверное. Комната, о которой Шура [62]говорил как уже о моей, оказалась мифом: товарищ этот ищет себе работу в Москве и, возможно, найдет ее, а мамаша, которая должна была греться у печки, пока меня не пускает «до выяснения». В общем, очевидно, это дело прогорело. Я опять пробавляюсь шатаньем по чужим хатам: «нынче здесь, завтра там»[63]. Это очень тяжело и неприятно. С работой пока ничего не выяснил еще. И здесь придется немало помучиться, пока что-нибудь выйдет. Пока же я «беспритульный». Относительно Галиного перевода в Москву трудно что-нибудь сказать, ведь это зависит от многих причин, но бумаги ее я подал вчера. Авось как-нибудь образуется. Мне бы очень хотелось жить с ней вместе, и я не знаю, какой логике подчиниться, «старой» или «молодой».
Видел Шуру – он в восторге от Криницы и тебя. Здесь уже совсем погано – дожди, холода.
Батько, родной мой, напиши мне поскорей, как ты себя чувствуешь, как твое настроение, что предпринимаешь в смысле перемены работы.
Будь здоров и в хорошем настроении, крепко тебя целую, твой Вася.
Привет Ольге Семеновне.
13 сентября
25
21 сентября 1928, [Москва]
Дорогой батько, получил сегодня деньги с припиской насчет того, что ты не получаешь от меня писем. Я тотчас по приезде в Москву писал тебе, не знаю, получил ли ты его. Ну ладно, так или иначе, излагаю мои новости. Занятья еще не начались, начнутся лишь 25-го. Ищу комнату, ищу работы, но как того, так и другого не нахожу. Пока занимаюсь литературным трудом; сегодня сдал в «Правду» рассказ[64], ему пророчат успех. Затем у меня как будто выйдет одно хорошее дело – подпишу с издательством договор на писание брошюры «Кооперация и раскрепощение женщины Узбекистана». Если выйдет, то положу в карман сотню-другую, но беда в том, что это «как будто». Настроенье у меня хорошее, угнетают только «материальные невзгоды». Нет, серьезно, не говоря уже о том, что из-за отсутствия комнаты Галя не может приехать в Москву, меня чертовски упекло отсутствие своего угла. Эта необходимость шляться от знакомых к знакомым очень треплет нервы, а иногда и самолюбие. Знаешь, когда начинает темнеть, я испытываю то, что испытывал наш предок-дикарь каменного века в лесу, какое-то смутное, тяжелое беспокойство, необходимость выбрать ночлег. Предку было лучше, он лез на дерево или забирался в пещеру, трещину в скале, мне же в девственном лесу большого города хуже: все трещины и пещеры заняты, и мне приходится вести с их обитателями переговоры. «А чи не пустите переночевать?» Пускают-то меня всегда, но все же веселого в этом мало. Кое-что в области комнаты мне обещают, но ничего осязаемого пока нет. На худой конец, придется опять двинуть в глушь, в деревню, т. е. поселиться, как и в прошлом году, за городом. С Галиным переводом пока дело обстоит неважно, но я не очень нажимаю, т. к. куда ей теперь приезжать, не мотаться же так, как и мне? Если выйдет комната, то можно будет и перевод устроить. Не помню, писал ли я тебе, что комната, которую мне обещал товарищ, ухнула, т. к. он остается в Москве. Ты, батько, извини, что я столько пишу об этом вопросе, но для меня это «промблема», в которую упираются все прочие.
Жду с нетерпеньем твоего письма, предпринял ли ты уже какие-нибудь меры, чтобы уйти с работы в шахтах, повторяю, чтобы в своих планах ты ни в коем случае принимал меня во внимание: ведь человек научается плавать, когда начинает тонуть. Чуешь, батько, дорогой мой? Шура мне передал твое письмо лишь несколько дней назад, забыл. У стеклодува я был 2 раза, он болен, вчера его еще на работе не было. Зайду завтра еще раз.
Ну, будь здоров. Крепко тебя целую, мой родной, твой Вася.
Привет Ольге Семеновне, так она никуда и не поехала отдыхать?
21 сентября 28 г.
26
24 сентября [1928, Москва]
Дорогой батько, пишу тебе пару слов по поводу стеклодува. Наконец застал его. Два аппарата готовы: из тех изменений, которые вы (институт) хотите получить, он сделал все, кроме 2, а именно: 1) у него нет железного штатива, 2) ящики уже заказаны и сделаны прежних (меньших, чем вам нужно) размеров; он говорит, что если взяться делать эти штуки, то пройдет очень много времени, т. к. все мастера завалены работой и теперь за это дело не возьмутся. Мне кажется, что лучше взять аппараты в таком виде, ибо иначе он будет их мариновать не одну неделю. Напиши ему, он ждет твоего решенья. У меня ничего нового и ничего хорошего; разве то, что зашел в «Правду» отнести статью[65] и был встречен «очень любезно», хвалили всячески и просили писать еще. Комнаты нет, и ей даже не пахнет.
Пишу тебе третье письмо, а ты ни гугу.
Будь здоров, крепко тебя целую, твой
Вася.
24 сентября
27
6 октября [1928, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, письмо твое получил примерно неделю тому назад, но написать тебе собрался лишь сегодня. Какие измененья в моей жизни? Нанял комнату – комната неважная, маленькая, за городом, 30 р. в месяц; лучше прошлогодней в том отношении, что не нужно ездить поездом (только трамваем) и что она теплая[66]. В общем, я чрезвычайно рад – плохая ли, хорошая ли комната, но она знаменует конец моим мотаньям по чужим хатам – пристал к пристани. Занятья в университете уже начались – в лаборатории я зарегистрировался, потихоньку приступаю к работе, записался слушать специальные курсы «Катализ» и «Микроанализ» – зарегистрировал свою специальность – аналитик. В университете еще погано – пусто, неуютно, ничто не налажено. Сегодня в университетском коридоре встретил Лёлю (Доминикину)[67], она держала в университет, выдержала экзамены и не была принята за недостачей мест. Мы с ней погуляли немного, на какую-то мою реплику она этак косо поглядела на меня и как бы про себя, в раздумье произнесла: «Не пойму! Умен он или нет?» Интересная очень девочка и хорошенькая – страсть. Приехала Надя, поправимшись, в хорошем настроении – я очень рад за нее, а то она, бедняга, весь год мучилась душой[68], теперь же очевидно полегшало.
У меня, батько дорогой, успехи на литературном фронте, условился с издательством Центросоюза написать брошюру «Кооперация и женщина Узбекистана». Даст эта штука 300 р. – 70 % при сдаче рукописи, 30 % при выходе книжки в свет. Рукопись я обязался сдать к 1 ноября, значит, если ее примут, «разбогатею». Интересно, что договор со мной подписал Зиновьев[69] – он теперь заведует издательством Центросоюза. Теперь второй успех – если помнишь, я тебе читал в Кринице рассказик о наводнении – его приняли в «Прожектор», но напечатают не скоро[70]. В общем, через месяц я получу «богатство и славу». Пока же ни того ни другого нет. Что сказать тебе, батько, о себе – чувствую я себя довольно хорошо, настроение неплохое, сильно скучаю по Гале, вот, пожалуй, и всё. Думаю через пару дней вызвать Галю в Москву, если не удастся перевод, то пусть хоть поживет пару недель здесь. Ну-с, буду кончать. Извини за скучное письмо, но, ей-богу, пишу тебе, что есть в мыслях и на душе – как видишь, ничего особенного нет ни в мыслях, ни на душе. Пиши мне, батько дорогой, пиши, как здоровье, что с шахтами. Пока всего лучшего, крепко тебя целую,
твой Вася.
6 октября.
Привет Ольге Семеновне.
P. S. Имеешь ли ты известья от мамы? Она после возвращения заболела – ангина и нога, теперь ей лучше уже.
28
3 ноября [1928, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, я тебе долго не писал, послал дурацкую телеграмму и умолк. Твое последнее письмо я получил недели две тому назад. Все время собирался тебе написать, но, поверишь ли, не было времени; маленького письмишка писать не хотелось, а на большое не хватало времени. Что ж, батько мой дорогой, опишу тебе свою жизнь – приехала в Москву Галя, живет здесь уже около двух недель. Она хлопочет о своем переводе в Москву, но не так просто добиться чего-нибудь, вопрос все затягивается; хотя похоже на то, что он вырешится окончательно на будущей неделе. Мама пишет, что она очень не советует Гале переводиться в Москву, что это будет тяжело в материальном отношении, задержит окончание мной университета и пр. Мне кажется, что это не так, – в материальном отношении будет так же тяжело, если Галя будет жить в Киеве, родственники ей помогать больше не хотят, следовательно, не все ли равно, где ей жить, здесь или в Киеве, а пребывание ее здесь не только не отвлекает меня от занятий, а, наоборот, «привлекет» к ним. Ну, пока все равно ничего не известно, удастся ли ей перевестись или нет. Дорогой батько, ты писал, что тебя очень огорчает то, что у меня занятия стоят на втором плане, а «литература» на первом. Это не совсем так. Я, действительно, последние две недели полностью посвятил писанию брошюры «О раскрепощении женщин Узбекистана», теперь я эту работу уже закончил и отдал сей труд печатать на машинке, через пару дней понесу на суд в издательство. Поверь мне, что этим делом я занимался не из любви к святому искусству, а исключительно из материальных соображений. Мне пришлось прочесть целую [гору] литературы – скучнейших 20 книг, отчетов, докладов, циркуляров, и писал я с чувством величайшей тошноты. Брошюру эту могут не принять, тогда это будет более чем печально, но если примут, то окажет мне (нам) материальное подспорье месяца на полтора-два, а там дальше видно будет. Пока же я приступаю к занятиям и буду стараться наверстать потерянные две недели (это нетрудно сделать). Что ж я делал все это время – писал до тошноты, и больше ничего. Материальные дела наши, откровенно говоря, обстоят неважно. Я одолжил несколько червонцев на длительный срок у Вити[71], когда разбогатею, отдам ему. В отношении приискания постоянной работы ничего определенного нет, всё в области неоформленных обещаний. Комната наша лучше, чем прошлогодняя (в Вешняках), удобней в смысле сообщения, но все же хорошей ее никак назвать нельзя, особенно неприятно то, что от трамвая нужно ходить 15 мин. пешком, ну да это пустяки. Так что, батько, ты не думай чего – занятия свои я вовсе не думаю отодвигать на задний план, а если теперь две недели не занимался, то это, как теперь выражаются, «экстраординарные меры», я приложу все усилия, чтобы в этом году закончить курс. Ну вот это часть, так сказать, официальная, перехожу к части второй. Батькося, хоть я тебе и не писал, но не думай, что оттого, что забыл тебя – по несколько раз в день я думаю о том, что у тебя слышно, как твое здоровье, настроение и все такое, а в последнее время я как-то здорово по тебе соскучился, очень хочется тебя видеть, и при этом почему-то, когда я думаю, что ты приедешь, то представляю, что я, как в детстве, сяду к тебе на колени и буду трогать твои колючие усы, ну да ладно, чего там. Батько, что у тебя слышно, как с уходом из института? Не вздумай вдруг оставаться в нем и продолжать спускаться в шахту. Теперь химики в таком фаворе, что ты без труда найдешь себе работу в другом месте, ей-богу, не бойся. Да, относительно института – стеклодув все время болел, лишь пару дней назад пришел на работу, заказ взял, обещал исполнить в ближайшие дни, жаловался, что , аппараты, говорит, выслал в самом начале октября. Батько, так ты мне напиши письмо и подробно расскажи о себе и своих планах. Слышишь? Были мы с Галей в театре, смотрели «Дни Турбиных»[72], игра хорошая, но пьеса мне очень не понравилась, уж больно тенденциозно выведены белые офицеры – все сплошь благородные, добрые, честные, смелые, а если и выведен один жулик (адъютант Шервинский), то он такой добряк, что на него невозможно сердиться, и если есть один полностью отрицательный тип Тальберг, то он немец, а русские все ангелы; очень глупо. Ну-с, что сказать еще про себя? Настроение у меня хорошее, семейная жизнь протекает хорошо. Я доволен ею, немного страшновато, когда начинаешь задумываться о «больших мелочах жизни», о вопросах материальных, но ничего, думаю, что не пропадем, как-нибудь да будет. Читать я ничего не читал в это время из-за отсутствия времени – если не считать чтением отчет Всесоюзного совещания по улучшению труда и быта женщины Востока[73] и пр〈очие〉 прелести. Получил от мамы на днях письмо и посылку. Здоровье и настроение у ней неважные, плохо ей, бедной, в Бердичеве. Относительно постоянной работы для меня, Надя хочет убедить Лозовского взять меня в качестве второго помощника для одной очень интересной штуки – он пишет теперь капитальный труд «о стачечной стратегии»[74]. Нужно прочесть громадную литературу, классиков марксизма, историю всего рабочего движенья; в этом деле ему помогает Надя, а так [как] работы много, то она хочет и меня присоседить; вряд ли это выйдет, а жаль, и интересно очень, и денежно. Ну ладно, батько родной мой, буду кончать, уже 2 часа ночи. Пиши же мне поскорей. Будь здоров. Крепко тебя целую, твой Вася.
Привет Ольге Семеновне.
3 ноября
29
[Ноябрь 1928, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, мы скверно переписываемся. На мое большое письмо ты даже не ответил. Ты написал мне, но это нельзя считать письмом, т. к. ты ни словом не обмолвился о себе, о своем здоровье, настроении, планах. Неужели, батько, дорогой мой, ты не знаешь, как меня все это интересует? Или, может быть, ты не получил моего письма? Дорогой мой, напиши мне поскорей, прошу тебя. Поручение твое я выполнил – мне выдали недосланные книжки Горького и одну книжку «Красной нови», второй «Красной нови» в конторе не было, и ее вышлют вам почтой со склада. Книги я вам пошлю в понедельник.
Ну, теперь расскажу о себе. Я занимаюсь – в лаборатории, посещаю лекции, в общем, вошел в занятия. С литературой пока покончил – сдал все рукописи в редакции и жду решения своей судьбы. Галя в понедельник уезжает в Киев, так и не дождавшись решения своей судьбы в Моск〈овском〉 университете. Если все ж таки в конце концов из университета получится положительный ответ, она приедет в Москву после Рождества. Батько, так ты напиши, чуешь? У меня здесь произошла неприятная история, мне хотелось бы узнать твое мнение по этому поводу. Дело вот в чем: я сохраняю хорошие отношения с Сережей, я знаю все его пороки и недостатки, но знал их я еще, когда он был мужем Нади, и если считал возможным быть с ним знакомым тогда, то могу это делать и сейчас. Познакомил я с ним и Саррой Абрамовной[75] Галю и несколько раз был у них с ней. Это стало известно «родственникам» – мама (это меня особенно огорчило) написала Наде – «выгони их». Вчера Надя предъявила мне и Гале (в весьма грубой форме) ультиматум: или она, или Сережа. Я ей ответил, что свои дружеские отношения с ней ценю больше, чем отношения с Сережей, но что предложение, сделанное в такой форме, я не приемлю и обещать поссориться с Сережей не могу. После этого мы, мягко выражаясь, расстались. Вся эта история мне очень неприятна и тяжела; мне бы очень хотелось узнать твое мнение о ней. Да, из семейных событий могу тебе еще сообщить, если интересуешься: у тети Малины[76] нашли рак груди, Быховский[77] ее оперировал, отрезал одну грудь, теперь она чувствует себя хорошо (сравнительно). Теперь, батько, пиши мне письма по такому адресу: Москва 57, Покровско-Глебово, дом № 52, П. А. Мазо для Гросмана, и ежели будешь отправлять деньги, то шли их Главный почтамт до востребования . С. Гросману. Батько, так повторяю, с нетерпеньем жду твоего подробного письма. Будь здоров. Крепко целую тебя, твой Вася.
30
[Ноябрь – начало декабря 1928, Покровское-Глебово]
Мой дорогой батько. Наконец-то получил твое письмо, я уже серьезно начал беспокоиться, не случилось ли чего. Что рассказать тебе о себе. Ты совершенно прав, и я это испытал на опыте и претворяю теперь в жизнь – работа лучший лекарь. Я занимаюсь в университете – работаю в лаборатории, слушаю лекции, загружен несколько часов в сутки этим делом (шесть примерно). Между прочим, я теперь занимаюсь химией отравляющих веществ, и это дело меня весьма заинтересовало. Хорошее занятие для злых, обиженных жизнью людей – ты бы послушал, с каким сладострастьем наш профессор смакует подробности о токсичности того или иного газа, жуть берет. Кроме того, я теперь много читаю по вечерам, занялся мировым империализмом, прочел уже несколько книжек, думаю еще подзаняться этими темами, уж больно интересно, и, главное, в процессе чтения выяснил, что я не знал тысячи самых простых вещей. Читаю я и для души (то для «ума») сочинения Генриха Гейне – тоже замечательная вещь. В общем, могу сказать, что я работаю, время свое провожу разумно и с этой стороны собой вполне доволен. Сорвал я первый плод с дерева литературного гонорара, но сей плод буквально тает в кармане – расплатился с частью долгов – они у меня долезли до 100 р., уплатил за квартиру, и еще осталось 60 рублей, теперь получил твоих 80 – значит, смогу поехать в Бердичев, повезти туда Галю и еще обратно с ней вернуться. В общем, числа до 25 января я обеспечен, а там еще чего-нибудь подвернется. Я тебе хочу еще раз сказать, батько мой дорогой, чтобы в своих расчетах относительно того, бросать или не бросать институт, ты меня не принимал во внимание. Как-нибудь просуществую. Что тебе сказать о себе еще – хотя и работаю и в этом отношении чувствую себя хорошо, но отъезд Гали меня здорово допекает – я скучаю по ней очень здорово; не знаю, чем это кончится, университетские бюрократы до сих пор умудряются не дать ответа относительно ее перевода. Если ее в конце концов переведут, то я ее обязательно перевезу в Москву. Будет что будет, как-нибудь промучаемся вместе, но, выражаясь высоким стилем, «без нее я не могу жить». А ежели не переведут, то не представляю себе, как мы устроимся; во всяком случае, будет весьма и весьма скверно. Это, пожалуй, единственная моя «болезнь», в остальном всё как будто благополучно.
Батько, мой родной, я прекрасно понимаю твое положение в институте, но, по моему мнению, ты делаешь все, что можно делать и что сделал бы всякий другой в твоем положении. Не можешь же ты создать новую методику; я уверен, что любой профессор московского университета на твоем месте не сделал бы больше. Напрасно ты себя так строго судишь и так скептически относишься к своей работе. Ей-богу, родной мой, ты не прав. Представь себе, что ты уйдешь. Кто же заменит тебя? Вильгельм Оствальд? Фишер? Вант-Гофф?[78] Отнюдь. Косолапов, который знает предмет в 100 раз хуже тебя, а, в самом лучшем случае, химик такой квалификации, как ты. Напрасно, батько, ты это так говоришь о проделанной работе. (Кстати, не можешь ли ты выслать один экземпляр своих работ, ведь они напечатаны[79], очень прошу тебя, если можешь, сделай это.) Но вот в другом отношении ты не прав – в смысле здоровья тебе необходимо оставить эту работу. Ведь ты много раз говорил, что для тебя это смерть, и рассказывал, как трудно тебе спускаться в шахту, а теперь вдруг такое наплевательское отношение к такому серьезному делу. Это не годится, я категорически возражаю против этого; верно, батько, подумай об этом серьезно. Ты пишешь – «мне 56 лет», и , мой родной, и не нужно так бросаться этими вопросами. Слава богу, все наши родичи доживали до 75 лет. У тебя нет ни малейшего основания ставить себе более «низкие пределы»[80]. Зачем же тебе буквально самоубийством заниматься. Жизнь хорошая штука, не нужно с ней так обращаться легкомысленно. Дорогой мой, прошу тебя как сын твой и друг, подумай об этом по-настоящему и решенья менять работу не откладывай в долгий ящик.
31
[Ноябрь – начало декабря 1928, Покровское-Глебово]
Мой дорогой, хороший батько. Получил твое письмо сегодня утром. Сегодня воскресенье, я весь день сижу в своей деревне, вот я и пишу тебе тотчас ответ. Ты жалуешься, что я тебе не пишу, я тоже жаловался, что ты мне не пишешь. (Кстати, получил ли ты это мое письмо – я его отправил тебе дней 5 тому назад.) Батько, я мало пишу о своих занятиях, потому что они мне порядком осточертели, а не потому, что дела мои обстоят плохо. Впрочем, в последнем письме я, кажется, писал об этом предмете, и мне не хочется снова повторять. Из университета меня не вышибут, конечно, кончу я его благополучно, только вот когда кончу? Может быть, к весне, а может быть, позже на 2–3 месяца: но, так или иначе, дело близится к «роковой развязке». Дорогой мой, поездка в Германию – это великолепное дело. Конечно, самым серьезным возражением может служить, что тебе придется 3 года после этого работать в Донбассе. Это единственное возражение, единственное, но настолько серьезное, что, пожалуй… Я теперь читаю много по вопросам мирового империализма, в частности, прочел книгу о горной и металлургической промышленности Рейнско-Вестфальской области. Бог ты мой, какие гиганты: «Гельзенкирховское горнопромышленное общество», Стиинесовский «Германо-Люксембургский союз», Дортмунд, Бохум, Эссен, Мюльгейм, Брюль, Дюссельдорф и т. д. Вероятно, наш Донбасс как карлик по сравненью с этими титанами, выбрасывающими горы угля и выливающими реку стали шириной в старый Рейн. Немецкие рабочие углекопы и металлисты; своими глазами посмотреть на них, поговорить с ними, пощупать их руками. Ей-богу, отдал 5 пальцев левой руки, чтобы посмотреть на это своими глазами. Я, батько, понимаю, что главная цель твоей поездки – это ознакомление с методами специальных работ, но ведь поглядеть на промышленное сердце мира, так сказать, философски-поэтическим оком – это что-нибудь да значит и многое даст уму и сердцу.
Батько, ты мельком упомянул, что, может быть, поедешь на Рождество к маме, если у тебя есть хоть маленькая возможность осуществить это, обязательно сделай это, я выезжаю из Москвы 23-го, 24-го буду в Киеве, а 25-го в Бердичеве; вот мы бы встретились и прожили вместе пару дней. Дорогой мой, ей-богу, осуществи это, будет очень хорошо. Чуешь, обязательно устрой эту поездку. Тогда дней через восемь увидимся с тобой. Что рассказать о себе? У меня есть «грандиозный» литературный план, я работаю понемногу над ним, это дело не на месяц и не на два, а по меньшей мере на год. Я с ним не спешу, писать не пишу, а только читаю всякую всячину и думаю по этому поводу – разрабатываю план кампании и подготовляю войско. Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого; иногда мне кажется, что да, иногда же мне кажется, что кишка тонка. Но это не важно. Когда я анализирую себя, то с большим удовлетворением констатирую, что эта вещь меня интересует не с житейской «суетной» стороны, а исключительно как «вещь в себе», для себя. Мне хочется ее написать для себя, и это самое главное – это […]
32
26 января [1929, Покровское-Глебово]
26 января
Дорогой батько, вернулся на «родное пепелище». Начал заниматься, занятия в университете до сих пор слабо налажены, лаборатории работают, а лекции и семинарии начнутся по-настоящему с 1 февраля. Думаю к 1 мая освободиться от последней лаборатории, тогда буду себя чувствовать не связанным с университетом «территориально». Из литературных подработков тоже кое-что предвидится – подрядился написать для «Огонька» очерк о Бердичеве[81]. Это, так сказать, внешняя сторона жизни, а что сказать о нутре? Как-то меня отпуск выбил из колеи. Чувствую себя очень одиноко, как говорит Есенин, «я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду»[82]. Ты знаешь, дорогой мой, я гляжу на себя и думаю: «Господи, до чего тяжело быть одиноким в 23 года, каково же чувство одиночества на старости?»
Прочел я на днях (вернее, перечел) «Смерть Ивана Ильича». До чего жуткая, страшная книга. Как странно – все страшные писания Эдгара По кажутся безвредными и ничуть не страшными по сравнению с этой такой простой и обыденной историей – жил Иван Ильич и помер. Весь ужас надвигающейся и неизбежной смерти, весь трагизм человеческого одиночества кажутся особенно страшными именно потому, что они так обыденны; кругом люди вполне равнодушные, заняты самыми простыми вещами – развешивают гардины, ходят в театр, а Иван Ильич умирает, умирает мучительно, ужасно, и ничто не содрогается, не кричит, не воет от страха – это в порядке вещей, каждый так должен умереть. И вот особенный ужас: что каждого это ждет. Толстой и особенно подчеркивает «самая обыкновенная история, умер Иван Ильич»[83]. Меня эта книга очень поразила, и я теперь все время думаю об этом.
Ты не смейся надо мной, ведь, в конце концов, вопрос жизни и смерти – самый главный вопрос. Ну ладно, Бог с ним. Этими мыслями все ж таки не следует очень заниматься.
Был я на днях у Доминики, ее не застал, а с Лёлькой просидел 3 часа. Она уже совсем взрослая девица, выдержала экзамен в университет, но принята не была из-за отсутствия мест.
Очень интересуется тобой – говорит, что из всех, кого она знает, ты ей больше всего нравишься. Видишь, батько, ты пользуешься успехом у столь молодых девиц. Мне даже завидно. Что еще? Знаешь, в моей жизни большая перемена – та, что я совершенно разошелся с товарищами[84]. Еще в прошлом году товарищи занимали большое место в моей жизни – теперь же почти что чужие люди – ни дружбы, ни откровенности, ни общих интересов. Вероятно, в этом виновата отчасти моя женитьба, а может быть, просто пришло время стать друг другу чужими. Но жены со мной нет, и я «как голый пень среди долин»[85]. Это чувство одиночества меня очень допекает, нехорошо жить, не имея близких людей. Ты не собираешься в Москву на время? Вот было б хорошо.
Пиши мне, батько, письма тоже могут поддерживать живую связь между людьми. Ладно? Так ты пиши, не задерживайся долго. Будь здоров.
Целую крепко, Вася.
33
30 января 1929, [Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил сегодня от мамы письмо. Она получила твое письмо, «полное негодования», ее письмо тоже полно огорчения и негодования. Батько, я не помню точно, что именно писал тебе в том письме, но ты меня, очевидно, превратно понял. Я совершенно не намерен бросать занятий, наоборот, в минимальный срок (очевидно, к сентябрю). Думаю, что со всем багажом я развяжусь к весне, а на осень оставлю один зачет. Занимаюсь я теперь по 10 ч. в день, и мне было странно получить мамино письмо, в данное время оно пришлось не по адресу. Что касается того, что занятия мне «осточертели», а увлекает меня некий литературный план, то по этому поводу ничего не могу сказать – именно так обстоит дело; меня это ничуть не огорчает, наоборот, радует, но это мне не мешает сознавать, что университет я кончу, и не только кончу вообще, а в сделаю все для этого. Меня очень огорчает, что ты так воспринял то мое письмо. Жду твоего письма. Целую, Вася.
30 января 1929 г.
34
12 февраля [1929, Покровское-Глебово]
12 февраля
Дорогой батько, получил твое письмо. Ты в конце пишешь: «Прости, пишу резко». Прощать, по существу, нечего, ибо все, что ты пишешь, верно. Верно, и поэтому-то особенно неприятно (вернее, тяжело) было читать мне твое письмо. Я мог бы кончить университет в прошлом году, но запустил свои дела и начал по-настоящему заниматься лишь теперь. Отчего я это сделал? (Запустил.) Были тут разные причины, но, в общем, основная – халатность и расхлябанность. Что говорить, порядочное свинство. Как обстоят мои дела теперь? Мне осталось доработать лабораторию физ〈ической〉 химии (делаю последнюю задачу), зачеты – 1) физическая химия, 2) техническая, 3) коллоидная – и мелочь: 1) военное дело, 2) кристаллография, 3) философия естествознания. Кроме того, я хочу отработать практику термохимии, микроанализ и закончить начатый в прошлом году технич〈еский〉 анализ. Со всем этим багажом (тебе не нравится это выражение) я смогу развязаться к лету, если буду энергично работать. Возможно, что в случае какой-нибудь заминки (отъезд преподавателя весной или еще чего-нибудь) останется на осень зачет. Мой план работы таков: – я заканчиваю практикум по физич〈еской〉 химии (последняя задача очень каверзная, и ее приходится работать не меньше 2 недель) и сдаю зачет по технич〈еской〉 химии (это крупный зачет – хим〈ическая〉 технология, 500 с лишним страниц); – сдаю коллоидную химию, работаю термохимию и, если успею, сдам что-нибудь из мелочи; – делаю микроанализ, дорабатываю технический анализ и начинаю параллельно готовить физическую химию, которую и сдам в июне. Летом я возьму практику в Москве, и если паче чаяния останется какой-нибудь захудалый зачет, сдам его сразу к началу занятий. Таким образом, если проработаю энергично 4–5 месяцев, университет я закончу. А работать энергично я буду, так же как и работаю в настоящее время. Теперь относительно дипломной работы и стажа. Дипломная работа мне не обязательна, так как я кончаю по старым учебным планам, стаж с нынешнего года отменен. Следовательно, сдав последний зачет, я тем самым и заканчиваю университет. Возможно, что, поступив на работу, я возьму у профессора тему, но это, так сказать, моя воля. Так обстоят мои учебные дела, я их запустил, но выправлю.
Теперь о литературе – батько, ты совершенно прав, и я абсолютно с тобой согласен, что нет литературы вне жизни. Я пошлялся по издательствам теперь и убедился, что пишущая братия самая нехорошая разновидность человечества – жалкие, пустые люди, мыльные пузыри. Я иначе не мыслю себе дальнейшей жизни своей, как совмещения работы в производстве с «вечерними литератур〈ными〉 занятиями». Теперь вот о чем – я всегда чувствовал, что жить на твои средства свинство; это тяжело для тебя и нехорошо и для меня, – может быть, развращает меня это незнание забот о куске хлеба. Я всегда хотел (ох, это «хотел») зарабатывать, но все мои попытки срывались. Сейчас я мог бы броситься энергично искать работу, заняться литературной халтурой (она мне дала ведь пару сот рублей) и пр. Но скажу тебе откровенно – теперь мне этого не хочется делать. Нет смысла. Если я теперь возьму работу, то оттяну свое окончание еще на несколько месяцев вглубь будущего учебного года. Что я этим докажу – что 7 лет я квасился в университете, а к концу покажу свою самостоятельность. «Ты похож на ту гетеру, что на склоне грешных дней горько плачет о потере добродетели своей»[86]. Конечно, батько, и мне кажется это настолько ясно, что и писать об этом не стоит: если ты хочешь уйти с работы или по какой другой причине тебе теперь это было б тяжело, то, конечно, мои «вышеизложенные» соображения отпадают. Но если этого нет, то мне кажется резонным, чтобы ты мне помог эти несколько месяцев. Ну вот. Напиши мне, пожалуйста, откровенно, что ты думаешь по этому поводу. Может быть, ты считаешь, что я свинья?
Как я живу теперь – занимаюсь – днем в лаборатории, вечерами и ночами занимаюсь, готовлюсь к зачету по технич〈еской〉 химии; в промежутках между занятиями да и во время их скучаю по Гале. Ужасно глупо и тяжело это – влюбился по-настоящему на склоне лет наконец, женился, и неделю-две поживем вместе, а потом длиннейшие месяцы разлуки. Вот и вся моя жизнь. Да, в трамвае еще (слава богу, едет он 30 минут – времени хватает) философствую «про жизнь и про всё». Иду в воскресенье в театр художественный [на] «На дне»[87]. Ну ладно. Целую тебя, Ва.
Был у Штрума и взял у него деньги, ибо сидел уже несколько дней на пище святого угодника[88]. Батько, ты мне напиши поскорей, буду ждать твои письма с . , то на случай: Москва 57, Покровско[е]-Глебово № 52. Г〈раждан〉ке Мазо, В. С. Гросм〈ану〉.
35
27 февраля [1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил твое письмо. Планы, действительно, существуют для того, чтобы эффектно разрушаться, но я надеюсь, что мой план будет исключением. Сейчас закончил подготовку зачета по технической химии, думаю послезавтра сдавать его, беда с ним – материалу так много, что, когда кончаешь книгу, забываешь начало, начинаешь – ускользает из памяти конец. Ты спрашиваешь – почему аналитик? Аналитик (назыв〈ается〉 специальность технической химии) как раз ближе всего к производству, он – химик на производстве. Остальные циклы более теоретические, связаны с работой в больших лабораториях центра – неорган〈ическая〉 химия, органическая химия, физич〈еская〉 химия и пр. Но вообще говоря, выбор специальности мало к чему обязывает: в дальнейшем органик работает не по краскам, а таки куда попадет. Новостей у меня никаких нет, целые дни занимаюсь, никого не вижу. Между прочим, ты пишешь, что Косолапов соберется ко мне зайти, когда будет в Москве. Это совершенно безнадежное предприятие, т. к. я дома бываю не раньше 10–11 часов, и найти мою обитель вечером новому человеку невозможно. Ты знаешь, если я закончу занятия свои к сентябрю месяцу, то, ввиду того что дипломной работы я делать не буду и стаж отменен, передо мной тотчас же встанет перспектива пойти служить в армию. Служба в армии год, служить я буду, вероятно, в какой-нибудь химической части, мой «военный профессор» говорит, что служба эта будет заключаться в том, что три месяца пробуду в строю, а затем буду привлечен к работе в лаборатории. Против этого я, конечно, ничего не имею, наоборот, с удовольствием пойду, как щедриновский губернатор говорил: «что ж, я послужить готов»[89]. Но есть «но» – моя «семейная жизнь». Ты пишешь – почему это житье врозь меня так расстраивает? Это очень понятно: эти беспрестанные разлуки на месяцы после свиданий на несколько дней – чертовски тяжелая штука. Ужасно одиноко, и эта всегдашняя тоска и счет дней до свиданья действуют как хорошая зубная боль. Вот и теперь Галя приедет числа 15–20 апреля, на недели две, и опять уедет, а там год службы. Убей меня гром, в жизни бывают вещи похуже, я это прекрасно знаю, но уверяю тебя, мне от этого не легче. Однако ничего не попишешь. Знаешь, дорогой мой, окончить вуз для меня сделалось какой-то навязчивой идеей, я теперь только об этом и думаю. (Ты, вероятно, улыбнулся, прочтя эту фразу, не совсем добродушной улыбкой.) Я мечтаю: вот кончу, выйду в жизнь, на широкую дорогу, работа, новые люди, новые места, литература. Дай вам бог, молодой человек, удачи.
Батько, дорогой мой, напиши мне, пожалуйста, о себе, что думаешь делать, когда уйдешь из института, почему уходишь, как твоя работа, что слышно у Ольги Семеновны.
Только, ей-же-ей, не пиши ответа через три недели, а то я беспокоюсь каждый раз, не случилось ли с тобой чего, и не ссылайся на то, что занят. Брехня. Ведь всегда можно найти минут 30–40, чтоб написать. Ладно, так напиши о себе, а то мы всё переписываемся исключительно о моей драгоценной персоне. Теперь насчет денег, как говорил покойный кучер Петр. Можно их послать просто – «Гл. почтамт до востребования И. С. Гросману» (но не забудь об этом упомянуть в письме). Ну, будь здоров. Крепко тебя целую,
Вася. 27 февраля
У нас все время собачий мороз, отморозил я себе ухо; до того надоела зима, что смерть прямо.
36
14 марта 1929, [Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил твое письмо и очень огорчился им. Дорогой мой, я вовсе не взял установку на то, чтобы кончить обязательно осенью, , я делаю все возможное, чтобы на осень ничего не оставить. Но думаю, что к лету я кончить не успею и оставлю кристаллографию на осень – ведь мне осталось 7 зачетов, и думаю я еще отработать 3 лаборатории. Теперь по-«семейному» поводу. Ей-богу, батько, я не привязан к женской юбке. Если хочешь, то скажу тебе откровенно, как я объясняю себе себя в этом вопросе. Я не удовлетворен во многих отношениях – общественном, личном и прочая, я очень одинок. До женитьбы я так и констатировал – тут плохо, там плохо. Теперь же все свои «горести» я склонен объяснять одной причиной: тем, что не живу вместе с Галей. Знаешь, как в том некрасовском стихотворении: «вот приедет барин, барин нас рассудит»[90]. Конечно, я люблю Галю, но, трезво рассуждая, тяжелое настроение у меня не только потому, что ее здесь нет. Когда она приедет, будет очень хорошо, но не будет совсем хорошо. Так что ты напрасно думаешь, что я строю жизненные планы «на базисе» женской юбки. А когда я себе говорю, что с Галиным приездом сразу все станет хорошо, то я говорю неправду. Это между нами, батько. Как говорят англичане, «говоря откровенно, как мужчина с мужчиной». Что слышно у меня – сдал техническую химию, готовлюсь к докладу «Учение о диалектике и диалектика природы»[91] – это основной доклад нашего семинара[92], надо прочесть массу литературы. После него возьмусь за коллоидную химию и лабораторию термохимии. А затем приступлю к киту, после которого можно будет вздохнуть (если не свободно, то с облегчением), – физической химии.
Батько, меня огорчило твое письмо и в той части, где ты пишешь о себе. Ты, вероятно, плохо себя чувствуешь в связи с затруднениями в работе. Почему бы тебе не поставить вопрос открыто: без поездки за границу ты не можешь продолжать этой работы. Ведь нельзя же от тебя требовать, чтоб ты самостоятельно разработал методику целой новой сложной области. Батько, а что ты думаешь делать, когда уйдешь из института? Оставаться в Донбассе или махнуть в какое-нибудь другое место? Как здоровье Ольги Семеновны, кланяйся ей и передай мои искренние пожелания поскорей поправиться. Неужели целых полтора месяца ей нужно пролежать? (Или это «Владивосток».)
Пиши мне, батько, очень прошу тебя, и не такие строгие письма. Целую тебя крепко, твой Вася.
P. S. Деньги получил.
Вчера здесь произошел случай: утром недалеко от моей избы, на опушке леса, застрелилась девушка: специально приехала из города и застрелилась. Так это страшно было – раннее весеннее утро, яркое солнце, звенят падающие с сосен капли и на белом снегу лежит молодое мертвое существо с развороченным черепом и черными волосами, забрызганными кровью.
Батько, так ты, ей-богу, пиши мне.
14 марта 1929 г.
37
26 марта 1929, [Покровское-Глебово]
Дорогой батько, хочется тебе написать. Мне кажется все, что ты на меня сердишься за что-то. Не знаю только за что. Что нового у меня? Абсолютно ничего. Разве то, что сдал два зачета, закончил лабораторию физической химии, приступаю со вторника к термохимии и прочел вчера доклад на философском семинаре, прочел удачно – слушатели одобрили, а преподаватель дал отзыв «прекрасно». В общем, учеба идет. В остальных смыслах я «не живу», человеческое сознание ограниченно и не может вместить сразу несколько вещей – ничего не читаю, нигде не бываю, никого не видаю. Ох, зато как хорошо будет сдать последний зачет и покончить с учением. У нас уже три дня весна, смешное время, люди в эти дни балдеют, и те, которым абсолютно не на что надеяться, о чем-то мечтают, а те, которым следует плакать, почему-то улыбаются. Хорошее время, я больше всего люблю первые дни ранней весны, когда солнце греет едва-едва и воздух какой-то надломленный – хотя и холодный, но пахнущий теплом. Ну а мне не нужно плакать и печалиться, и поэтому в эти дни мне очень хорошо. Я очень люблю природу, ей-богу.
Мой товарищ Кугель[93] говорил мне, что ему звонила по телефону Липецкая, спрашивала мой адрес, но, очевидно, раздумала приехать, так как ее в моей берлоге не было.
Ты, часом, не собираешься в Москву теперь? Было бы очень хорошо, если б ты приехал.
Не знаю, правильно ли я поступил, на этих днях мне предложили работу, но из соображений учебных я отказался, дело в том, что работа ответственная, требующая большого напряжения, и если б я ее взял, то все мои занятия полетели бы к черту. Я как раз взялся за самый большой зачет на всем факультете – физическую химию. Думаю, что к концу апреля осилю его. После этого фактически университет в основном будет закончен – останутся только «хвосты». Ты знаешь, батько, мне бы очень улыбалось взять практику летнюю в Донбассе, уж больно мне надоела Москва. Но, с другой стороны, я теперь пытаюсь устроить Гале практику в Москве; если это удастся, то мне придется тоже остаться здесь. Если же нет, то не будет смысла сидеть в Москве. Как ты думаешь, у вас там нельзя было б в этом случае устроиться – хотя бы в вашем институте? Я бы лазил каждый день в шахту вместо всех вас?
Ну ладно. Буду кончать. Кланяйся Ольге Семеновне, ?
Пиши мне чаще чем раз в месяц, дорогой мой, ей-богу, это нехорошо.
Крепко тебя целую, твой Вася.
26 марта 1929 г.
38
6 апреля 1929, [Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил сегодня твое письмо и, в отличие от некоторых, тотчас же отвечаю. Бедная Ольга Семеновна, как же это ее угораздило так неловко упасть – шутка сказать, 10 недель пролежать в гипсе, да еще, вероятно, с сильными болями. Передай ей мое всяческое сочувствие. А ты, батько, на все фронты, и по службе, и в качестве «сидельца». Что у меня хорошего и нового? Пожалуй, ничего нового. По-прежнему занимаюсь. Готовлю теперь «кита» – физическую химию и работаю в термической лаборатории. «Кит» очень большой, чтобы сдать его, надо прочесть 3 тома Каблукова, книгу Ле Блана и зверскую «Теоретическую химию» Нернста[94]. Единственное спасение – то, что предмет чрезвычайно интересный, и я читаю и плаваю в формулах с большим удовольствием. Это не техническая химия, где все приходилось брать зубрежкой. Любопытно, что за этим чтением и разбором формул не замечаешь, как бежит время. Сел утром, кажется, что прошло два часа, глядишь, уже пять часов вечера. Термическая лаборатория мне тоже нравится – очень занятно измерять t° с точностью до тысячных долей градуса (мы определяем скрытые теплоты испарения, теплоемкости, теплоты реакций); чтобы не влиять на показания термометра теплотой своего тела, мы наблюдаем температуру через зрительную трубу, и очень смешно глядеть на градусник на расстоянии трех аршин.
В общем, этот период учебы интересный и нравится мне. Зато после него пойдет опять зубрежка, будь она проклята, но опять-таки «зато» после зубрежки я буду fertig[95]. Заниматься я буду, вероятно, до первого июня, а затем возьму практику. Дело как будто клонит к тому, что Галина практика будет в Москве, следовательно, и я останусь здесь. Я думаю, что не стоит тебе заране говорить с кем-нибудь по этому поводу, поскольку вопрос о моей поездке совсем еще не решен.
От мамы получил сегодня письмо, она пишет, что не имеет от тебя писем, и, так же как ты о ней, справляется у меня о тебе. Ох и писатель же ты, батько, скупой. Весна, которая меня радовала, «тюкнула», опять холодно, такое зло берет на этот северный климат; у вас, наверное, тепло уже? Ну-с, вот, поговорили. Могу сказать, что психически последнее время я себя чувствую хорошо и что мое всегдашнее скверное настроение из всегдашнего сделалось довольно редким. Батько, дорогой мой, если ты не так уж экстра занят, то пиши мне почаще, чем раз в месяц. Очень прошу тебя об этом. Будь здоров. Крепко тебя целую, Вася.
Пламенный, пролетарский привет Ольге Семеновне.
6 апреля 1929 г.
39
10 апреля [1929, Покровское-Глебово]
Дорогой папа, получил твоих два письма. Я не знаю, что говорил Лобода[96] Наде, что говорила Надя тете, тетя Ольге Семеновне и что писала Ольга Семеновна тебе. Это раз. Два – это то, что пишу я тебе об этом всем не для того, чтобы оправдаться, держать ответ перед грозным отцом или даже исповедоваться перед тобой (кстати, исповедоваться я не мог бы ни перед кем, так как у меня нет ни высоких заслуг, ни преступлений), а пишу, во-первых, потому, что, зная, как тебя все это огорчает, хочу тебе рассказать «всю правду», а во-вторых, потому, что смешно было бы обойти молчанием такую штуку, когда она возникает между мной и самым близким мне человеком. Начну с занятий. Ты чего-то не понимаешь? Я тоже не понимаю, чего ты не понимаешь. Поэтому начну с начала. Сентябрь месяц у меня ушел на гонку за лабораторией. Затем до половины октября я готовился к предварительному зачету по органич〈еской〉 химии. Затем до Рождества работал в лаборатории. Приехал в Москву из Бердичева 11 января и до февраля бил баклуши, так как в лаборатории был ремонт. Затем продолжал работать в лаборатории орган〈ической〉 химии и закончил ее в середине марта. Работа затянулась, т. к. то не было реактивов, то сама работа не клеилась: на последних два синтеза я потратил около трех недель, роясь в немецкой литературе и переделывая их в лаборатории: не выходили. Теперь я готовлюсь к зачетам и работаю весьма много. Мое мнение о истекшем годе: работая в лаборатории до 7 ч. вечера, т. е. 7–9 часов в день, я мог бы с часов 9 до 12 ночи заниматься теорией. Этого я не делал, читая беллетристику или препровождая время с товарищами. Время свое я мог бы уплотнить, но не сделал этого и, откровенно говоря, жалею об этом теперь. С другой стороны, это был, пожалуй, самый мой продуктивный год в Москве. Резюме: сделано за год много, но сделать можно было еще больше.
Я пишу, что год прошел. Это не так. Осталось еще добрых два месяца с хвостиком работы. За это время мне нужно сдать зачеты: «Методы количественного анализа» (это весовой, объемный, газовый и электроанализ – курс, не имеющий отношения к лаборатории, которую я работал летом), органическую химию – теоретический курс – здесь работы месяца на полтора, т. к. материал чертовски велик, и, наконец, пару пигмеев – геологию и кристаллографию, недели две работы. Кроме того, я посещаю практич〈еские〉 занятия по геологии и кристал〈лографии〉, это раз в неделю по 2 часа, но эти-то последние меня и привязываю〈т〉 к Москве. Надеюсь, эту программу к 15 июня выполнить, и тогда на будущий год мне останется только лаборатория физической химии и один зачет – технич〈еская〉 химия. Уф! Вот тебе подробная сводка моих учебных дел.
Теперь относительно пивных. Я действительно довольно часто посещаю их. Но между посещеньем пивной и пьянством нет сходства. Зайти в пивную и выпить бутылку пива – в этом нет ничего ужасного. Конечно, бывали случаи, когда я, действительно, солидно выпивал – не только пиво, но и водку и был пьян как «сапожник», однажды даже поехал в Ригу, в той самой комнате, где когда-то жил вместе с Лободой.
Но и в такой выпивке, устраиваемой раз в месяц или полтора, я не вижу ничего ужасного. В самом деле, такие выпивки не вредны для здоровья потому, что они редки. Такие выпивки не мешают работе опять-таки потому, что они редки. Ты скажешь: можно втянуться. Совершенно верно. Но втянуться может или очень убогий, или очень и очень несчастный человек. Я же не умственно убогий, а когда я чувствую себя несчастным или одиноким, у меня нет ни малейшего желанья пить, наоборот, выпиваем мы, когда хочется повеселиться, попеть, «побаловаться». Я знаю, что ты держишься другой точки зрения и считаешь, что все это даже в самых малых дозах – свинство. А мне кажется, что это не плохо; конечно, хорошего в этом тоже ничего нет. Вероятно, тебе писали про этот мой «грех». Относительно того, как я себя вел по отношению к Лободе, что ты пишешь, что и ты бы меня назвал хамом – я ума не приложу, чего я такого сделал.
К Вене я питал самые дружеские чувства до самого последнего времени; во время его болезни эти чувства, смею думать, показал лучше, чем его братья, которые для него пальцем о палец не ударили. К брату его относился самым корректным образом до тех пор, пока он не начал меня выживать самым очевидным образом[97]. Да о чем говорить. В этом деле я чист. Ну вот, кажется, все, что я хотел тебе написать. Буду очень рад, если твое представление обо мне после «того» письма станет лучше. В двух словах я тебе скажу то, что думаю о самом себе: я не падший, я и не подвижник, я самый средний честный человек; но есть одно обстоятельство, которое, как мне кажется, не дает мне ни упасть на самое дно, «ни погрузиться в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»[98].
Это глубокое внутреннее сознанье, что жить можно, только служа какому-нибудь высокому делу и любя это дело. Жить не для себя и не собой и узким кругом двух-трех людей. К большому своему горю, я не нашел такого дела, но верю, что найду. У Рабиндранат〈а〉 Тагора есть фраза: «О великая даль, о пронзительный зов твоей флейты»[99]. Ну вот, я думаю, что этот зов выведет меня на настоящую дорогу, по которой ходят настоящие люди. Ты меня прости за высокий стиль, ведь он искренен.
Целую тебя, батько. Вася.
Надеюсь, что ты мне скоро ответишь, буду ждать твоего письма с нетерпением.
10 апреля.
40
8 мая [1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил твое письмо. Ты меня ругаешь, почему я сразу не пошел к врачу, а «страдал» два дня. Это действительно глупо; в следующий раз я обязательно пойду в тот же день. Галя уехала вчера в Киев, пробыла здесь 12 дней. С занятиями моими в связи с ее приездом у меня произошла заминка, но я себя в этом не виню, как-никак, а причина уважительная. Я все ж таки успел за это время закончить термохимическую лабораторию и сдать зачет по военной химии. Физическую химию пойду, вероятно, сдавать в понедельник. Уф, уф, сдать бы ее, тогда все горизонты очищаются. Завтра начинаю лаборатории микроанализа и технического анализа (того самого, что не доделал в прошлом году). Теперь, батько, относительно летних перспектив. Гале удалось устроить практику в Москве, в Украинском Постпредставительстве при Совнаркоме, это окончательно оформлено, и ей уже выдали бумажку, что с июня месяца она может приступить к работе. Приедет она, вероятно, в первых числах июня. Я уже подал заявление в комиссию по летней практике о том, что прошу дать мне практику в Москве, результат будет известен только в конце мая, наверное не могу сказать, но вероятней всего, что практику в Москве я получу, и тоже к числу 15–20-му приступлю к работе. Так обстоит с летними делами. Теперь относительно твоего предложенья работать в Сталине (Макеевке). Мне это улыбается. Даже не улыбается, а больше, это то, чего я очень хочу, что мне нужно. Из всех мест СССР Сталино (округ) меня наибольше привлекает. Поэтому, если возможно договориться теперь о работе, обязательно сделай это. Летняя практика кончается к 1 октября, следовательно, если нужно обусловить срок, то говори о начале октября. К этому времени и университетские мои дела будут ликвидированы полностью. ? Насчет химика, нужного вам, я толковал с нашими окончивающими – не выражают желанья ехать, повешу объявление в Хим〈ическом〉 институте и укажу ваш адрес. Деньги получил, спасибо большое за «надбавку», она пришлась более чем кстати. Батько, родной мой, напиши мне , а раньше, если занят очень, то напиши коротенькое письмо. Не забудь написать, как здоровье Ольги Семеновны, и не забудь передать ей привет. И как твои планы, будешь ли в Сталине осенью? Пока всего хорошего. Крепко тебя целую, твой Вася.
Значит, я всячески готов ехать в Сталино с октября месяца.
8 мая
41
19 мая [1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил ли книжки уже? Ты в своей открытке грозился написать мне письмо, но угрозы своей не исполнил. Что у меня нового? Сдал в пятницу экзамен по физической химии. Теперь принялся за хвосты – их у меня 5. Если экзаменационную сессию продлят до 20 июня, то я успею закончить университет сейчас, если же профессор коллоидной химии уедет раньше, то придется оставить один зачет на осень. Мне это не хочется, и я постараюсь всяко успеть сдать все перед летним перерывом. Сейчас готовлю полезные ископаемые и кристаллографию, эта проклятая кристаллография мне внушает ужас, предмет ерундовый, но смертельно скучный – сплошная зубрежка.
Ты знаешь, я так привык быть студентом, что теперь, после того как сдал физич〈ескую〉 химию и фактически кончил университетскую программу, мне как-то странно. Как это я вдруг, через некоторое время перестану ходить в университет, сдавать зачеты, приезжать к 1 сентября, ездить на рождественские каникулы, что я войду в совершенно другую систему человеческих интересов, «новая система обращения». Ну ладно. Чтобы войти, нужно пока возможно энергичней «обращаться» в старой системе. С практикой моей еще не выяснилось, узнаю во вторник. Вероятно, практику я получу – имею все основания на это: 1) ни разу еще не был; 2) кончаю университет. Но я думаю брать ее не с 1 июня, а с числа 15–20-го, чтобы успеть «дозаниматься».
В материальном отношении моя и Галина работа дадут нам прожиточный минимум, я еще надеюсь летом устроить себе какой-нибудь литературный приработок. В общем, образуется. Если сможешь, то вышли мне еще одну «июньскую получку», т. к. пока заработки только в перспективе. Заходил я в профком справиться насчет вашего химика. Говорят – на такие условия никто не хочет ехать, мало жалованья. Вообще же у нашей публики тенденция оставаться в Москве во что бы то ни стало. Батько, дорогой, как там у тебя, не предвидится командировки в Москву? Очень хочется тебя видеть, поселился бы на моей даче – здесь теперь очень хорошо. А как у тебя насчет дальнейших планов, идешь ли в отпуск, куда, когда? Как насчет того, чтобы уехать из Сталина? Напиши, пожалуйста, обо всем этом. Потом, почему ты не пишешь, как здоровье Ольги Семеновны, ходит ли она уже? Кланяйся ей.
Пока всего хорошего. Крепко тебя целую, твой Вася.
19 мая.
Пиши!
42
26 мая [1929, Покровское-Глебово]
Дорогой мой, получил твое письмо. Батько мой, мне бы очень хотелось повидаться с тобой, если б была хоть маленькая возможность, я бы приехал в Сталино. Мы бы с тобой посидели вечером в саду и хорошо поговорили, может быть, как еще ни разу не говорили. Может быть, через пару месяцев увидимся, а раньше, должно быть, не выйдет – это очень печально. Дорогой мой, ты просишь, чтобы я тебя не «утешал». Хорошо, не буду. Скажу только, что большая часть причин твоего нехорошего состояния лежит не в объективных, уже не поддающихся исправлению обстоятельствах, а в чисто временных, преходящих моментах: в том, что ты переутомился, неудовлетворен работой проделанной, попал в пренеприятные отношения с сотрудниками. Так мне кажется. Я уверен, что когда эти обстоятельства пройдут, то и настроение у тебя станет лучше, и ты не будешь так мрачно смотреть на жизнь. Ей-богу, дорогой мой, увидишь, так будет. От этого, конечно, сейчас не легче. Мне бы очень хотелось с тобой увидеться. Сейчас я эти несколько дней хожу и все время думаю о тебе, и мне представляется, что ты так одинок, как старый волк, который забился в темный угол; вот молодой волк пришел бы, и мы вместе б поскулили на луну. Как-то я не умею выразить, что хочу сказать, а хочу сказать, что мне бы хотелось тебя крепко поцеловать и обнять, и наверное стало лучше.
Батько мой дорогой, ты беспокоишься о моей практике, откровенно говоря, и я о ней беспокоюсь – все пока очень неопределенно, и никак не выяснится, дадут ее мне или нет. Завтра нажму и думаю, что в ближайшие пару дней узнаю окончательно. Хочу тебя просить – ни в коем случае не ставь в связь свои намеренья с моими делами. Я не пропаду уже. Человек научается быстрее всего плавать, когда его не держат на веревке. Чуешь, батько? Серьезно прошу тебя. С учебой дело благополучно: сдал в среду полезные ископаемые, завтра думаю сдать стереохимию, в пятницу отравляющие вещества, а в будущий понедельник кристаллографию. Тогда останется коллоидная химия, с которой можно «расправиться» за две недели. Значит, мне занятий осталось три-четыре недели, и если коллоидный профессор не уедет, то кончу теперь. Вот только практику себе устроить. Не знаю, как будет осенью, вероятней всего, что пойду в армию. Лучше ее отбыть теперь, чем брать (устраивать) отсрочки, а потом весь год чувствовать себя связанным. Галя приедет, должно быть, в конце будущей недели, а может, позже немного. Дорогой мой, ты не писал мне совсем о том, думаешь ли оставаться в Донбассе или уезжать? Может, в Москву собираешься? Приезжай сюда, батько, отсюда легче устраиваться, и мы б повидались: это было б очень хорошо – ведь скоро год, как мы не виделись. Я вдруг вспомнил, как ты приехал в Криницу запыленный, больной и как я ужасно смутился, когда знакомил тебя с Галей, – ведь жениться стыдно, а я взял да и женился.
Целую тебя крепко, мой дорогой.
В〈о〉скр〈есенье,〉 26 мая, твой Вася.
Привет Ольге Семеновне.
43
[Июнь 1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, отвечаю на твое письмо спустя пару дней. Что у меня слышно? И плохое и хорошее. Плохое то, что с практикой моей дело как будто не выгорело. Мне дали место на текстильной ф〈абри〉ке, но я отказался от него, – во-первых, потому, что это на выезд, во-вторых, потому, что на текстиле для химика нет работы, тоска да и только; и ко всему плата 50 р. в месяц.
В пятницу выяснится, может, дадут мне место в Москве. Хотя надежды мало. В смысле учебном это меня не смущает – в конце-то концов вся практика сводится к анализам (текущим), а титровать и взвешивать я умею, слава богу. Для окончания она мне тоже не составит препятствия – я был сегодня у декана, и он мне сказал, что выдаст диплом без практики. Но вот в материальном отношении это плохо, очень плохо; буду искать всеми силами работу, но вот найду ли ее – вопрос.
Теперь второе плохое – это то, что я провалился вчера по кристаллографии. Второй провал за всю мою учебу. Предмет жуткий, и меня физически тошнит, когда я сегодня снова открыл книжку и начал зубрить тетраэдрические трапецоэдры. Брр. Пойду в следующий понедельник опять. Зачетов после физической химии я сдал 2 и закончил лабораторию микроанализа. Осталось мне кристаллография и коллоидная химия, да еще специальный курс отравляющих веществ (но это не зачет – надо просто за 2 часа просмотреть записки и сдать). Значит, если в понедельник сдам кристаллографию, то тотчас засяду за коллоидную и сдам ее к 26-му (профессор принимает 26-го). И конец. Пойду в канцелярию получить диплом. Ты, батько, извини, что я с такими подробностями пишу о зачетах, но меня это теперь очень занимает. Шутка сказать, столько лет учился, а теперь кончаю, неожиданно.
Получил только что телеграмму от Гали – завтра приезжает в Москву. Это то, что у меня хорошего. Да, вот что: зимой мне предстоит стать папашей, а тебе дедушкой[100]. Не знаю, считать ли это хорошим или плохим. Во всяком случае, докторица смотрела Галю и нашла, что «выхода из интересного положения» ей нельзя делать. Да и Галя сама не хочет. Чуднó. У меня будет сын (а вдруг дочь?). Как ты смотришь на такую новость? Ну вот, батько, мой дорогой. Настроение у меня, в общем, хорошее. Только неприятно с практикой, да заниматься надоело отчаянно, а как назло, два последних зачета – сплошная зубрежка, но это пустяки, три недели посижу основательно, и точка. А настроение у меня хорошее оттого, что чувствую себя «у врат царства». Знаю, что «царство» тяжелая штука и что шипов в жизни куда больше, чем роз, но тем не менее хорошо. Хочется мне много читать по хозяйственным вопросам – разобраться самому, что и как у нас делается, но главное, хочется в жизнь войти, перестать быть зрителем, самому принять в ней участие. Не знаю почему, но от мысли остаться в Москве меня воротит; мне кажется, что все здесь «дутое», а что «настоящее» там, «на периферии» и, конечно, прежде всего в Донбассе. Ведь нехорошо я здесь жил, малосодержательно, пусто. И над этим периодом своей жизни надо поставить точку. Все изменить – обстановку, знакомых, интересы и, конечно, прежде всего себя самого. Так или иначе, осенью отсюда уеду. Вероятней всего, пойду в армию. Меня убеждают попытаться устроиться на военный завод, «зачем терять год жизни?». Но мне кажется, что в армии я не потеряю года, а, наоборот, кое-что приобрету. Беда только, что красноармейцам платят 3 р. в месяц, а я, можно сказать, обременен женой и детьми (в проекции). Ну, к тому времени, может, чего выгорит, не пропадет же младенец.
Да, дорогой мой, ты пишешь насчет того, чтобы стать мне Василием Семеновичем. Я бы сам рад, но, во-первых, это стоит 25 р., а во-вторых, как-то неловко превращаться из Иосифа в Василия[101]. Интересно, что мама мне в открытке написала сегодня точно твоими словами об этом самом: «сделай это перед получением диплома». Ну ладно. Буду кончать. Целую крепко тебя, твой Вася.
Привет Ольге Семеновне.
Батько, давай писать друг другу почаще, ей-богу, можно выкроить час в неделю для этого дела.
44
[22 июня 1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, получил твое письмо. Мне приходится извиняться, как и тебе, отвечаю через неделю. Дорогой мой, ты так неопределенно пишешь о своих дальнейших перспективах. Я прекрасно понимаю тебя, что тебе все осточертело и что самое лучшее тебе было до весны не брать работы, закатиться в какую-нибудь глушь – Криницу или хороший сосновый бор. Батько, дорогой мой, но, может быть, прежде чем «закатываться», ты приедешь в Москву? Если у тебя будет к тому возможность, пожалуйста, сделай это. Вот увидишь, все будет хорошо – отдохнешь, успокоятся нервы. Только вот беда с материальной стороной. Как устроишься? Меня все это очень интересует, но если тебе почему-либо неприятно, то не пиши.
Теперь насчет твоих соображений на мой счет. По поводу ребенка – видит бог, что я не горю желанием стать молодым счастливым отцом. Проще – я прекрасно понимаю, что это не легкая вещь, что это накладывает серьезнейшие обязательства и прочая, и прочая. Но вот какая штука – Галя уже делала аборт, и с весьма тяжелыми последствиями, теперь же врач ее предупреждает, что второй эксперимент такого рода совсем для нее скверен. Что же делать?
Галя мне говорит: «Как ты хочешь, я согласна делать эту штуку». Но мне кажется, что нехорошо калечить человека. И поэтому, а не по легкомыслию я собираюсь тоже стать батькой. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это наиболее приемлемый выход. Да, батько, я обиделся за Галю; ты пишешь: «Если Галя тебя любит, она должна подумать, какой хомут она тебе одевает на шею». Во-первых, я его сам одеваю, если б я сказал слово, то Галя завтра же пошла в больницу на предмет снимания хомута; а во-вторых, откровенно говоря, ведь если я одену один хомут, то Галя их оденет десять, по существу-то ведь вся тяжесть этого «несвоевременного ребенка» ляжет на нее, а не на меня. Учиться, кормить, жить в крайне стесненных обстоятельствах, не спать ночей – это предстоит ей, а не мне. Скажу, как чеховская Варенька: «Сознайтесь, что вы не правы»[102].
Насчет того, что мне грозит «погрузиться в тину нечистую мелких помыслов»[103], я уже думал. Нет. Если человек погружается, то ему ничего не поможет, будь он трижды свободен от всяких материальных тягот. А если в нем есть подлинное, глубокое желание жить настоящей жизнью, то он ей и будет жить, вопреки и несмотря на тормозы. Таково мое мнение – мнение человека, знающего «тяготы жизни» только по книгам. Может быть, через год я изменю свое мнение. Поживем – увидим. Теперь о прочих делах. Я кончил университет. А может быть, вернее сказать, «ты кончил университет». В таком случае поздравляю тебя.
Нет, не стоит писать мысли мои по поводу этого треугольника: «я, ты, университет». Они настолько обидны и тяжелы для меня. Лучше, когда ты приедешь в Москву, мы поговорим обо всем, поговорим и об этом. Был в предметной комиссии, и мне там написали «ст〈удент〉 Гросман выполнил учебный план химич〈еского〉 отд〈еления〉 1-го МГУ». Теперь надо пойти в деканат выправлять себе свидетельство. Насчет практики. Практику я получил в Москве на большом мыловаренном заводе[104]: работа аналитическая – определение жирных кислот, свободной щелочи, анализы соды, стирального порошка, глицерина и т. д. Вчера работал первый день. Скучновато. Плата 65 р. Работы 9 часов (1 ч. перерыва) – с непривычки я устал смертельно, приехал домой полумертвым. Правда, у меня легкий грипп, повышена температура, может быть, поэтому так устал. И еще неприятно, что это чертовски далеко – 2 часа езды, и приходится стоять в битком набитом трамвае. Думаю, что, когда простуда пройдет, будет легче. С первого же дня я убедился, что практика мне необходима. Учеба – это одно, а работа в производстве – совсем другое. У меня такое чувство, что я ничего не знаю; утешаю себя тем, что все оканчивающие рассказывают о себе то же самое, потом быстро входят в курс дел и видят, что кое-что они знают. Надеюсь, что и со мной будет так же. Теперь о дальнейших перспективах. В связи с Галиным «грядущим молодым человеком» я решил (в противоположность всем прочим, ранее состоявшимся решеньям) в этому году не пойти в армию, а работать по военной промышленности. Флаксерман[105] мне устроила свидание с Постниковым – это человек, возглавляющий Глав〈ное〉 упр〈авление〉 военной промышленности[106]. Между прочим, я не видел в жизни такого гиганта, не человек, а Эйфелева башня. Мы с ним поговорили (я окончил по специальности «органич〈еская〉 химия» с уклоном по отравляющим веществам), и он обещал меня «использовать» по специальности: через дней десять выяснится, куда меня направят. Я бы грешным делом хотел работать в центральном управлении: шесть часов работы, больше свободного времени, а на меня теперь напал писательский зуд.
В общем, не знаю, может, все кончится ерундой, но пока перспективы благоприятные; посмотрим, как они осуществятся. Ну, кончаю. Всего хорошего. Крепко тебя целую, Вася.
45
10 июля [1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, извини, что не ответил сразу на твое письмо. Я так был занят эти дни, что никак не мог собраться. Дорогой мой, не беспокойся о моем здоровье – я уже чувствую себя совсем хорошо, устаю гораздо меньше, и, в общем, все в порядке. Был у врача, и он нашел, что легкие и сердце у меня в порядке. Что касается трамваев и автомобилей, то чего вдруг мне попадать под них; 6 лет не попадал, а теперь попаду. Ты спрашиваешь, где я обедаю? В всевозможных столовках – иногда в хороших, иногда в плохих, но, откровенно говоря, по большей части в плохих. Работа на заводе скучновата – однообразные, немногочисленные анализы, техникой которых я овладел за несколько дней. Если в дальнейшем мне будет предстоять такая же работа, то я себе не завидую. С военной химией дело не решено окончательно, но вероятней всего, что работу я получу: вчера уже заполнял анкеты; дело задерживается из-за того, что мне нужно представить рекомендации членов партии, а все знакомые «партейные» уехали в отпуск, и мне придется писать им; пока получится ответ, пройдет дней десять. Где буду работать, не знаю – очень возможно, что меня оставят при центральном управлении; это мне улыбается, во-первых, потому, что нужно будет работать шесть часов, а во-вторых, не так далеко ездить, как на завод.
Ну, вот тебе «деловая» часть моего письма. Дорогой мой, твое письмо так неопределенно в той части, где ты пишешь о себе, что я так ничего и не узнал, что и как. Напиши мне, пожалуйста, ведь через несколько дней ты уходишь со службы, неужели же ты до сих пор не знаешь, где ты будешь жить – останешься ли в Сталине или уедешь? «И если да, то куда?» Батько, во всяком случае, тебе надо отдохнуть несколько месяцев – это обязательно. Ты пишешь о Кринице. Да, Криница, как помощник прокурора в «Сирене» скажу: «М-да, в Криницы я бы, пожалуй, поехал»[107].
Настроение у меня неважное – скучновато жить, завод, обед, три часа на книжку, прогулку, затем сон и на другой день опять завод и это всё. Мне бы очень хотелось теперь писать, есть о чем, и кажется мне, что выйдет хорошо, но нет времени. И бог весть, когда оно будет. Любопытно, что люди, не сидящие в тюрьме, полагают себя свободными. В действительности же они тоже кандальники и находятся под гласным надзором всяческих обязательств и норм. Человек ходит и действует как будто самостоятельно, а в действительности делает то, что ему нужно (?) и что ему вовсе не хочется делать. Я уверен, что среди сорока или пятидесяти тысяч рабочих, едущих в 6 ч. утра на работу, не наберется и десяти, которые делают это по желанию и с удовольствием. Нужно – вот и все. Можно даже высказать такую парадоксальную мысль, что сидящий в тюрьме гораздо свободнее живущих на свободе. Он располагает своим временем: хочет – 12 часов ковыряет в носу; хочет – думает трое суток подряд о планете Нептун; хочет – спит. А я вот не могу и часа ковырять в носу, т. к. через десять минут надо ехать на завод. Ну да ладно.
Целую тебя крепко, твой Вася.
Привет Ольге Семеновне.
Дорогой батько, пиши мне, не забывай меня: твои письма мне доставляют большую радость (если они без головомоек), а если б увидеться, то было [б] еще лучше.
10 июля.
Кланяется тебе Галя.
46
30 [июля 1929, Покровское-Глебово]
Дорогой батько, послал тебе вчера открытку, а сегодня ходил в свою университетскую комиссию. Дело представляется в весьма печальном свете. Места у них для химиков есть, но из рук вон плохие: курский сах〈арный〉 завод, винокуренный завод и т. д. Это не годится во всех отношениях, – во-первых, отвратительная работа, во-вторых, провинциальная глушь.
Может быть, им представится что-нибудь лучшее, но это вопрос будущего. Я полагаю поступить следующим образом: числа 3-го я уеду в Бердич〈ев〉, а Галя в Киев, поживу там дней 10–12, если у тебя с подысканием для меня сходной работы на Донбассе (Сталин, Макеевка) ничего не выйдет, то я возьму любое место, которое мне предложит комиссия. Дело ко всему осложняется денежным вопросом, так что особенно долго я не смогу ждать. Поэтому я в основном надеюсь на тебя. Пиши мне по адр〈есу〉: Бердичев, Училищ〈ная улица〉, 6[108]. Я тебе уже писал, что призыв будет только 25 октября. Сейчас я уже ничего не делаю, сижу, так сказать, на походном положении.
Я не раскаиваюсь, что отказался от работы в ВСНХ[109], бог с ней: это чиновничье дело мне совсем не по душе.
Положенье, правда, несколько скользкое. Я прошу тебя устроить мне работу, в то время как ты сам ее не имеешь. Пиши поскорей на бердич〈евский〉 адрес и . Крепко целую, Вася.
30.
47
[1 августа 1929[110], Покровское-Глебово]
Дорогой батько, я отправил тебе сегодня письмо и сегодня же получил письмо от тебя. Напиши, куда едешь в отпуск. Я рад, что ты мне сообщаешь о своем положении, хотя бы в общих чертах. Дорогой мой, почему бы тебе не согласиться насчет Москвы, ведь это очень неплохо, будем вместе путешествовать в худож〈ественный〉 театр и пр. Ты спрашиваешь о наших доходах: 105 р., увы, но, вероятно, с августа я пойду на денеж〈ную〉 службу. Ну да ладно. Дорогой мой, зачем же ехать в Криницу, если она приелась. Мир велик. Черноморское побережье тоже. Целую крепко, Вася.
Июль – сентябрь 1931
Окончив университет, Гроссман отправляется работать в Донбасс.
В одной из своих автобиографий, написанной в 1952 году, он сообщает: «В 1929 году по окончании университета я поехал в Донбасс и поступил на работу в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ, заведовал газово-аналитической лабораторией на шахте „Смолянка-11“. В Донбассе я работал, помимо Макеевского института, в Донецком областном институте патологии и гигиены труда – химиком, научным сотрудником, а затем ассистентом кафедры химии в Сталинском медицинском институте (гор. Сталино)»[111].
48
8 июля 1931, [Москва]
Дорогой батько, приехал вчера в Москву. Остановился у Нади. У нее прекрасных три комнаты, в саду, в полутора минутах ходьбы от трамвая[112]. Благодушествую.
Перспектив работы в Москве сколько хочешь. Но сразу же во весь рост встает вопрос – отпустят ли с Донбасса? Москва мне очень нравится – москвичи нет. Смотрю на них суровыми глазами Донбасса. Посижу здесь еще недельку и катану на Киев – Бефдичев [sic! – Ю. В., А. К.], Псыщи.
Как-то ты там, работаешь? Что с окислами азота?
Между прочим, можно мне здесь устроиться ассистентом в Горном институте[113].
Эх!
Все ребята мои здесь, за исключением Лободы – этот сукин сын уехал на 20 месяцев в экспедицию Сахалин – Камчатка – Чукотский полуостров[114].
Между прочим, людей туда прямо рвут. Не катнуть ли нам. А?
Ну ладно, посмотрим.
Настроенье у меня хорошее.
Целую тебя крепко, Вася.
Привет Ольге Семеновне.
Что с выигрышем твоим? Неплохо было б тысяч пять взять[115].
Береги себя, не переутомляйся.
Не откладывай ни в коем случае отпуск.
Взял для тебя ботинки.
8. VII.31
49
[Между 9 и 20 июля 1931, Москва]
Дорогой батько, получил твое письмо. Я очень рад, что наша работа немного пошумела[116]; так и нужно.
. Батькос, куда же ты едешь отдыхать? Езжай на Кавказ. Оставь свой адрес. Ведь ты вернешься к 20-м сентября, через месяц после меня, а за это время, вероятно, нужно будет не раз с тобой посоветоваться.
Что ж, быковская перспектива[117] мне не кажется скверной. Нужно только оговорить срок (год или два); и, кроме того, по дороге завернуть в Свердловск[118] – этот город мне больше улыбается. Но прежде всего нужно хорошо отдохнуть. Не меняй срока отпуска. Не задерживайся зря в Сталино. !
. В Москве кое о чем договорился. Сарра Абр〈амовна〉 говорит, что можно меня вытащить на военный завод, и если захочу, то уйти оттуда тоже не так трудно. Но есть много «но». Первое «но» – это квартира; второе «но» – отсутствие пламенного желанья ехать в Москву; третье «но»… Одним словом, «но» порядочно.
Твое предложение относительно Сибири, очевидно, вопрос нескольких месяцев, так что мы его сумеем обсудить по твоему возвращению. Если «но» пересилят и мне придется остаться на зиму в Сталино, то я хочу во что бы то ни стало оставить одну службу. Но здесь опять масса «но»: в Медине неинтересно, есть комната; в Патологии лучше, нет комнаты и плохо с деньгами. Одним словом, не знаю, как и что будет: останусь ли, если поеду, то куда; если не поеду, то где оставаться.
Если у тебя есть по этому поводу соображения, то напиши их мне.
Целую тебя крепко, твой Вася.
50
1 августа 1931, [Бердичев]
Пару слов «беллетристики»: я в Бердичеве с 20 июля. Отдыхал все время с тетей на даче, в деревне. Ел как бык. Пил по 20 стаканов молока в день. Поправился на 2 кило. Завтра поеду в Кичеево (под Киев), где посижу с Сашей и тоже подправлюсь. Побуду там числа до 12–15-го. Затем на пять дней поеду «доправляться» в Берд〈ичев〉. Все это не очень весело, но зато дает килограммы.
В Москве провел время очень интересно (т. е. много пьянствовал) и очень весело (т. к. пьянствовал на чужой счет).
Маму позавчера проводил в Одессу.
Катюша разговаривает, ходит, кланяется тебе. Мне сдается, папаша, что она будет зимовать в Бердичеве[119].
Видел в Москве Гришку Левина. Розалию Григорьевну арестовали, очевидно в связи с меньш〈евистским〉 процессом, недавно выпустили (7 месяцев сидела)[120]. Ну ладно… поговорим.
Пиши мне на адрес бердичевский. И не забудь свой оставить. Целую! Отдыхай хорошо!
Привет О〈льге〉 С〈еменовне〉. Ва.
1. VIII.31 г.