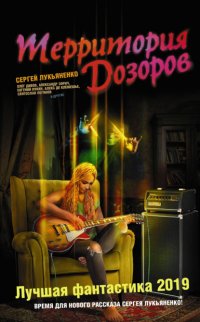Читать онлайн Копенгагенская интерпретация бесплатно
- Все книги автора: Андрей Михайлович Столяров
Андрей Столяров
КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Ночью ему снится Зимайло. Квадратная, как неуклюжий скворечник, башка плавает над трибуной. Торчат в обе стороны хрящеватые уши. Разевается пасть с желтизной редких зубов. Просто какой-то Хэллоуин. Таким только детей пугать. Зимайло по обыкновению вещает что-то о Достоевском. Оказывается, Федор Михайлович совсем не умел писать: неряшливые громоздкие фразы, наползающие друг на друга, мутный язык, вялый сюжет, ни таланта у человека, ни литературного вкуса. И вот, его почему-то читают, непрерывно печатают, монографии о нем создают, а он, Зимайло, пишет нисколько не хуже, такие же детективы, но вынужден издавать книги за свой счет.
– Ну почему, почему?..
Стон отчаяния в дурном оцепенении зала.
Да потому, что ты дурак набитый! – хочется крикнуть Маревину. Потому что законченный идиот! Двух слов не можешь связать!..
Он, однако, молчит. Бессмысленно спорить с тем, на кого еще во младенчестве, уронили утюг. Надо просто перетерпеть. Тем более что за длинным столом президиума сияет напыщенный, самодовольный Мурсанов, отдуваясь, попыхивая от счастья: как же, на почетном месте сидит, далее – преисполненный собственной значимости Залепович, вздернувший надо всеми приплюснутую черепашью голову. Тут же подсовывается к нему приторно-услужливая мордочка Паши Лемехова, чуть ли не вылизывая щеку начальства, что-то нашептывает, наверное, зазывает к себе на рюмочку чая. Ну и, конечно, угнездился по центру Виталя, пардон, наш непотопляемый Виталий Григорьевич, – плоская, масляная физиономия, словно сковорода в комках застывшего жира.
От одного их вида Маревину становится дурно. Но одновременно и помогает: он выдирается из сонного оцепенения. Пошатываясь, выпрастывается из-под одеяла. Голова у него чугунная, как всегда после собраний в Союзе. Ирша однажды ему на это сказала: а вот не сиди на советах неправедных. Это же гумус, пахучий литературный компост, перепреет, тогда, может быть, сквозь него что-нибудь прорастет.
– Или не прорастет, – заметил Маревин.
– Или не прорастет. Там слишком много всяких ядовитых отходов.
И все-таки, с чего это вдруг Зимайло? Почему поднялся со дна подсознания темный удушливый ил? Или это такое предупреждение? Ведь Зимайло погиб… уже сколько?.. дней десять назад. Схлопнулась очередная Проталина, не успел выбраться из своего занюханного… кажется… Сертопольска… Черт, не вспомнить, куда его там запихали!.. Бедный, бедный, вероятно, что-то такое предчувствовал, яростно требовал, чтобы его направили хотя бы в Ростов, по слухам, взбесился, устроил Зинаиде истерику, грандиозный скандал, чуть ли не разрыдался по бабьи. В Ростов, тем не менее, поехал Сева Клещук…
Тоже – нисколько не лучше.
Маревину не хочется думать об этом. У него сейчас совершенно другие проблемы. Он, умываясь, с силой растирает лицо. Он даже подрагивает от нетерпения, будто на старте, ожидая сигнального выстрела пистолета. Включает электрочайник, который начинает низко, как шмель, натужно гудеть, всыпает в стакан три полных ложки растворимого кофе, добавляет туда же три ложки сахара, «белую смерть», заливает примерно до четверти горячей водой. Вкус и запах у этой бурды суррогатный. Зато действие термоядерное – жесткой щеткой проводят по извилинам мозга. Кажется, он начинает что-то соображать. Уже рассвело, сад, в неге от ночного дождя, тих и прозрачен. Окутывает его утреннее парная туманность. Из окон, сквозь невесомые стекла видно, как лохмами яростных солнц пылают на клумбе багрово-фиолетовые георгины.
Сразу три крупных цветка.
Видимо, распустились за ночь
Умиротворяющая картина.
По ней не скажешь, что город покачивается на краю черной бездны.
Что жить ему осталось всего ничего.
Впрочем, это еще неизвестно.
Он просматривает местные новости. Марьяна, рыжая эта, которая бесчисленное количество раз пыталась взять у него интервью, приподнятым голосом извещает, что, согласно сведениям, полученным со станции аэронаблюдения, Проталина вокруг города фрагментировалась на изолированные отрезки. Говоря проще, распалась на части, общая протяженность ее уменьшилась примерно наполовину. Сейчас эти сведения проверяются. Вместе с тем, по сообщениям граждан, которые звонят к нам в студию, открылись дороги к вокзалу, по крайней мере с юго-западной его стороны и даже – к Никольскому с выходом на Сибирский тракт. Возможно, блокада завершена. Пока неизвестно, связано ли это со вчерашним … э-э-э… культурным мероприятием, но администрация города просит всех соблюдать выдержку и спокойствие. В нашей студии мэр Красовска Терентий Иванович Елтух…
На экране всплывает помятая физиономия мэра, который обеими ладонями торопливо приглаживает встопорщенные гребни волос по бокам головы. Судя по виду, ввалился сюда в последний момент.
– Дорогие сограждане…
Ну, это можно не слушать. Тем более что, как бы Маревин ни сдерживался, но на него все же накатывается вчерашняя, обжигающая волна: звуки становятся громче, свет ярче, очертания предметов контрастнее, словно просачиваются они из той же вулканической кульминации, когда вспыхнула, соединившись с вечностью, космическая темнота, когда вдруг просияли звезды, окатив неземным бледным сполохом зрительный зал, когда замерли в обмороке сердца, и ангел, взмахивая полупрозрачными крыльями, взлетел над сценой, как призрак, рожденный небытием. Контрастный свет утра – это своего рода, знак. А распустившиеся свеженькие георгины – тем более. Значит, Проталина действительно начала фрагментироваться? Жизнь возрождается? Не до мэра ему сейчас. Сердце, будто анкер часов, постукивает внутри: быстрее, быстрее!
Вот, кстати, и сотовый телефон заработал. Ничего себе, с трех ночи накопилось почти четыре десятка звонков. Он сразу видит, что несколько, идущих подряд, это от Терентия Ивановича, то есть от мэра, парочка, что естественно, от Леонида, тоже, видимо, возбудился, прослушав последние новости, штук пять от Дарины, ну это понятно, а незнакомые, целая вереница, от журналистов, которые жаждут получить комментарии, – стирает их все, телефон вновь отключает. Хорошо, что вчера перед сном он выдернул вилку стационарного гостиничного аппарата.
Замучили бы, спать бы не дали.
Но как, однако, стучит анкер внутри!
Через десять минут, выведя из хозяйственной пристройки велосипед, он неуверенно, давно, черт возьми, не садился в седло, едет по асфальтовому покрытию, именуемому Вязовой улицей. Вязы здесь мощные, раскидистые, посаженные бог знает когда, узорчатые их тени, перекрывают улицу на всю ее ширину. А между ними – кусты боярышника, осыпанные красными ягодами. От этого тихость утра кажется особенно напряженной. Слышен лишь шелест шин, поскрипывание толстой пружины, амортизатора под сиденьем, мерное, металлическое побрякивание педалей. Более ничего – ни звука, ни шороха, ни движения. И дело тут, конечно, не в вязах и не в боярышнике, просто дома, кремовые двухэтажные особнячки по обе стороны трассы стоят пустые: светлыми бельмами взирают отовсюду закругленные окна, на подъездных дорожках, в чашах иссохших фонтанчиков скопилась листва. Кругом – заброшенность, оцепенение. Маревин, возможно, единственный, кто сейчас на этой улице обитает. Остальные эвакуировались, говоря проще, сбежали. По ночам неприятно: его так же, как несколько дней назад, когда после очередного бестолкового совещания, он стоял, ослепленный солнцем заката, перед зданием мэрии, пронзает ясное ощущение, что вокруг нет вообще никого, что он – последний человек в этом городе, последний человек на земле.
Тем более что на проспекте, куда аллея сворачивает, ситуация примерно такая же. Прохожие, правда, здесь появляются: вторник, без четверти девять, торопятся на работу, но, даже специально не вглядываясь, он видит, что лица у многих по-прежнему бледные, словно вымоченные в воде, глаза – серые, почти без зрачков, как желток вываренного яйца. К счастью, не у всех, не у всех. Да и движутся они несколько оживленнее. Или ему только кажется? Вот наконец и кафе «У Лары». Желтую ленту полицейского ограждения с него уже сняли, но дверь заперта, внутри, судя по стеклам-витринам, сумеречная пустота. Или нет? Угадываются какие-то тени движений. У Маревина пробегают по позвоночнику вверх ледяные мурашки. Неужели еще один мерзкий паук выполз из тьмы, сейчас опутывает кафе паутиной – поджидает жертву, шевелит суставчатыми крючковатыми лапами? Паук-людоед в центре города. Он резко выворачивает голову, чтоб посмотреть. Велосипед тут же виляет, шаркает колесом о поребрик. Руки судорожно фиксируют руль. Не грохнуться бы на асфальт посередине проспекта.
Нет, все-таки показалось.
Или не показалось?
Слегка успокаивает его военный патруль: двое солдат, свесив ноги, дежурят, приткнувшись к башне пятнистого, серо-зеленого бэ-эм-пэ. Эти вроде нормальные, вон, как зыркают, настороженно, крутя бошками, по сторонам. Оба с автоматами, наверное, только что заступили. Полковник Беляш все-таки молодец. Пусть мир растрескивается, пусть расползается по всем швам, пусть рвется в клочья, пусть проваливается в тартарары, хрен с ним, у полковника, в пределах его компетенции, все под контролем. И супермаркет, который на днях разграбили, тоже уже относительно приведен в порядок: витрина еще зияет зубчатой пастью, но осколки стекла с тротуара выметены, желтые полицейские ленты как полагается, крест-накрест перегораживают пустоту. К тому же сам супермаркет в поле зрения солдат с бэ-эм-пэ.
Однако гораздо большее впечатление производит дерево в тесном скверике. Вчера от одного его вида бросало в дрожь – земляной кальмар, тоже хищный, подкарауливающий добычу: толстый бутылочный ствол с кожистыми наростами, на вершине – венчик щупалец, извивающихся, как удавы. Что-то полностью чужеродное, пришелец из нездешних миров. Не зря, видимо, ряд экспертов до сих пор считает все это Вторжением. Возможно, и не прямым Вторжением, но целенаправленным неуклонным просачиванием на Землю. Инфильтрацией ксеноморфов, как, помнится, написала «Гардиан» в одной из своих статей. Удивительно, что удалось это дерево сохранить, несмотря на бурные и настойчивые протесты общественности, несмотря даже на рекомендации, разработанные Особым Комитетом ООН, недвусмысленно озаглавленные: «О локализации внеземных артефактов». Но Красовск – это вам все-таки не ООН. От лица Уральского федерального университета насмерть встал Леонид, потребовав оставить дерево как объект перспективных исследований. Кстати, и полковник Беляш его поддержал, вероятно, тоже имея виды на этот неожиданное явление. И вот поглядите сейчас – ствол вытянулся, постройнел, ветки, хоть и подрагивают, как живые, но распределяются по нему более-менее равномерно, отнюдь не щупальца, и даже проклевываются на них первые неуверенные листочки. Это уже никакой не пришелец, это обычный вяз, почти не отличающийся от тех, что растут вокруг кремовых особняков. И борщевик на Окраинной улице, смыкающийся зонтиками соцветий на уровне третьего этажа, тоже изменил внешний облик: стебли его подсохли, проступили на них твердые древесные жилы, а сами соцветия почернели – опалило их незримым огнем.
Загибается борщевик.
Нет сомнений, что загибается.
И значит, мелькает у Маревина мысль, вчерашнее представление все же подействовало. Значит, ощущение, возникшее у него на спектакле, было далеко не случайным. Значит, и в самом деле возник физический резонанс. Как бы сформулировал это Леонид, постукивая себя указательными пальцами по вискам, образовалось квантовое сопряжение с Логосом.
Ну, он физик, ему виднее.
И значит, надежда у них все-таки есть.
Все-таки есть.
Ладно, посмотрим, что будет дальше.
Маревин энергичнее жмет на педали. Откатываются назад новостройки, похожие на вертикально поставленные спичечные коробки. Проплывают мимо сознания капустные и картофельные поля, уходящие расчесанными грядками в горизонт. Надвигается узкий клин леса, и сразу же дорогу перегораживает шлагбаум с табличкой: «Опасная зона! Проход категорически запрещен!». За ним дощатым домиком горбится навес от дождя. К счастью, сейчас он пустой, солдат, которые здесь поначалу торчали, Беляш три дня назад снял: все равно ни один нормальный человек сюда не пойдет.
– А если кто ненормальный? – помнится, спросил Терентий Иванович.
Беляш глазом в ответ не моргнул:
– Ну тогда – пусть идет. Ненормальный… Что, у нас других забот нет?
Забот у полковника Беляша, конечно, хватает. Маревин прислоняет велосипед к правой стойке шлагбаума. Можно не опасаться, никто его здесь не прихватит. Осторожно ступая, он движется по дороге, стиснутой с обеих сторон буйными зарослями черемухи. Начало августа, черемуха уже вызревает: гроздья черных ягод отягощают ветви, кое-где полностью скрывая листву. Какой-то необыкновенный в этом году урожай. Фаина утверждает, что нигде в области больше такой черемухи нет – крупная, сочная, от одного запаха кружится голова. Жаль, что собирать ее некому. Маревин невольно вслушивается в стиснутый ароматом воздух. Тишина здесь даже более плотная, чем на Вязовой улице – не слышно не только птиц, но не чувствуется ни надоедливых мошек, ни комаров. И это понятно – метров через сто цвет растительности меняется: листья на черемухе теперь пепельно-серые, обвисают, ягоды неприятно бурые, внутри них уже не мякоть, а слизь, трава при каждом шаге сминается в слякотную липкую муть, тянется за Маревиным отчетливая цепочка следов. Идти тут, к счастью, недолго. Клин леса заканчивается, распахивается знойное августовское пространство. Половину его заслоняют Крутояр и Могутка, предгорья Урала, вздымающиеся пологими склонами ввысь. На склоне Могутки раскинулся производственный комплекс: из чертовых пальцев труб, в безветрии, как продолжение их, тянутся к небу оранжевые струи дымов, а по Крутояру, там, где он, отступив, образует небольшое плато, разбросаны прямоугольнички заводского поселка. Причем слева от окраины их, отделенные редкой бахромкой елей, движутся, перенося грузы, ажурные стрелочки кранов, шебуршат под ними мелкие игрушечные грузовички – идет безостановочное лихорадочное строительство. Техники-то сколько сюда нагнали! И гораздо больше стало людей, он видит: копошатся, как муравьи, почти неразличимые крохотные фигурки. Вот и под кучерявыми облаками стрекочет, как грузное насекомое, очередной вертолет – эвакуация из города продолжается. Да, у полковника Беляша работы не прекращаются ни на секунду. Что с этим будет теперь, когда Проталина вроде бы испаряется? Остановятся? Вряд ли. Уже такие средства освоены. Скорее всего будет еще одна гигантская и бессмысленная стройка.
Да начихать, сейчас не это главное. Заслонясь ладонью от солнца, Маревин рассматривает длинное черное озеро, протянувшееся почти до железной дороги. То есть до того ее ответвления, которое проложено к заводскому комплексу. Озеро не слишком широкое, метров восемьдесят, казалось бы, всего ничего, но эти смертельные восемь десятков метров образуют непроходимый барьер. И чернота его тоже неземного происхождения: гладь абсолютно ровная, ни морщинки, ни всплеска, точно загустелая тушь, там даже небо не отражается. Портал, ведущий в пугающее иномирье, в другую Вселенную, а если выражаться метафорически – прямо в ад. Так, во всяком случае, недавно заявил патриарх. В физической сущности этого явления Маревин не разбирается, но интернет полон статей, где говорится, что Проталина поглощает свет, впрочем, как и любые электромагнитные излучения, и так же поглощает любой материальный объект: приборы, опускаемые внутрь нее, растворяются без следа. Там растворяется все вообще. Немцы на первых порах, пытаясь локализовать одну из своих Проталин, тупо закачивали туда бетон, тоже нагнали техники, вбухали около миллиона тонн, и что? И ничего; даром, что это не бездна, а пленочка, плоскостной мономер, согласно исследованиям, даже не имеющий физической толщины. А с другой стороны – именно бездна, дна в Проталине нет, такой вот физико-геометрический парадокс, легендарное «черное вещество» неизвестной природы. Кстати, и особо вглядываться в нее не стоит: «если ты смотришь в бездну, то и бездна тоже смотрит в тебя». Говорят – завораживает до потери сознания. Человек, как сомнамбула, шагает туда и проваливается в кромешную темноту. Маревин и не вглядывается особо, без того известно, что Проталина, изгибаясь, заключает Красовск в сплошное кольцо. Дня четыре назад город с Большой землей еще связывали две перемычки, одна здесь, колеблющаяся, ненадежная, по которой машина уже не пройдет, и вторая, выводящая к Бочагам, вся в колдобинах, прежде заброшенная, вот по ней и осуществлялось снабжение – шли, надсадно тужась моторами, колонны грузовиков.
Картина Рериха «Град обреченный»: гигантский огненный змей стискивает со всех сторон город, замерший в безнадежной тоске.
Но – точно ли он обреченный? Щурясь и проклиная солнце, которое бьет прямо в глаза, Маревин, тем не менее, замечает, что расстояние от черного языка озера до ветки железной дороги несколько увеличилось. Да-да, увеличилось, это не обман зрения, не знойный мираж! А сам язык явно стал уже и – вон там, точно, вон там! – разделился на две, нет, на три длинные лужицы, вроде бы даже подсыхающие по краям. Более того, на ближнем обнажившемся берегу он видит ковш экскаватора, торчащий из чуть просевшей земли, как лапа допотопного ящера, обглоданная до костей. Экскаватор, выходит, не полностью утонул, то есть структура почвы, бери выше – материи, на этом участке частично восстановилась.
И значит, Марьяна права?
Блокада прорвана?
Из очумелых загробных странствий мы возвращаемся в обычный человеческий мир?
Он невольно делает три шага вперед, и тут же ноги его по щиколотку погружаются в жидкую грязевую кашу. Вода прохладой затекает внутрь низких кроссовок.
Назад! Назад!
Нельзя расслабляться.
Бездна притягивает.
Так и провалиться недолго.
– С ума сошел? – негромко говорят у него за спиной.
Маревин вздрагивает. Ну конечно, это Дарина – стоит, в джинсах, в футболке своей дурацкой с надписью «Glaz!», чуть подается вперед, протягивает обе руки, готовясь схватить его и отдернуть.
Маревин пятится – тоже шага на три. Поворачивается, они чуть не сталкиваются друг с другом. Волосы у Дарины распущены, его обдает будоражащий запах духов.
– Фу-у-у… Напугала… Подкрадываешься… как… неизвестно кто… Ты что здесь делаешь?
– Я не подкрадываюсь, – немедленно возражает Дарина. – Это ты – лезешь, как сумасшедший, в самую топь… А я пришла – посмотреть. – И тут глаза ее расширяются, начинают сиять, словно отдавая скопившееся внутри солнечное тепло. – Ты видел, видел? Она уменьшается!..
Дарина опять называет его на ты. Опять, вероятно, надеясь преодолеть дистанцию между ними. Впрочем, Маревин чувствует, что, по крайней мере сейчас, никакой дистанции между ними не существует – дистанции больше нет, а есть горячечные, поспешные, из беспамятства вынырнувшие объятия. Происходит как бы само собой. Они в первый раз за все время знакомства обнимаются по-настоящему. До этого были лишь легкие малозначащие касания. А тут Дарина прижимается к нему всем жадным телом, тычется губами в губы, в нос, в щеки, черт знает куда. Шепчет, перемешивая в словах гласные и согласные, путается в них, лепечет, как младенец, едва-едва научившийся говорить: это все ты… я знала… все ты… разбудил… вытащил на свет… сделал меня другим человеком… Ты видел, что с ними со всеми было?.. во время спектакля?.. они сидели, как в обмороке… не шелохнулись… а у меня температура была градусов сорок… А дерево это ты видел?.. видел?.. А борщевик?.. он же на глазах высыхает…
Она прямо-таки светится от восторга. Она счастлива, хотя у нее осунувшееся, истаявшее тенями лицо, слабая синева под глазами, наверное, всю ночь переживала, ворочалась, выскальзывая из сна. И все-таки, она счастлива, и счастье это какой-то странной конвекцией передается Маревину. Его тоже прошибает температура, кружится голова. Он так же, как Дарина, в смятении, он так же, как она, пребывает во внезапном любовном беспамятстве. Это, несомненно, некий поворотный момент, некое мгновение, определяющее собой все дальнейшее: сделаешь еще шаг – и жизнь станет иной, не эпизодом, не текучим мгновением, а подлинным предназначением и судьбой.
Разве не этого он хотел?
Дарина между тем захлебывается словами: никогда еще… никогда ни с кем… чтобы – вот так… только с тобой… проснулась… как будто до этого вообще не жила… Она вся трепещет, она жаждет похвал, для нее это праздник, первый в ее жизни безоговорочный, настоящий, успех, она требует подтверждения чуду, которое свершилось вчера, на сцене, в чарующем перекрестье софитов. Она шепчет, что-то о перспективах, о настроении, о взаимности, о том, что у них еще вся жизнь впереди… годы, целые десятилетия… не расставаться ни на секунду… все получится… только – вместе… только – чтобы рядом был ты… Обещает, что дальше они возьмутся за «Свете тихий»… прямо просится… честное слово… проступает вся сценическая канва… лишь немного, совсем чуть-чуть прописать диалоги…
Выговаривает, торопясь:
– Я думала, ты меня прибьешь за то, что я перекроила твой текст… А оно вон как… неожиданно получилось…
У нее уже начинают пробиваться сквозь шепот какие-то перекрученные интонации, и Маревин, стараясь их приглушить, успокаивающе отвечает, что – да, да, да… было что-то подлинное… настоящее… что-то такое, чего обыденной речью не передашь… Один ангел над сценой чего стоит… Гениальная, потрясающая находка… Затем он в удивлении отстраняется: как это никакого ангела не было?.. Неужели никто не видел, кроме него?.. Вдруг пронзает: неужели только мираж?.. Спохватываясь, объясняет ей, что это просто такая метафора… А вообще, да, возьмемся… согласен… вместе пропишем… все сделаем… ты уже доказала: есть в тебе свет, который можно претворить в живые слова… Так он ей говорит. Немного выспренно, но для Дарины сойдет. И при этом он отчетливо понимает, что ничего подобного у них, конечно, не будет: ни «вместе пропишем», ни «десятилетий», ни «все получится» и – ни «на всю жизнь». Могло бы быть, но не будет, потому что свет в ней, разумеется, существует, но одновременно существует цена, которую следует за этот свет заплатить. Цена эта неизменна и высока. И потому они вновь по-настоящему обнимаются, еле дышат, ближе уже нельзя… И это в последний раз, о чем Дарина, естественно, не догадывается. Ей еще только предстоит об этом узнать.
Пока же он осторожно отодвигается от нее.
Все-таки дистанция – великая вещь.
И голос у него становится сдержанно-отстраняющий:
– Насчет Проталины… не торопись… Это могут быть функциональные колебания. Есть работа Бернара Ксавье, ты читала? О пульсирующей прерывистости континуума?
Дарина фыркает:
– Слышала что-то такое…
– Ну – вот…
Кажется, что молчание длится вечность.
Хотя – секунды четыре, не больше.
И Дарина, кажется, тоже кое-что понимает.
Понимает все то, что Маревин не решается ей сказать.
– По-моему, ты просто дурак. – с отчаянием говорит она. – Выдумал черт знает что, как будто очки для слепых надел… – Она встряхивает головой, так что разлетаются волосы. – На фиг!.. Ты меня подвезешь?
Ах да, она же без велосипеда.
Объясняла как-то, что принципиально на нем не ездит.
Вот еще незадача.
Принципы у нее!
– А пешком? – неловко спрашивает Маревин.
Дарина пожимает плечами:
– До города пять километров.
– Ну – по хорошей погоде…
– А призраки? – ядовито напоминает она.
Маревин морщится:
– Чушь! Никаких призраков нет.
Голосу его не хватает уверенности. После паука, убившего Лару, он готов поверить во что угодно. Тем более что слухи о призраках, которые похищают людей, ходят очень упорные. Люди ведь действительно пропадают. Он непроизвольно оглядывается, и сразу же, словно падает тень, начинает чувствоваться опасная тишина вокруг.
Иномирье.
Подступающая вплотную чужая земля.
Выхода у него нет:
– Ладно, пошли…
В молчании они торопливо добираются до шлагбаума. Дарина, опираясь о стойку, вскарабкивается на багажник.
Чуть подпрыгивает на нем:
– Подложить чего-нибудь мягкого у тебя не найдется? Я себе всю попу тут отобью.
Маревин лишь хмыкает. Слегка разворачивает велосипед и громоздится на него, мешковатым кулем, тоже цепляясь за брус шлагбаума.
– Давай держись!
Дарина тут же обхватывает его, прижимается, кладет голову на плечо.
– Кстати, прочла я эту твою… «Лолиту»… Ты был прав – скучная книга.
– Она не моя, а Набокова.
– Я это и имела в виду.
Маревин с силой отталкивается от земли. Перегруженный велосипед резко и опасно виляет. Дарина взвизгивает. Маревин в панике ловит ногой педаль, привставая, давит на нее всем телом, чтобы сохранить равновесие. К счастью, дорога здесь идет чуть-чуть под уклон. Велосипед, обретая устойчивость, катится все быстрее.
– Молодец!.. – Дарина чмокает его в шею. А потом горячими, тоскующими губами сжимает ему мочку уха.
Нашла время.
– Прекрати! – не оборачиваясь, кричит Маревин.
– А что такого? – невинно спрашивает Дарина.
– Чебултыхнемся из-за тебя!
– Если вместе, то я согласна…
Она прижимается к нему все сильнее. Молодец, не сдается, не считается ни с какими трудностями. Может быть, из нее что-то и прорастет. Маревин чувствует ее грудь, небольшую, но крепкую, девичью, которая елозит у него по спине. Лифчика Дарина, разумеется, не надела: откровенная близость, вскипающая обоюдным огнем. У Маревина из-за этого подрагивают и слабеют руки. Велосипед снова виляет и вздрагивает всеми частями на мелких камешках.
Чертова кукла!
Ведь навернемся сейчас.
Кое-как они все-таки добираются до окраины города. И когда впереди вырастают серые коробочки новостроек, Маревин аккуратно тормозит на обочине, упираясь в землю ногой.
– Слезай!
Дарина возмущенно фыркает:
– Тут еще километр идти…
Но Маревин неумолим:
– Кому говорю!
– Ну – пожалуйста…
– Еще не хватало, чтобы нас видели вместе!
– Ну и дурак, – опять говорит Дарина. Неохотно сползает с багажника, одергивает сбившуюся почти до груди футболку. – Кому какое дело, чем мы с тобой занимаемся. Вообще – мне двадцать четыре года, учти…
Маревин подхватывает:
– Я знаю, знаю. Ты свободная белая женщина и сама решаешь, как тебе жить… Пока!.. Да не по тракту тащись за мной, а в обход, дорога тебе известна, мимо домов.
– Иди ты к черту! – говорит Дарина.
Вот – попрощались.
Маревин вскакивает на велосипед и яростно жмет педали. Они разболтаны, отмечают бряканьем каждый круговой оборот: раз – два!.. раз – два!.. Шуршит воздух в ушах. На выбоинах велосипед резко подбрасывает. Дарина, призрак из прошлого, проваливается в небытие. Ему хочется оглянуться, но на такой скорости лучше не рисковать.
Как бы и в самом деле не грохнуться.
Он знает, что больше никогда не увидит ее.
То есть, конечно, увидит, но это будет уже не то.
Всё, эта история завершена.
Любовный роман закончен.
Хотя, если честно, никакого романа и не было.
Так – слабенькие наброски, эскиз.
И непонятно: он умер или все же воскрес?
Ему так плохо, что он почти не различает дороги перед собой…
Четырнадцать миллиардов лет назад произошло событие, вероятно, самое значительное для мироздания. В слепом ничто, в небытии, где не было еще ни света, ни тьмы, ни верха, ни низа, ни времени, ни пространства, не было вообще ничего, вспучился взрыв чудовищной силы, природа которого неясна до сих пор. Взорвалась материальная точка – космологическая сингулярность, имеющая лишь два парадоксальных параметра: бесконечную плотность и бесконечно малый размер.
Это не было похоже на взрыв бомбы, когда сгорающая начинка ее стремительно расширяется из небольшого объёма в окружающую пустоту, образуя облако с чётко выраженными границами. Такое популярное представление в корне ошибочно. Большой взрыв, как его в 1931 году назвал Жорж Леметр, происходил сразу во всех точках пространства, собственно, он это пространство и создавал, и потому нельзя выделить в нем какой-либо центр, какую-либо границу, отделяющую расширение от пустоты. Это за пределами человеческого воображения. Мы еще способны вообразить пустоту, но мы не способны вообразить ничто: нет зрительных аналогов, они даже в принципе не могут существовать.
Зато вместо границ пространства образовалась граница времени.
Затикал невидимый механизм часов, отсчитывающий эоны, эры, эпохи, периоды, тысячелетия и века…
Иными словами, возникла наша Вселенная – Космический Универсум, включающий в себя все и вся, что обладает онтологической определенностью.
Дальнейшие события разворачивались с фантастической быстротой. В ничтожный период времени, измеряемый отрицательными степенями секунд, сформировались основные физические константы, расчерчивающие структуру нашего мира, а сама Вселенная, расширяясь со скоростью, превышающей скорость света, увеличилась примерно в тысячу раз.
На этом бурный период рождения завершился – как эхо его осталось слабое реликтовое излучение, изотропное, пронизывающее собой всю Вселенную, равномерно распределяющееся по ней, и началась постепенная эволюция, исчисляемая в своих основных этапах уже миллиардами и сотнями миллионов лет.
Из кварк-глюонной плазмы (последствие Взрыва) образовались электроны, протоны, нейтроны, то есть собственно материя, первичное вещество. Примерно через 300 – 400 тысяч лет, когда из-за инфляции (стремительного расширения) температура Вселенной понизилась, они начали объединяться в атомы водорода и гелия, из которых, в свою очередь, сформировались громадные молекулярные облака, а в нуклеарных их зонах, уплотнившихся под действием гравитации, начались термоядерные процессы: вспыхнули первые звезды. В возрасте 100 миллионов лет Вселенная уже обладала многочисленными звездными популяциями – галактиками.
И, наконец, через девять миллиардов лет после Большого взрыва, в одном из боковых рукавов второстепенной галактики Млечный Путь, загорелась звезда, которую сейчас именуют Солнцем.
А еще через 500 миллионов лет на третьей планете, входящей в Солнечную систему, на Земле, – она к тому времени уже окуталась атмосферой – затрепетала крохотная зеленоватая искорка жизни.
И никому, разумеется, было не ведомо, что эту микроскопическую, почти неразличимую сущность ждет грандиозная, до мирозданческих масштабов судьба.
Судьба, которую она пока не в состоянии осознать.
Ей предстоит озарить собой всю Вселенную.
Поезд опаздывает с прибытием на сорок минут. Это немного, в нынешней ситуации сорок минут вообще не считаются опозданием. А на три или на четыре часа не хотите? А на сутки, когда была перекрыта магистраль Москва – Петербург, и двенадцать поездов тупо стояли на рельсах? Сейчас тормозят при первом же подозрении на провал. Недавно в Германии скоростной поезд влетел в только что образовавшуюся Проталину, естественно, ухнул в нее, вагоны только мелькнули. А незадолго до этого вляпались восемь машины на автобане у Кельна, тоже отреагировать не успели, хотя скорость там и была снижена до шестидесяти километров в час.
Так что сорок минут – пустяки.
Маревина беспокоит другое: встретят ли его, как было обещано. Очень не хочется звонить в местную администрацию, объяснять, кто он такой и зачем приехал.
Просить – хуже нет.
Однако едва он делает шаг на платформу, вырастает перед ним человек и представляется референтом мэра. Между прочим, и выглядит как истинный референт: безликий аккуратный костюм мышиного цвета, безликое, гладко-кукольное, лицо, будто из целлулоида, такое, что отвернешься и тут же расплывается в памяти. Все правильно. Референт и не должен ничем выделяться, он – лишь тень, подмалевка фона для впечатляющей фигуры начальника.
Имя его тут же выскальзывает у Маревина из головы.
Словно рыба плеснула хвостом и ушла в глубину.
Круги на воде.
Переспрашивать неудобно.
Ну и бог с ним.
В крайнем случае объясним это синдромом рассеянного профессора.
Правда, он не профессор, но не все ли равно.
Референт подхватывает дорожную сумку Маревина:
– Терентий Иванович просит его извинить. Не смог встретить вас лично, у него сейчас совещание с главами районных администраций. Он заедет к вам в пятнадцать часов. Если, конечно, вас это устраивает…
И голос у него тоже безликий – шелестит, впрочем, отчетливо выговаривая каждое слово.
Пока они едут, не торопясь, с Вокзальной площади в центр, референт посвящает Маревина в подробности местной истории. Красовск, оказывается, город старинный, упоминается в летописях аж с 1628 года. Извиняющаяся улыбка: на семьдесят пять лет старше, чем Петербург. В основном был купеческим, вон, видите, – легкий кивок вперед, – три дома, на забеленных фундаментах, палаты купца Скыржаева, застройка восемнадцатого столетия. Многое, к сожалению, не сохранилось, но, как можем, стараемся, бережем, кое-что сейчас восстанавливаем. Историческое население – главным образом русские, переселявшиеся несколькими волнами на Урал. Торговали хлебом, кожами, льном, пенькой. Тем более что через Красовск проходил знаменитый Сибирский тракт, протянувшийся на восток аж до Китая. Кстати, именно по нему арестанты еще со времен Екатерины Второй топали под конвоем на каторгу или в ссылку. Короленко сюда был сослан, Владимир Галактионович, написал потом о Красовске очерк «Ненастоящий город». Хотя город был самый что ни на есть настоящий. Даже императоры его посещали – и Александр Первый, и Александр Второй. Ольга Леонардовна Книппер здесь родилась, знаменитая актриса театров, жена Чехова, также – Павел Генрихович Ребров, инженер, создававший первые российские паровозы. В 1898 году рядом с Красовском прошла Транссибирская железнодорожная магистраль, город сразу же вырос, превратился в крупный губернский центр. Ну а после Великой Отечественной войны, в связи с обнаруженными залежами урана, здесь, точнее в его окрестностях, возвели соответствующие заводы. Теперь это конструкторско-производственный комплекс «Урал-один», тем более что в городе после войны осталось много эвакуированных специалистов. Да и сейчас чуть ли не половина населения там работает. Более подробнее вам об этом расскажет Терентий Иванович.
Маревин слушает все это вполуха. Он еще перед выездом, дома, просмотрел в Википедии статью о Красовске. А также собрал о нем разные сведения в интернете. И теперь ощущает, что здесь что-то не то – увиденное совершенно не соответствует ожидаемому. Он полагал, что в городе паника: все мечутся, все куда-то бегут, покрякивает сирена, прохаживаются военные патрули, все замусорено, состояние близкое к помешательству. Как это и должно было бы быть в ситуации, вдруг превратившейся в экстремальную… В действительности – ничего подобного: спокойные тихие улицы, работают магазины, неторопливо шествуют граждане, неторопливо, соблюдая все правила, движутся по проспекту машины. Никакой внешней нервозности. Как будто не распахнулся неподалеку от города темный провал. Как будто не грозит ему судьба града Китежа – кануть в безвозвратную глубину. Разве что в голосе референта, проскакивает иногда вибрация напряженности, хотя говорит он вроде бы о рутинных вещах. И в просветах на перекрестках ничего такого в глаза не бросается. Напрасно Маревин, стараясь при этом не особенно ерзать, крутит туда-сюда головой. Референт, тем не менее, его обеспокоенность замечает – тем же размеренным голосом поясняет, что отсюда, из города, Проталину увидеть нельзя. Если только с верха семиэтажек в Приречном районе. До нее еще километров пять, к тому же она в низине, прикрыта – ее заслоняет лес. Ну, Терентий Иванович вам тоже обо всем этом расскажет.
Короче – не суетись.
Что же… Не будем.
Машина сворачивает с проспекта на тенистую улицу и останавливается перед домом, похожем на те, что фигурируют в американских фильмах и сериалах. Наверное, он по тем же лекалам и создавался: двухэтажный особнячок, весь бело-сияющий, весь праздничный, легкий, воздушный, с овалами удлиненных окон, с кустами боярышника, густо окаймляющими участок, с фонтанчиком, правда, сейчас не работающим, с песчаной аккуратной дорожкой подъезда.
Тишина, умиротворенность, комфорт.
Но опять-таки – какая-то настораживающая тишина.
– Наши гостевые апартаменты, – говорит референт. – Мы предлагаем вам разместиться на втором этаже. Там окна в сад, вообще – полная изоляция, вход не через парадную дверь, а вот, здесь, смотрите, есть специальная лестница. – И в самом деле, с тыльной стороны здания поднимается ступенчатым горбылем причудливая застекленная галерея. Странный архитектурный каприз. – Вот, решили, что так вам будет спокойнее. Все условия для творчества, для вдохновения…
При последних словах Маревин лишь слабо кивает. Референт своим говорливым гостеприимством начинает его утомлять. Тот верхним чутьем, вероятно, опять же это осознает, наскоро показывает квартиру: кабинет, спальня, гостиная, кухонный отсек, отделенный от жилого пространства полированным деревянным барьером, сообщает, что дважды в неделю для уборки будет приходить наша сестра-хозяйка, Фаина Имельдовна, просто Фаина, мешать вам не станет, график с ней можно согласовать. На всякий случай вот холодильник, тут кое-какие продукты, также – электрочайник, сам чай, английский, классический, кофе – растворимый и молотый, все – приличных сортов. В вашем интервью мы прочли, что вы пьете кофе чашек по двадцать в день. Ой-ей-ей! Вот что значит творческий человек!.. А вот тут, на карточке, я написал адреса: ближайшие рестораны, магазины, кафе – тоже все очень приличные заведения. – Добавляет, немного поколебавшись. – Внизу, в пристройке, имеется велосипед. Можете пользоваться, у нас движение очень умеренное. Также оставляю вам свой телефон. Не стесняйтесь, звоните. Если будут какие-нибудь проблемы, решим…
Референт наконец испаряется – развоплотившись, как демон, выскальзывает из слуха и зрения. Шорох шин от его машины тонет в лиственной летаргии. Н-да… тишина все-таки какая-то ненормальная. В Петербурге, где Маревин живет, звуковой фон присутствует даже ночью: слабые голоса, шуршание транспорта, шаркающие шаги. А тут, как на дне океана – давит на барабанные перепонки. Воробьев вездесущих и то не слышно, и нет утомительного воркования голубей, которые пытаются обжить твой балкон. Судя по всему, птицы уже город покинули. А это, как Маревин усвоил из множества прочитанных в интернете статей, верный признак того, что Красовску осталось существовать считаные недели. Распахнуто всепожирающее жерло Проталины, бездонный ужас ждет всех, кто очутился в ее неумолимо стягивающихся объятиях.
Его не удивляет радушие местной администрации. После того как Роже Сариньи демонстративно, обнародовав это в сетях, переселился в Сюр Жен де Пре, за месяц написал там «Глиняную траву», ни много ни мало десять печатных листов, ого-го!.. четыреста тысяч знаков с пробелами, и Проталина рядом с городом, по размерам довольно приличная, заросла, точней – испарилась, оставив после себя безкорневую, чуть заглубленную в землю, ровную черную плешь, многие муниципалитеты, да и правительства отдельных стран тоже, реально свихнулись: гранты на писателей хлынули весенним дождем, как настоящий ливень, только подставляй под него, это уж кто как умеет, лицо, ладони или ведро. Приглашение сейчас следует за приглашением. Оплачивается теперь все – проезд, проживание, выписываются сумасшедшие гонорары. Джозефу Клейну за то, чтобы он прожил три месяца в Палламер-спрингс и закончил там свой роман «Бессмертный Маккой», предложили сто тысяч долларов, Оле Свенсону за проживание в Скьерегалле, кстати небольшой городок, – сто двадцать пять тысяч евро плюс специальную памятную медаль. А ведь Свенсон – это вообще детективщик, гонит цикл про своего инспектора Улисса Бьерни, набубырил уже двенадцать томов, четыре экранизации у него: две в Голливуде, одна в Англии, сериал, тянется четвертый сезон, и еще сняли полнометражный фильм сами шведы.
Ничего этого Маревин, разумеется, не смотрел.
Еще не хватало!
Тем не менее гипотеза о сопряжении с Логосом, которую выдвинула скандальная «Кембриджская четверка», в частности их неофициальный глава Фиц Зоммерфельд (между прочим, потомок известного физика Арнольда Зоммерфельда, в честь него назван кратер на обратной стороне Луны), и которая многим сперва казалась безумной, явно доминирует ныне в умах власть предержащих. Изменилась вся ситуация в литературе. На прозаиков и поэтов накинулись, как мухи на мед. По слухам, деятельное участие в этом приняли и спецслужбы различных стран. Писатели из клоунов, что лишь болтают и путаются под ногами, вдруг превратились в политически значимые фигуры. Как их ныне обхаживают! Какими немыслимыми благами прельщают любого хоть сколько-нибудь известного автора. Даже наш президент недавно торжественно провозгласил государственную программу «Литературу – в провинцию!». Вот и странствуют писатели, как менестрели Средневековья, по весям и городам. Объятия им открыты везде. Правда, когда знаменитый Пьер Маэльдук, автор «Грязных прислужников» и «Квантового безумия», с громадной помпой, в сопровождении журналистов и телевидения явился в свихнувшийся, полуокруженный Проталиной, вскипающий Деказвиль, во всеуслышание объявив, что намерен создать здесь свой очередной нетленный шедевр, то закончилось это полным провалом: через неделю Проталина увеличилась аж на тридцать процентов, а еще дней через пять начала сдавливать Деказвиль смертельным кольцом. Город пришлось срочно эвакуировать. Общую картину это, конечно, подпортило. Тем более что сам Маэльдук, благополучно вернувшись в Париж, заявил на пресс-конференции, что, рискуя жизнью и репутацией, опроверг лживую «Теорию Логоса», созданную исключительно для того, чтобы всякие бездари могли вытягивать безразмерные гранты из политических дураков. С другой стороны, а кто считает гениальным писателем самого Маэльдука? Разве что очумелые критики, полагающие, что чем больше в тексте вонючей грязи, чем больше в нем тщательно выписанной отвратительной физиологии, тем выше произведение стоит на литературной шкале. Тот же случай, что с нашим российским Морокиным, тем, который неутомимо закачивает в свои романы тонны дурно пахнущего дерьма. А гонорар, точнее аванс, за поездку Маэльдук оставил себе, объяснив, что это предусматривалось договором.
Маревин разбирает сумку с вещами, заваривает покрепче кофе с пенкой по ободку и неторопливо, смакуя, по глоточку выпивает его: без кофе ему действительно жизнь не в жизнь. Сидя в кресле, взирает на солнечный сад, где проблескивает, чуть вздрагивая, глянец кустов, где из клумбы, очерченной цепью камней, торчат пышные торжественные георгины. Его не отпускает тревога. Логос – не Логос, но кажется, что за солнечным великолепием лета проглядывает дремучая чернота, не прямо, на крайней периферии зрения, и вместе с тем очерчивая его топью небытия. Кстати, поэты это предчувствуют. «Даже в самом легком дне, / Самом тихом, незаметном, / Смерть, как зернышко на дне, / Светит блеском разноцветным».
Удивительно точно сказано.
Ладно, пока рано думать об этом.
Ровно в пятнадцать часов приезжает мэр. Вместе с ним поднимается на второй этаж мужчина в военной форме.
– Заочно мы с вами уже знакомы, Терентий Иванович, – представляется мэр. – Имечком родители наградили, не современное, понимаю, но ничего не поделаешь, дед был Терентий, ну – значит, и я. С другой стороны – сразу запоминается, что немаловажно для избирателей, хе… хе… хе… Имею честь, так сказать, быть главной этого города. Соответственно, получаю плюхи за все. – Он усмехается. – Знаете, как это бывает? Кошка бросила котят – наш Терентий виноват. – Рукопожатие у него энергичное, крепкое, такое может сплющить и даже расплющить ладонь: провинциальное представление о том, что есть настоящий мужик. – А это полковник Беляш, отвечает за безопасность всей нашей… агломерации.
У полковника, напротив, ладонь деревянная, с твердыми ребрами, не гнущаяся ни туда, ни сюда.
Он коротко кивает, не добавляя ни слова.
Странную они составляют пару. Мэр – коренастый, широковатый, почти без шеи, круглая с густым жестким волосом голова посажена прямо на плечи. Впечатление как от снеговика. Но не толстый, а как бы сгущение плотской энергии, которая не растрачивается на пустяки. В общем, крепкий хозяйственник. Сколько на него нагрузят, столько и тащит. Народу такие нравится – ответственный, солидный мужик, не обманет, не подведет. Однако за подчеркнутой его бодростью опять-таки, как и в случае с референтом, чувствуется тревожный напряг. Слишком уж он напирает. Слишком уж настойчиво уверяет Маревина, как они рады, что такой известный писатель, классик, можно сказать, переведенный на иностранные языки, лауреат множества премий и тэ дэ и тэ пэ, согласился жить и созидать в их скромном городе.
– К сожалению, у нас в магазинах ваших книг почему-то нет. – Мэр разводит руками, сокрушенно вздыхает. – Но я уже распорядился – скачали из интернета, сверстали, передали в типографию срочный заказ, через несколько дней будет тысяча экземпляров…
И слишком уж красочно расписывает он прелести города: и народ у них приветливый, обожающий литературу, вот увидите, как вас будут слушать на творческих вечерах… И климат у них мягкий, умеренный, ни сильных морозов, ни дождей затяжных, ни адской жары… И природа роскошная – леса нетронутые, реки, озера, грибов, ягод всяких не счесть… А черемухи – вы обратили внимание? – океан! Неофициально мы – черемуховая столица России. Снова долженствующее расположить собеседника, умиротворяющее хе.. хе… хе…
– Вы пирог с черемухой когда-нибудь пробовали? Ну конечно, откуда? Я вас приглашаю, жена испечет – горячий, сладкий, уши отъешь…
И слишком уж акцентирует он заботу местной администрации о культуре: и два театра у них, оба, разумеется, на финансировании из городского бюджета, и книжные магазины очень приличные, недавно произвели в них полный ремонт, и концертный зал, новый, открыли, и краеведческий музей имеется, и прекрасная картинная галерея…
– Делаем, что в наших силах. Отдали Литературному клубу лучшее помещение в Доме культуры. Есть у нас объединения молодых поэтов, художников – недавно такие инсталляции показывали, у некоторых зрителей… хе… хе… хе… глаза повылезали на лоб. Ничего, постепенно привыкаем к искусству. Московские газеты об этом писали… А месяц назад проходил межрегиональный, общероссийской, можно сказать, фестиваль… Приезжала театральная группа из Петербурга, из Малого драматического, показывала, представьте себе, «Вишневый сад»… Выступал пермский «Анай», этнические зонги… хе… хе… волхвования, музыкальные, обработанные на современный лад…
Мэр никак не может остановиться. Он отчитывается перед Маревиным, как перед инспектором из Министерства культуры. И снова вспоминается референт: избыточное радушие так же мучительно, как и откровенная неприязнь. К тому же Маревину неловко от явных преувеличений, никакой он не знаменитый писатель, просто слегка известный, так будет точней, и премий у него только три, причем – мелкие, второстепенные, из тех, что лишь на миг выскакивают в топ новостей, не сравнить с прославленным Залеповичем, при каждом движении побрякивающим чешуей литературных наград. Да что там самоупоенный величием Залепович, ему, Маревину, по этому показателю даже до Витали Бобкова как до Луны. Тот на своем административном посту поднапрягся, собрал целый премиальный букет, растрепанный, уже сильно увядший, зато какой – руками не обхватить. И насчет переводов мэр тоже переборщил: всего-то вышли рассказ на чешском, повесть на польском… Прямо скажем, не впечатляет актив. Хотя, с другой стороны, у многих, многих, многих и этого нет.
Напряг между тем чувствуется отчетливо. Словесная пена, которую взбивает Терентий Иванович, не может скрыть рябь, пробегающую по голосу.
Вот тебе – и тишина, умиротворенность, комфорт.
Зато полковник Беляш – его полная противоположность: сухощавый, словно после длительной голодовки, с выпирающими отовсюду костями, похожий на одетый в мундир рыбий скелет. И лицо у него тоже из неровных костей, обтянутых кожей. Глаза – бесцветные, стылые, с нехорошей, как от бессонницы, крошащейся желтизной по краям. Какие-то неподвижные. Маревину кажется, что полковник ни разу за весь их разговор не моргнул. А еще ему кажется, что под мундиром у Беляша потикивает некий хорошо отрегулированный механизм, вот сейчас, отсчитав положенное количество оборотов, он тихо щелкнет – включится соответствующая программа.
И действительно полковник, дождавшись паузы, чуть поскрипывающим голосом говорит:
– Перейдем к делу. Вы должны оценивать ситуацию правильно, без прикрас.
Он достает из плоского портфельчика карту, разворачивает ее на столе. Карта представляет собой мешанину ломаных линий квадратов, треугольников, вытянутых овалов, кружков, цветных стрелок, над которыми что-то мелко-мелко написано. Похоже на план генерального наступления, Маревин видел такие схемы в книгах, посвященных войне.
– Объясняю на пальцах, – продолжает полковник. – Красный кружок, по центру – это Красовск, сто тридцать пять тысяч жителей, сейчас уже меньше. Люди уезжают, мы ничего сделать с этим не можем.
Мэр ощутимо крякает.
Но – молчит.
– И много уехало? – спрашивает Маревин, просто чтобы продемонстрировать интерес.
– В настоящее время процентов пять-семь. Уже ощущается нехватка рабочих рук… Вот здесь, желтый овал, – полковник постукивает по карте карандашом, – производственный комплекс «Урал-один». Левая часть – шахты и перерабатывающие заводы, правая – производство… гм… неких изделий… Конечно, в эпоху военных спутников такое не скрыть, но все же имейте в виду, эти сведения являются государственной тайной.
Мэр неожиданно вклинивается:
– В детстве, помню, мой дед, был начальником цеха, и на вопрос, чем они там занимаются, отвечал: да табуретки сколачиваем, что же еще? А другой мой дед, его брат, инженер с полигона, то и дело мотался в Капустин Яр, добавлял: а мы эти табуретки испытываем, хе… хе… хе…
– Черным отмечена наша Проталина, не обращая внимания на перебив, продолжает полковник. – Видите, она состоит из двух примерно равных долей, причем верхняя уже полностью перекрыла шоссе и вплотную подходит к заводской железнодорожной ветке. Мы сейчас возим рабочих по объездному проселку, это вот здесь, в щели между Проталинами, рискованно, разумеется, но выхода нет. Грунт ненадежен. Неизвестно, сколько этот проселок продержится. А если будут блокированы еще и рельсовые пути, производство вообще придется остановить. Этого, как вы понимаете, допустить нельзя. «Урал-один» – наш важнейший военно-промышленный агломерат. Он имеет стратегическое значение для обороны страны. Вот задача, которая перед нами стоит. Кроме того, если обе Проталины в итоге сомкнутся – а ведь, посмотрите, расстояние между ними уже с воробьиный скок – образуется целостная кольцевая структура, «мертвый захват», так это, кажется, сейчас называется, город будет в блокаде. Что в этом случае произойдет, надеюсь, можно не объяснять?
– Репортаж Деметроса? – неуверенно говорит Маревин.
Полковник кивает:
– Именно он.
– Но ведь уже доказано, что так называемые материалы Деметроса – это фейк. Их смонтировали два блогера, которые Проталин и в глаза-то не видели, разве не так?
Полковник без каких-либо интонаций в голосе говорит:
– Фейк – не фейк. Есть и противоположное мнение. – Он бросает на Маревина острый, мгновенный взгляд, давая понять, что эта нейтральная фраза скрывает в себе серьезный подтекст. – Скажу одно: из всех вариантов, которые предположительно возникают, обычно реализуется самый плохой. И вот это уже не фейк, а факт, фундаментальная закономерность. Это то, что, хотим мы этого или нет, необходимо учитывать.
Маревин ощущает легкую панику.
– С какой скоростью происходит рост? – хрипловато интересуется он.
– Около тридцати метров в день. Мы регулярно, с вертолетов, производим замеры. К счастью, скорость не увеличивается… пока… но, замечу, что и не уменьшается тоже. Тридцать метров ежедневно, как штык. В общем, если ничего принципиального не произойдет, то к концу месяца будет перерезано железнодорожное полотно, хотя движение составов, мы будем вынуждены прекратить еще раньше, когда начнет разрыхляться земля возле шпал.
Полковник аккуратно кладет карандаш.
Поперек всех стрелок, черточек и кружков.
Он закончил.
Задача сформулирована.
Следует ее выполнять.
Так же без каких-либо интонаций в голосе добавляет:
– Должен вас известить, что позавчера я направил рапорт в Москву – поставил вопрос о необходимости срочной эвакуации города. На первом этапе, может быть, не всего населения, сначала специалистов, иначе никак.
– Гм… Это… Ну да… – покряхтывает с явным несогласием мэр. – Конечно… Москва… Артем Богдасарович, мне кажется, что очень уж вы торопитесь…
– Не я тороплюсь – время торопит.
– Гм… Это… Ну да…
Мэр точно оцепенел.
И вместе с тем между ним и полковником проскакивает незримая искра. Маревину даже кажется, что он слышит ее трескучий разряд. Ситуация в целом понятная: есть гражданская власть, у которой свой взгляд на то, как следует поступать, и есть военная власть, у которой взгляд тоже свой, но – диаметрально противоположный. Кошка и собака – вечный и неразрешимый конфликт.
Пауза повисает над ними поскрипывающей бетонной плитой.
Рухнуть она может в любой момент.
Только теперь Маревин начинает догадываться, во что вляпался. В какую тягучую, засасывающую трясину он влез. А еще удивлялся, с чего это вдруг Зинаида, их технических секретарь, позвонила ему и предложила творческую командировку. Даже, против обыкновения, уговаривала: прекрасный город, приятные люди, очень просили, прилично заплатят, всего-то на месяц, может быть, на пару недель… Вот интересно, с чего бы это, с чего? Следовало бы насторожиться: все, что попадает в кормушку Союза писателей, все эти жирные отруби мгновенно вычерпывают Залепович, Лемехов и Бобков. Ну и Мурсанову, который вьется поблизости, какие-то крохи перепадают. Неутомимо работают поршни карьерных локтей. А здесь, та же Зинаида сказала: Бобков стонет, что неожиданно приболел, поехал бы, с удовольствием, но вот – кашель, температура, никак. Залепович оказывается, начал новый роман, весь в пламени вдохновения, прерываться нельзя. Ну а Паша Лемехов, у которого на всякие вкусные отруби сверхъестественное чутье: едва плеснули в корытце, а он уже, возбужденно похрюкивая, тут как тут, проникновенно ответствовал, что в данном случае его личный творческий долг – это сохранить Петербург, выдающийся феномен нашей культуры, великий город с великой и необыкновенной судьбой: я не отделяю себя от него. По словам Зинаиды, так и сказал. Обычная лемеховская логорея, псевдофилософский парфюм, сиропчик для размягченных мозгов. Видите ли, не отделяет себя. Однако, на минуту, позвольте, при чем тут Лемехов? Ведь есть же Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Блок, Достоевский, Толстой… Васильевский остров «держит» Вадим Шефнер, его «Сестра печали» стоит всех Залеповичей вместе взятых. Канал Грибоедова «держит» Зощенко: жил там в писательском доме почти двадцать пять лет. Коломну и Сенную площадь – «Преступление и наказание», главную магистраль города – гоголевский «Невский проспект»… Эффект намоленной иконы: все это еще долго будет существовать. Как будет существовать Париж, где – Гюго, Бальзак, Марсель Пруст, как будет существовать Одесса, где начинали Бабель, Багрицкий, Катаев, как будет жить Псков, запечатленный в «Двух капитанах»… Это, вероятно, и есть копенгагенская интерпретация: мир таков, потому что, читая и перечитывая, мы воспринимаем его таким… Нет, понятно, что дело тут не в любви к Петербургу. У Лемехова, как и у прочей шушеры, действительно фантастическое чутье: как бы они щеки ни надували, как бы ни заседали в своих президиумах, сколько бы регалий ни навешивали на себя, но чувствуют, чувствуют, тараканы, что против Проталины они никто и ничто, сами себе не признаются, разве что в страшных снах, но ведь отдается что-то внутри, подсказывая: вкусных отрубей здесь не будет. Зато будет то, чего они боятся больше всего – беспощадный свет, как рентгеном, высвечивающий творческую тщету.
А вот у него, Маревина, такого острого чутья нет. Откуда? Оно дается десятилетиями вдумчивого и тщательного принюхивания. И интернет здесь ничем не поможет. Роскомнадзор бдит: никаких фейков, никаких панических сообщений. Ну – Проталина. Ну кого этим сейчас удивишь? Все под контролем. Тем более что она в пяти-семи километрах от города.
Маревин, надеясь, что незаметно, прикусывает губу. Да бог с ними, с этими угодливыми литературными лавочниками! Если честно, то он должен быть благодарен им всем. Сидел однажды в Союзе на очередном унылом мероприятии, презентовали сборник, куда каким-то чудом попал и его мелкий рассказ, слушал, как, оккупировав микрофон, мямлит что-то невразумительное Виталя Бобков, похлопывает себя по карманам: здесь ли выписанный самому себе гонорар, как разливается соловьем Паша Лемехов, подробно пересказывая свою тусклую повесть, неужели кто-то будет ее читать, как пухнет от счастья Санюля Мурсанов, ужас, перенапрягся весь, ведь просто лопнет сейчас, и вдруг пронзило, словно прикоснулся к обнаженному проводу: вот что главное – не быть таким, как они. Ни как Бобков, ни как Лемехов, ни как Мурсанов, ни как идиот, точнее придурок, Зимайло, ни как Левочка Бормонталь, суетливый издатель, который уже лет десять изо всех сил подпрыгивает и кричит: вот он я!.. вот он я!.. Не быть таким, не толочься у корытца с жиденькими отрубями, не толкаться локтями, не выпрашивать слезным голосом у начальства всякие преференции. Беспощадный вопрос: что я здесь делаю? Среди них? И – зачем? Разве этого я когда-то хотел?.. Помнится, тогда он кое-как отдышался, тихо встал и ушел, не оглядываясь, как отрезал – больше в Союзе писателей не появлялся.
А ведь, если метафорически, это была та же Проталина. И в ее черноту можно было также – нырнуть с головой.
Не всплыть оттуда уже никогда
Однако здесь он вляпался колоссально.
Маревин вздрагивает – откуда-то сбоку вновь вклинивается мэр:
– Что еще интересно. Я про строительство наших заводов в пятидесятых годах… Дед мне рассказывал, что урановую руду из шахт в ту пору возили просто на тачках. В смысле не на машинах, не на грузовиках, а на таких деревянных тележках, обитых жестью, с двумя ручками и колесом впереди. Нагрузят тебе – и кати. А когда тачка разваливалась, заметьте, ничего не выбрасывали: доски – на топливо, в печь, жестью, содранной, обивали крыши домов. Дефицит стройматериалов был тогда жуткий. А то, что жесть стала радиоактивная, – наплевать. Кто тогда о радиации что-нибудь знал? И ведь как? Целое поколение под этими крышами выросло. Вот ведь как. Сам в таком доме рос…
Маревин и полковник одновременно поворачиваются к нему. У обоих – недоумение: что мэр хочет этим сказать? Что были времена еще хуже? Что люди в них закалялись, как сталь? Что и эту нынешнюю катавасию сумеем преодолеть?
Однако мэр машет рукой.
– Я к тому, что, может быть, пронесет. Не все так страшно. … Извините, что перебил…
Полковник вновь переводит взгляд на Маревина.
– Москва – Москвой. Они там, конечно, решат. Но кое-что и от нас зависит.
Он умолкает.
В глазах – строгое ожидании
И тут же невысказанную мысль подхватывает, явно волнуясь, мэр:
– Андрей Петрович, мы очень рассчитываем на вас.
Опять молчание.
И опять оно поскрипывает как нависающая плита.
Маревину неловко сидеть в фокусе двух пар напряженных глаз.
Особенно у мэра – как у большой доброй собаки, которую наказали, а она не понимает за что.
Обиженное, почти детское недоумение.
За что? За что?
Они ждут ответа.
Но Маревин не знает, что им отвечать.
Разве что: вляпался – сам виноват.
В конце концов он неловко пожимает плечами:
– Сделаю все возможное, но… поймите меня… гарантировать не могу…
Позже Маревин не раз вспоминает это свое почти пророческое «гарантировать не могу», поскольку к концу недели становится ясно, что он находится в отчаянном, безнадежном ступоре. В творческом бессилии, расползающемся по телу как бледная немочь, как неощутимая, неведомая медицине болезнь, проникающая отравой в сердце и мозг. Именно что болезнь: он даже дышит с трудом, заставляя себя напрягать мышцы груди – дышит, но надышаться теплой августовской прелью не может, кислорода в ней нет, как ни растягивай до боли ячеистую ткань легких.
Собственно, обрушилось на него это еще весной, когда он закончил довольно странный роман, в котором Бог или Нечто, обладающее таким же могуществом, стало откликаться на молитвы людей, исполняя самые сокровенные их желания. И вот что из этого получилось: катастрофа, чуть ли не приведшая к гибели человечества – ведь человек в своих тайных страстях гораздо ближе к ненависти, чем к любви.
Девять месяцев он работал над этим романом как проклятый, знаменательный срок, получилось в итоге день в день, и все девять месяцев чувствовал себя, как на гребне волны, на хлипкой досочке, которая с сумасшедшей скоростью несется над водной стихией. Давно у него не было такого окрыляющего настроения, вкалывал ежедневно, по десять – двенадцать часов, вскакивал ночью, чтобы записать неожиданно вспыхнувший эпизод, или реплику, или характерный жест персонажа. Конечно, ел, пил, спал, с кем-то разговаривал, смотрел новости в интернете, сходил даже на пару каких-то вялых мероприятий. Но все это, как сквозь сон, – уже через час был не в состоянии вспомнить, с кем разговаривал, куда ходил. А когда написал последнюю фразу, о том, что облако, наползающее с горизонта, скрыло странную, мерцающую над кромкой леса, сиреневую звезду, не смог встать из-за головокружения – испугался, что сейчас упадет, как некогда Иннокентий Анненский на ступеньках Витебского вокзала: сердечный приступ, при жизни успел выпустить лишь небольшую книгу стихов под псевдонимом «Ник. Т-о». Правда, тогда вокзал назывался не Витебским, а Царскосельским…
В общем, обмяк на стуле медузой, слабость была чудовищная, до конца раскрутилась пружина, приводившая в движение механизм его личного бытия. И вместе с тем – ощущение, что наконец-то он написал нечто стоящее. Не шедевр, не бестселлер, не выдающееся произведение современной литературы, но нечто такое, что, возможно, пусть ненадолго, переживет его самого. Косвенным подтверждением послужило и то, что, когда после четырехдневных раздумий он послал рукопись в оборотистую «Астрею», Владику Тягодумову (хрен он моржовый, но работать умеет), то уже через неделю Владик сам ему позвонил и довольно кисло (автор должен знать свое место), кратенько сообщил, что роман ничего, приличный, жалко не в тренде, но рискнем, так уж и быть, в целом подходит, будем печатать, ориентировочный срок – на август.
Сначала казалось, что ничего страшного. В конце концов он же не Троллоп, который каждое утро, как заведенный, писал три часа и, если заканчивал книгу, а время от этих часов еще оставалось, не отдыхал, а начинал следующий роман. Маревин так не умел. Завершив какую-либо работу, он чувствовал себя как колодец, откуда вычерпали драгоценную влагу: обнажилось дно, проступил мелкий песок. И надо было не дергаться, не пытаться выдавить что-либо из него, а ждать, ждать, ждать, пока влага сама вновь накопится, просачиваясь по паутинным канальцам из запредельных глубин. Обычно так и происходило. Но здесь было нечто иное. Он это почувствовал к середине лета: песок на дне вычерпанного колодца стал мертво-сухим. Нечего было ждать. Не на что надеяться. Драгоценная влага более не проступала. Иссяк сам источник – на века, на тысячелетия воцарилась в душе Великая сушь…
Такое с ним уже было лет десять назад. Тогда, после целого рабочего дня, он, ни о чем подобном не подозревая, открыл только что вышедший из печати «Аркольский мост» Антоши Розальчука и точно в обморок провалился в кошмар бессмысленной и беспощадной войны, перемалывающей в кровавое месиво десятки, сотни тысяч людей. Сошло какое-то умопомрачение. Фразы пропитывали его темным воздухом чуть ли не до галлюцинаций: пучились взрывы, разметывая вокруг корку земли, метались и корчились персонажи, умирая неизвестно за что. Прочтя в три часа ночи строки финала, где последний солдат этой войны бросает в пропасть последний патрон, он включил компьютер (ведь тоже писал роман) и в оцепенении уставился на свой аккуратный, уже частично отредактированный текст. И тоже – жутковатым током ударило: это же не то, не то, совершенно не то! Даже близко не соотносится с тем, что он когда-то хотел. Где обжигающий подлинностью жизни рассказ? Где свечение магии, от которой при чтении прохватывает озноб? Цветаева однажды заметила: она всегда может определить, когда стихи ей продиктованы свыше, а когда она накалякала от себя. Так вот, все это, что на экране, все это он – от себя. Все эти буковки, сыпью покрывающие страницу. Все эти леденцами липнущие друг к другу, пресные, полуосмысленные слова. И предыдущий его роман был от себя, и три повести, выпущенные недавно как сборник – того же однообразного конвейерного пошива…
Короче, упало яблоко, звонко стукнув по темечку, разверзлись серые небеса, мир перевернулся с ног на голову. Тогда ему тоже стало трудно дышать: за грудиной неожиданно вырос булыжник размером с кулак, давил на нее изнутри. Из оцепенения его бросило в дрожь: ведь он же этим текстом своим ничего не сказал.
Прозрение вспыхнуло и превратило мозг в горячую кашу. Вероятно, совпало: до этого он через силу, позевывая, перелистал очередной роман Залеповича «Любовь к Элладе» – кстати, сразу же ему, роману этому, престижная премия, сразу тучи рецензий, критика захлебывается от похвал – а у Маревина в голове закрутилось: это просто ниочемизм! Термин выскочил быстрым чертиком и тут же прилип. Ниочемизм – это когда написано технически хорошо: и идея, и сюжет, и язык, все как надо, добросовестно, иначе не определишь, но за умело раскрашенной конструкцией – пустота. Аккуратно вылеплено из папье-маше. Нет того странного, восхитительного безумия, которое превращает литературу в искусство. Ремесло Залепович, как обычно, продемонстрировал: да, литературное мастерство несомненно, искусство – категорически нет. Этими четырьмястами ровненьких, отшлифованных редактурой страниц он, в сущности, ничего не сказал. Причем (ринулась, спотыкаясь, вдогонку вторая мысль), если автор все же что-нибудь говорит, то отнюдь не всегда удается определить, что именно он сказал – здесь возможны интерпретации. О чем сказал в «Войне и мире» Толстой? Да обо всем он сказал! То же – в «Братьях Карамазовых» или в «Бесах». Сразу чувствуется, что автор именно говорит. Зато если автору сказать нечего – в тексте тусклым колоколом гудит эта самая пустота. И ее никакими техническими ухищрениями не заглушить. Вон роман Саши Мурсанова, (тоже недавно прочел): «Дальновидящий» (так и чувствуется в названии горделивое надутие щек), открываешь – сплошные метафоры, по отдельности превосходные, и первая, и вторая, и третья, это вам не лемеховские талмуды, ворочающиеся унылым нытьем, но примерно на десятой метафоре начинаешь недоумевать – а где сам роман? Где он? Где? Покажите мне пальцем – где? И на двадцатой книгу с треском захлопываешь – ну его к богу в рай. Потому что роман – это не набор красивых метафор, не идея, как бы ни была она хороша, не фактура, не сюжет, не язык. Роман – это роман. Это энтелехия Аристотеля, сила жизни, объемлющая собой и цель, и окончательный результат, превращающая невзрачное семечко в роскошный цветок, это эмерджентность – свойство системы, не сводимое к сумме ее частей. Или проще – как заметил тот же Лев Николаевич, отличить подлинную литературу от ремесленничества можно так: если пересказать произведение во всех подробностях, до мельчайших деталей, вплоть до точек и запятых, и все равно нечто останется недосказанным, нечто такое, что невозможно пересказать, тогда – это роман.
Сказать, сказать! Существуют две точки зрения, и обе неверные. Первая: автор пишет исключительно для читателей. Так вот вам хрен – нет, нет и нет! Исключительно для читателей пишут только ремесленники. Отсюда – вся нынешняя сетература, извергающая на рынок дебильно-мутный поток. Вторая: автор пишет исключительно для себя. Тоже нет, исключительно для себя пишут лишь законченные идиоты. Отсюда – тягомотина так называемой «высокой прозы». Настоящий автор пишет и не для читателей, и не для себя. Вообще не ради какого-то малопонятного «для». Он пишет исключительно «потому что». Он пишет, потому что ему есть, что сказать. Потому что звучит с небес некий голос, потому что пульсируют и завораживают слова, потому что стучит молоточком безумная кровь в висках. Это теодицея автора, его онтологическое оправдание. Можно набубырить двадцать увесистых книг, три миллиона слов, издать их фантастическим тиражом и при этом не сказать ничего. Лемехов тому великолепный пример. А можно как Гаршин: всего-то с десяток рассказов, тонкая книжечка, сколько там печатных листов? – а ведь читают ее уже полторы сотни лет. И на самый страшный для любого пишущего человека вопрос: а что ты сделал, зачем пришел в этот мир? – можно выложить эту книжечку и скромно ответить: а вот.
Маревина тогда словно объял чумной липкий жар. Его корежило, по всему телу выступила испарина. Мир перед глазами пульсировал, точно прогорающая звезда. Как это было у классика: «Может статься так, может и’наче, / Но в несчастный некий час / Духовенств душней, чернее иночеств / Постигает безумие нас»… Вот оно, это безумие, его и постигло. Был конец ноября, моросил мелкий дождь – зарядил неделю назад и не прекращался ни на минуту. Чернел асфальт, рябила в лужах листва. Тьма просачивалась из ночи в день, свет был серым, не могущим разогнать полумрак. Уже в три часа приходилось включать настольную лампу, а к пяти-шести вечера, когда на противоположной окраине сквера, сквозь листву, глазами глубоководных тварей, зажигались разноцветные окна в домах, Петербург вообще становился призрачным – сморгни и исчезнет. И Маревину в это время казалось, что вот так же – сморгни и исчезнет он сам…
Лишь чудом ему удалось выкарабкаться обратно в жизнь. Позже понял: это был типовой творческий кризис, сотрясающий каждого, кто пытается выбраться за границы ремесленничества. Выберешься – распустится, как в рассказе у Гаршина, чаша огненного цветка, а не хватит сил – увязнешь в толще литературного перегноя. Как это было с Эриком Манукяном: написал отличный роман, потрясающий постапокалипсис, ведьмы, магия, колдуны, громадные медведи-мутанты, новое Средневековье, сражения, арбалеты, мечи, заросшая диким бурьяном, всхолмленная, заброшенная Москва, темпераментный яркий язык, куча вкусных деталей, бестселлер, не меньше, хотя таковым почему-то не стал … И, вероятно, поэтому качнуло его, устроился в некий солидный московский банк, в рекламную группу, сторителлинг – так это сейчас называется, ходил, поплевывая: зарплата там была ого-го! И что дальше? Где сейчас Эрик наш Манукян? За последние десять лет едва-едва сумел выдавить из себя что-то натужное. Маревин открыл эту книгу, «Сумрачная гора», и через тридцать страниц, морщась от несъедобности текста, закрыл. Нет больше Эрика Манукяна. Да и это его горделивое «ого-го!» по нынешним временам вовсе не такое уж «ого-го!»
Или как несколько позже увязла Ирша: получила отказ на цикл стихов из очередного журнала. А ведь очень приличные у нее тогда были стихи. Процедила, кривясь бледным ртом, что больше ничего никуда посылать не будет, провались они все, неслучайно ведь сказано: «Никогда ничего не просите… Сами предложат, сами дадут». Стрела в адрес Маревина, у которого месяц назад в том же журнале вышла короткая повесть, романтичная, такая молодежная вещь, и Арсений, ведущий там прозу, написал, утрируя олбанский язык: «Ты эта, знаиш, ваще, маладетс»…
Он на Иршу, естественно, вскинулся:
– Я ничего не прошу, я – лишь предлагаю. Не бегаю по тусовкам, как твоя Манечка Дольская, с высунутым языком, не обзваниваю по сто пятьдесят человек, чтобы пригласить на свой творческий вечер…
– Она не моя. Прекрасно знаешь – терпеть ее не могу…
– Не втискиваюсь, как Паша Лемехов в тусовки и кланы, не обхаживаю десятилетиями нужных людей, не расточаю им комплиментов, не пытаюсь оказать кучу мелких услуг…
Ирша пренебрежительно отмахнулась:
– Да ладно, ладно. Не напрягайся, не надо. И так все ясно. Чего уж там…
Маревин еле сдержался. Знал он эту всегда раздражавшую его интонацию: дескать, главное – написать. Остальное неважно. Гениальный текст сам проложит себе дорогу в литературу. Рукописи не горят. И все это с усмешечкой по отношению к тем, кто печатается.
Хотелось ответить:
– Да, рукописи не горят. Но они истлевают в том же литературном компосте. И вообще, кто это сказал? Мессир Воланд. А он, как известно, «отец лжи».
Но не ответил.
Тем все и кончилось.
Через неделю Ирша переехала на свою дачу в Вырицу:
– Я же говорила, что у нас ничего не получится. Я – не Айрис Мердок, а ты – не профессор Джон Бейли, чтобы меня лелеять. И альцгеймер мне пока не грозит.
Маревин ей поначалу звонил: спрашивал, как дела, что пишет, чем занимается. Даже встречались, когда Ирша добиралась до Петербурга. И она что-то такое невнятное ему отвечала. Но однажды вдруг понял, что каждый его звонок, каждая встреча режет ее, как нож.
Ничего Ирша не пишет.
И уже никогда ничего не будет писать.
Засохли точечки роста.
Слабенький стебелек улегся в литературный дерн.
Случай тот же самый, что с Эриком Манукяном: наткнулся на месторождение, подобрал сверху парочку самородков, дальше надо бить шахту, крепления ставить, жилу искать, а это тяжелый труд – копнул раз, другой, пустая порода, и отошел: ничего здесь нет.
Но это – Эрик, Ирша…
И это все в прошлом.
А сейчас-то ему как быть?
Он пытается разогреть себя разными хитростями. Опыт имеется, все же, как Зощенко, пишет уже двадцать пять лет. Он неделю пластом лежит на тахте, навзничь, не шевелясь, пытаясь впасть в нечто вроде нирваны – в таком полуобморочном состоянии иногда возникают идеи. Еще Блок дал совет: слушайте музыку революции. И «Двенадцать», кстати, неожиданная поэма, проступила именно из январской пурги. Музыку революции, симфонию времени, причудливые, как иероглифы, обертоны эпохи. Он мысленно перелистывает врезавшиеся в память страницы (Борис Поренков, философ, как-то в разговоре сказал, что книги прорастают из книг), – от давних «Белых ночей» с их потрясающей «минутой блаженства»: «Боже мой! Да разве этого мало хоть и на всю жизнь человеческую?..» и до «Последнего солнца» Андрона Меркина, вышедшего в прошлом году, чудесный, необыкновенный роман!.. – впитывает их стилистику, вдыхает их интонацию, прикрыв веки, как на темном экране, рассматривает отдельные эпизоды. Тоже иногда помогает: зацепишься за какую-нибудь деталь и вдруг, перпендикуляром обычно, начинает прорастать что-то свое.
Свое, впрочем, он тоже не забывает. Уже лет десять брезжит у него на кромке сознания некий «петербургский ноктюрн», странное действо, объединяющее прошлое с настоящим, где сон внезапно превращается в явь, где фантастическое, «умышленное» становится неумолимой реальностью. Уже и отдельные сцены набросаны, уже и несколько довольно больших диалогов есть, но вот в сюжет это пока не сложить, чего-то там, внутри, главного, не хватает.
И потому он также мысленно бродит по реальному Петербургу – по Коломне, где время, казалось, застыло, не движется почти целый век, по извилистому Екатерининскому каналу, в темной воде которого отражается не нынешняя, а прошлая жизнь, перебирается на Васильевский остров, вдыхает тайны, скрытые в его тенистых линиях и дворах. Опять-таки иногда помогает. Главное тут – найти точку опоры. Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар». Или уже Шопен: «Как вы пишете? – Я сажусь за рояль, и ищу голубую ноту». Вот, что ему нужно сейчас, – голубая нота, волшебная фраза, внутри которой посверкивает целый словесный мир.
Время от времени он вскакивает, как подброшенный, идет к крану, в ванную, умывает лицо холодной водой, сдирая с глаз пленку, мешающую видеть подлинную реальность.
Все бесполезно.
Нота не звучит, волшебная фраза в сознании не всплывает.
Колодец сух, стенки его от жажды потрескались.
Обнажилось дно.
Из песка драгоценную влагу не выжмешь.
Да и не надо ничего выжимать. По тому же опыту двадцати пяти лет он знает, что лучше всего книга получается не тогда, когда пишешь ее изо всех сил, напрягаясь, кровью ногтей выцарапывая один абзац за другим, а тогда, когда она пишется как бы сама, а ты ей лишь помогаешь. Автор не роженица, он скорей акушер. Он принимает и воспитывает ребенка, который возник от его связи с жизнью. Не надо себя расчесывать, как выразилась однажды Ирша. Та же Цветаева: расчешет себя до боли, а потом от этой боли кричит. И получаются не стихи, а крик. У нее половина текстов таких…
Все правильно.
Но что делать, если само не идет?
От безнадежности он даже включает новости. Напрасно, конечно, будут потом порхать в сознании как надоедливая мошкара. И вот, разумеется, очередная сенсация, очередной горячий, свежевыпеченный новостными агентствами пирожок. Знаменитая «Кембриджская четверка» только что опубликовала доклад, где утверждается, что при нынешней скорости роста Проталин, всеобщий «банг!», тотальное схлопывание ждет нас примерно через семьдесят лет. Ну, семьдесят лет – это еще ничего, это не семьдесят месяцев и, слава богу, не семьдесят дней. Правда, в том же докладе указывается, что с нарастанием массы Проталин площадь схлопываний, вероятно, тоже будет расти – время жизни, отпущенное человечеству, может сократиться в несколько раз. Спасибо, обрадовали… И еще сенсация: китайцы, невзирая на все протесты, таки провели свой засекреченный «атомный эксперимент» – бомба малой мощности, около десяти килотонн, с часовым механизмом была опущена в Проталину неподалеку от города Тайюань, провинция Шаньси. НАСА опубликовала соответствующие спутниковые фотографии, на них, если честно, хрен что разберешь, но это же НАСА, отмолчаться уже нельзя. И вот заявление правительства КНР: проведено необходимое человечеству научно-технологическое исследование… под строгим наблюдением специалистов… со всеми предосторожностями… и убедительно доказало, что ядерные реакции в Проталинах не идут… Н-да, земной шар не раздробили на части – уже хорошо.
Что там еще?
А там многотысячный митинг вокруг ЦЕРНа, где расположен Большой адронный коллайдер: якобы Проталины возникли в результате этих экспериментов, расщепили материю, процесс стал самоподдерживающимся, мир из-за этого расползается в пух и прах; требования: прекратить работы, ставящие под угрозу жизнь на Земле!.. Представитель ЦЕРНа, вышедший к протестующим, не стесняясь в выражениях, заявил, что «расщепление материи» – это полный бред, исследования как раз ориентированы на то, чтобы спасти наш мир, формулы какие-то рисовал; тем не менее – столкновения с полицией, массовые беспорядки, Франция, по согласованию с правительством швейцарских кантонов, ввела в Мерен, где основной кампус ЦЕРНа, дополнительные войска… И дальше: Саудовская Аравия потеряла из-за Проталин уже более трети своих нефтяных полей, цены на нефть побили очередной рекорд… И дальше: те же китайцы, никак им не успокоиться, опустили уже в другую Проталину специально сконструированный батискаф, набитый аппаратурой, бронированный, окруженный вихрем электромагнитных полей, через час вытащили остатки цепей, титановых, с полурастворенных звеньев которых капала бурая слизь; хорошо еще, что людей в батискафе не было, или все-таки были, кто их, китайцев поймет… Ну и приправой – ужасы в лагерях для эвакуированных, без чего сейчас не обходится ни одна новостная лента: не хватает палаток, продовольствия, воды, элементарных лекарств, наркоторговля, банды, перестрелки фанатиков из религиозных групп, во все стороны хлещут фонтаны кровавых брызг… Это в Средней Азии, в Африке, даже в Европе, а у нас, разумеется, как обычно: ситуация под контролем, принимаются все необходимые меры. И для полного успокоения – вот вам портрет президента, вдохновенного, просветленного, окрыленного фотошопом. А за распространение панических сведений – до пяти лет заключения.
Дважды за эту неделю в особнячок заглядывает Фаина, дагестанка, полная, пожилая, но с удивительной легкостью плавных движений.
И с удивительной доброжелательностью.
Маревин, вываренный в кипящей эмоциями литературной среде, давно от такого отвык.
– Все сидишь-лежишь, мучаешься? Да? Ну у тебя и работа – смотреть в потолок! Иди прогуляйся, проветри голову хоть, я здесь пока уберусь.
Тогда Маревин отправляется в город. Красовск, особенно в центре, уютен провинциальной неторопливостью и тишиной. От прошлого здесь сохранилось гораздо больше, чем говорил референт: симпатичные каменные дома в два-три этажа, скверы, клумбы, сады с веселыми краснобокими яблоками. Кое-где, в боковых узких улицах, даже асфальта нет, в лучшем случае – кривоватые, сколоченный из досок, пружинящие мостки. Слегка запыленное, временем запорошенное, спокойствие. Крапива и лопухи у заборов, блики солнца от чистеньких витрин магазинов…
Впрочем, эта внешняя сонность обманчива. Культурная жизнь – мэр, Терентий Иванович, был прав – здесь просто кипит. Работают два театра, и оба уже прислали Маревину смс-приглашения на спектакли, есть поэтическое объединение «Крутояр» – тоже прислано приглашение на вечер поэтов, существует Клуб литераторов, который страстно жаждет встречи с Настоящим Писателем – и это не преувеличение, именно так, заглавными буквами, начертано в электронном письме, намечается какой-то гала-концерт из цикла «Симфонические вечера», «Могутка», местная радиостанция, буквально умоляет об интервью, местное телевидение в лице некой Марьяны Борток готово подъехать в любой момент: «когда вам будет удобно»… В одну из прогулок Маревин забредает в городскую картинную галерею и там Алла Борисовна, директриса, дама лет сорока, в элегантном костюме, представительная, с эмалевой висюлькой под горлом, обрадовавшись редкому посетителю, пытается прочесть ему лекцию о современной живописи. Суть ее сводится к одному: ну почему все преимущества сейчас отдаются литературе? Живопись, если талантливая, нисколько не хуже отображает реальность и тем самым способствует ее онтологическому упрочнению. Согласно копенгагенской интерпретации.
– Вы в нее верите? Да?… Ну вот: цвет, форма, линия, сочетание их обладают такой же метафизической силой, не меньшей, мне кажется, чем слова, и это доказывается тем, например, что рядом со знаменитыми галереями Уффици, Прадо, Пинакотеки Мюнхена, можно вспомнить с еще десяток названий, до сих пор не возникло ни единой Проталины. Андрей Петрович, вы представляете? Ни одной! Казалось бы, какие еще требуются доказательства? Нет, почему-то все гранты, все преференции идут исключительно в литературу.
Маревин мог бы на это многое возразить. Ему уже приходилось отвечать на такие вопросы. Живопись да и вообще изобразительное искусство как раз потому менее эффективна, что она дает полностью законченный, устойчивый образ. Фиксация слишком жесткая. Ни изменить, ни по-иному представить ее нельзя. Она относятся к прошлому, к моменту онтологического укоренения, к той реальности, которой фактически уже нет. Он мог бы и отличный пример привести. Правда, не с живописью, но мог бы напомнить, как известный немецкий фотохудожник, фамилия уже выветрилась, что-то такое на «…берг», тоже, как, вероятно, известный вам Пьер Маэльдук, явился в какую-то муниципию типа Бальштадт, опоясанную Проталиной, сделал целых четыреста ее прекрасных изображений, вывесил их в ангаре, который специально для этого возвели, весь город ежедневно на них смотрел. И что? Ничего. Проталина, как росла, так и продолжала расти. Никакого онтологического укоренения. Маленькая смерть – вот чем является фотография. То же самое и про живопись можно сказать. А чтение, в отличие от визуала, это своего рода сотворчество, миллионы людей достраивают прочитанное собственным воображением: пейзажи, события, персонажей – весь мир, который за ними стоит, – и тем самым вдыхают в него новую жизнь. Вот в чем тут дело. Согласен, это не вполне копенгагенская интерпретация, но в конце концов можно представить ее и так. Вспомните улыбку Джоконды: никто не замечал ее целых четыреста лет, пока Теофиль Готье не написал о ее загадочности в своей знаменитой статье. И все вдруг прозрели. Изобразительность еще нужно облечь в соответствующие слова. А если бы Готье об этом не написал? Так бы улыбку эту и не увидели? Мир – это тотальная конвенциональность. И вообще: какая картина так повлияла на человечество, как Библия или Коран? Или – какая скульптура? Или – какая симфония? Как дополнение к Слову – да! Но не как самостоятельная экзистенция…
Ничего этого Маревин, разумеется, не говорит. Еще не хватало втянуться в изнурительную дискуссию об искусстве. Он отделывается невнятным мычанием, которое вполне можно истолковать как согласие. Тем более что директриса, несмотря на весь свой напор, перед ним явно робеет: розовеет лицом, запинается, груди ее, как два бронебойных снаряда, вздрагивают в рискованном декольте. В городе его вообще узнают: местная газета напечатала о нем большую статью, украшенную портретом, местное телевидение выдало темпераментный, с роликами, надерганными из сети, репортаж. На улицах на него осторожно оглядываются, стоит присесть где-то в сквере, и кажется, что смотрят из окон всех соседних домов. От него ждут чуда: город живет надеждой. За спокойствием, почудившимся вначале, тлеет тревога. В кафе, куда Маревин по рекомендации референта заходит, едва он переступает порог, воцаряется напряженная тишина.
Что ж, надо к этому привыкать.
А кафе, между прочим, весьма симпатичное: небольшое, со столиками из светлого дерева, с деревянными плашками, разбросанными по стенам и создающими домашнюю, уютную атмосферу. Называется оно «У Лары», и официантка, которая мгновенно материализуется перед ним, в короткой юбке, в фирменной блузке, четко обрисовывающей фигуру, тоже Лара, так, во всяком случае, гласит ее цветной бедж. Интересно, а «Доктора Живаго» она читала? Внешне ей лет тридцать пять, значит, наверное, сорок, и во взгляде ее – горячем, ярком, прямом – Маревин мгновенно угадывает эротическую готовность. Конечно, этого следовало ожидать: что-то подобное брезжило и в галерее у Аллы Борисовны. Он такие вещи вообще чувствует хорошо. Правда, сейчас это интуитивное «хорошо» порождает смятение и неловкость. Его явно принимают не за того. Ну как же: въехал в город герой – весь из себя, в сверкающих светлых доспехах, на белом коне, спасет народ от безжалостного дракона. И пока никто не догадывается, что меч у героя тупой, бутафорский, что доспехи из жести, что сражаться он не умеет. И вообще, если честно, он никакой не герой.
Однако кофе, следует отметить, Лара подает превосходный, с щепоткой корицы, правильно сваренный, с парой крупинок соли. Это немаловажно: к качеству кофе Маревин очень чувствителен. Но успевает он сделать лишь первый мелкий глоток, к нему сразу же энергично подсаживается некий джинсовый юноша, тощий, вертлявый, похожий одуванчик, в ореоле пружинных, черных, будто у негра, волос, представляется как Эжен Смолокур, режиссер, и без предисловий, сразу же предлагает Маревину в качестве сценариста включиться в некий творческий марафон, синкретическое непрерывное действо, объединяющее собою стихи, музыку, прозу, живопись и театр. Короче говоря – карнавал, который охватит собой весь город. Начитался, видимо, Бахтина. По замыслу, днем это действо будет происходить на центральной площади, вечером – в театре и одновременно на сцене Дома культуры, ночью – опять на открытом воздухе, в парке, есть там удобная прогалина над рекой, и вот тут уже оно будет сопровождаться лазерно-музыкальным шоу. Двадцать четыре часа в сутки, непрерывно, неделю, семь дней, нон-стоп.
– Вы идею улавливаете? Стрельба из всех орудий по площадям. Ураганный огонь. Что-нибудь из этого да сработает. Деньги даст мэрия, пусть попробует отказать…
Отделаться от него нелегко. Режиссер, продвигающий свой проект, это что-то вроде стихийного бедствия. Маревин уже имел дело с такими. Не люди, а энергетические вампиры. Вот кто способен выжать деньги из любого песка.
Глаза у Смолокура горят. Пружинные волосы вздрагивают, словно живые. Руки в отчаянной жестикуляции над столом так и мелькают.
Не опрокинул бы чашку с кофе.
В конце концов Маревин дает согласие прийти на спектакль, и тем же вечером, сам не зная зачем, оказывается в театре со странным название «Гвадалквивир». Вот интересно! Какие здесь неожиданные аллюзии! Пушкин, вероятно, от этого бы очумел. «Ночной зефир струит эфир, бежит, шумит Гвадалквивир». Впрочем, не очень-то он и шумит: пустых мест в рядах, как сразу в глаза бросается, более чем достаточно. Что, в общем, понятно, пьеса из «современных»: бомжи, живущие под мостом, профессионально, хотя и очень пространно, рассуждают о смысле жизни, то Лакана на память цитируют, то Батая, то Бодрийяра, и, как положено, густо пересыпают все это обсценной лексикой. Такой модернизированный вариант «На дне», но у Горького это по-настоящему прозвучало, шокировало: босяки на сцене, попал в резонанс с эпохой, а тут – немощные потуги, копия копии, хотя драматург вроде известный, гремит по Москве.
Маревину становится скучно через пятнадцать минут. Но уходить неудобно, сам Смолокур уселся в зале, неподалеку, и время от времени тревожно поглядывает на него. А после спектакля устраивает еще и некое обсуждение. Народ, естественно, мнется: что тут можно сказать? Кто-то, смущаясь, лепечет о потрясающем впечатлении, которое произвел на него эмоциональный подтекст: настоящий катарсис, аж всю душу перевернул. Это скорее всего – из местных поклонников. Кто-то девчачьим самоуверенным голосом замечает, что сигнатура спектакля нарочито амбивалентна, причем страты смыслов поляризуются и конвергируются в финале, преобразуясь в художественный эксплозив. Ну это, конечно, здешняя критикесса.
А сам Смолокур поворачивается к Маревину:
– Давайте послушаем мнение нашего петербургского гостя.
Зал замирает, Маревин пытается уклониться: дескать, все это еще надо обдумать.
Но от Смолокура так просто не отвязаться.
Это уже не одуванчик – колючий репей.
– Одним словом хотя бы, цепляет или не цепляет?
– Одним не могу. Ну… двумя…
– Давайте двумя.
– Цепляет, но… как-то не светится… Вот так… Четырьмя словами… Даже – пятью…
Смолокур задумывается на секунду. А потом подскакивает на месте и тычет указательным пальцем вверх:
– Как радиация! Незримое, но сильное излучение! Его не видишь, но оно, тем не менее, жжет.
Делает таким образом себе комплимент.
А также – всей труппе.
Сразу чувствуется, что – профессионал.
Мгновенно соображает, как и что надо подать.
Маревин бормочет:
– Ну – может быть…
Домой он возвращается уже ближе к полуночи. Город пуст, на улицах – ни единого человека. Сияют мягкие натриевые фонари, и в их причудливых, синеватых тенях дома и деревья предстают сказочными декорациями. Горят в небе россыпи звезд, шуршит ветер в листве, нашептывая слова, которых не знает никто, мелькают в освещенных окнах странные многорукие силуэты. И кажется, что он попал в кукольный мир, где зло условно и в финале терпит крушение, где безраздельно властвует добрая магия, где счастье и любовь всегда побеждают. Где исполняются все желания, где каждый получает награду, которую заслужил.
Но он знает и то, что мир этот непрочен.
Сказка живет, пока веришь в нее.
Иллюзия есть иллюзия.
В полночь пробьют звонким боем часы, и она развеется как сновидение.
Зарождение жизни – величайшая тайна нашего мира. К объяснению этой тайны вплотную подошел американский физик Ли Смолин, высказавший догадку, что черные дыры, то есть прогоревшие и схлопнувшиеся гигантские звезды, в действительности не просто схлопываются в материальную точку с колоссальной массой и с таким притяжением, преодолеть которое не в состоянии даже свет – он так и остается заключенным внутри черной дыры – а как бы выворачиваются наизнанку, образуя с «другой стороны» пространство новой Вселенной. Причем дочерние Вселенные наследуют от материнской ее основные космологические константы – либо точно такие же, либо мутировавшие, слегка измененные.
В первом случае возникает так называемая антропная конфигурация – только в ней и возможно зарождение жизни, но главное – только в ней образуются новые черные дыры, которые дают начало новым Вселенным. А во втором случае, то есть при измененных константах, звезды либо прогорают излишне быстро, либо не образуются вообще – жизнь в итоге не зарождается, черные дыры с последующим их выворачиванием не образуются, Вселенная оказывается бесплодной, она не дает «потомства».
В общем, жизнь в череде бесконечных Вселенных возникает закономерно: больше «потомков» в ходе такого космологического отбора, напоминающего дарвиновский эволюционный отбор, имеют те Универсумы, параметры которых приводят к возникновению чёрных дыр, и эти же параметры (антропная конфигурация) благоприятствуют зарождению жизни.
И все-таки вопрос остается.
Каким образом из «звездного вещества», по сути, элементарного и распыленного в огромных пространствах, возникают сложнейшие биологические организованности – сначала первые химические соединения, затем – первые клетки, представляющие собой ансамбли взаимосогласованных органелл, потом – первые многоклеточные образования, первые растения, первые животные и наконец – человек.
Правда, основные этапы биогенеза (интегральной модели появления и развития жизни) сейчас более-менее установлены. В схематичном представлении, на примере Солнечной системы это выглядит так.
Сначала, как мы уже говорили, в кварк-глюонной плазме, образовавшейся после Большого взрыва, возникают атомы водорода, гелия, лития – идет первичный нуклеосинтез, в результате которого формируются гигантские молекулярные облака.
Далее гравитационный коллапс, сжатие материи внутри таких облаков, приводит к появлению первых звезд, а ядерные реакции в них – к образованию химических элементов со значительно большим атомным весом. Это уже звездный нуклеосинтез – формируется практически вся периодическая система химических элементов.
И в завершение, под воздействием ионизирующего излучения звезд, в облаках происходит синтез «кирпичиков жизни», простейших, но вслед за ними и достаточно сложных неорганических и органических соединений: появляются монооксид углерода, монооксид серы, окись азота, сероводород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, ацетилен, метанол, муравьиная кислота, ацетатальдегид, этиловый спирт, ацетон.
Включается процесс химической эволюции.
Одновременно молекулярное облако, вращаясь вокруг новорожденной звезды, в данном случае Солнца, также под действием сил гравитации уплотняется, образуя протопланетный диск, а из него опять-таки за счет гравитационного уплотнения возникают планеты.
Весь процесс занимает от 10 до 100 миллионов лет.
Именно так сформировалась наша Земля.
Ну а получив локальную инсталляцию, будучи уже не распределенной по всей звездной системе, а сконцентрировавшись в пределах одной из конкретных планет, химическая эволюция существенно ускоряется. В первичной атмосфере Земли, насыщенной водным паром, аммиаком и углекислым газом, пронизываемой разрядами молний, ультрафиолетовым излучением, радиоактивностью горных пород, из простейших соединений начинают образовываться по-настоящему сложные органические вещества – сахара, липиды, десятки аминокислот, нуклеотиды и, как показали исследования, даже специфические рибозимы – молекулы рибонуклеиновой кислоты, РНК, способные к хранению и воспроизведению наследственной информации, собственных копий, то есть выполняющие функции ДНК.
Таким образом подготавливается почва для жизни.
Остается сделать лишь крохотный шаг, отделяющий живое от неживого.
И вот тут возникает интересный момент. Весь этот долгий и сложный процесс химической (пребиотической) эволюции, если обозреть его в самых общих чертах, становиться похожим на разворачивание гигантского по масштабам проекта, имеющего вполне определенную цель. Причем проекта продуманного и внутренне согласованного: каждый предыдущий его этап включает в себя последующий, а каждый последующий логично вытекает из предыдущего структурно-функционального состояния.
Словно исполняется космическая симфония, осмысленная и направляемая невидимым дирижером: тот взмахивает палочкой и начинают звучать струнные инструменты, еще один взмах – и мощным глубинным течением подхватывают их мелодию духовые. А вот сквозь музыкальный пейзаж прорастает тоненький голос флейты – сперва слабенький, практически неощутимый, но постепенно становящийся сильнее, сильнее, и наконец он заглушает собою все – как трубы Судного дня…
Однако где этот загадочный дирижер?
Почему мы не видим взмахов его указующей палочки?
Можно, конечно, считать, что данная космическая симфония есть, по сути своей, осуществление Промысла Божьего. Развертывается некое провиденциальное действо, эффектный спектакль, смысл которого выше нашего понимания.
Хорошо, предположим.
Но тут сразу же возникает очевидный вопрос: зачем Богу, если уж он существует, потребовалось идти таким долгим и трудоемким путем? Зачем ему были нужны все эти кварки, глюоны, громадные молекулярные облака, процесс химической эволюции, то есть возникновение органических соединений из неорганических, зачем ему понадобились цианеи, наполнившие кислородом атмосферу Земли, в конце концов зачем ему понадобились мейоз, репликация ДНК, спонтанные и непредсказуемые мутации – весь этот громоздкий, ненадежный, медленно работающий механизм уже биологической эволюции, все эти миллионы и миллиарды лет, когда искорка жизни, зародившаяся в космической пустоте, едва трепетала, готовая погаснуть в любую минуту? Если уж Бог, руководствуясь какими-то своими соображениями, решил создать жизнь и как венец ее – человечество, то пусть бы оно и возникло сразу, все, целиком, без промежуточных и в данном случае совершенно лишних этапов. При всемогуществе, коим Он обладает, тут нет никаких особых проблем. Или, если воспользоваться метафорой, зачем Бог вместо того, чтобы направиться к цели по прямой заасфальтированной дороге, двинулся через болото, узенькой, еле заметной тропой, с мучениями выдирая ноги из чавкающей трясины?
Нет, концепция Бога явно не является убедительной.
Вера слепа.
Она дает лишь иллюзию понимания.
Можно, правда, вернуться обратно, в координаты науки, и объяснить данный феномен все той же жизнетворящей антропной конфигурацией: набор абсолютно случайно возникших констант автоматически создает и приводит в действие этот удивительный механизм.
Происходит спонтанная самоорганизация сложных систем.
Так многие и считают.
Но что служит движущей причиной самоорганизации? Изначальная асимметрия Вселенной, вынуждающая материю как бы «сползать» – двигаться по указанной траектории? Или трансляция квантовых эффектов на макроуровень, неуклонно порождающая дифференциацию, внутреннюю неравновесность, а значит и развитие тех же сложных систем?
Или тут наличествует какой-то базовый скрытый фактор, выявить который науке пока что не удалось?
Ответов на эти вопросы у нас нет.
К концу недели он все же сдается. Попытки выжать воду из сухого песка ни к чему не приводят. Он и сам ощущает себя слепленным из глинистого песчаника – при движении слышит шорох трущихся друг о друга исцарапанных, мутных кристалликов. Ему нужна встряска, нужен кульбит, такой, чтобы вскипела загустевшая кровь, чтобы со звоном стукнуло яблоко по голове, чтобы песок в колодце тяжко осел и проступила бы сквозь него драгоценная влага.
Он перелистывает смс-ки, пришедшие к нему за последние дни, звонит в Клуб литераторов, тот самый, что жаждет пообщаться с Настоящим Писателем, и говорит, что готов провести у них мастер-класс – идиотское слово, но почему-то вытеснило привычное «встреча с читателями».
На том конце захлебываются от восторга:
– Когда угодно!.. В любой день!.. В любой час!.. Мы вас ждем!..
Договариваются они на завтра, на пятнадцать часов. Но уже в четырнадцать на другой день раздается звонок: референт сообщает, что Маревина внизу ждет машина.
– Да тут пешком дойти всего ничего.
– Это Терентий Иванович распорядился, так нам будет спокойнее…
И в самом деле перед Домом культуры уже скопилась толпа, человек триста-четыреста, машут флажками, приветственно вскидывают ладони, встречают как поп-звезду: выкрики, пищалки, аплодисменты, поднятые для съемки сотовые телефоны… Машина, издавая короткие предупреждающие гудки, медленно, упорным жуком, пробирается сквозь них к зданию.
– Не ожидали такого наплыва, – говорит референт. – Хотели перенести встречу в актовый зал, но воспротивился Виляков, руководитель Клуба, сказал, что это – только для членов его творческого объединения.
Вот тебе и спокойный город!
А на ступенях, ведущих к парадному входу, его уже ожидает мэр, лично Терентий Иванович, в джинсах, в клетчатой простецкой рубашке, похожий на американского фермера – наряд, подчеркивающей дружескую неофициальность. Приходится встать рядом с ним, на них тут же нацеливаются зрачками два монитора, и мэр говорит, явно для слушателей и зрителей, что он рад приветствовать выдающегося писателя, неутомимого деятеля культуры, автора многих замечательных книг, и от лица всех сограждан хочет выразить ему благодарность за то, что он согласился жить и творить в нашем городе!..
Стаей птиц вспархивают аплодисменты.
– А теперь хочу сообщить вам важную новость. Замеры, которые мы регулярно проводим, однозначно показывают, что расширение этих… наших… Проталин… резко замедлилось. Можно даже сказать, что оно практически остановлено. Да-да, дорогие сограждане, угроза, надвигавшаяся на нас, встретила решительное противодействие. И за это мы тоже должны быть благодарны нашему гостю!..