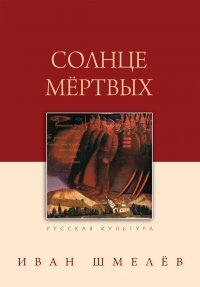Читать онлайн Еловые лапы бесплатно
- Все книги автора: Иван Шмелёв
© А. М. Любомудров, составление, предисловие, 2024
© «Сибирская Благозвонница», оформление, 2024
* * *
«Праздничные герои» детских книг Ивана Шмелёва
В этой книге собраны рассказы Ивана Шмелёва, которые будут интересны для юного читателя.
Замечательный русский прозаик, классик нашей литературы, Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950) начинал свой творческий путь с рассказов и повестей для детей. И позднее юные персонажи часто становились героями его произведений. Писатель никогда не забывал свое детство, с ним были связаны самые светлые воспоминания.
Много соблазнов терзали душу русского человека в начале века XX, проникали они в литературу, но Шмелёв уже тогда противопоставил им простые истины – доброту, справедливость, скромность. И любовь. Конечно, писатель отчетливо видел грустные и мрачные стороны жизни, но всегда стремился вывести своих маленьких героев и своих молодых читателей из тьмы к свету. Суровой жизни, в которой есть жестокость, ложь, несправедливость, Шмелёв противопоставлял лучшие человеческие качества – дружбу, сострадание, милосердие, веру, доброту, чистоту. Первый сборник начинающего писателя так и назывался – «К светлой цели».
«И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – сказал Пушкин. Шмелёв следует завету классика: его книги пробуждают добрые чувства. Его художественные образы рождают в душе подростка серьезные мысли и глубокие переживания. Прочитав рассказы Шмелёва, Корней Чуковский признался: «Всю ночь просидишь над ними, намучаешься и настрадаешься, и покажется, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал или ты кого-то простил. Вот какой у этого Шмелёва талант! Это талант любви».
Открывает нашу книгу сказка Шмелёва «К солнцу». Это одно из первых произведений писателя, и оно стало как бы эпиграфом ко всему его творчеству. Долгие десятилетия она оставалась забытой, ее не найти ни в собраниях сочинений, ни в сборниках Ивана Сергеевича. А ведь она вполне достойна войти в число лучших литературных сказок мировой литературы, где героями выступают птицы и звери. Писатель создал трогательный образ молодого журавлика, который был ранен, потерял родителей, томился в чужом доме и наконец нашел в себе силы бежать, взлететь к родной стае и вместе с ней устремиться в светлый полет – туда, где сияет на небе солнце.
Несколько рассказов также посвящены животным и птицам. Сколь поучителен «Мой Марс» – так звали собачку на теплоходе, которую все не любили, ругали, даже мечтали от нее избавиться, но бросились дружно спасать, когда она оказалась за бортом. Это маленький шедевр Шмелёва, в котором серьезная тема – сострадание к живому существу – воплощена легко, с добрым юмором. Остро психологичен рассказ «Последний выстрел», герой которого, органически неспособный на убийство, в отместку за унесенного любимого королька начал стрелять в ястребов, но дошел до полного отвращения к тому, что он наделал, и всеми силами пытается спасти раненного им птенца.
Глубочайшего уважения к писательскому труду и к книге исполнен рассказ «Полочка». С литературой связаны и воспоминания «Как я стал писателем», показывающие пробуждение и взращивание творческого дара в ребенке, и три рассказа о встречах с Чеховым. Но в центре их не классик, которого случайно увидели в детстве, а сами мальчишки – автобиографический герой и его замечательный товарищ Женька. Они увлечены игрой в индейцев, приключенческими романами, рыбалкой. Это мальчики-друзья – живые, бойкие и сердечные натуры.
Образ школьного учителя, всю свою жизнь положившего на просвещение детей, его трудная работа воспеты в «Письме без марки и штемпеля». Этот рассказ полон непосредственной прелести по красоте сюжета и поэтичности содержания. И на юные, и на взрослые души благотворно подействуют трогательные строки ученика, давно покинувшего родной край и вдруг вспомнившего старого одинокого учителя: «Наши маленькие руки, которые ты учил держать перья, теперь окрепли! Наши темные головы теперь светлы, наши слабые сердца – сильны и бьются горячо… Мы, когда-то болтливые и шаловливые, теперь всматриваемся и думаем. И это сделал ты. И все, что видишь ты вокруг хорошее, все это твое».
Дети – любимые герои Шмелёва, и он прекрасно умеет отобразить душевную жизнь маленьких героев, наделяя их всеми привлекательными чертами детского характера: непосредственностью, живостью впечатлений, простодушием, отзывчивым сердечком. В «Праздничных героях» эта доброта, сострадание к убогим, неказистым, обделенным жизнью людям показана как национальная черта, она прочно входит в жизненный уклад. Любовное единение людей происходит в религиозный праздник, перед читателем живо встает русская старинная действительность, чувствуется атмосфера простых отношений, сближение разных людей – ведь оно так дорого автору.
Забавные сценки из детства, из школьной поры, овеянные светлой дымкой памяти, согретые душевным теплом автора, окрашенные добрым юмором, читатель найдет в рассказах «Весенний ветер», «Как я покорил немца», «Миша», «Русская песня».
В годы лихолетья Шмелёв написал самую мрачную, самую страшную книгу о русской катастрофе – «Солнце мертвых». И сам тогда чуть не погиб от безысходности, от тоски по расстрелянному сыну. Ведь если так и не увидеть солнца живых – Солнца Правды, остается только умереть. И Шмелёв нашел источник света – в своем православном детстве. Если сохранилось в душе человека одно-два вынесенных из детства прекрасных воспоминания, то «спасен человек на всю жизнь», – говорил Достоевский. Сколько раз на нашей памяти сбывались эти мудрые слова! Трогательные исповедальные страницы Шмелёва повествуют о том, как происходило его личное спасение от ужаса, от тьмы, страха и тревоги. В чуткой памяти художника всплывают пасхальные дни детства, вспоминается пасхальное яичко: «Вот оно, святое, у киота. И мне не страшно. Свет от него, и Ангел ласково глядит мне в сердце». Эта пережитая в детстве встреча, эти «счастливые слезы» оставались со Шмелёвым до конца дней.
В книгу вошли рассказы, где нашла отражение православная вера Шмелёва. Самые ранние детские впечатления навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и вербную неделю, и «стояние» в церкви, и путешествие через старую Москву. Громко звучит здесь мотив радости, которую дает человеку приобщение к православной вере. Благостная детская русская душа воссоздана в рассказе «Еловые лапы», чудесная помощь святых засвидетельствована в новелле «Угодники Соловецкие».
Самую лучшую, самую известную книгу «Лето Господне» Шмелёв создал, рассказывая в далеком Париже своему маленькому племяннику Иву про старинную русскую жизнь, про Рождество в Москве. Несколько рассказов о праздниках включены и в наше издание. Шмелёв обращается к годам далекого детства и смотрит на себя самого, когда-то по-детски доверчиво принявшего истину. Праздник Церкви становится праздником детской души, когда все вокруг воспринимается обостренно-радостно, когда рождается особенный, полный чудес, волшебный мир. К этим рассказам вполне применимы евангельские слова: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Папа, мама или бабушка много внесут доброго в душу своего маленького чада, если будут читать ему странички из этой книги.
Для чистой детской души бытие открывается прежде всего своей светлой, радостной стороной. Как писал друг Шмелёва, русский философ Иван Ильин, «это воображение, насыщенное трепетом сердца. Здесь каждый миг взят любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением; здесь все лучится от сдержанных, не проливаемых слез умиленной и благодарной памяти. И такова сила этих непролитых художником слез, что у читателя они то и дело накипают в сердце. Шмелёв показывает нам Россию и православный строй ее души – силою ясновидящей любви»… Ребенок ощущает мир святости, принимает в свое сердце Бога. Ильин отмечал, что изображенное писателем – не то, что было и прошло, а то, что «есть и пребудет. Это сама духовная ткань верующей России. Это дух нашего народа». И действительно: если в прочих рассказах описывается жизнь, уже ушедшая в прошлое, упоминаются предметы и профессии, ныне уже утраченные, то церковный быт, богослужение остаются неизменными из века в век. И сегодня, придя в храм на Рождество или на Троицу, ребенок увидит точно те же обряды и таинства, что наблюдал когда-то маленький Ваня Шмелёв. Трогательное и глубокое переживание первой исповеди и причастия помогут понять смысл таинств и современному подростку.
Завершает нашу книгу произведение редкого для Шмелёва драматургического жанра – пьеса-сказка «Догоним солнце». Это доброе светлое произведение рассчитано на маленьких читателей. Пьесу можно читать в лицах, а можно поставить дома или в садике.
Шмелёв – писатель, который дарит светлую радость. А таких литераторов немного. Посмотрите, как искрится, переливается, сверкает свет в его произведениях! Как воздух нам, русским людям, нужны сегодня свет, радость и милосердие. И взрослым, конечно, и особенно детям – чтобы запастись ими на всю жизнь. И тем, по слову Достоевского, спастись.
А. М. Любомудров
К солнцу
«Догоним солнце!»
Утреннички становились холоднее. Солнце всходило поздно и раньше садилось. Удлинялись ночи, гуще спускались туманы. Осенний багрянец заменял зеленое лето.
Когда раз на зорьке первогодок-журавль, перелетев, по обыкновению, мокрый лужок, ступил в воду, он поспешил подобрать под крыло ножку и съежился от холода.
«Странно, – думал он, – какая холодная вода! Нельзя и пополоскаться… за ноги стала кусать…»
Покачав в раздумье головой, он клюнул высунувшегося из воды лягушонка, промахнулся и выпрыгнул на кочку.
– И какой туман!.. – сказал он, задумчиво осматриваясь по сторонам. – Неужели будет все холоднее? Что же сделалось с солнцем?
Журавлик вспомнил, что за последние дни вода стала холодной, меньше попадалось лягушат и водяных жуков; жестче стали болотные травы.
Особенно взгрустнулось ему, когда он вспомнил, что частенько в последнее время приходилось засыпать голодным. А как хорошо было летом, когда ночка была короткая-короткая!.. Сколько потехи было, когда вокруг прыгали лягушата, трещали кузнецы, и зоб был так туго набит, что трудно было ходить! А теперь!
Лягушонок опять выставил голову около самой кочки, втянул воздух и квакнул. Журавлик опять быстро ударил клювом и… вытащил болотную грязь, а лягушонок уже был далеко и опять выставлял голову с глупыми глазами.
– Кончилась ваша власть, кончилась!.. – заквакал он. – Много вы нашего брата погубили… Теперь, друг, не так-то легко по болотам ходить да разбойничать: зима, брат, близко!
– Зима? – спросил рассерженный и голодный журавлик. – Это что же такое?
– Не знаешь, брат… Скверная вещь! Я уже одну перетерпел. Холода пойдут, повалит снег белый-белый… а вода пропадет…
– Как пропадет? – спросил изумленный журавлик.
– Так и пропадет, – твердая будет. Стукнешь ты в нее носом, а она не пустит его, – как в дерево ударишь… вот что! Нас-то, брат, тогда не достанешь: мы в такие места запрячемся, что и днем с огнем не найдешь… да-а! В грязь залезем и будем себе спать, – всю зиму-то и проспим.
– А мы-то как же?..
– Ну, уж это ваше дело! Я так полагаю, что всем вам крышка будет.
– Крышка? Какая крышка?
– А! И этого не понимаешь?.. Ну, прощай! Холодно мне с тобой, глупцом, разговаривать.
И лягушонок нырнул.
Раздумье охватило журавлика.
«Зима! Не врет ли этот скверный лягушонок?»
В это время возле опустилась стайка журавлей.
– Ага! Вот где ты! – сказала журавлиха. – А мы-то тебя искали!
– Смотри, брат, не надорвись! – строго сказал журавль-отец. – Вот скоро вам тяжелое дело предстоит… Как-то вы в дороге окажетесь…
– В какой дороге? – спросил журавлик.
– Скоро увидишь… – сказал старый журавль и стал шарить клювом в воде.
– Плохо дело… плохо… – жаловалась журавлиха, не находя пищи, – одна глина да песок. Ты-то нашел ли что? – спросила она журавлика.
– Был тут лягушонок – все увертывался, да и холодно в воду лезть. Но зато я узнал многое.
– Что такое?
– Лягушонок говорил мне про зиму, говорил, что всем нам будет какая-то «крышка», придет зима, и вода пропадет. Правда это?
– Правда.
– И всем нам будет «крышка?»
– Врал тебе лягушонок. Видит, что глуп ты.
– Азима-то!..
– Ну что ж, что зима!.. Ничего не значит. Это ему зима страшна, а мы – сильные птицы: нам зима не страшна.
– А солнце-то как же? Ведь оно уходит от нас… ночи длиннее стали… – печально сказал журавлик.
– Догоним солнце! – сказал старый журавль.
– Догоним, догоним! – звонко закричали все журавли и захлопали сильными крыльями.
И у журавлика весело стало на сердце, когда услыхал он эти бодрые крики.
«Лягушонок, такая мелкота, зимы не боится… а я… ведь я могу лететь к солнцу, – и будет тепло…» – подумал он.
– Догоним солнце!.. – весело крикнул журавлик и сильными взмахами потянулся за стаей.
Стая летела к знакомому лугу; туман расползался, солнце начинало греть, и воздух вздрагивал от веселого журавлиного крика.
– Курлы-курлы-курлы!.. догоним солнце! к солнцу!.. – гремела песнь журавлей.
Сборы в дорогу
В непроходимом, кочковатом болоте собралась журавлиная стая. Журавли что-то беспокоились, прыгали, кружились, точно плясали вокруг своих гнезд, на кочках, и часто хлопали сильными крыльями.
– Какое веселье у нас сегодня! – сказал журавлик матери. – Почему это?
– Сегодня мы ждем товарищей по пути… Скорее и в дорогу тронемся. Наступают холода. Пора в путь – к теплым водам. Там солнце греет, там высокие травы. Пора за море!
– А что такое море? – спросил журавлик.
И мать стала говорить ему про далекие страны, про теплые моря, громадные реки, поросшие высоким папирусом, раскинувшим над водою разрезные зеленые зонтики, про тучные луга и болота, где много разных птиц собирается и находит себе пищу и кров.
– И ты была там? – с восхищением спрашивает журавлик. – И ты все видела своими глазами?
– Да, – говорила журавлиха, – все видела: и море, и высокие горы, и поля, засеянные вкусным рисом. Там солнце яркое-яркое… и вода теплая… хорошо там!
– Зачем же вы улетели оттуда?
– Привыкли мы так. Весной здесь мы строим гнезда, выводим детей и ждем не дождемся, когда опять наступит пора лететь за море. Теперь время наступило. Смотри-ка! Вон и товарищи наши!..
В воздухе гремели веселые крики: «Курлы-курлы…» Над болотом появилась большая стая журавлей, летевших углом, и медленно опустилась.
Шум увеличивался. Должно быть, журавли сообщали новости, совещались, строили планы, готовились к дальней, опасной дороге.
Да, опасной! Не все долетят до теплого моря: кто заболеет в дороге, кого захватит дождь, смочит крылья, а потом вдруг грянет мороз, – и тогда пропадай; кто попадет под выстрел, кто ослабеет от долгой дороги и отстанет. Но ничто не смущает их. Им нужно солнце, и они летят сквозь тучи, под дождем и ветром, мощно рассекая крыльями воздух, звонко испуская ободряющие крики: «Курлы-курлы». Они солнце догонят!
Весело было журавлику: он не один полетит.
– Как много нас! Как много нас! – шептал он, расправляя крепкие крылья.
– Журочка! – сказал он подруге, – ты никогда не видала моря?
– Никогда. А ты?
– Нет, и я не видал… Вот что, Журочка… давай полетим рядом, будем помогать друг другу. Я буду тебя охранять. Что ты такая грустная?
– Мне жалко нашего гнезда. Оно останется здесь. И болотца мне жалко. Милое, милое болотце!..
Журавлик посмотрел вокруг, и его сердце сжалось: ему вдруг стало жаль и болотца, и гнезда, и тех минувших теплых дней, когда он весело прыгал по кочкам, гонялся за стрекозами и ловил лягушат. Он вспомнил, что здесь он учился летать, падал в воду, без толку хлопая крыльями.
К вечеру прилетела стая. Ночью подлетали еще. Шум и гомон стояли над болотом.
– Как много нас! Как много нас! – шептал, засыпая, журавлик. – Мы, наверное, догоним солнце!
В дорогу
Журавлик проснулся рано. Солнце еще не поднималось из-за дальней каймы лесов. Легкий туман клубился над болотом. Сотни журавлей там и сям стояли на кочках, поджав одну ногу и ощипываясь.
За ночь подлетело много новых стай. Журавлик весело повертывал длинной шейкой и удивлялся.
– Как много нас! – гордо говорил он, чувствуя, что затевается что-то особенное.
Тревожный крик раскатился по болоту. Ему ответили такие же крики. Это кричали старые журавли.
– В дорогу!.. В дорогу!..
Задрожало сердце журавлика.
На самой высокой кочке стоял старый журавль, и его-то пронзительный крик повторили все журавли.
Захлопали крылья, и с одной стороны болота поднялась в воздух журавлиная стая.
Журавлик следил. Стая взвилась высоко-высоко, как будто остановилась в воздухе, вытянулась углом и потянулась ровно и плавно на юг.
«Курлы-курлы-курлы…» – звенело с неба, и оставшиеся на болоте отвечали смелым путешественникам.
– А мы-то когда?
Журавлик вертел головой, переступал с ноги на ногу. Он ждал отца и мать.
– Ну, сейчас и мы в дорогу! – сказал подошедший журавль-отец. – Пора!.. Полетим все, кто жил на этом болоте. Посмотри кругом хорошенько, журавлик… Случится на лето лететь сюда с моря, – меня не будет, – так запомни место. А когда полетим, примечай дорогу, смотри, как реки текут; замечай, где леса, города стоят, где солнце опускается. Помни одно: теперь полетим к солнцу. Ты полетишь за мной, Журочка рядом. Делай то, что и я!..
Снова пронзительно крикнул с высокой кочки старый журавль.
– Теперь наша стая. Раз… два… три!..
Стрелой взвился журавлик, рассекая воздух крепкими крыльями. Радостный крик вырвался из его груди: «Курлы-курлы!..»
Прощай, болото!.. Прощайте, старые гнезда!..
Снова стало жалко ему покинутых мест: жалко стало гнезда, родных кочек, даже лягушонок сделался ему точно родным. Вспомнил журавлик, что этот хитрый лягушонок сидит теперь в темноте, в грязи, в холодной воде. Придет зима, замерзнет вода, – завалится лягушонок в грязь и замрет. А он, журавлик, будет тогда там, на море, в новой стране.
Болотина пропала… Внизу – леса, река вьется в кустах. Вон, в стороне, деревня. Яркая полоса сверкнула в воздухе. Из-за края земли поднималось огромное багровое солнце, и радостным криком встретила его журавлиная стая.
В лесу
Журавлик третий день был в пути. Все шло хорошо. Погода ясная, ветра не было. К ночи стая опускалась в глухих болотах – покормиться и отдохнуть.
Вожак стаи, самый старый журавль, становился с опасного края болота и с высокой кочки зорко смотрел кругом, всегда готовый пронзительным криком предупредить об опасности.
– Теперь, я думаю, скоро прилетим… – сказал журавлик, когда стая опустилась отдыхать в глухом торфяном болоте. – Замечаешь, Журочка, как солнце сильно грело сегодня?
– Да. А как сегодня весело было лететь!.. Внизу я видела большие белые камни, что-то сверкало там, как солнце, и слышался звон.
– Это был большой город. Там живут люди. А мне страшно было что-то. И отец говорил мне, что лететь над городом страшно.
Ночь выдалась холодная, темная. Усталые журавли спали, – кто подвернув голову под крыло и стоя на одной ноге, кто опустившись на кочку. Старый дозорщик-журавль неподвижно стоял с краю, зорко глядел в темноту сентябрьской ночи и слушал.
В воздухе послышался свист. Журавлик насторожился.
– Что это? – спросила, проснувшись, Журочка.
– Это утки пролетели… они тоже летят за солнцем… Спи, Журочка, спи!..
И они заснули.
Туман висел над болотом – густой, холодный. За болотом в лесу слышались плаксивые крики совы. Рассвет приближался.
– В дорогу!.. В дорогу!.. – прокатился тревожный призыв журавля-дозорщика.
Стая проснулась, взвилась, а следом за ней грохнул выстрел.
– Курлы… курлы… курлы!.. – гремели в воздухе тревожные крики.
Что-то ударило журавлика в ногу.
«Что такое? У меня темнеет в глазах», – пробежало в его голове.
Острая, жгучая боль пронизала его; и вдруг он почувствовал, что крылья начинают слабеть.
– Журочка!.. – крикнул он слабым голосом, – Журочка!.. я устал… я не могу лететь!..
А крылья все более и более слабели.
– Журочка!.. – едва слышно крикнул он и стал спускаться к земле.
Тревожный крик загремел в воздухе, стая остановилась и начала опускаться.
А журавлик уже лежал на земле, на лесной поляне, возле болотца. Из раненой ноги его текла кровь, глаза заволакивались перепонкой, грудь трепетала.
Громко кричали журавли, кружились в воздухе, поднимались вверх и снова падали, точно призывали товарища. Но все было тщетно: журавлик не двигался.
Подымалось солнце. Золотом загорелись вершины. Далеко в стороне грянул выстрел.
– В дорогу!.. Скорей! Все в дорогу!.. – тревожно крикнул вожак, и стая потянула на юг.
Прощай море, Журочка, большая река!.. Прощай, горячее солнце!
Наступал вечер. Тени ползли по лесному болотцу. Солнце пропадало за стволами берез.
Журавлик открыл глаза… Никого не было…
– Где же все? Где отец, мать, Журочка?.. – спрашивал он себя. Жгучая боль напомнила все.
Его охватил ужас.
«Смерть… смерть…» – подумал журавлик.
Он вспомнил лето, там… на родных гнездах, родные кочки, отца, мать. Журочку. Он вспомнил горячее солнце.
– А море? А теплые воды?.. Неужели я никогда не увижу их? Неужели смерть?..
Становилось холодно.
– Солнце, солнце!.. – стонал озябший журавлик.
Но солнце уже зашло, начинал надвигаться туман.
– Я не хочу умирать… не хочу… – шептал журавлик. – Я хочу видеть солнце, я хочу видеть море, большую реку с зелеными травами… я хочу видеть Журочку, мать, отца!.. Я догоню их!..
Собрав последние силы, он вспрыгнул на кочку, расправил крылья и поднялся в воздух. Взмах, другой. Вот и край болота. Еще бы один взмах, – и пропала бы лесная поляна, внизу лес, впереди родная стая. Ее можно нагнать на ночлеге. Но мешают лесные вершины.
Силы пропали, журавлик крикнул и опустился.
Смерть… смерть…
Жалобно плакала сова в лесной чаще.
Журавлик не видал, как на поляну вышел лесник с мальчиком.
– Ишь ты… журавель… – сказал лесник. – Смотри-ка, Гришутка! Уморился, знать, с дороги… отстал, горемыка.
– Тятька, да его никак подшибли! Глянь-ка, как нога-то вывернулась.
– Подшибли и то… Экой народ! Диво бы дичь, а то, накося вот, на што позарились.
– Тятька, возьми-ка его, потрожь за голову-то! Может, он не дохлый.
Лесник взял журавлика за клюв и приподнял.
Журавлик открыл глаза, встрепенулся, зашипел от страха и клюнул лесника за палец.
– Ах, ты, гадина, гадина!.. Подыхать собрался, а тоже… клюешься.
– Тятька! Может, она отойдет… а?.. Возьмем в избу ее. Тятька! Возьми… а, тятька!..
– Ладно! Не канючь! Да куда я его на зиму-то уберу? Он зимы пуще смерти боится.
Лесник подумал.
– Разве вот на усадьбу снести!.. Ну, ладно, Гришка, возьмем.
Он захватил журавлика одной рукой за клюв, другой под живот и понес в лесную сторожку.
В лесной сторожке
Когда журавлик открыл глаза, он почувствовал приятную теплоту. Он лежал на печке, в большой корзине с сеном. Нога сильно ныла. С удивлением увидал он на ноге повязку из тряпки, рванул клювом раз, другой; нога еще сильнее заныла. На печке сидел Гришутка и наблюдал.
– Ага, отогрелся… Не сдерешь, брат, не сдерешь! Ишь, старается… во-во… ну-ну, долбани еще… так… так… не любишь!.. устал. Хошь есть-то, а? Только, брат, не клюйся! Или воды хошь?.. Будет тебе и вода.
Гришутка втащил на печь шайку.
– На, лакай! Суй нос-то.
Журавлик почуял воду, но при Гришутке пить не хотел.
– Боишься все, долгоносая шельма. Дай-ка нос-то, я его окуну.
Гришутка ухватил Журавлика за клюв и тотчас отдернул руку.
– Ишь ты… – смутился Гришутка и отодвинулся. – Змеей шипишь. Не будь нас с тятькой, пропадать тебе в лесу… а ты вот шипишь. Пей воду-то! Ну, уйду я.
Гришутка слез с печи и спрятался.
Журавлик осмотрелся, прислушался и стал пить.
– Уж и хитрый ты!.. Опять шипишь! – сказал обрадованный Гришутка, появляясь на печке. – Сейчас хлеба тебе притащу, ситного хлеба. И заживешь ты, братец мой, – вот как хорошо заживешь! Харч тебе готовый… не то что на болоте. Да не шипи ты, шипелка ты этакая.
Теплота разморила журавлика: он закрыл глаза и заснул. Ему снилось родное болото, стаи журавлей, синее небо. Снилось ему, что летит он с родной стаей, режет крыльями воздух; рядом с ним серая Журочка звонко кричит: «Курлы-курлы»… а впереди солнце горячее и желанные теплые воды.
Новый мир
На другой день лесник отнес журавлика в соседнюю усадьбу. Пленник был встречен с восторгом. Сын владельца усадьбы, десятилетний Сережа, получил журавлика в полное обладание, леснику дали на чай целковый, и для журавлика началась новая жизнь.
Тотчас же приступили к лечению. Был вызван повар Архип, связал журавлику крылья и опрокинул его на стол. Журавлик замер от страха.
– Вот она, смерть… – пронеслось в его голове.
Сильные руки Архипа, как тиски, держали его; но он не хотел умирать: он раздвигал клюв и шипел.
Повязка была снята.
– Кость цела… – сказал повар, – а рана порядочная.
Рану промыли, присыпали йодоформом и забинтовали. Журавлик перестал шипеть.
– Вот, Сережа, у тебя теперь больной на попечении. Наблюдай за ним хорошенько! – сказал отец.
Журавлика поместили на дворе, в прачечной.
Оставшись один, журавлик, хромая, прошелся по новой квартире, с непривычки ударился клювом в стену, повернулся и чуть не упал на гладком полу. Мрачным, неуютным показалось ему его жилище: не хватало воздуха, травы, неба, знакомых кочек.
Тянулись скучные дни. Нога поджила, и повязка была снята.
– Ну, журавлик, теперь нам можно и погулять! – сказал раз Сережа. – Только не улети, смотри.
С этими словами Сережа надел журавлику на ногу ремешок, затянул петельку и вывел во двор.
Был ясный, прохладный октябрьский день. По усыпанному песком двору грустно ходил журавлик. Он было попробовал взлететь, расправил крылья, взмахнул, но ремень дернул ногу, и журавлик упал.
– Все равно нельзя улететь… – сказал Сережа, – да куда бы ты полетел? Теперь осень, все журавли далеко-далеко. Все равно ты погиб бы. Лучше живи со мной, будем друзьями!..
Журавлик проводил на дворе весь день. На ночь его отводили в прачечную.
Но на дворе журавлик был не один.
По двору на солнышке гуляли куры, валялся Шарик, важно прохаживался индейский петух, уважаемый всеми обитателями за строгость и важность. Голуби копошились у колодца, воробьи возились около курятника и таскали корм. На крылечке дремал старый кот Мурзик.
Когда журавлик впервые появился во дворе, все были поражены, даже испуганы, Мурзик скатился с крылечка, зашипел, изогнул спину, фыркнул и успокоился. Журавлик не обратил на это никакого внимания. Шарик лениво полаял, больше для очищения совести: «Знайте, мол, что я все вижу, а если что случится, – я ни при чем». Куры покудахтали с испуга; петух разлетелся было, предположив опасность, остановился в трех шагах от журавлика и попытался нагнать страху криком, но журавлик и на петуха не обратил внимания. Но особенно взволновался индюк. Он распустил веером пышный хвост, надулся и рявкнул:
– Вот так чучело!.. Урода привели!..
– Зачем вы меня обижаете? – сказал журавлик. – Я здесь не по своей воле. Я хочу улететь далеко… на море!..
– Рассказывай! знаем мы вас! Суетесь в чужое место с длинным носом. Да я и говорить-то с вами не хочу… дурак носастый!..
С этими словами индюк гордо отошел в сторону, долбанув по дороге растерявшуюся курицу.
– Какой злой!.. – подумал журавлик.
– Скажите, пожалуйста, – обратился он к стоявшему невдалеке петуху, – с чего это он такой сердитый?
Петух был польщен вниманием.
– Он, вообще, глуп, – сказал он. – Он считает себя здесь первым и по своей глупости не замечает, что он такой же, как и все мы. Придет время, – зарежет его Архип… Я это очень хорошо знаю… Вот на днях такого же зарезали. И меня зарежут, и всех.
Журавлик встрепенулся.
– Да вы не бойтесь!.. вам что!.. ведь журавлей не едят! Я это тоже очень хорошо понимаю. Я старый петух, шестой год мне идет.
– Вы уверены?..
– Положительно. Была у нас тут цапля, тоже вот на цепи ходила, а потом состарилась и померла. Так вот повар наш Архип все, бывало, говорил: «Вот, – говорит, – хоть и велика Федора, да дура, – есть все равно нельзя». Вот меня зарежут, это верно, – скоро зарежут, а вас нет.
Журавлик был поражен, что петух так спокойно рассуждал о смерти.
– И… и вы не боитесь?!.
– Что же делать?.. судьба!.. – сказал петух. – Вы потолкуйте-ка вот с Мурзиком, – он у нас ух какой умный! – он вам так все объяснит, что и думать не придется. Он мне все растолковал: «Чего, говорит, тебе без толку на старости-то лет по двору ковылять? По крайности, от тебя какая ни на есть польза будет: зарежет тебя Архип, а потом съедят, да и мне кой-что перепадет». Вот как ловко объяснил! Он мудрый…
– А, скажите, цапля-то?.. не пробовала улететь?
– Цапля-то?.. Улетала. Только ее опять изловили на поле, а потом ей Архип крылья и обрезал! – сказал петух. – Я вам советую и не думать об этом; вы своих потеряли!..
Журавлик уныло опустил голову и задумался.
– Ну, простите, мне некогда.
Петух шаркнул ножкой и отошел.
– Петух, кажется, очень хороший малый, – подумал журавлик. – Но как скучно, как скучно.
Так шли дни.
«Разве это жизнь?» – думал журавлик, стоя в тоске у кола.
«Надо подчиняться обстоятельствам»
Дни становились холоднее. Раз даже повалил снег, и Журавлик вспомнил лягушонка.
– Это, должно быть, зима. Как холодно! Ой, как холодно!
Журавлика убрали в прачечную и уже более не выпускали на воздух.
– Где-то Журочка? – вспоминал он, сидя за печкой на сене. – Там теперь солнце, там зеленая травка, весело носятся журавли, играют… А меня забыли… И Журочка меня забыла.
Ему становилось скучно и душно в теплой прачечной, за печкой. Тогда он, обыкновенно ночью, подымался с сена, подходил к окошку и начинал клювом соскабливать снежок со стекла.
За окном видел он белый, сверкавший при лунном свете снег, видел на небе звезды, и ему вспоминались тихие звездные ночи на родном болоте, кваканье лягушек и тревожные крики старого журавля-дозорщика.
В такие тяжелые минуты он вспоминал даже лягушонка.
«Спит он теперь где-нибудь в норе под кочкой; хоть и холодно, а зато на воле. Придет весна, оттают болота, и опять оживет. А я буду все тут же… в неволе…»
Как-то раз выдался особенно тоскливый день. С самого утра валил густой снег, а к ночи поднялась метель, жалобно выл в трубе ветер, громко хлопали ставни господского дома. Кот Мурзик забрался в прачечную и завалился на печь, а журавлик забился в сено и тосковал по родной стае, по солнцу, по Журочке. Тосковал и заснул.
И приснилось ему роковое лесное болото.
Ему снилось, что он падает на ослабевших крыльях, а над ним носится родная стая.
Вот отец хочет снизу поддержать его крылом, мать издает жалобные крики, Журочка трепещет и плачет, и вдруг громкий тревожный крик вожака: «В дорогу! скорей!»…
И крикнул во сне журавлик страшно, жалобно, так что старый Мурзик, как полено, слетел с печки, засверкал глазами, зашипел, и шерсть на нем поднялась дыбом.
– Вы с ума сошли?! – злобно мяукнул он. – Весь дом всполошили!.. Добрым людям покою не даете. Нахальство какое! Я чуть было голову не расшиб из-за вас!..
Журавлик молчал.
– Ну, вот вы и молчите… видно, что сознаете вину… – сказал Мурзик уже мягче. – Вы что думаете! Я ведь отлично понимаю ваше положение… отлично! Но… послушайте! Вы, конечно, не можете забыть прежнюю жизнь, да?..
– Да! – сказал журавлик. – Так… здесь… я не могу жить! Здесь смерть. Я хочу видеть солнце, я должен строить гнездо.
– Хе-хе-хе… – засмеялся старый Мурзик. – Вы слишком молоды и потому наивны. Солнце!.. Вы видите солнце, когда вас выпускают. Гнездо!.. У вас прекрасное гнездо… здесь… за печкой.
– Ах, поймите… я хочу видеть море, я хочу видеть небо, высокие травы… я хочу видеть Журочку, отца, мать… я хочу летать!.. А здесь… за печкой… мне душно. Я хочу воздуху!
Мурзик так и заходил на всех лапках.
– Вот вы все говорите – «я хочу… я хочу…» А я вот цыплят хочу, да нет их, лето не пришло!.. Мало ли мы чего хотим! Вы на меня посмотрите! Вот, я всем доволен… а если и хватит иной раз Архипка сапожищем, так плевать! Скажу вам по секрету, можно очень и очень мило и здесь проводить время.
– Эта жизнь не для меня… – сказал журавлик.
– Надо подчиняться обстоятельствам! Да-с! Вы доставляете удовольствие Сереже, вы даже своей особой так его привлекаете, что он и на меня внимания не обращает. Я это так, к слову пришлось. Вы должны быть благодарны, что не погибли в лесу. Живите-ка с нами, угождайте хозяину, и будет все прекрасно. Я вот живу.
Журавлик возмутился.
– Да ведь вы здесь родились! Вы не знаете, как приятно стоять на болоте, когда туман начинает уплывать к небу, как приятно кружиться и кричать в воздухе, встречать солнце и дышать полной грудью!
– Да… конечно… но… Впрочем, толку никакого не будет, если вы будете тосковать и болтать о пустяках. Подчинитесь обстоятельствам, так как… – хотя мне это и неприятно, – я должен вас предупредить, что придется вам здесь помереть.
– Нет! – решительно сказал журавлик, – этого не будет!
– Поживем – увидим. Простите, я спать хочу. Только не орите, пожалуйста, своим диким голосом… не мешайте спать мне и господам, которые вас держат из сострадания.
И Мурзик ушел на печку.
Терзания. Друг
Наконец кончилась страшная, долгая зима. Снег почти стаял, неслись потоки с гор, прилетели с юга грачи. Журавлик снова тоскливо стоял на дворе у кола, подняв голову к небу. Он смотрел на весеннее солнце, он слушал весенний шум, рокот потоков, он ловил жадным взором быстрые облака.
День выдался теплый, тихий. Солнце грело, тополя налили почки, в воздухе плавал тонкий аромат пробуждающейся зелени.
Голуби возились на крышах и ворковали неумолчно. Воробьи носились стаями как сумасшедшие. Индюк рявкал победоносно. За зиму он, казалось, потолстел втрое: так пышно топорщились его крылья, и веером раздувался хвост. Петух орал на помойной яме. Мурзик валялся на солнышке, щуря глаза и мурлыча. А журавлик стоял, подняв голову к небу.
«Курлы… курлы… курлы…»
Высоко в небе несется журавлиная стая. Небольшая стая – журавлей двадцать. Быстро летят они, стремительно, и льется «курлыканье» веселое, звонкое. Вот уже над самым двором. Громче слышатся крики, звончей, точно серебряные струны звенят. Вот уже миновали двор, потянулись над полем.
А журавлик вытянул шею, вытянулся весь, как струна. Взмахнул крыльями, крикнул протяжно, жалобно, цепь натянулась, дернула ногу, – и упал журавлик возле кола, и жалобный крик вырвался из молодой груди.
Опять поднялся, вытянул голову вверх и снова слушал. Но уже затихла журавлиная песня, и уже не слышно «курлы-курлы».
– Однако вы и кричать разучились! – сказал Мурзик. – Видите, как все идет прекрасно. Вы – господская птица, и потому приличное поведение – первое дело. К сожалению, в вас еще заметна эта порывистость… эта… необузданность. Вот вы чуть было себе ногу не вывернули! А случись – хозяевам неприятность… Экая беда, ну, журавли полетели! Они сами по себе, вы тоже сами по себе… вы наш.
– Замолчите!.. – крикнул журавлик. – Вы скверный, злой кот! Я понял вас! Вы унижаетесь перед хозяевами, чтобы они вас ласкали; вы воруете на кухне мясо… я видел. Вы хотите заставить меня забыть поля и приволье!.. Нет!.. Этого не будет!.. Я не глупый индюк.
– Вы меня не оскорбляйте, нахал! – крикнул индюк, побагровев от гнева. – Как вы смеете?! Вы знаете, кто я, долгоносый болван, деревенщина? Вы знаете, кто я? Я – самая вкусная птица! Меня будут есть и хвалить, а вас, когда издохнете, на помойку выкинут!..
– Ну, как же не дурак! – покатился со смеху Мурзик. – Нашел чем хвастаться: он вкусная птица! Ох, уморил! Ох, уморил!..
Все так и покатились со смеху.
Куры кудахтали: «так-так-так», а петух с разбегу взлетел на сарай и заорал:
– Вот так дурак!..
Сережа видел с крыльца все. Он слышал журавлей, видел, как его журавлик смотрел в небо, рванулся, крикнул и упал. Он бросился к журавлику и обнял его за шейку.
– Бедный мой, милый журавлик! Тебе хочется улететь… я знаю. Но ты не можешь летать далеко… Мне папа говорил, что ты не можешь летать… Ну, залетишь ты в лес, сядешь в болото, и тебя заклюют ястреба.
Мурзику стало досадно. Он спрыгнул с крылечка и стал тереться у ног Сережи.
– Брысь, Мурзик! – крикнул Сережа. – Ты еще оцарапаешь моего журавлика.
Мурзик был оскорблен.
– Так и знал. Наш подхалим ловко действует. Ишь, нарочно заорал, чтобы его поласкали!.. Дурак, а хитрый!.. Ну да ладно, что дальше будет!..
Каждый день новые стаи летели с юга. Каждый день журавлик смотрел в небо и слушал.
Перелет кончился. Лето тянулось скучно. Нового не было.
Позавтракав на кухне, утром ежедневно являлся к колу Мурзик и, развалившись на солнце, начинал разговор. Журавлик не слушал его, прятал голову под крыло и как будто дремал.
– Вы, конечно, можете не слушать, – не унимался Мурзик, – вам это неприятно, но я, как умный, желаю вам добра и обязан наставить вас. Бросьте ваши мечты! Они так же пусты, как голова индюка… да-с! И оставьте эту глупую привычку стоять на одной ноге. Это раздражает.
Калека
Как-то в июле журавлик спал у своего кола. Было жарко. Весь двор дремал после обеда. Стояла ленивая послеполуденная тишина; одни только навозные мухи с гулом носились над помойкой.
– Крра-а… крра-а… – раздалось над головой журавлика.
Пленник вывернул голову и взглянул на крышу сарая. На сарае сидел черный ворон.
– Простите… я потревожил вас. Но я должен был это сделать. Мне давно хотелось поговорить с вами.
– Ах, что вы! Я очень рад… мне так скучно.
– Я – ворон… старый больной ворон. Видите, у меня крыло волочится. Я отлично понимаю ваше положение… я испытал то же.
– Вы… испытали то же?!
– Да. Вот уже три года живу я здесь. Меня подстрелил в лесу здешний повар Архип и принес. Я пережил болезнь, я потерял крыло… – посмотрите, как оно опустилось, – и не мог уже вернуться к своим. Я мучился, не спал, не ел. Меня выпустили наконец. Я доковылял до лесу, бродил один, меня чуть было не заклевали галки, и пришлось идти назад. С тех пор я живу здесь на крыше, иногда ковыляю в поле, смотрю на поля и лес. Тоска прошла… жизнь кончена.
– Я очень рад вам, – сказал журавлик. – Странно, я не замечал вас раньше.
– А я давно видел вас, но не решался заговорить. Притом я не люблю навязываться первому встречному. Долго я изучал вас. Этих-то господ, – он указал на дворик, – я прекрасно знаю. Недаром люди называют нас умными. Я все взвесил, обдумал и говорю вам: бегите… скорей уходите от них. Здесь дружбы, любви не ждите. Чужой вы для них. Одни гордятся своим важным видом и вкусным мясом, как этот глупый индюк; другие вертятся около ног, как этот старый вор Мурзик. Украдкой он душит цыплят, а Архип на меня указывает. О, я их знаю! Бегите, пока вас не засосала эта жизнь!
– Нет, я не поддамся! – сказал журавлик. – Я сильная птица. Я лучше умру.
– Зачем умирать?.. У вас есть выход. Вот скоро осень… ваши журавли полетят на юг. Постарайтесь как-нибудь. Если не улетите теперь, потом будет поздно! Вы отяжелеете… крылья ослабнут, и тогда.
– Добру учите… добру! Нечего сказать! – зашипел Мурзик. – Одного поля ягода. Подбили крыло-то, мало? Калека! Нет, брат, ничего не выйдет, кончено для вас все, так и подохнете здесь!..
Ворон в волнении задергал крылом.
– Я с ворами не разговариваю… Вы – старый плут. Но помните, по-вашему не будет!
Журавлик захлопал крыльями.
– Я вам глубоко благодарен. Полетимте вместе.
– А крыло-то? Нет! Для меня прошла жизнь. Спасайтесь хоть вы и скажите моим, как я терзаюсь.
– Вы сеете раздор! – шипел Мурзик. – Вы устраиваете заговор. Это благодарность за хлеб?!
Ворон понизил голос:
– А вы поберегитесь. Этот вам и горло перекусить может. Он способен на это.
Кто-то кинул на крышу камнем, разговор оборвался, и ворон, ковыляя, перескочил на другое место.
Решительный шаг
Август подходит к концу. Листья желтели, на деревне стучали цепы, скрипели возы по полям. Улетели на юг кукушки, иволги, касатки, перепела, соловьи. Крупная птица начинала собираться в стаи. Скоро полетят и журавли. Солнце отходило к югу, с севера надвигалась осенняя стужа.
Журавлика реже выводили на воздух. Большую часть дня и все ночи проводил он в душной прачечной, тоскливо поглядывая в оконце. Смутное беспокойство охватывало его, когда он следил за быстро-быстро бегущими облаками.
Был темный августовский вечер. Собирался дождь. Журавлик стоял у окна, упершись клювом в стекло.
– Крр-а… кррр-а… – послышалось ему. – Крра! Вы не спите?..
– А! Это вы!.. Нет, не сплю.
– Когда же вы? Сегодня я слышал, что повар Архип собирался крылья обрезать у гусей… заодно и вам хотел подстричь.
– Что?.. Крылья?.. Обрезать крылья! – испугался журавлик.
– Да… от него можно ожидать. Тогда все пропало. Да, кстати… вторые окна на днях вставлять будут. Спешите!..
– Я погиб… погиб…
– Постойте. Попробуйте ударить носом в окно. Может быть, не наложен крючок.
Оставалось последнее средство.
Журавлик ударил клювом, нажал, и старое оконце распахнулось.
Вмиг он очутился на земле. Калека-ворон радостно захлопал крылом.
– Спешите!.. Вот прямо на тот лес, через поле… а там… простор!
– Спасибо! – зашептал журавлик. – Вы спасли меня… вы… вы меня пожалели… один вы!..
– Иначе и быть не могло. Я калека, но я вольная птица!.. Ну, прощайте… крра-а… счастливый путь!.. крр.
Голос его оборвался: волнение перехватило горло.
– А вы. Вы останетесь… с ними.
– Моя песня спета!.. – грустно сказал калека. – Как-нибудь дотяну… скоро и смерть. Ну, скорей… скорей!..
Журавлик расправил крылья, втянул полной грудью свежий воздух и взлетел на сарай.
Темная ночь окутывала все кругом. Едва белела площадка двора, да в господском доме где-то за зелеными шторами горел огонек. Журавлик бросил прощальный взгляд, взмахнул крыльями, крикнул и полетел.
– Курлы… курлы… курлы… – неслось из темноты.
– Крр-а… кра… счастливого пути!.. – кричал ворон.
Мурзик проснулся на печке.
– Какая холодная ночь… – сказал он. – И чего это орет старый калека! Сам не спит и другим не дает.
С этими словами кот завернулся потуже и заснул.
К солнцу
Журавлик летел к лесу. Отвыкшие крылья слабели, но сознание свободы придавало силы. Вот и лес, вот поляна лесная, пора отдохнуть. Журавлик опустился на землю, подвернул ноги и стал ждать рассвета.
Долго тянулась ночь, накрапывал дождь.
Вот начало белеть небо, ясней стали выделяться деревья. Стало светло. Оглянулся журавлик кругом и замер…
Он был на знакомом лесном болоте.
Ясно представилась ему его родная стая, Журочка, выстрел и гибель. Как все это было давно!..
«К солнцу лететь надо», – вспомнил он слова старого журавля.
– Как-нибудь доберусь. Ну, а если погибну, – все же лучше смерть, чем сидеть на цепи. А пока надо убраться в чащу.
Он стал осторожен.
День он провел в зарослях.
Где-то в стороне слышался шум, ауканье.
– Должно быть, меня ищут, – думал он, забиваясь в самую чащу.
День кончился, и он снова выбрался на лесное болотце.
– Завтра в дорогу. Там, у моря, может быть, увижу своих.
Как и в ту роковую ночь, в лесу слышался плач совы.
Он подвернул под крыло голову и забылся.
– Курлы-курлы-курлы.
Журавлик вытянул шею и замер.
Далеко-далеко слышалась серебряная песня.
– Курлы-курлы-курлы, – почти шептало лесное эхо.
Он встрепенулся, вытянулся и слушал. Все громче лились серебряные крики.
С севера летели журавли.
– Они… они… – шептал журавлик.
– Возьмите меня!.. Я ваш… я ваш!.. – закричал он.
Было еще темно, и чудилось, как из темноты надвигается шум. Стая налетала.
– Я ваш!..
Слышно, как рассекают воздух могучие крылья, как режут его серебряные крики.
Громко крикнул вожак, стая стала опускаться ниже, ниже… и опустилась в болоте.
– Я ваш! – звал журавлик. – Возьмите меня!..
Его узнали. Неужели это сон – эта поляна, болото и эта стая родных журавлей? Нет, это действительно была его родная стая.
– Да, он наш! – крикнул вожак. – Он полетит с нами.
Стая шумела, кричала, хлопала крыльями.
– Я ваш… я опять ваш…
Сердце колотилось в груди журавлика. Он всматривался в родную стаю.
– А отец? Мать?.. Где они?.. Где Журочка?
Вон журавлиха стоит и грустно смотрит. Черное пятно на правом крыле.
«Она… она. Журочка.»
– Журочка!.. Ты… ты не узнала меня?
Он бросился к ней, положил на спину ей свою шейку и замер.
– Журавлик! Ты жив… ты наш… опять наш! Я ждала тебя… я знала… я чуяла, что увижу тебя. Нет, я не забыла тебя.
– А отец? Мать?
– Их убили… там… на севере, нынешним летом. Не плачь, милый. Горе прошло… впереди счастье.
– Одна ты осталась у меня… одна… – шептал журавлик. – Я буду с тобой всегда… всегда. Наконец-то увижу я море, высокие горы, горячее солнце!
И они заснули. Наступал рассвет.
– В дорогу! – крикнул старый журавль. – В дорогу!
«Курлы… курлы… курлы…», – загремело в воздухе, и лесное эхо покатилось по перелескам.
Лес уходил. Вот внизу показались постройки, дом на горе, сараи, двор… На дворе знакомый кол с цепью. На сарае сидел калека ворон.
– Смотри, Журочка! Вот где я жил.
«Курлы-курлы!..» – громко крикнул журавлик. Калека ворон поднял голову.
– Крр-а-а… кра-а… Счастливого пути!.. Кра-а…
Дом остался далеко позади. Впереди желтели леса, зеленели поля озими, свинцовые реки катили мутные осенние воды. Солнце выглянуло из тучи.
– Вот оно, солнце! Дорогое солнце! – крикнул журавлик.
– К солнцу! К солнцу! – гремела журавлиная стая. – Догоним солнце, догоним! Курлы… курлы…
1907
Мой Марс
I
Взгляните на ананас! Какой шишковатый Ах и толстокожий! А под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат! Его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрусталики – его сочные зерна.
Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий. Стоит ненужный и угрюмый, как еж.
И сколько лет стоит так, ненужный. И вдруг ночью, на восходе солнца, вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы.
Улыбнулся угрюмый еж и улыбнулся-то на какой-нибудь час.
И долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрышки, угрюмые лица, нахмуренные брови!
Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас.
По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк, и на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски.
А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей.
Кажется… А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры.
Да, наружность обманчива. Да вот вам пример: мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже… как бы это сказать… ну, обманчив, что ли.
Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике, под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне.
Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти! Вы попробуйте. Я раз попробовал, больше не пробую. И, вообще, шельма порядочная. А как он делает стойку на… мух! Я не охочусь, и он поневоле упражняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться! Весь он – ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой, и в карих глазках его не то грусть, не то мольба. И мухи с восторгом взирают на него и польщены, польщены.
Ляск! – и мухи как не бывало. А вот еще картинка.
Бывало, мой старый кот Мурза, друг и приятель Марса, проснется от кошмарного сна (на печке до 40°), свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза с шипом и свистом стрелой взлетает на шкаф, сбрасывая по дороге бремя лет.
Вот каков этот Марс. Но красив, очень красив. Так красив, что однажды какая-то старушка купила для него на бульварчике вафлю и только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял, а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу.
Итак, он строен и игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапой скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими он считает себя, затем… опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей чашки и считает приятным долгом разделить с ним его скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости: просто он всегда готов услужить и составить компанию.
Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна.
Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол – чтобы на нем обедать, а буфет – чтобы прятать съедобное, он не выносит беспорядка и прибирает все, что попадает на пол или остается на столе. Любит меня до страсти и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делается это очень ловко.
Он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире. А уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием.
Есть в нем замечательно похвальная черта, чем он резко отличается от многих, себе подобных, и даже от некоторых, себе не подобных: он очень великодушен. Он поразительно любит детей и однажды порядком перепугал на бульваре расторопную няньку, покушавшуюся дать шлепка бойкому малышу. Очень добродушно относится он и к маленьким собачкам, хотя бы это была простая дворовая мелюзга, и не выносит старого мопса-соседа, аккуратно выбегающего погрызться на улице со старой, умирающей дворнягой.
В общем, как видите, это очень интересный малый и порядочный надоеда, прекрасно известный всем лавочникам на моей улице. Последнее время его даже перестали пускать в магазины, к величайшему удовольствию мальчишек, которые предупредительно растворяют перед ним двери лавочек и выжидают, что будет. Должно быть, он все же имеет много хорошего в себе: судьба положительно ему благоприятствует. Ему, как говорится, везет. Недавно он провалился в колодец и… спасся чудом. Гнилая доска, рухнувшая с ним в глубину, по дороге застряла, и Марс удержался на ней на глубине всего двух аршин, а было в колодце до сорока! Он выл, точно из него тянули жилы. Конечно, его вытащили. Как-то раз ухитрился он сорвать лапами ненавистный ошейник (он не терпит ярма) и, выбежав за ворота, наскочил на собачьих охотников, без всякого разговора доставивших медалиста на живодерню, как последнюю бродягу.
Я почти не спал, разыскивая его по городу, и, наконец, нашел его за заставой, в отделении «обреченных». Он лежал в клетке за №, вытянув морду в лапах, и как будто спал. В углах закрытых глаз было влажно. Должно быть, он плакал во сне.
– Марс!
Что было! Он ринулся ко мне, забыв о клетке, ударился носом о прутья решетки и застонал от радости.
– Что, бестия! Будешь теперь рвать ошейник?! – И Марс ответил таким чудесным лаем, что даже смотритель «зверинца» сказал несколько комплиментов и с грустью закончил:
– Славная собачка. А вот еще бы денек… и на перчатки!
Он даже прищелкнул языком и сделал жест, точно откупоривал бутылку.
Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожаном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать:
– Ага!
Должно быть, так. Это было заметно по его плутоватым глазам.
Вообще, умная шельма, и в его бугроватой башке ума, пожалуй, побольше, чем у этого господина в кожаном фартуке, выстроившего «на собачках» домик за заставой.
Пришли домой.
– Что, мошенник, – говорю я. – Опоздай я на денек, и висеть бы тебе со своим глупым хвостом! – Признательный взгляд, и – виль-виль.
– Что глядишь-то глупыми глазищами? Вот вытяну плеткой.
Поворот на спину и полная покорность. И вот однажды этот самый Марс дал мне возможность сделать одно интересное открытие. Да, именно он. Он показал мне… Но это, собственно, и является предметом моего рассказа.
II
Жил я в Виндаве, на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем: я, заправлявший моим хозяйством прекрасный человек Иван Сидорович и Марс. Марса вы немного знаете; я вам мало интересен, так как главным героем рассказа будет Марс; что же касается Ивана Сидоровича, – вы его поймете с двух слов. Он прекрасно готовит борщ, любит заглядывать в пивную кружку и ведет войну с Марсом, гоняя его из кухни шваброй. Но это неважно.
Как-то понадобилось мне поехать денька на два в город Або, небольшой городок на побережье Финляндии, где море усеяно массой гранитных островков, или шхер, поросших мелкой сосной и изгрызенных бурями.
Очень красивые места.
Ехал я налегке с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана, и в его бугроватой голове, видимо, стояла тревожная мысль: а он как? Память у него всегда была отменная, и, надо думать, вывод, к которому он приходил в этот момент из сопоставления всех обстоятельств, был не в его пользу.
Так, думается, рассуждал он: «Мой приятель, – т. е. я, – на меня не смотрит, значит, я ему не нужен. Иван Сидорович очень весел, не толкает шваброй и даже погладил, значит, уйдет из дому и запрет двери и меня. Раз чемодан достали, – приятель гулять за город не пойдет. Значит…»
И Марс потерял всю свою игривость. Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не повело. Я строго взглянул на него и молча указал на пол.
И тут-то он окончательно упал духом. Он лежал «рыбкой», вытянув хвост и положив морду в лапы, уставив немигающие глаза на мой чемодан, и ждал. Стоило бы только особым тоном сказать: – Ну-с! – или даже сделать соответствующий жест шляпой и взглянуть на него, он с визгом ринулся бы к двери, взглядом приглашая меня не медлить. Но было не до Марса. И он лежал, чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить, точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, – точно не знаю, но я уверен, что он тоскует искренно и уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закатиться в любимую пивную.
Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался – идти ли?
– Дома, дома!..
Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен.
– Счастливого пути, – рассыпался Иван Сидорович. – Маленько поскучаем без вас.
И с веселым грохотом наложил на дверь крюк. Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое.
Еще я услышал призывный лай. Обернулся и увидел Марса.
Он стоял передними лапами на подоконнике, между цветочными горшками, и его умная, плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой.
Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход, по обыкновению, пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок.
Оставалось всего три минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился. Я уже видел толпу провожавших, размахивавших шляпами и платками отъезжавшим. Только бы поспеть!
Я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертлявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении.
Я был обескуражен. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса носильщику, давать адрес, рыться в кошельке, объяснять? Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток. Я бомбой вбегаю на мостки следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя, как дома. Он уже на пароходе и призывно лает, боится, как бы не остаться одному. Уже отнят трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собираются бить по башке.
– Послушайте… Это ваша собака?
Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе, с строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень. А усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих.
– Да, она со мной.
Что же было делать? Не отрекаться же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом.
– В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку.
– Очень хорошо.
Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине.
– Ну, идем! Фью!..
Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху.
– Идем, брат, нечего…
Он потянул его за ошейник, и тотчас же конфузливо отдернул руку: Марс слегка и предостерегающе зарычал.
– Очевидно, он меня боится.
Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками.
– Эй, Василий! – крикнул храбрый третий помощник капитана. – Бери собаку. Там, кажется, есть свободная клетка.
Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное.
– Тц… тц… Ну, ну… Ты!..
Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал.
– Боязно, шут его дери. Сурьезный. Ну, ну, как тебя. Собачка.
Но «собачка» не унималась.
Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода.
– Ну, вот теперь и посиди, каналья ты этакий! Вот и посиди!
Его поместили в небольшой клетке, за решетку. Напомнила ли ему решетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы, – не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову. Как-никак, но дело было сделано, и теперь он мог, сколько душе угодно, рычать и визжать.
Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры? Ну конечно, почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дому и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывал и раньше. Но я должен все же признаться, что мне было отчасти и приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков.
Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца.
III
Я сидел на верхней палубе, под тентом. Море было покойно. Погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки, в красненьких коротких платьях с пышными бантами и в белых туфельках, резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа, в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим скучным тоном то и дело останавливала их по-немецки.
– Дети, не шалите, вы мешаете другим.
Мальчуган, лет десяти, тонкий и вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей, дразнил тросточкой что-то пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное «рррррр-ым-га-га…», что очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса.
Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивавшем пиджаке исследовал свою записную книжку, водя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам:
– По шесть рублей ежели… сто двадцать… Да накинуть ежели… по 4 копейки… да за бочки.
Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством засматривавших в его строгое, деловое лицо.
– Тридцать бочек, по 18 рублей с пуда… да ежели положить на провоз, да утекет обязательно… – ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте.
– Ррррр-ы-гам-гам… – с остервенением отзывалось из-под скамейки.
Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой.
Но тросточка продолжала свое дело.
– Дети, не шалите. Вы мешаете другим.
На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи лорнета маленькую, изящную книжку.
Я сидел и наблюдал. Все ушли в себя. У каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтать со всеми, милые и простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету.
Что-то рычавшее под скамейкой потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох. Барыня с лорнетом начала историю со спицей, мальчишка ревел и рвался к мопсу, мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех.
– Постегать парня бы…
Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались «колющие боли». Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние.
Наконец все успокоилось, и вдруг тонкой острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу.
Еще нотка, еще. Тоном выше. И я узнал голосок Марса.
Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиной воя.
– Вы слышите?
– Слышу. Чья-то собака воет.
– Конечно, собака… Но ведь это же неприятно! – Господин с газетой обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать: «Это что такое?»
Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыданье.
– А, чтоб тебя! – вырвалось у делового человека. – Волк чистый.
Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки.
– Фрейлейн, это волк? – спросила она плаксиво сухощавую немку. – Я боюсь.
Вой рос и тянул за сердце.
– Уди-ви-тельные порядки! – строго сказал старичок. – Насажают полный пароход собак, и вот извольте тут.
Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался мопс. Он показал свой черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие и перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от фрейлейн.
– Замолчи, Тузик! У, глупенький.
– За хвост да в воду, – сказал деловой человек. – Вот собак навели…
– Я не понимаю, не понимаю. Какие идиоты всюду таскают собак за собой! – сердился старичок. – Еще бы коров захватывали! Ведь верно?
Он глядел на меня, ожидая хотя бы сочувственного отклика.
Надо сказать правду, – вой становился невыносимый. Купец сложил книжку и угрюмо глядел на море. Господин в очках крупными шагами ходил по палубе. На мостике появился коренастый капитан, и по его лицу было видно, что он слушает и недоволен. Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично размахивал рукой и показывал на носовую часть парохода. Смотрю, – мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику.
– Господин капитан! – умоляющим тоном восклицает он. – Прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас! Голова раскалывается. Ведь прямо невыносимо!
Он прав, он тысячу раз прав. Вой и рев дерут по нервам.
Кажется, что весь пароход, с трюма и до палубы, перегружен собаками, и они стараются вовсю, точно их жгут железом или тянут жилы. Смотрю, появляется на мостике, должно быть, специально вытребованный, третий помощник капитана и объясняет что-то, держа руку под козырек. И снова рука капитана энергично рассекает воздух. Старичок зажимает уши и трясет головой.
– Это ужасно! – жалуется барыня с лорнетом. – Послушайте, уймите хоть вашего-то! – обращается она ко мне.
– Я его сейчас палкой! – кричит мальчуган.
– Вилли, Вилли!
– Тузик, замолчи, мой маленький! Моя бедная собачка. Он плачет! Смотрите, он даже плачет!
– За хвост да в воду! – энергично отзывается деловой малый и сердито глядит на немку.
Третий помощник капитана показывает в мою сторону и что-то объясняет. Ну, конечно, говорит, чья собака. Я уже начинаю чувствовать себя виноватым. Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их к клеткам? Я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды.
Третий помощник капитана спускается с мостика и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость.
– Видите… Послушайте… Ваша собачка переполошила всех собак. С нами едут еще четыре пса, и теперь воют все. И еще в каюте едет больная особа… Капитан просит… Может быть, вам удастся унять.
Старичок смотрит на меня так выразительно, что я живо вспоминаю его фразу о некоторых, которые и т. д.
– Ах, пожалуйста, уймите! – говорит еще кто-то. – Это ваша собака.
На меня обращены взгляды. От меня ждут. Меня обвиняют.
Мопс поет в забвении и даже закрывает глаза, как соловей по весне. Весь пароход поет. Рыжий матрос посмеивается у борта и перемигивается с другим. Они, видимо, довольны переполохом.
Иду на нос. Здесь ад невероятный. Пассажиры третьего класса густой толпой обступили клетки с собаками и слушают. Протискиваемся с помощником капитана через толпу, и я – у клеток. В самой крайней красавец сенбернар упирается головой в низкий потолок и издает какое-то воющее рычанье. Рядом с ним остроухий дымчатый дог с налитыми кровью глазами мечется по клетке, тыкаясь головой в стенки ее, и скулит отрывистым тявканьем. И, наконец, – Марс. Он великолепен. Он лежит, вытянув морду и закатив глаза, и воет, и воет в самозабвении.
– Этот вот, рыжий-то, всех и взгомозил, – говорит кто-то. – Он самый коновод и есть.
Я подхожу к клетке и делаюсь героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного.
– Марс!
Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу, и Марс заскулил жалобно-жалобно. И в соседних клетках прекратились рыдания.
– Что значит хозяин-то, – говорит кто-то. – Привязчивы эти самые собаки, страсть.
Марс бьет лапами по решетке. Но что же я могу сделать? Я отлично знаю, что стоит мне отойти, как снова начнется история. Говорю третьему помощнику, что ничего не выйдет, и делаю при всех опыт. Все сильно заинтересованны. Отхожу в сторону, так что Марс не видит меня. Проходит с минуту, начинается легкое повизгивание и переходит в вой. Дог и сенбернар подтягивают. Лица зрителей улыбаются.
– Его необходимо выпустить, – говорю помощнику. – Иного средства нет.
Помощник идет за разрешением и скоро возвращается.
Разрешено выпустить. Марс прыгает сразу на всех лапах и извивается с громким лаем. Мне даже стыдно за него. Идем во второй класс. Марс считает, очевидно, пароход за улицу и ведет себя самым легкомысленным образом, за что и получает тычок шваброй от матроса с рыжей бородой. И даже имеет нахальство огрызаться.
Мы явились на палубу под десятком устремленных на нас глаз. Но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я неумолим и во избежание разных неожиданностей затискиваю его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засаленном картузе снова принялся копаться в записной книжке и теперь высчитывал операции с чухонским маслом. Господин в очках уткнулся в газету.
Старичок отдался красотам природы и отдыхающими взглядами блуждал по горизонту. Мальчуган с порванным чулком снова пырял мопса тросточкой, стараясь отплатить.
Красные бабочки занялись игрой в мяч, уронили его в море и поплакали.
– Дети, вот вы шалили и лишились мяча, – изрекла немка.
Но они скоро утешились.
Марс лежал смирно. Он одним глазом наблюдал за девчурками, выжидая удобного случая примкнуть к игре в прятки. И знакомство завязалось. Одна из девчушек, похрабрее, подошла к нему и вытаращила глаза.
– Собачка…
И поманила пальчиком.
Марс шевельнул хвостом и постучал.
Подошла вторая бабочка и сказала тихо:
– Красная собачка…
Марс постучал решительней и зевнул. Наконец поднялся, подошел вплотную и ждал. Девчурки отступили, поглядывая то на меня, то на Марса. Но Марс раздумывал недолго. Он не забыл милой привычки играть с ребятами на бульваре, позволять трепать себя за уши и даже таскать за хвост, чего бы он, конечно, не позволил взрослым, особенно мальчишкам, как тот, что подкрадывался теперь с тросточкой сзади.
Он прыгнул, извиваясь кольцом, и с налету лизнул своим розовым языком румяную щечку красной бабочки в белых туфельках.
– Ай!
Обе стрекозы закатились ярким серебряным смехом.
– Фрейлейн! Фрейлейн! Он поцеловал Нину!
– Он меня облизал, фрейлейн! Облизал!
Марс вертелся ужом, отлично понимая произведенный эффект. Но торжество скоро кончилось.
Фрейлейн поднялась с решительным видом и двинулась к нам в сопровождении жирного, прячущегося за юбку мопса.
– Нельзя позволять грязной собаке лизать лицо, Нина! Ты будешь наказана дома. Выучишь десять строк дальше.
Очевидно, остальное было понятно и Нине и фрейлейн.
Розовое личико омрачилось, и носик сморщился. Кое-что и я прочитал в красноречивом взгляде, которым подарила меня фрейлейн, стройная, как вязальная спица. Если бы только могла, она закатила бы мне строк с сотню «дальше». Хотя при чем я? Но, должно быть, она изучала юриспруденцию и почитывала устав о наказаниях, где вполне ясно сказано об ответственности хозяев за вредные действия домашних скотов. А Марс был скот в самом настоящем смысле.
Но Марс взгляда фрейлейн не понял. Когда стройная немка нагнулась вытереть щечку Нины от следов предательского поцелуя, он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником. Он рявкнул на фрейлейн над самым ухом. Боже, что было! Положительно в этот злосчастный день на меня валились все шишки. Немка стрелой отскочила в сторону, а таившийся за ее юбкой и гудевший что-то сквозь зубы мопс разразился трелью и запрыгал, как резиновый лающий мяч, предусмотрительно отскакивая назад. Марс издал предупреждающее рычание и ринулся.
Началась свалка. Теперь палуба представляла собой самую настоящую арену.
Я бросился с одной стороны и ухватил Марса. Мальчишка с продранным чулком, пользуясь случаем, пырял тросточкой ненавистного мопса. Бабочки таращили испуганные глазки.
И на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть. Я только слышал, как барыня с лорнетом кричала:
– Вилли, Вилли! Они, должно быть, сбесились! Вилли!
Этого было достаточно. Собралась толпа. Кто-то призывал матросов. Кто-то ревел и топал ножками. Но разбойник Вилли был в восторге. Этот назойливый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец. Скоро мопс с пораненной ногой (кто его поранил, – Марс или мальчишка, – так и осталось неизвестным) сидел на коленях фрейлейн и стонал, и рычал, пожирая Марса выкатившимися глазами. Я запихнул-таки Марса под лавку и сидел, чувствуя себя отвратительно и заставляя себя любоваться морем. Смотрю, – подвигается капитан.
Кланяется.
– Очень приятно. Чем могу служить?
– Видите… гм… того… Ваша собака… того… гм…
Я понимаю капитана и пожимаю плечами.
– Видите… того. Пассажиры беспокоятся… гм. Вы ее… того.
Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. Вполне извинительно. Человек лет тридцать плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказания криком. Морской волк, в некотором роде, хотя вежлив до крайности.
– Вы ее… того… попридержите… А то я… простите… того… буду вынужден просить вас… того… оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге.
Кланяюсь и обещаю, и позволяю себе заметить капитану, что мой Марс вовсе не «того» и никакой опасности для пассажиров не представляет.
А Марс, можете себе представить, лежит себе, разбойник, и ухом не ведет и даже делает попытку полизать смазанные какой-то душистой мастикой лаковые штиблеты строгого капитана.
– Так вот-с… извините… того.
Капитан раскланивается и уходит. Два черные глаза, выпученные, как у рака, гипнотизируют Марса с колен фрейлейн.
– И охота вам возить собак! – говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной.
Охота мне возить! И потом, почему же «собак»? Желал бы я знать, как поступил бы на моем месте этот господин. Быть может, он бросил бы пса на пристани. Но я не мог сделать этого: я люблю этого бойкого шельмеца, преданного мне от хвоста и до носу. Нина и Лида чинно сидели рядом с фрейлейн и куксились, должно быть, оплакивая погибший мяч. Мальчишка с продранным чулком измышлял какую-то каверзу с мопсом. Он что-то уж очень близко прохаживался около Марса и науськивал легким посвистыванием:
– Фюить! Фюить!
Но, в общем, была тишина.
– Ну, Вилли! Но я прошу тебя, мой мальчик! Не ходи так близко около собаки!
IV
Пароход шел отличным ходом. На палубе было спокойно, но это была тишина перед бурей. Это было видно по глазам мопса и Марса. Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марса действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда. Задребезжал колокольчик. Это ходил по пароходу слуга кают-компании, созывая к обеду. Было уже около пяти, и морской воздух раздразнил аппетит в достаточной степени, чтобы палуба быстро очистилась от пассажиров. Пошел и я. Фрейлейн с мопсом ушла еще раньше. Но вот… Марс подымается и двигается за мной.
Он также желает кушать. Запах жарящихся котлет щекочет раздражающе, а Марсу как раз пора покормиться.
Вести его за табльдот? Нет, ни в коем случае.
– Куш иси! – говорю ему и показываю пальцем под скамейку.
Он смотрит на меня с недоумением и укором. Я прекрасно понимаю все его взгляды. И вижу, что он не желает сдаваться. Беру за шиворот и тащу под скамейку.
– Куш иси, черт тебя дери! Куш.
Он укладывается с недовольным видом и подавленным вздохом. Должно быть, думает:
«Надо было догонять! Теперь Мурза как раз расхлебывает в моей чашке». Делаю шаг и оборачиваюсь. Голова Марса вытянута и взгляд прикован к моей фигуре. Ждет, не свистну ли. Пусть ждет. Особенно досадно, что мопса-то утащили туда, откуда потягивает котлетками.
Спускаюсь в общий зал. Ого! Как энергично стучат ножи по тарелкам! Вижу делового человека. Он набил пирожком полон рот, и его глазки жмурятся от удовольствия. От тарелок валит душистый пар. Позади фрейлейн мопс управляется с пирожком. Красные бабочки уже залили скатерть и, конечно, получили уже новые десять строк «дальше».
Уже съеден суп, и на блюдцах приятно дымится какая-то рыба, на которую все смотрят с признательностью. Смотрю и я. Я сижу спиной к борту парохода, к открытым иллюминаторам. Против меня, несколько наискосок, лестница на палубу. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть на рыбу и вижу… Марса! Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки.
Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать?
Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола, когда сидят за ним человек сорок? Увлеченные чудесным занятием с рыбой, они примут меня за сумасшедшего. Погрозить пальцем? Но это воздействие может еще быть принято за поощрение. И даже наверняка. В таких случаях Марс обыкновенно прикидывается непонимающим. Сказать слуге с блюдом? Но его положительно загоняли за пивом и нарзаном. Вылезть из-за стола? А вы попробуйте вылезть на пароходе из-за стола. Все сидят в ряд. Стулья привинчены. Я в самом центре, спиной к иллюминаторам.
Только два выхода и есть: под стол или просить всех выйти. Пока я так раздумывал, Марс медленно, точно чего-то опасаясь, опускался со ступеньки на ступеньку.
Его никто не замечает. Все увлечены рыбой. Решил предоставить все случаю, хотя и могу наскочить на неприятность.
Я знаю, что некоторые господа терпеть не могут присутствия собаки у стола. Без сомнения, здесь были такие. Да вот хотя бы старичок, страдающий колющими болями. Он уже успел наподдать ногой вертевшегося под столом мопса, к величайшему удовольствию мальчишки с продранным чулком, ухитрившегося в каких-то целях стащить под стол хребтовую кость леща с острыми боковыми косточками.
А вот, наконец, и котлеты с горошком и зеленой фасолью.
Весь зал наполнился чудесным ароматом, и что-то осторожно фыркнуло под столом. Очень осторожно и ткнуло меня в коленку. Смотрю, – подымается край скатерти и выставляется кончик черного носа. И опять осторожное и полное величайшего удовлетворения:
– …Фррр… фррр…
Я щелкнул по носу, и скатерть опустилась. Хорошо, что никто ничего не видит. Какое там не видит! Мальчишка сидит неподалеку от меня и поглядывает что-то уж очень любопытно. Даже начинает как будто подмигивать мне, шельмец. Глазами переходит на интимность. Ну, конечно, заметил. Вижу, лезет под стол, делая вид, что уронил вилку, а я отлично видел, что он нарочно столкнул ее. На его плутоватой рожице написано захватывающее торжество.
– Вилли, ты не умеешь себя вести.
Одна из красных бабочек вдруг забеспокоилась и начала вертеться. Лида тоже. Заглядывают под стол. Начинается история. Будет буря, мы поспорим. И поборемся мы с ней!..
– Нина, нельзя вертеться за столом, – изрекла фрейлейн. – Горошек едят вилкой, а не с ножа.
Скорей бы кончался обед! Как будто необходимо еще сладкое.
…Ррррррр…
…Ррррррррр…
Опустились вилки и поднялись головы над котлетками. Я ем за четверых, заговариваю со старичком о погоде.
– Чудесно на море и совсем не качает, не правда ли?
Но старичок застыл с вилкой в руке.
– Он здесь. Он. Он.
Удивительное дело! Точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр.
…Рррррррр… гам-гам!..
…Ррррррррррр… гым!.. гым!..
Они схватились. Они жестоко схватились!
– Тузик! Мой Тузик!
Да, Тузик! Прощайтесь, стройная фрейлейн, с вашим Тузиком. Я уверен, что теперь от бедного Тузика останутся одни перья.
– Уберите собак, – строго и решительно приказал господин с мрачным видом. – Здесь не псарня!
– Послушайте, как вас. Человек!
– Возьмите их! Это невыносимо! Они перекусают ноги!
– Возмутительное безобразие! Двадцать лет езжу по морю… и никогда…
Старичок стал пунцовым, как мак.
Он мог еще двадцать лет ездить по морю, и я уверен, что не встретит ничего подобного. Мой Марс – единственная в своем роде шельма и больше по морю не поедет.
– Ну и собачка! – язвительно протянул деловой человек, и в его тоне я прочитал давешнее:
– За хвост да в воду.
Обед сорвался на самом интересном месте. Повыскакали из-за стола. Я высвистывал Марса и ловил нежные взгляды публики. Где тут!
Оба грызлись начистоту, стукались головами о железные ножки круглых стульев. И Марс, уверяю вас, был джентльменом. Он раза два пытался ретироваться с честью, но проклятый мопс нападал с остервенением, желая оставить за собой последний удар, и Марс, конечно, не мог принять позора. Их уже гнали, вылавливали и выпихивали швабрами вызванные двое матросов, – рыжий гигант и маленький черненький матросик.
Наконец швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопса утащила фрейлейн на перевязку. Марса поволок я за шиворот. По дороге наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать.
– Вот видите… гм… опять история… того… Очень жаль… но я буду просить того… в Ганге его… того.
На нижней палубе, у трюма, матросы скалят зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как фрейлейн оттаскивала Тузика за хвостик.
Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлетку и пожертвовал сладкими пирожками и кофе. Марс просит пить, это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохам. На палубе, хотя и под тентом, жарко. Веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена.
– Насмерть черненькую-то загрыз. Вот на тонких ножках-то бегала… курносенькая-то… – говорит мужичок.
– В море, чай, выкинули?
– Выкинули… А только вот с полчаса тут пробегала, веселая такая.
Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса.
Матросы смотрели на него, как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками, а он, не вынося присутствия швабры (воспоминание о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича), огрызался, нисколько не раскаиваясь за происшедшее.
– Мальчонке-то, сказывали, ножку прогрыз.
Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму. Бедный Марс! Его обвиняли во всех преступлениях.
Не радовало покойное море и игра дельфинов. Очень приятно, когда на вас поглядывают с опаской или даже с неприязнью. Фрейлейн поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганно Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоют.
– От самой Либавы ехали – не выли, а ваш всех взгомозил, – жаловался старичок.
Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться. Мопс куда-то сплавлен. Многие пассажиры предаются послеобеденному сну в своих каютах.
Не последовать ли и мне их примеру?
Спускаюсь к каютам и волоку за шиворот упрямящегося Марса. Спуск вниз не входит в его расчеты. Играют в казаки-разбойники, и парнишка с продранным чулком уже захватил в плен одну из красных бабочек. Та принимает все за чистую монету и кричит, так как парнишка грозится выкинуть ее в море. Марс рвется, фрейлейн кричит, другая девчушка прыгает на одном месте и вопит.
– Иди же, черт тебя возьми! – поощряю я Марса. Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой.
Должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами.
– Задалась собачка…
Спускаемся в отделение кают, делаем шага три, и вдруг, – пожалуйте! Согнувшись в три погибели, сторонкой, взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, из каюты услыхал крики девчушек и двинулся. Произошел обмен взглядов, но разминулись счастливо.
Открываю портьеру каюты. Наверху дремлет господин, что с угрюмым видом читал газету. Внизу похрапывает толстяк, свесив руку. Марс проскальзывает за мной и забивается под койку; но я вылавливаю его и задеваю за руку спящего господина.
– Послушайте, тут люди спят.
Волоку Марса и извиняюсь за беспокойство.
– Тут люди спят! – повторяет толстяк, делая ударение на «люди».
Господин с мрачным видом свешивает голову и смотрит предупреждающе.
– Вы же видите, что я его удаляю? – говорю я уже раздраженно.
До чего же мне все это надоело! Я оказался на положении собачьей няньки. Ни шагу свободного. Укладываю Марса у дверей в коридорчике. Объясняю знаками последствия неповиновения. Замахиваюсь с лицом разбойника, готового раздробить эту бугроватую и умнейшую-таки башку, говорю и по-французски, и по-русски. Марс понимает и мирно укладывается «рыбкой», как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть.
V
Хорошо дремать в каюте, головой к открытому иллюминатору. Нежно переливаются отражения волн в толстом круглом стекле. Убаюкивает равномерный плеск в борт парохода, и потягивает в лицо свежим морским ветерком.
Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко всхрапывает надо мной, должно быть, толстяк. Угрюмый господин тоже спит, и так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо.
Должно быть, я заснул. Мне снилось, как по палубе старичок и фрейлейн гонялись за мной со швабрами, а деловой человек грозил мне своей записной книжкой и голосом мальчишки с продранным чулком кричал пронзительно:
– За хвост да в воду!.. В воду!.. За борт!..
Я открыл глаза.
– В воду! – кричал тонкий пронзительный голосок. – Вон! Вон!
Над головой беготня. Крики.
Что такое? На меня глядит испуганное лицо угрюмого соседа. В открытый иллюминатор слышу:
– Да где? Где?
– Вон, вон… Волной захлестнуло…
– Да нет! Во-он!
– Потонул. Это ужасно.
– Нельзя же так. Ведь на глазах. Он плывет, плывет.
– Если попросить капитана?.. Смотрите, он еще плывет!!!
– Ах! Жалко как!
– Не останавливать же парохода… Странный же вы человек!
Сбрасываюсь с койки и бегу. Навстречу попадается рыжий матрос.
– Господин, ваша собачка за бортом.
Марс в море – как по голове ударило. Я бегу, ничего не соображая. Вся палуба запружена народом. Тут и пассажиры третьего класса. Вытянуты головы. Стоит гул голосов.
Расталкиваю всех без стеснения, хочу видеть последние минуты моего умного и верного Марса.
– Все плывет, сердешный.
– Тоже живая душа, жить-то хочется. Нет, опять захлестнуло.
Я вижу простые лица. Я слышу жалеющие голоса. Марс едва-едва виден. Но я должен же хоть что-нибудь предпринять! Я замечаю фигуру капитана. Он смотрит в кулак на море. И дама с лорнетом что-то горячо говорит ему. Кто-то взвизгивает около, начинает плакать в голос.
– Нина, Лида, нельзя. Это неприлично.
Да что же я медлю?
Я знаю, что нужно сделать. Я подбегаю к капитану.
– Господин капитан! Прошу вас. Прикажите задний ход… если можно. Он доплывет. Прошу вас. – Глаза капитана выпучены.
– Я заплачу расходы, если.
– Я также прошу, капитан. Я думаю, никто не может быть недоволен. Все от вас зависит…
Что такое? Около нас толпа. Глаза смотрят на капитана.
– Просим остановить пароход!
– Просим!
– Просим!!
– Жестоко не подать помощь.
Они все, все они просят за моего Марса, который теперь выбивается из сил. Матросы сгрудились красивой синеющей группой. Они возле трапа и смотрят на нас, точно ждут.
– А жалко собачку-то! – выпаливает деловой человек. – Надо бы ее.
– Я прошу вас, капитан! – говорю я решительно. – Никто не возражает.
Капитан не отвечает. Он подымается, спокойный, на мостик и что-то передает в слуховую трубу.
– Задний ход велел дать, – угадывает старичок. – Я говорил, что велит!
А Марс. Он все еще плывет, то показывается, то прячется за гребешками волн. Его рыжая голова сверкает на солнце, маленькая, едва заметная, бугроватая голова.
Мальчуган с тросточкой, дергающийся и бледный, глядит, вытянув шею. И вижу я, как по носу его бежит сверкающая капелька и падает в море. Кто-то тяжко сопит над моим плечом и повторяет:
– Потопнет, потоп нет…
– Кончился. Не видать. Захлестнуло.
– Да нет. Вон, опять вывернулся.
Что-то трется под ногами. Черный курносый нос что-то высматривает и вынюхивает в море. Я считаю секунды.
Пароход уже прет задним ходом, и мелкой дрожью дрожат борты. И голова Марса кажется заметней.
– Спустить шлюпку-у!!
Вот он, голосок, привыкший говорить с бурями и перекрикивать штормы! Капитан стоит, как монумент. И в его руке сверкают золотые часы. Я готов броситься и расцеловать этого морского волка в белоснежном кителе и с загорелым, как темная бронза, лицом.
– Браво! Браво, капитан!
Капитану устраивают овацию. Барышни в светлых платьях машут платками. Мальчонка прыгает. Торжество и светлые улыбки на лицах.
Матросы. Что за бравый народ! Они точно с цепи сорвались. А этот рыжий гигант! Он работает, как электрическая машина. Со шлюпки сорван брезент, и рыжий гигант, и еще трое – в лодке. Их ловко спускают с палубы, и визжат давно не ходившие блоки. И уже поплескивают весла на солнце.
Раз-два… Раз-два…
Синие спины откидываются дружно и выгибаются, как хорошо натянутые пружины.
– Вот молодцы! Браво! Браво!
Сотни глаз прикованы к двум точкам на море: к голове Марса и к шлюпке. Я жду. Я хочу закрыть глаза и не могу.
Рядом со мной старичок. Его руки жестикулируют. Он точно повторяет ритмические взмахи весел. На секунду я оглядываюсь, чтобы не видеть последнего момента.
Стараюсь по лицам и по восклицаниям судить о том, что делается на море. Какие лица! Я не узнаю их. Они все охвачены жизнью, одним желанием, одной мыслью. И нет в них ни вялости, ни скуки, ни равнодушия. Хорошие человеческие лица. А глаза! Они все смотрят, волнуются и ждут.
– Браво! Браво!
Я не могу больше ждать и гляжу на море. Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится, до него не больше десятка шагов. Еще один взмах весел. И вдруг все ахнули: голову Марса накрыло большой волной. Нырнула и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась в ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой. Еще взмах.
– Пропал! Еще бы чуточку одну захватить…
– Смотрите! Смотрите!
Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накреняется. Он ищет руками в море. Он шарит в волнах.
Так кажется с парохода. И вдруг… вырастает красивая фигура, и в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. С секунду он держит это что-то над морем, даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу и показывает. И все мы видим, как падают сверкающие струи.
– Браво! Урра!! – дружно прокатывается по палубе.
– Молодцы! – кричит над самым ухом деловой человек. – Знатно!
Марс, шаловливый, надоедливый, всем досадивший Марс – спасен.
И все, решительно все, довольны, веселы. Счастливы даже.
Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и фрейлейн, и ее мопсика, и особенно этих красных легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие, добрые человеческие лица! И даже торговый человек забыл о своем чухонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан! Как белый монумент, стоит он на мостике и смотрит на палубу, и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах которого, быть может, погиб не один человек в балтийские бури, – какие все это взрослые и хорошие дети? А сам он? Не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно:
– Спу-стить шлюп-ку-у!
И не он ли приказал высвистать сигнал: «Капитан благодарит».
Нет, нет. И сам он тоже «того».
Я подхожу к нему и благодарю.
– Ну, что за пустяки… гм… Очень рад, что… того… – хрипит он, прикладывает руку к козырьку, и его умные глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать:
– Надо же когда-нибудь и пошутить… того.
У мостика собралась молодежь и устроила капитану настоящую овацию, и капитан улыбался и брал под козырек, и всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком прекратил атаку на мопса. А господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него к борту, сказал в пространство:
– Travelling is very pleasant[1]. – И добавил, показывая тростью в море, на подвигавшуюся шлюпку: – A reward must be given him[2].
Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент – возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие.
Англичанин эффектно смотрел в свой телескоп.
Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая паленая и мокрая тряпка, висел за ворот несчастный Марс. Именно – несчастный. Что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец.
Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех.
– Ну, за что-с. Собачку-то тоже…
Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан.
– А ну-ка, любезный.
Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы:
– Thank you[3]. На водка.
Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром взбежали на вышку. Что такое? Взяли под козырьки. Стоят. Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе.
– Шлюпка спущена того… в минуту и сорок семь секунд! С премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу! Молодцы! Получите… того… по рублю.
Целый триумф! Матросы побили рекорд, как говорится.
Знатоки уверяли, что две минуты для спуска шлюпки – наивысшая быстрота.
Но Марс. Он лежит без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки.
– Господа! Вы из третьего класса. Пожалуйте, пожалуйте…
Теперь нужно было водворить забытый порядок, и третий помощник капитана очищал палубу.
– Плох он. Должно быть, воды нахлебался.
Я стоял над беднягой. Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке.
– Вы его потрите.
– Коньяку бы ему хорошо дать, – советовал деловой человек.
Я перенес Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлейн, принес нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе! Даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижную лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком – его начинала бить дрожь.
Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силой оттаскивали от «умирающего». Мальчуган с тросточкой два раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлейн и несет что-то.
– Вот, дайте ему… Это коньяк.
Рассыпался в благодарностях, разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовало замечательно хорошо. Марс открыл сперва один глаз, потом другой и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом.
– Что, шельмец? И как тебя угораздило?
Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле Марса – красные бабочки, мальчуганы и барышни. Натащили печенья и разложили возле черного носа к великому соблазну дежурящего мопса. На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события. Передают довольно спутанную историю падения в море. Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину.
Вскоре после появления на палубе раненого мопса на крики и возню детишек появился Марс. Очевидно, он не мог выдержать. Началась грызня. Марс повел дело решительно, чтобы одним ударом покончить с врагом. Он долго гонял по палубе струсившего мопса и, наконец, загнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет. Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем было накрыл его, но кто-то (осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка) замахнулся на него палкой. Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море.
Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрягой, и все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильное участие в беседе, что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о «приятном путешествии».
Я проникался этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те короткие, только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием – спасти погибавшую на глазах жизнь, в сущности, никому из них не нужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно, всем общее, что таилось у каждого, далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми… чистыми детьми. Когда были забыты и шляпа-панама, и бархатные картузы, и смазанные сапоги, и рубахи, и накрахмаленные воротнички.
Когда мужичок в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английской фланели пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного.
Так мы мирно беседовали, и Марс приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя. Он тихо, еще на слабых ногах добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом.
– Вот он!
– Ма-арс!
– Милый Марс!
– Поди сюда, умная собачка, ну, поди…
И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову и ласково заглядывал в глаза.
И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине с серьезным видом и процедил сквозь зубы:
– How are things?[4]
Да что англичанин! Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил:
– У-у, пе-ос!..
И уже не вспоминал о Ганге.
Утром мы были в Або. Кое-кого из пассажиров уже не было; очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключение появились четверо молодых людей, окружили Марса и давай щелкать своими «кодаками».
Марс струсил и присел. В такой чудной позе его и сняли.
Я почти уверен, что о происшествии с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появятся в окнах магазинов открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе.
Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой.
Ну, за них это сделал я.
1910
Последний выстрел
I
Теперь я могу отдохнуть месяца два, встречать июньские зори на Оке, дышать в лугах, слушать тихий звон бора.
Налегке еду я в маленькую слободу под старым монастырем. Там, за стенами, чинно ступают черные монашенки, тысячи грачей и галок гомозятся на кровлях, а кругом звенит иглами вековой бор.
Вот и слободка. Она укрылась от городка стенами леса, она глядит на луга и Оку. Я поселяюсь в уютном домике, на самом краю поселка. Над моей крышей вековая сосна протянула корявые ветви.
Ясное июньское утро. Я открываю окно в бор. Он приветствует меня ароматом смолы, звоном вершин, стуком дятла и серебряным выкриком ястребов. Я вижу их плавный полет в синеве. Под окном слышу я хорошо знакомые мне голоски корольков. Это мои питомцы.
В маленькой городской комнатке появились они на свет из простенького инкубатора, росли в вате, в коробке из-под печенья, привыкли к моим шагам, голосу, к лампе. Днями сидели они у меня на плече или устраивались вечерком поближе к огню и засыпали, положив на шейки друг другу свои пучеглазые головки. Когда я покидал город, я не мог оставить их, подарить, бросить. Они приехали со мной в коробке из-под печенья и теперь важно разгуливают под окном, греясь на солнышке.
В синей блузе и соломенной шляпе брожу я по бору, засиживаюсь на пеньках, на полянке, где так густо пахнет смолой и выжженный мох под ногами прячет столетние корни.
«Пы-ыррль… пы-ы-р-р-р-л-л-ль».
Над моей головой кружатся ястреба, плавают, не двигая крыльями. Это хозяева бора. Десятки огромных гнезд прячутся в густых вершинах, и только по перьям задранных птиц и рыбьим костям на земле можно заметить убежище хищников. Я люблю смотреть, как, усевшись на самую вышку сосны, сторожат они зарю, окидывая пространство.
Да, это настоящий ястребиный бор. Странно, как еще осмеливаются постукивать по дуплам пестрые дятлы, пробуют петь молодые дрозды, вскрикивают желтогрудые иволги. Конечно, в полутемном бору ежечасно разыгрываются птичьи драмы: нет-нет – пискнет в последний раз бойкая востроносая синичка или чвокнет врасплох попавшийся дятел, но эти крики тонут в звоне вершин и победных звуках ястребиного «пырльканья».
Часто отправляюсь я на Оку с Семеном Федорычем, монастырским дьячком[5], ловить окуней под железнодорожным мостом. Солнце печет, перекликаются плотогоны, а белые чайки рядками сидят по отмелям. Какое приволье! Пузатые лошаденки тянут берегом баржи, и черный канат, вздрагивая, плывет над нашими головами. Солнце – отвесно; полдень, пора закусить. Мы бьем о борт лодки печеные яйца, посыпаем грязноватой солью из какой-то жестянки, и дьячок начинает мечтать об охоте: скоро Петров день.
– А вы как? Обзавелись ружьишком?
– И не стрелял никогда.
– Да неужели? Да тут, я вам доложу, на лугах, да болотах, да к озерку-то такая прорва утки этой – сила несосветимая… Нырок, кряковая… а чирят этих – тучами!.. – соблазнял меня дьячок. – А коростели к осени! Господи! А дроздов по осени в рябинниках… а курочки! а кулички!..
– Нет уж… я люблю вот на удочку.
– И напрасно. И очень даже напрасно. Гуси бывают! Тетеревов в дальнем бору – тьма! Сами лезут под ружье. Так вы что же это… из убеждения, что ли, не стреляете-то?.. Бывают такие.
– Как сказать. Отчасти, пожалуй.
– Та-ак. И что я вам объясню. Утки переводиться стали… – с грустью сказал дьячок, забыв, что только что говорил о «силе несосветимой». – Ястребов развелось – весь бор заполонили. И вот как глушат… прямо непостижимо! И чешутся руки, да зазорно. Монашки наши жалеют, мать игуменья. Монастырский бор-то. «Тварь, – говорят, – у нас убежища ищет, под благословением обители гнезда вьет». А эта тварь дичь бьет!..
Со стороны монастыря докатывается до нас первая «повестка» к вечерне. Это мать Пелагея призывает дьячка с реки.
– В самую бы пору ловиться теперь. Э-эх!..
Вечера провожу я на опушке бора, где он спускается к озеру. Здесь столпилась целая роща засохших сосен. Им мешает жить стадо, укрывающееся в жаркий день. Почва вытоптана вокруг, с сосен упала кора, и голые сучья уныло тянутся в небо. На них отдыхают обитатели бора – ястреба, провожают вечернюю зорю.
В темнеющем небе вижу я их. Сидят, обратив клювы в сторону запада, еще играющего червонными лучами. Тихо. Редко-редко хрустнет сучок. От кутающегося в тумане озера доносится тоскливый разговор камышевки, той неизвестной птички, которая, как описывает в одном из своих рассказов Чехов, спрашивает себя печально: «Ты Ни-ки-ту ви-дел? – и отвечает: – Ви-дел… видел… ви-дел…»
Перестали шептаться с ветром вершины сосен, бор задремал… и вот, последний свидетель уснувшего дня, прямой линией, как стрела, протянул с лугов запоздалый ястреб.
II
Мои милые бедняжки корольки! Кажется, я совсем позабыл их. Они отлично знают, где окно моей комнаты, и целый день толкутся здесь, вытягивая шейки, стараясь заглянуть. Не видя меня, они начинают пищать, как пищали когда-то от холода в коробке из-под печенья, просясь на руки.
Да, это чистые ребятишки, круглые, как яблочки, белоснежные, как сливки. Они привыкли засыпать на моем плече, забираться в рукав и своими тонкими песенками выражать полное удовольствие. Теперь им скучно, и потому так грустно стоят они под окном, вытягивая шейки. Утром они ждут хлебных крошек и, когда я появляюсь на крылечке террасы, снежными комочками подкатываются к ногам, прыгают и хлопают еще слабыми крылышками, стараясь взлететь на плечо.
На днях один из них издал смешной крик, похожий на «ку-ку». Очевидно, один – петушок: он несколько больше и сильнее своей подруги. Он очень смешно разгребает лапками землю, чиркает носом по лапке и вообще проявляет наклонности покровителя своей скромной подруги. А та, еще слабенькая и пугливая, ходит всюду за ним и выбирает что-то из взбитой им кучи сора.
Вчера я вернулся домой поздно и не нашел корольков в их убежище, в корзине из-под белья.
Я встревожился, оглядел все закоулки двора и вошел в комнату. Да, они здесь! Они спали, усевшись по краям дорожного чемодана, словно указывая этим, не лучше ли ехать отсюда, опять в свою комнатку, где так хорошо жилось у печки или возле лампы. Они, плуты, влетели, конечно, в окно и хотели напомнить, чтобы я не забывал их. Я оставил их спать, и ранним утром один из них разбудил меня своим звонким смешным «ку-ку». Ах, злодей! Этот разбойник назойливо требовал исключительного внимания. Он хотел видеть меня всегда и в четыре утра требовал, чтобы я не лишал его солнца. Ну что же! Я не замедлил вскочить и выкинуть в окно этих ранних любителей природы.
«Ку-ку!»
Это «ку-ку» я слышал в последний раз. Точно он забрался ко мне для того, чтобы проститься совсем.
III
Утром я пью чай на открытой терраске и читаю. Мои маленькие надоеды, по обыкновению, торчат под ногами, вскакивают на стол и тычутся носами в сливки; они бродят по сухарнице, щиплют хлеб и заглядывают в блестящие бока самовара. Они воображают, что все это устроено для них и мои плечи и голова должны заменять им насест.
Я читаю, не обращая внимания на назойливость, но, когда один из комочков опрокидывает мне на колени стакан, я быстро принимаю меры и выбрасываю надоед за заборчик, во двор.
«Пырллль… пы-ы-р-р-рллль».
А, это властные хозяева бора приветствуют меня из синевы. Что-то глухо шуршит по железной крыше – должно быть, ребятишки бросаются комьями глины. Да, конечно, они. Они что-то кричат за забором. Что-то широкой тенью пронеслось надо мной, что-то пискнуло.
Что такое? Со всех сторон закричали тревожные куриные голоса – и снова широкая тень. Я поднимаю голову. Громадный ястреб спокойными, ленивыми взмахами подымается в небо, тянет над бором. Крики ребят, всегда наблюдающих за мною в щель забора, смешиваются с кудахтаньем растревоженных кур, и ясно выделяется чей-то визгливый голос:
– Унес!.. Унес!..
Я выбегаю во дворик. Куры жмутся у стен; петух, какой-то весь встрепанный, бегает по двору, раздраженно перебирая ногами. Где корольки? Их нет… Я заглядываю в сарай, осматриваю углы – нет. Я выбегаю во двор. Из-под опрокинутой тачки пугливо выглядывает маленькая беленькая головка с едва намечающимся пунцовым гребешком.
– Цып-цып.
Но королек застыл, не выходит и даже не поворачивает головы. Теперь я понял все! Моего петушка, что сегодня на зорьке разбудил меня своим смешным «ку-ку», нет. Теперь он – там, в бору. Его подруга видела все, слышала последний крик и теперь дрожит под опрокинутой тачкой.
– Твоего уволок, махонькой-то который… Я видал, и Андрюшка видал, как он его ухватил. Как сгребет!..
– И я видал!
Ребятишки виснут на заборе и спорят.
– Мишка-то тебе кричал, как он на крышу-то присел!..
Я стоял во дворе среди затихавших куриных криков. Я был потрясен, точно потерял самое близкое. Да, близкое. Мой королек был, действительно, мой, близкий мне. Я дал ему жизнь. Из мертвого яйца терпением и любовью я вывел живое существо, полюбил и заставил полюбить себя. Мой королек делил со мной вечернюю грусть, засыпал на плече, попискивая над ухом вечернюю песенку сна. И нет его. Злая сила вырвала у меня кусочек моего сердца и теперь не раздумывая рвет где-нибудь на высокой сосне снежные перышки, запускает железный клюв в трепетное еще тело.
Я безнадежно смотрю в небо, гляжу на вершины бора. Он по-прежнему звенит иглами, и солнце по-прежнему печет и светит. Как будто ничего не случилось.
– Побегём, Мишка!.. Сенька, бегём! – слышу я.
Они бегут в бор. Я забываю испуганного королька и спешу за ними. Между стволами мелькают розовые рубашки, слышны перекликающиеся голоса…
Я хорошо знаю бор, знаю любимые места хищников. Мелкий соснячок. Я продираюсь, ломаю отсохшие, хрупкие ветки, топчу обглоданный скелет задранной галки, вспугиваю сереньких болтливых дятликов, ищу белые перышки. На вершине усохшей сосны, изъеденной червями и избитой носами дятлов, замечаю я ненавистную мне теперь фигуру ястреба. Он, кажется, дремлет под солнцем или притворился, высматривая кое-что. Я сжимаю кулаки, ищу, чем бы ударить спокойную птицу.
По лесу мечутся ребятишки, кричат что-то. Я иду на их голоса.
– Здесь! Здесь!.. Во-он… полетел. Да вон там!..
Все столпились на небольшой полянке, что-то рассматривают, трогают.
Да, здесь был он и спокойно доканчивал королька. На сухой хвое нежные белые пушинки шевелились под ветерком. Мишка держал в руке уцелевшее снежное крылышко.
– Эва, как обработал-то…
Я взял крылышко и молчал.
– Вон он… во-он!.. – крикнул кто-то.
Мы все подняли головы.
Над вершинами, высоко в синеве, плавно кружился ястреб, звучно выкрикивая переливчатое «пы-ырррль… пы-ыр-р-р-ллль»… Был ли это он, не знаю. Но теперь для меня все они стали равны.
– Эх, ружье бы!.. Цопнул бы я его! – сказал Мишка.
Я взглянул на Мишку. Его загорелое лицо с сжатыми оскаленными зубами изображало непреклонную волю.
– Что, жалко? – спросил я, пряча в карман белое крылышко.
– У них он тоже одного схватал намедни… – сказал один из ребят.
– Жалко не жалко, а уж… цопнул бы!.. Сссс.
Он вытянул руки и присел.
– Во-он… во-он сидит… за суком-то… – зашептал он. – Да вон, за той сосной-то.
Мы все присели. Теперь я видел его, совсем близко, шагах в пятидесяти. Меня влекло к нему что-то – желание ближе увидеть своего врага. Да, это уже был мой враг, тот ли самый – не знаю, но это уже был враг. Я подходил ближе, ближе; я видел желтоватые ноги, пестрое брюхо, всю красивую сильную фигуру. Он, должно быть, тоже заметил меня и не боится, внимательно поглядывая сверху. Он словно смеется надо мной, чувствуя себя недоступным.
– Еще вон! – шепчет кто-то за моей спиной. – Их тут страсть…
Я смотрел, и на сердце у меня кипело.
– Они теперь и другого стащат… вот посмотри… обязательно!.. – сердито говорит Мишка. – Уж теперь он углядел… не миновать. А вот взять бы да как зачать из ружья!..
Мишка словно читал мои мысли. Теперь-то я знаю, что мне делать… знаю. Если бы эти пестрые хищники знали, что ждет их, они не посмели бы даже взглянуть на моих корольков, не сидели бы так спокойно в вершинах, щуря подрагивающие глаза на солнце.
Я уже не смотрел на него, я угрюмо глядел на играющие под ногами от ветра пушинки, я ощупывал белое крылышко, еще час назад приятно щекотавшее мои щеки.
Война!.. Война не на жизнь, а на смерть! Здесь, на полянке, впитавшей последние капли крови моего королька, я решил. Мой бедный королек! Я заставлю их долго помнить тебя! И вы, безвестные пичужки, славки и малиновки, дятлики, беззаботно порхающие в кустах; вы, звонкие иволги и синички, уже обреченные на гибель; хлопотливые простоватые дятлы и беспомощные утки, – теперь вы скоро будете спать спокойно! Теперь…
– Семен Федорыч дома?
Я стою под окнами дьячка и взываю.
– Дома… он самый. Здравствуйте! За рыбкой, что ли?.. А не жарко?..
– Нет, не за рыбкой. Будьте добры, дайте мне ваше ружье.
– Ру-жье? Да ведь вы.
Он удивленно глядит на меня и как будто посмеивается.
– Да, да… и все прочее… но дайте мне ружье!
Он морщит лоб, отчего лицо его принимает совиное выражение, и еще внимательнее всматривается. Вот чудак!
– Да ведь до Петрова дня нельзя.
– Знаю, знаю. Это не имеет значения.
– Извольте… – цедит он сквозь зубы, поводя плечом. – Мне что!.. Только хищников разрешается… ястреба там.
– Вот именно!
Он напомнил мне о корольке.
– Ну давайте же ружье, чего вы!..
– Ого! Всурьез дело пошло. Ну-ну. Значит, постреляем теперь.
Он засмеялся, скрылся вглубь комнаты и сейчас же вышел на крыльцо со своей дешевенькой двустволкой.
– Штучка!.. А справляться-то умеете?.. Вот здесь вот… сперва…
– Знаю, знаю… спасибо.
– Счастливого поля! – крикнул он мне вслед. – Лисицу ежели – пополам!..
Смейтесь, смейтесь, почтеннейший! Мне не до смеху. Я знаю, что там, запертый в комнате, меня уныло встретит одинокий королек, моя бедная сирота.
IV
Все брошено и забыто.
И свежие утра на окраине бора с деловитым постукиваньем дятлов, с тихим гулом вершин; и жаркие полдни на Оке, в легком челночке за рыбной ловлей; и задумчивые вечера на лесных полянах, грустные сумерки, наползающие из-за потемневших стволов. Забыт и пугливый королек, теперь уныло просиживающий на замке дни и ночи и удивленно засматривающий под дверь.
Он, кажется, недоумевает, почему не выпускают его на волю; он – я уверен в этом – сердится на меня, не так охотно идет на руки, дичится и при моем приближении уходит под стол.
Все брошено и забыто. С утра и до ночи в тиши и глуши бора гулко прокатываются выстрелы. Я вижу только черные гнезда в вершинах; я высматриваю птичьи и рыбьи кости на мягком ковре хвои; настороженным ухом ловлю властные крики из синевы, ощупываю взглядом сухие вершины – сторожевые пункты их. Я подстерегаю их сон, оплошность, минуты отдыха после кормежки.
Мишка – ему лет двенадцать – неотступно сопровождает меня, ползает по кустам, выискивает, как хорошая гончая, прячется за стволами, чутким ухом ловит далекое – «пы-ырыллль… пы-ы-р-р-р-л-л-ль».
Ага! В этих криках я уже не слышу прежней силы и безмятежного торжества. Они уже поняли, в чем дело, они уже недосчитываются кое-кого. Они не сидят так спокойно на обнаженных вершинах. Еще недавно я мог спокойно целиться в пеструю смелую фигуру, точно в мишень, в то время как гордая голова презрительно засматривала вниз, на вытянутую кверху стальную трубку. Но теперь… теперь они приняли вызов и пускаются на уловки.
Лишь только я вступаю в бор в своей синей блузе и соломенной шляпе, первый попадающийся мне на глаза хищник уже гремит из синевы на весь бор тревожным криком и крутыми изгибами исчезает быстро-быстро. Да, они знают, что я их враг. Они знают, где я живу, и, по словам Мишки, уже не залетают в слободку. Для них есть кое-что страшное там. Они, конечно, уже разглядели гигантские крылья своих сородичей, развешанные на стене сарая, – мои трофеи. Они, конечно, не могли не заметить старого ястреба, подвешенного на высоком шесте в маленьком дворике, где когда-то беззаботно играли два снежных комочка – мои корольки.
Каждый вечер забираются ко мне во двор ребятишки, разглядывают широкие крылья, еще недавно рассекавшие воздух, гордо распластанные над вершинами бора, теперь подсыхающие на солнцепеке. Они трогают их руками, удивляются, делают замечания.
– Двадцать первый! Вот так мы! – горделиво сказал сегодня утром Мишка.
Да, в бору реже раздаются звонкие крики – реже и глуше. Бор вымирает как будто. Но зато ранними утрами звончей кричат милые иволги, с большим спокойствием и деловитостью стучат по дуплам дятлы.
Теперь я решаюсь выпускать мою сироту во дворик, и она прохаживается вдоль заборчика, смешно разгребает лапками землю, а десятки гигантских крыльев недвижно глядят на нее со стенки сарая.
Жгучее чувство утраты моего королька постепенно гаснет в моей душе, но я все еще охвачен непонятным азартом. Я увлечен войной, со всеми ее хитростями и уловками. Между мной и ими протянулась невидимая связь взаимного наблюдения, азарта – с одной стороны, страха и ненависти – с другой. Да, ненависти… В криках их я слышу тревогу, злобу, ненависть. Они признали мою синюю блузу, и я меняю ее на пиджак, а соломенную шляпу на фуражку. Я все еще терпеливо, часами, просиживаю в молодых зарослях и жду наступления вечерней зари, когда уцелевшие хищники осторожно, с трусливым и жалобным посвистываньем спешат навестить покинутые на день гнезда.