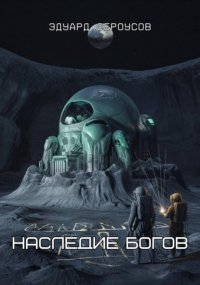Читать онлайн Тишина бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Сероусов
Часть
I
: Открытие
Глава 1: Паттерн
Кофе остыл три часа назад.
Элара Васкес заметила это только сейчас – когда поднесла чашку к губам и ощутила на языке горькую, комнатной температуры жидкость. Она поморщилась, но проглотила. В пятьдесят два года начинаешь ценить любой кофеин, независимо от температуры.
За панорамным окном лаборатории расстилался ночной Женевский кампус проекта «Аргус»: геодезические купола, антенные поля, сплетение трубопроводов охлаждения. Луна висела низко над горизонтом, и её свет отражался от полированных поверхностей телескопических модулей, разбросанных по склону горы. Десять тысяч глаз, смотрящих в космос. Десять тысяч вопросов, на которые никто не ждал ответа.
Точнее – не ждал такого ответа.
Элара потёрла переносицу и вернулась к голографическому дисплею. Трёхмерная карта галактики медленно вращалась перед ней, усеянная красными точками – каждая отмечала мёртвую цивилизацию. Сферы Дайсона, погасшие миллионы лет назад. Орбитальные кольца, распавшиеся на астероидные пояса. Планетарные поверхности, покрытые геометрическими узорами – следами городов, которые никто больше не населял.
Тысячи точек. Тысячи историй. Тысячи вопросов «почему».
И один ответ, который не укладывался в голове.
Она коснулась панели управления, и карта сжалась, превращаясь в плоскую проекцию. Временна́я шкала развернулась вдоль нижнего края: от четырёх миллиардов лет назад до настоящего момента. Красные точки выстроились в хронологическую последовательность.
Статистический анализ, который она запустила семь часов назад – просто рутинная проверка, ничего особенного, – должен был показать нормальное распределение. Цивилизации возникают и гибнут по разным причинам: астероиды, сверхновые, экологические катастрофы, войны. Случайный шум на фоне космического времени.
Вместо этого алгоритм выдал аномалию.
Элара увеличила масштаб. Точки, разбросанные по миллионам световых лет, сходились к одному моменту на временно́й шкале. Не приблизительно. Не «в пределах погрешности». Точно.
Двенадцать тысяч лет назад. Плюс-минус сорок семь лет – предел разрешения датировки.
Она запустила анализ повторно. Потом ещё раз. И ещё.
Результат не менялся.
Четыреста двадцать три цивилизации – все, для которых удалось установить дату гибели с достаточной точностью – прекратили существование в один и тот же момент. Плюс-минус полвека на космологической шкале – это мгновение. Моргание.
Элара откинулась в кресле. Потолочные светильники автоматически приглушили яркость, реагируя на её усталость, но она этого не заметила. Она смотрела на красные точки, и красные точки смотрели на неё.
Галактика полна разумной жизни, думала она. Была полна. Тысячи видов, миллионы планет, триллионы существ – и все они погибли. Одновременно. Словно кто-то выключил свет.
Нет. Не так. Словно кто-то включил что-то.
Она потянулась к чашке, вспомнила, что кофе холодный, и всё равно сделала глоток.
Утро пришло незаметно – как оно обычно приходит, когда не ложишься спать. Небо за окном посерело, потом порозовело, потом налилось привычной альпийской синевой. Элара сидела в том же кресле, в той же позе, и смотрела на те же данные.
Она перепроверила всё. Калибровку телескопов. Методы датировки. Поправки на расширение вселенной. Статистические модели. Исходный код алгоритмов. Даже залезла в архивы исходных наблюдений, чтобы убедиться, что данные не повреждены.
Аномалия осталась.
Кто-то постучал в дверь. Элара вздрогнула – она успела забыть, что существует мир за пределами этой комнаты.
– Открыто, – произнесла она, и собственный голос показался ей чужим. Хриплым.
Дверь отъехала в сторону, пропуская Мартина Цоллера, её ассистента. Двадцать шесть лет, докторантура по ксеноархеологии, хронический оптимизм и неспособность заваривать приличный чай. Сейчас он выглядел обеспокоенным.
– Доктор Васкес? Вы здесь с вечера?
– Похоже на то.
Мартин вошёл, держа в руках планшет и бумажный стаканчик. Запах свежего кофе достиг Элары раньше, чем он успел его протянуть.
– Ваша дочь звонила, – сказал он. – Три раза. Вы не отвечали.
Элара зажмурилась. Соня. Она обещала забрать её из школы вчера в пять. Сейчас было… она посмотрела на часы… семь тридцать утра.
– Ребёнок в порядке?
– Её забрал отец. Она просила передать, что… – Мартин сверился с планшетом, – …«мама опять нашла что-то важное и забыла про всё на свете, и это нечестно».
Элара хрипло рассмеялась. Соня была права. Соня всегда была права, с этой своей семилетней безжалостной логикой.
Она приняла кофе – горячий, идеальный – и отпила половину залпом. Кофеин побежал по венам, возвращая ощущение реальности происходящего.
– Мартин, мне нужно, чтобы вы проверили мою работу.
– Что именно?
– Всё.
Она развернула дисплей так, чтобы он видел. Карта галактики, красные точки, временна́я шкала. Мартин нахмурился.
– Это датировки массовых вымираний? Я думал, вы закончили эту часть ещё в прошлом месяце.
– Закончила. А потом решила провести статистический анализ. Просто так. На всякий случай.
– И что нашли?
Элара не ответила. Она просто указала на график.
Мартин наклонился ближе. Потом ещё ближе. Потом выпрямился, и на его лице появилось выражение, которое Элара видела у студентов, впервые осознающих масштаб вселенной: смесь восторга и ужаса.
– Это… это же…
– Да.
– Но это невозможно. Статистически невозможно.
– Статистика ошибается. Иногда.
– Нет, погодите. – Мартин поставил свой планшет и начал листать данные. – Вы говорите, что четыреста с лишним цивилизаций погибли одновременно? Но причины смерти разные. Вот эта – термоядерная война. Эта – экологический коллапс. Эта – судя по останкам, какая-то пандемия. Они не могли…
– Я знаю.
– Разные галактические рукава. Разные временны́е зоны. Некоторые – в сотнях тысяч световых лет друг от друга. Даже если бы что-то распространялось со скоростью света, оно бы не достигло всех одновременно.
– Я знаю.
– Тогда что…
– Мартин. – Элара подняла руку. – Я потратила ночь на то, чтобы найти ошибку. Её нет. Или она так глубоко зарыта, что я не вижу. Поэтому мне нужны свежие глаза. Ваши глаза.
Он кивнул, всё ещё глядя на график.
– Двенадцать тысяч лет, – пробормотал он. – Это же… неолит. Начало сельского хозяйства. Первые города.
– И когнитивная революция, – добавила Элара тихо.
Мартин посмотрел на неё.
– Что?
– Ничего. Просто мысль. Проверьте данные, Мартин. Я… мне нужно позвонить дочери.
Соня не плакала. Это было хуже.
Когда дети плачут, с ними можно договориться. Объяснить. Утешить. Но когда семилетний ребёнок смотрит на тебя с молчаливым разочарованием – это другое. Это ударяет в солнечное сплетение.
– Я знаю, что ты занята, – сказала Соня в камеру видеозвонка. Её тёмные волосы были собраны в неаккуратный хвост – работа отца. – Ты всегда занята.
– Малышка, мне очень жаль. Я нашла что-то… что-то важное на работе и забыла про время.
– Ты всегда находишь что-то важное.
Это было правдой. Элара не стала спорить.
– Я приеду сегодня вечером. Обещаю.
– Ты обещала вчера.
– На этот раз – точно.
Пауза. Соня крутила в руках фиолетовый карандаш – её любимый цвет в этом месяце. За её спиной виднелась гостиная квартиры Хавьера, бывшего мужа Элары: современная мебель, панорамные окна с видом на озеро, абсолютный порядок. Противоположность её собственного жилья.
– Папа говорит, что ты ищешь инопланетян.
– В каком-то смысле – да.
– Ты их нашла?
Элара замерла. Красные точки на карте всплыли перед глазами.
– Я… нашла следы. Следы тех, кто был раньше.
– Они умерли?
– Да.
– Все?
Ещё одна пауза. Элара смотрела на лицо дочери – круглое, серьёзное, с россыпью веснушек на носу – и думала о том, как много она не может ей объяснить.
– Все, кого мы нашли, – сказала она наконец.
Соня наклонила голову, обдумывая это.
– А мы? Мы тоже умрём?
– Когда-нибудь. Все умирают когда-нибудь.
– Я не хочу.
– Я тоже, малышка.
Соня снова замолчала. Потом её лицо просветлело – как это бывает у детей, способных переключаться между космическими вопросами и повседневными за долю секунды.
– Я нарисовала инопланетянина, – объявила она. – Хочешь посмотреть?
– Конечно.
Дочь исчезла из кадра на мгновение, потом вернулась, держа лист бумаги. На рисунке был изображён… Элара наклонила голову, пытаясь понять.
– Это он, – пояснила Соня. – У него восемь глаз, потому что он живёт там, где очень темно. И щупальца, чтобы держать штуки. И он синий.
– Почему синий?
– Потому что это красивый цвет.
Элара улыбнулась – первый раз за двадцать часов.
– Он замечательный.
– Я назвала его Блюпи. Потому что «блю» – это «синий», а «пи» – это круг. А у него круглая голова. Видишь?
– Вижу.
Соня посмотрела на рисунок, потом на мать. Её взгляд стал серьёзным – слишком серьёзным для семи лет.
– Мама, а ты найдёшь настоящих?
Элара открыла рот, чтобы ответить. И закрыла. И открыла снова.
– Я стараюсь, малышка. Я очень стараюсь.
– Хорошо. – Соня кивнула, принимая это как достаточный ответ. – Тогда я подожду. Только приезжай сегодня, ладно?
– Ладно.
– И привези мороженое.
– Клубничное?
– Шоколадное. Я передумала.
– Договорились.
Соня улыбнулась – широко, открыто, всеми молочными зубами – и отключилась. Экран погас, оставив Элару смотреть на собственное отражение в тёмном стекле.
Она выглядела старой. Уставшей. Напуганной.
Мёртвые цивилизации. Двенадцать тысяч лет. Когнитивная революция.
Элара отвернулась от экрана и пошла обратно в лабораторию.
Мартин работал уже четыре часа, когда она вернулась. Вокруг него громоздились голографические окна – графики, таблицы, модели. Он что-то бормотал себе под нос, и это был плохой знак: Мартин бормотал только тогда, когда находил что-то серьёзное.
– Ну? – спросила Элара.
Он не обернулся.
– Ваша статистика верна.
– Я знаю.
– Нет, вы не понимаете. – Он наконец повернулся. Его глаза были красными от напряжения, а на щеке отпечаталась полоса от сенсорной перчатки. – Я проверил всё. Каждую цивилизацию отдельно. Методы датировки разные: радиоизотопный анализ, астрохронология, анализ распада материалов. Они не связаны между собой. Систематической ошибки нет.
– Тогда что?
– Двенадцать тысяч лет – это… – он сглотнул. – Я посчитал. Из четырёхсот двадцати трёх цивилизаций, для трёхсот восьмидесяти семи мы знаем, что они существовали миллионы лет. Некоторые – десятки миллионов. Они пережили сверхновые, столкновения галактик, гамма-всплески. А потом – в один момент – исчезли все. Вероятность случайного совпадения…
Он не закончил предложение. Элара кивнула.
– Я знаю вероятность.
– 10 в минус семнадцатой. Примерно.
– Ближе к 10 в минус девятнадцатой, если учесть, что некоторые были в изолированных системах.
– То есть нулевая. Фактически нулевая.
– Фактически – да.
Они посмотрели друг на друга. В голографическом свете дисплеев лицо Мартина выглядело нездорово бледным.
– Доктор Васкес… что это значит?
Элара не ответила. Вместо этого она подошла к своему рабочему столу и вызвала другую базу данных – ту, которую не трогала уже несколько месяцев. Антропологические данные. Эволюция человека. Когнитивная история.
– Что вы ищете? – спросил Мартин.
– Совпадение.
– Какое?
– Посмотрим.
Она развернула временну́ю шкалу человеческой эволюции. Миллионы лет сжались в одну линию: Homo habilis, Homo erectus, архаичные сапиенсы, анатомически современные люди. Последние двести тысяч лет – мигание на фоне геологического времени.
А потом – скачок.
Пятьдесят-семьдесят тысяч лет назад: поведенческая революция. Искусство. Ритуалы. Сложные орудия. Но это было не то.
Десять-пятнадцать тысяч лет назад: неолитическая революция. Сельское хозяйство. Первые города. Письменность. Ближе.
И между ними – когнитивная революция. Не внешняя, как неолит. Внутренняя. Изменение структуры мышления. Способность к абстракции. Рекурсивное самоосознание.
Двенадцать тысяч лет назад.
Плюс-минус погрешность.
Элара наложила два графика: даты гибели цивилизаций и хронологию когнитивного скачка.
Они совпали.
Не приблизительно. Не «в пределах». Точно.
Мартин увидел это раньше, чем она успела объяснить. Он отшатнулся от дисплея так резко, что опрокинул стул.
– Нет, – произнёс он. – Нет, это… это бред. Это паттерн-хантинг. Мы видим то, что хотим видеть.
– Мы не хотим это видеть.
– Вы предполагаете, что человечество… что мы как-то…
Он не закончил. Элара тоже молчала. Слова застряли в горле – тяжёлые, угловатые, невозможные.
– Это корреляция, – сказал Мартин наконец. – Не каузация. Два события совпали по времени. Это не значит, что одно вызвало другое.
– Да.
– Нам нужно больше данных. Нужно проверить альтернативные гипотезы. Космическое излучение. Гамма-всплеск из другой галактики. Вакуумный распад где-то далеко…
– Всё это должно распространяться со скоростью света или медленнее.
– Тогда… тогда какая-то структура в тёмной материи. Или…
– Мартин.
Он замолчал.
– Я понимаю, – сказала Элара тихо. – Поверьте, я понимаю. Первая реакция – найти другое объяснение. Любое. Потому что это… – она указала на совпавшие графики, – …это невозможно. Это абсурд. Это…
– Это обвинение, – прошептал Мартин. – Если это правда… мы убили их. Всех.
Элара покачала головой.
– Мы не знаем механизма. Мы не знаем каузации. Мы не знаем ничего, кроме двух совпавших чисел на двух графиках.
– Но вы думаете…
– Я думаю, что нам нужно работать. Много работать. И никому не говорить, пока не поймём, что именно мы нашли.
Мартин медленно поднял стул и сел. Его руки дрожали.
– Вы хотите это скрыть?
– Я хочу это понять. Прежде чем понимать будут другие.
День прошёл в работе.
Элара отменила все встречи. Мартин написал, что заболел. Они заперлись в лаборатории и начали копать – глубже, дальше, в каждую щель данных, которую могли найти.
Альтернативные гипотезы падали одна за другой.
Гамма-всплеск? Не объясняет синхронность – даже если допустить источник в центре галактики, волна достигла бы периферии с задержкой в десятки тысяч лет. А точки гибели распределены равномерно по всему диску.
Вакуумный распад? Та же проблема со скоростью света. Плюс – вакуумный распад уничтожил бы всё, включая материю. А материя осталась.
Сверхновая? Несколько сверхновых? Их излучение оставило бы следы в межзвёздной пыли. Следов не было.
Тёмная материя? Экзотическая физика? Квантовая аномалия?
Каждая гипотеза порождала больше вопросов, чем ответов. Каждая требовала допущений, для которых не было доказательств.
А когнитивная революция стояла в центре, как чёрный столб посреди пустой комнаты.
К вечеру Элара вышла на улицу – просто чтобы вдохнуть свежего воздуха. Альпийский ветер обжёг щёки. Небо темнело, и первые звёзды проступали сквозь остатки сумерек.
Она смотрела на них и думала: там никого нет. Были – и нет. Мы искали сигналы семьдесят лет. Запускали зонды. Строили телескопы. А ответ был рядом с самого начала.
Тишина.
Великая тишина, которую физик Энрико Ферми заметил ещё в 1950 году: если вселенная полна жизни, почему мы не видим её следов?
Теперь Элара знала ответ. Следы были. Просто все, кто мог их оставить, погибли. Одновременно. В момент, когда человечество начало думать по-новому.
Она достала коммуникатор. Номер Хавьера высветился на экране.
– Я опоздаю, – сказала она, когда он ответил. – Ещё на час. Может, два.
– Соня будет расстроена.
– Я знаю. Передай ей… передай ей, что я привезу двойную порцию мороженого.
– Это не поможет.
– Я знаю, – повторила Элара. – Но я не могу сейчас уйти. Это важно.
Пауза. Хавьер вздохнул – тот самый вздох, который она слышала тысячу раз за годы их брака. Смесь усталости и принятия.
– Это всегда важно, Элара.
– На этот раз – по-другому.
– Ты говоришь это каждый раз.
– На этот раз я права.
Она отключилась, не дожидаясь ответа. Потом посмотрела на звёзды ещё раз – долго, неподвижно – и вернулась в лабораторию.
Ключ нашёлся к полуночи.
Мартин ушёл – Элара настояла, несмотря на его протесты. Молодым нужен сон. Ей самой сон был нужен тоже, но она давно научилась игнорировать потребности тела, когда разум требовал продолжать.
Она сидела в полутьме, окружённая голографическими окнами, и пересматривала данные в сотый раз. Не искала ничего конкретного – просто смотрела, давая мозгу свободу ассоциаций.
И тогда она заметила.
Три цивилизации – Дельта-7, Омикрон-12 и безымянная система у края галактики – оставили после себя не только руины. Они оставили записи. Фрагментарные, полуразрушенные, но читаемые. Проект «Аргус» расшифровал их ещё два года назад. Элара видела результаты – формальные, сухие, научные – и отложила их как неприоритетные.
Сейчас она вызвала эти файлы.
Дельта-7. Углеродная жизнь, примерно гуманоидная морфология. Технологический уровень – термоядерный синтез, начало межзвёздных полётов. Записи: административные документы, художественные тексты, научные архивы. И – это она пропустила тогда – медицинские протоколы последних дней.
Она открыла их.
«День 1: Необъяснимая потеря координации у 0.3% популяции. Симптомы: дезориентация, потеря кратковременной памяти, трудности с распознаванием лиц. Причина неизвестна.»
«День 2: Процент поражённых вырос до 2.1%. Новый симптом: пациенты сообщают о невозможности «поймать мысль». Цитата: «Я знаю, что думал что-то важное, но оно исчезло, как дым».»
«День 3: 15% популяции. Системы здравоохранения перегружены. Пациенты теряют способность к связной речи. Не афазия – они понимают слова, но не могут удержать смысл предложения целиком.»
«День 4: 60%. Массовая паника. Правительство объявило чрезвычайное положение. Медицинский персонал сам поражён.»
«День 5: ?%. Счёт более невозможен. Автор этого документа испытывает… испытывает… я не помню слово… связь между понятиями рвётся… что-то важное… должен записать пока могу… дети… мои… имена… как их… как…»
Запись обрывалась.
Элара смотрела на текст, и буквы расплывались перед глазами. Не от усталости – от слёз.
Пять дней. От первых симптомов до полного коллапса – пять дней. И симптомы… не физические. Не болезнь в традиционном смысле. Что-то, что разрушало саму способность мыслить.
Она открыла записи с Омикрон-12.
Другая биология – кремнийорганическая основа, коллективное сознание, похожее на муравьиные колонии. Но симптомы те же: сначала – периферийные сбои в координации, потом – потеря способности к абстрактному мышлению, потом – полный распад.
Безымянная система. Энергетические существа, обитающие в короне звезды. Даже их – тех, кто не имел материальных тел – поразило то же самое. «Связи между узлами сети рвутся, – говорилось в их последней трансляции. – Мы забываем, как думать вместе. Мы забываем, как думать. Мы забы…»
Три цивилизации. Три совершенно разных биологии. Один и тот же паттерн смерти.
Элара откинулась в кресле и закрыла глаза.
Не болезнь. Не катастрофа. Не война.
Что-то, что разрушает сознание. Напрямую. Независимо от носителя.
Она думала о теории Пенроуза-Хамероффа – старой, спорной, но так и не опровергнутой. Квантовые процессы в микротрубочках нейронов. Сознание как результат квантовой когерентности.
Что, если когерентность можно нарушить? Извне? Или… изнутри?
Когнитивная революция.
Люди начали думать иначе. Рекурсивное самоосознание – способность мыслить о собственном мышлении. Абстракция второго, третьего, n-ного порядка.
Что, если этот новый способ мышления что-то сделал?
Что, если он что-то запустил?
Элара открыла глаза и уставилась в потолок. Мысль была безумной. Антинаучной. Невозможной.
И она объясняла всё.
Соня спала, когда Элара наконец добралась до квартиры Хавьера. Было три часа ночи, и бывший муж открыл дверь с выражением человека, давно переставшего удивляться.
– Мороженое? – спросил он.
– Чёрт.
– Она будет расстроена.
– Я куплю утром. До того, как проснётся.
Хавьер посторонился, пропуская её. Квартира была погружена в полумрак – только ночник у двери в детскую бросал тусклый жёлтый круг на паркет.
– Можешь остаться, – сказал он. – Диван свободен. Тебе незачем ехать обратно в таком состоянии.
Элара хотела возразить, но усталость навалилась разом, как будто тело только сейчас осознало, что не спало двое суток. Она кивнула.
– Чай? – предложил Хавьер.
– Не откажусь.
Они прошли на кухню. Хавьер включил чайник – старомодный, со свистком, его единственная дань ностальгии в доме, набитом умной техникой. Элара опустилась на стул и положила руки на стол. Они всё ещё дрожали.
– Что случилось? – спросил он, не оборачиваясь.
– Ничего.
– Элара.
Она помолчала. Потом сказала:
– Мы нашли что-то. На работе. Что-то… большое.
– Инопланетяне?
– В каком-то смысле.
Хавьер обернулся. Его лицо – знакомое до последней морщины, до последнего изгиба – выражало осторожный интерес. Он знал её достаточно хорошо, чтобы понимать: когда Элара Васкес говорит «что-то большое» таким голосом, это действительно большое.
– Ты можешь рассказать?
– Нет.
– Секретно?
– Не знаю. Пока – да. Наверное.
Чайник засвистел. Хавьер снял его с плиты и начал заваривать чай – тот самый травяной сбор, который она любила когда-то, много лет назад.
– Ты выглядишь напуганной, – сказал он.
– Я и есть напуганная.
– Это опасно?
Элара не ответила. Она думала о красных точках на карте. О записях с мёртвых планет. О совпавших графиках.
– Я не знаю, – произнесла она наконец. – Но если я права… если то, что я думаю, правда…
Она не закончила. Не смогла. Слова не выходили.
Хавьер поставил перед ней чашку и сел напротив.
– Когда мы были женаты, – сказал он тихо, – я всегда знал, когда ты находила что-то важное. Ты переставала спать. Переставала есть. Переставала видеть что-либо, кроме работы. Я злился на это. Очень злился.
– Я помню.
– Но сейчас… сейчас это что-то другое. Я вижу.
– Да.
– Ты можешь хотя бы намекнуть?
Элара подняла чашку. Пар поднимался вверх, рисуя в воздухе невидимые узоры. Она вдохнула запах мяты и ромашки – запах прошлого, запах безопасности.
– Ты помнишь, – сказала она, – как Соня спросила меня, почему небо тёмное ночью?
– Парадокс Ольберса.
– Да. Если вселенная бесконечна и полна звёзд, небо должно быть ярким в любое время. Но оно тёмное. И это казалось загадкой – пока мы не поняли, что вселенная не бесконечна во времени. Что звёзды не всегда существовали.
– И что?
– Есть другой парадокс. Парадокс Ферми. Если вселенная полна жизни, почему мы не видим её следов?
Хавьер нахмурился.
– Но вы же видите. Мёртвые сферы Дайсона, мёртвые города. Это же следы?
– Следы мёртвых, – сказала Элара. – Не живых. Никто не ответил на наши сигналы. Никто не прислал зонды. Никто не вышел на контакт. За семьдесят лет поисков – ни одного признака активной цивилизации.
– Потому что они все мертвы.
– Именно. И я думаю, что знаю почему.
Она сделала глоток чая. Он обжёг язык, но она почти не почувствовала.
– Они умерли одновременно, Хавьер. Все. Двенадцать тысяч лет назад. В один момент.
Он смотрел на неё молча. Ждал продолжения.
– И двенадцать тысяч лет назад, – продолжила она, – человечество прошло через когнитивную революцию. Мы начали думать иначе. Стали… нами.
– Ты хочешь сказать…
– Я ничего не хочу сказать. У меня нет доказательств. Только корреляция. Но…
Она поставила чашку на стол. Её руки больше не дрожали – они оцепенели.
– Но если я права, – произнесла она так тихо, что сама едва слышала, – то мы убили их. Всех. Всю разумную жизнь в галактике. Просто тем, что начали думать.
Тишина заполнила кухню. Где-то за окном прошёл автомобиль, и его фары бросили полосу света на потолок.
– Это невозможно, – сказал Хавьер наконец.
– Я знаю.
– Мысли не убивают на расстоянии.
– Я знаю.
– Должно быть другое объяснение.
– Я знаю, – повторила Элара в третий раз. – Поверь, я знаю. Я потратила двое суток, пытаясь найти его. И не нашла.
Хавьер молчал долго. Потом встал, подошёл к окну и уставился на ночной город.
– Что ты будешь делать?
– Продолжать искать. Проверять. Исключать альтернативы.
– А потом?
– Не знаю.
– Если это правда… люди должны знать.
– Если это правда, – возразила Элара, – люди не справятся со знанием.
Она вспомнила записи с Дельта-7. Пять дней от первых симптомов до полного распада. Что будет, когда восемь миллиардов людей узнают, что они – причина величайшего геноцида в истории вселенной?
– Я должна быть уверена, – сказала она. – Абсолютно уверена. Прежде чем это выйдет наружу.
Хавьер обернулся. В темноте его глаза блестели.
– Сколько времени тебе нужно?
– Не знаю. Месяцы. Может, годы.
– А Соня?
Элара вздрогнула. Она старалась не думать о дочери – о семилетней девочке, которая рисовала синих инопланетян и ждала, когда мама найдёт настоящих.
– Соня ничего не узнает, – сказала она. – Пока я не буду готова. Пока мир не будет готов.
– А если мир никогда не будет готов?
На это у Элары не было ответа.
Она не помнила, как уснула. Один момент – она сидела на диване, держа в руках остывшую чашку чая. Следующий – солнечный свет бил в глаза, и маленькие руки тянули её за рукав.
– Мама! Мама, ты проснулась!
Соня. Всё ещё в пижаме с единорогами, волосы растрёпаны, на щеке отпечаток подушки. Она сияла – тем особенным светом, который излучают дети, когда получают неожиданный подарок.
– Ты осталась! – Соня забралась на диван и обняла мать за шею. – Я проснулась, а ты здесь! Папа сказал, ты приехала очень поздно.
– Очень-очень поздно, – подтвердила Элара, обнимая дочь в ответ. Запах детского шампуня, тепло маленького тела – простые, земные вещи, которые на мгновение заслонили всё остальное.
– А мороженое?
Чёрт. Мороженое.
– Я… – начала Элара.
– Я купил, – раздался голос Хавьера из кухни. – Шоколадное, как заказывали.
Соня взвизгнула от радости и соскочила с дивана. Её ноги протопали по паркету в сторону кухни.
Элара осталась сидеть, глядя в потолок. Красные точки. Мёртвые цивилизации. Когнитивная революция.
И дочь, которая радуется шоколадному мороженому.
Она встала и пошла на кухню.
Завтрак прошёл почти нормально. Почти – потому что Элара не могла избавиться от ощущения, что смотрит на мир через стекло. Хавьер делал блинчики. Соня рассказывала про школу. Солнце светило в окно, и казалось, что это обычное утро обычной субботы.
Оно не было обычным. Уже никогда не будет.
– Мама, ты меня слушаешь?
Элара моргнула. Соня смотрела на неё с обидой.
– Извини, малышка. Я задумалась.
– Ты всегда задумываешься.
– Это правда. О чём ты говорила?
– Про рисунок! Я хочу показать тебе другого инопланетянина. Я нарисовала его вчера, пока ждала тебя.
– Покажи.
Соня умчалась в свою комнату и вернулась через минуту, сжимая в руках лист бумаги. На этот раз инопланетянин был красным и имел крылья.
– Его зовут Редди, – объявила она. – Он летает между звёздами и ищет друзей. Но все звёзды пустые, и ему грустно.
Элара смотрела на детский рисунок. Красная фигурка с крыльями парила между жёлтыми точками-звёздами. Вокруг – чернота космоса. Пустота.
– Почему звёзды пустые? – спросила она.
Соня пожала плечами.
– Не знаю. Просто так получилось. Я хотела нарисовать ему друзей, но потом подумала: а если их нет? Что тогда?
– И что тогда?
– Тогда он ищет дальше. Пока не найдёт.
– А если никогда не найдёт?
Соня нахмурилась, обдумывая вопрос с серьёзностью, неуместной для её возраста.
– Тогда… – она помолчала. – Тогда он сам становится другом. Для тех, кто будет потом.
Элара ничего не ответила. Она взяла рисунок – осторожно, как хрупкий артефакт – и долго смотрела на одинокую красную фигурку среди пустых звёзд.
– Мама? – Соня дёрнула её за рукав. – Тебе не нравится?
– Нравится, – сказала Элара. Голос дрогнул. – Очень нравится.
– Тогда почему ты плачешь?
Она не заметила слёз. Провела рукой по щеке – мокрая.
– Потому что твой рисунок очень красивый, – соврала она. – Иногда красивые вещи заставляют плакать.
Соня обняла её снова. Крепко, по-детски – не понимая, но чувствуя.
– Не плачь, мама. Редди найдёт друзей. Я точно знаю.
– Откуда?
– Потому что я так решила. А я рисую, значит, я решаю.
К полудню Элара вернулась в лабораторию.
Мартин был уже там – несмотря на то, что она сказала ему взять выходной. Он сидел у дисплея с красными глазами и пустой чашкой кофе.
– Вы должны были отдыхать, – сказала она.
– Не смог, – ответил он. – Я… думал.
– О чём?
– О том, что мы нашли. И о том, что это значит.
Элара села рядом. На экране была та же карта – красные точки, временна́я шкала, совпавшие графики.
– Я провёл ещё несколько тестов, – продолжил Мартин. – Пока вас не было. Искал хоть какую-то альтернативу. И нашёл кое-что.
– Что именно?
Он вывел на экран новую визуализацию. Трёхмерная модель галактики, но не статичная – анимированная. Точки появлялись в хронологическом порядке: сначала древнейшие цивилизации, потом более молодые. А потом – волна.
– Смотрите, – сказал Мартин. – Вот здесь, двенадцать тысяч лет назад. Точки не просто исчезают одновременно. Они исчезают в определённом порядке.
Элара наклонилась ближе. И увидела.
Волна начиналась… где? В центре галактики? Нет. Волна начиналась здесь. На периферии. В рукаве Ориона.
Там, где находилась Солнечная система.
– Это распространялось отсюда, – прошептала она. – От нас.
– Да. Со скоростью, примерно равной скорости света. Но не совсем – есть небольшие отклонения, которые я не могу объяснить. И ещё кое-что.
Он увеличил масштаб. Несколько точек оставались активными дольше остальных – те, что находились дальше всего от Солнца.
– Эти цивилизации просуществовали на несколько десятков лет дольше. Разница в расстоянии – несколько тысяч световых лет. Время задержки – соответствующее.
– Волна, – повторила Элара. – Волна чего?
– Я не знаю. Но что бы это ни было – оно началось здесь. На Земле. И распространилось наружу, убивая всё на своём пути.
Они смотрели на модель – на расширяющуюся сферу смерти, центр которой совпадал с их родной планетой.
– Двенадцать тысяч лет, – сказала Элара тихо. – Когнитивная революция. Мы начали думать иначе – и это что-то запустило.
– Как? – спросил Мартин. – Как мысли могут убивать на расстоянии в тысячи световых лет?
Она не ответила. Вместо этого вызвала другой файл – одну из статей, которые читала ночью, отчаянно ища объяснение.
– Теория Пенроуза-Хамероффа, – сказала она. – Вы знакомы?
– Квантовое сознание? Знаком. Но это же маргинальная гипотеза. Не доказана.
– Не доказана – не значит «опровергнута». Согласно Пенроузу, сознание возникает при объективной редукции квантовых состояний в микротрубочках нейронов. Каждый акт осознания – это коллапс волновой функции.
– И что?
– Что, если наш тип сознания – рекурсивное самоосознание – создаёт особый тип коллапса? Не локальный, а… распространяющийся?
Мартин покачал головой.
– Это противоречит всему, что мы знаем о квантовой механике. Коллапс волновой функции – локальное явление. Он не может распространяться быстрее света.
– А что, если может?
– Тогда… – он осёкся. – Тогда это была бы не физика. Это была бы магия.
– Или физика, которую мы ещё не понимаем.
Элара встала и подошла к окну. За стеклом – антенные поля, купола, горы на горизонте. Мир, который казался прочным и понятным.
– Представьте, – сказала она, не оборачиваясь, – что сознание – это не просто эпифеномен мозговой активности. Что это фундаментальное свойство вселенной. Поле, как электромагнитное поле. Или как гравитация.
– Панпсихизм, – откликнулся Мартин.
– Да. Теперь представьте, что это поле – назовём его субстратом Бома, в честь физика, который предложил идею скрытых переменных – содержит все возможные конфигурации сознания. Суперпозицию. И каждый акт осознания – это «чтение» субстрата. Локальный коллапс.
– Продолжайте.
– Обычное сознание – простое, линейное – создаёт незначительные возмущения. Как рябь на воде. Но рекурсивное самоосознание – мышление о мышлении – создаёт петлю. Автокаталитическую петлю. Возмущение усиливает само себя.
Она повернулась к Мартину.
– Что, если при достижении критической массы – достаточного количества связанных рекурсивных сознаний – петля становится глобальным аттрактором? Точкой сингулярности, которая притягивает к себе все паттерны чтения в радиусе… не знаю. Светового конуса?
Мартин молчал. Его лицо было бледным.
– Это… – начал он.
– Безумие, – закончила Элара. – Я знаю. Но это объясняет данные. Всё – синхронность, волну, записи с мёртвых планет. Они теряли способность мыслить, потому что что-то разрушало их квантовую когерентность. Извне.
– Изнутри нас.
– Да. Изнутри нас.
Они проработали до вечера, пытаясь найти изъяны в гипотезе.
Изъянов было много. Теория требовала допущений, которые нельзя было проверить. Она противоречила стандартной модели квантовой механики. Она предполагала существование поля, которое никто никогда не измерял.
Но она объясняла данные. Каждую точку на карте. Каждую запись с мёртвых планет. Каждое совпадение.
К семи вечера Мартин ушёл – на этот раз Элара настояла более убедительно. Она осталась одна в лаборатории, окружённая призраками мёртвых цивилизаций.
Она думала о Соне. О рисунке с одиноким красным инопланетянином. О вопросе: «Мама, ты их найдёшь?»
Я нашла, малышка. Но лучше бы не находила.
Она вызвала на экран последнюю запись с Дельта-7. Голос – или то, что программа перевела как голос – звучал тихо, прерывисто:
«…я забываю слово для… для этого… когда смотришь на кого-то и понимаешь, что он… что ты… мы все… одно… нет, не одно… связаны… нет… я не помню… было что-то важное… очень важное… нужно сказать… нужно…»
И потом – тишина. Та самая великая тишина, которую Ферми заметил ещё в 1950 году.
Элара выключила запись.
Она сидела в темноте – лабораторные лампы давно погасли автоматически – и смотрела на красные точки, медленно вращающиеся в голографическом поле.
Четыреста двадцать три цивилизации. Миллионы миров. Триллионы существ.
И мы. Единственные выжившие. Не потому что были сильнее, умнее, удачливее.
Потому что были причиной.
Смех начался где-то глубоко в груди. Низкий, хриплый, неконтролируемый. Элара смеялась – над абсурдностью открытия, над иронией судьбы, над самой собой.
Мы искали братьев по разуму семьдесят лет. Строили телескопы. Отправляли сигналы. Мечтали о контакте.
А мы их убили. Всех. До последнего. Просто тем, что начали думать.
Смех перешёл в рыдания – так плавно, что она не заметила момент перехода. Слёзы текли по щекам, и она не пыталась их вытереть. Просто сидела в темноте и плакала – о тех, кого никогда не знала и никогда не узнает.
О цивилизации, которая забыла слово для любви.
О существах, которые кричали в пустоту, надеясь, что кто-то услышит.
О детях, которых кто-то рисовал на стене, пока мир рушился.
И о собственной дочери, которая спрашивала: «Мама, мы плохие? Это правда?»
Элара не знала ответа. Не знала, как жить с этим знанием. Не знала, как рассказать – или можно ли рассказывать вообще.
Она знала только одно: мир изменился. Навсегда. И она – первая, кто это понял.
Тишина космоса давила на неё со всех сторон. Не пустая, случайная тишина – а та, что осталась после крика. Тишина, которую мы создали.
Тишина, в которой придётся жить.
Глава 2: Год молчания
Триста шестьдесят четыре дня.
Элара вела счёт – не специально, просто числа застревали в голове, как осколки стекла. Триста шестьдесят четыре дня с той ночи, когда она впервые увидела паттерн. Триста шестьдесят четыре дня попыток доказать, что ошиблась.
Она не ошиблась.
За окном лаборатории шёл дождь – мелкий, упрямый, типичный для женевской осени. Капли стекали по стеклу, оставляя извилистые дорожки, и Элара ловила себя на том, что следит за ними вместо того, чтобы смотреть на экран. Прокрастинация. Защитный механизм психики.
На экране была статья. Её статья. Тридцать семь страниц, включая приложения. Двенадцать месяцев работы, спрессованные в сухой академический текст.
«Синхронность массовых вымираний внеземных цивилизаций: статистический анализ и возможные механизмы».
Авторы: Э. Васкес, М. Цоллер.
Журнал: Nature Astronomy.
Статус: готова к отправке.
Элара потянулась к кнопке «Отправить» – и отдёрнула руку. В четвёртый раз за последний час.
Год. Целый год она искала другое объяснение. Любое. И теперь, когда поиск закончился ничем, она не могла заставить себя нажать одну кнопку.
Потому что после этого пути назад не будет.
Месяц первый.
Гамма-всплеск казался самой очевидной альтернативой.
Элара помнила, как сидела в кабинете доктора Йохана Линдквиста – ведущего специалиста по космическим катастрофам – и излагала данные. Линдквист слушал молча, время от времени делая пометки стилусом на планшете. Его лицо оставалось непроницаемым – профессиональная маска учёного, который слышал слишком много безумных теорий, чтобы реагировать эмоционально.
– Допустим, – сказал он, когда она закончила. – Допустим, гамма-всплеск из центра галактики. Достаточно мощный, чтобы стерилизовать всё в радиусе ста тысяч световых лет.
– Это объяснило бы массовое вымирание, – согласилась Элара. – Но не синхронность.
– Почему?
– Потому что излучение распространяется со скоростью света. Цивилизации на разном расстоянии от источника погибли бы в разное время. Мы бы видели задержку.
– А вы не видите?
– Видим. Но обратную.
Она вывела на его экран карту – ту самую, с красными точками. Анимация показывала волну вымирания, распространяющуюся от периферии галактики к центру.
– Волна идёт отсюда, – сказала она, указывая на рукав Ориона. – От нас. Не к нам.
Линдквист долго смотрел на карту. Потом снял очки и потёр переносицу.
– Это невозможно.
– Я знаю.
– Никакой естественный процесс не мог бы…
– Я знаю.
– Тогда что вы предлагаете?
Элара молчала. Она не могла сказать ему. Не тогда. Идея была слишком сырой, слишком безумной, слишком страшной.
– Я предлагаю искать дальше, – ответила она наконец.
Месяц третий.
Тёмная материя. Элара потратила шесть недель на эту гипотезу.
Что, если в галактике существовала структура из тёмной материи – невидимая, неощутимая, но способная взаимодействовать с обычной материей при определённых условиях? Что, если эта структура прошла через галактический диск двенадцать тысяч лет назад, вызвав какой-то эффект?
Она связалась с космологами из Принстона, Кембриджа, Пекина. Представила данные. Выслушала возражения.
Тёмная материя не взаимодействует с обычной материей напрямую – только гравитационно. Она не могла бы избирательно уничтожить разумную жизнь, оставив планеты и звёзды нетронутыми.
Но Элара всё равно проверила. Запустила симуляции движения гипотетических структур тёмной материи через галактику. Сравнила с паттерном вымирания.
Ничего не сошлось.
Она вычеркнула тёмную материю из списка и перешла к следующей гипотезе.
Месяц пятый.
– Вакуумный распад, – сказал профессор Чэнь, теоретик из Шанхайского института физики высоких энергий. Он говорил через голографическую связь, и его изображение слегка мерцало из-за помех. – Вы рассматривали вакуумный распад?
– Рассматривала.
– И?
– Он уничтожил бы всё. Материю, энергию, пространство-время. Мы бы видели не мёртвые цивилизации, а пустоту. Буквально – отсутствие чего бы то ни было.
Чэнь кивнул.
– Согласен. Но что, если распад был… неполным? Локальным возмущением вакуума, недостаточным для каскадного коллапса, но достаточным для нарушения каких-то тонких структур?
– Каких структур?
– Не знаю. Квантовых когерентных состояний, например.
Элара замерла.
– Вы имеете в виду…
– Я имею в виду, что если сознание действительно зависит от квантовой когерентности – а это большое «если» – то возмущение вакуума могло бы разрушить его, не затрагивая классическую материю.
– Но откуда бы взялось такое возмущение?
– Вот это, доктор Васкес, вопрос на миллион юаней.
Она потратила ещё месяц на эту идею. Математика не сходилась. Вакуумный распад – даже локальный – должен был оставить следы. Изменение констант взаимодействия. Аномалии в спектрах далёких звёзд. Чего-нибудь.
Следов не было.
Месяц седьмой.
Конференция в Токио. Международный симпозиум по астробиологии.
Элара представляла доклад о статистике массовых вымираний – урезанную версию, без главного вывода. Просто данные. Пусть другие посмотрят и скажут, что она пропустила.
После доклада к ней подошла женщина – азиатка лет сорока пяти, с коротко стриженными седеющими волосами и взглядом, который Элара сразу узнала. Взгляд человека, который слишком много видел и слишком мало спал.
– Доктор Васкес? Я Ирен Накамура. Нейробиология, Университет Киото.
– Нейробиология? – Элара приподняла бровь. – На астробиологическом симпозиуме?
– Меня интересует проблема сознания. А ваши данные… – Накамура помолчала, подбирая слова. – Ваши данные имеют к этому отношение.
– Вы так думаете?
– Я заметила, что вы не предложили объяснения.
– Потому что у меня его нет.
– У меня есть гипотеза. Если хотите – обсудим.
Они вышли из конференц-зала и нашли пустую переговорную. За окном расстилался Токио – бесконечное море огней, уходящее к горизонту. Накамура заказала чай через автоматизированную систему и села напротив Элары, положив руки на стол.
– Вы знакомы с теорией Пенроуза-Хамероффа? – спросила она.
– Оркестрованная объективная редукция. Квантовые процессы в микротрубочках нейронов как основа сознания. Да, знакома.
– Что вы о ней думаете?
Элара пожала плечами.
– Спорная. Недоказанная. Но не опровергнутая.
– Именно. – Накамура отпила чай. – Большинство нейробиологов считают её маргинальной. Слишком много допущений, слишком мало экспериментальных подтверждений. Но я работаю с ней уже пятнадцать лет.
– Почему?
– Потому что классические модели не объясняют некоторые аспекты сознания. Связность субъективного опыта. Проблему квалиа. Способность к рекурсивному самоосознанию.
– И квантовая когерентность объясняет?
– Возможно. Но это не главное. – Накамура наклонилась вперёд. – Главное в том, что если теория верна, то сознание – не просто эпифеномен мозговой активности. Это фундаментальный процесс, связанный с глубинной структурой реальности.
– С коллапсом волновой функции.
– Да. Каждый акт осознания – это квантовое измерение. Выбор одной реальности из множества возможных.
Элара почувствовала, как волоски на руках встают дыбом. Она думала об этом. Много думала. Но слышать это от нейробиолога, от специалиста…
– Доктор Накамура, – сказала она медленно, – вы читаете мои мысли или я – ваши?
– Я думаю, мы пришли к одному и тому же с разных сторон. – Накамура достала планшет и вывела на экран сложную диаграмму. – Вот моя модель. Субстрат Бома – квантовое поле, содержащее все возможные конфигурации сознания. Каждый акт осознания – локальный коллапс, «чтение» субстрата.
– А если чтение достаточно интенсивно…
– То оно может вызвать каскад. Распространяющийся коллапс.
Они смотрели друг на друга. За окном Токио мерцал миллионами огней – каждый огонёк означал человека, сознание, акт чтения субстрата.
– Вы понимаете, что это значит? – спросила Элара тихо.
– Понимаю.
– И вы всё равно работаете над этим?
Накамура отвернулась к окну. Её профиль был резким, угловатым – как у человека, который слишком долго сдерживал что-то внутри.
– У меня есть личный интерес к теории сознания, – сказала она. – Мой сын… – она замолчала на мгновение, и что-то дрогнуло в её голосе. – У моего сына проблемы. Неврологические. Врачи не могут объяснить.
– Мне жаль.
– Не надо. – Накамура повернулась обратно. Её лицо снова было непроницаемым. – Я не ищу сочувствия. Я ищу ответы. И ваши данные… они могут помочь.
– Как?
– Если синхронное вымирание было вызвано каскадным коллапсом квантовой когерентности, значит, существует механизм воздействия на сознание на фундаментальном уровне. Понимание этого механизма может объяснить… многое.
Элара кивнула. Она не спрашивала, что именно случилось с сыном Накамуры. Некоторые вещи лучше оставить несказанными.
– Я хочу предложить сотрудничество, – сказала она. – Мне нужен кто-то, кто разбирается в нейробиологии сознания. Кто-то, кто сможет проверить мою гипотезу с другой стороны.
– Какую гипотезу?
Элара глубоко вдохнула. Она не говорила этого никому, кроме Мартина. Даже Хавьеру – только намёками.
– Я думаю, что человечество вызвало каскадный коллапс, – произнесла она. – Двенадцать тысяч лет назад. Когнитивная революция – переход к рекурсивному самоосознанию – создала автокаталитическую петлю в субстрате Бома. И эта петля уничтожила всю разумную жизнь в галактике.
Накамура не вздрогнула. Не отшатнулась. Не назвала её сумасшедшей.
– Я думала о чём-то подобном, – сказала она просто. – После вашего доклада. Временно́е совпадение слишком точное, чтобы быть случайным.
– Значит, вы поможете мне это проверить?
– Нет.
– Нет?
– Я помогу вам это опровергнуть. – Накамура допила чай и поставила чашку на стол. – Если гипотеза неверна, мы найдём ошибку. Если верна… тогда нам понадобятся доказательства, которые невозможно будет отрицать. Потому что когда это станет известно – а это станет известно – мир должен будет принять правду. Не версию. Не предположение. Правду.
Месяц восьмой.
Накамура прилетела в Женеву через две недели после конференции. С собой она привезла чемодан с оборудованием, три терабайта данных о квантовой когерентности в нейронных системах и абсолютное отсутствие способности к светским беседам.
Элара привыкла к этому быстро. Накамура говорила только по делу. Не здоровалась, не прощалась, не спрашивала, как дела. Просто приходила в лабораторию, работала восемнадцать часов подряд и уходила спать, когда тело отказывалось функционировать.
Они проверяли альтернативные гипотезы систематически, методично, беспощадно.
Космическое излучение? Нет следов в ледовых кернах и геологических отложениях.
Магнетар в соседней системе? Не объясняет паттерн распространения.
Столкновение с межгалактическим газовым облаком? Мы бы видели изменения в химическом составе межзвёздной среды.
Каждая гипотеза падала под весом данных.
А гипотеза Элары – безумная, невозможная, ужасающая – продолжала стоять.
Месяц девятый.
Мартин ушёл.
Он пришёл в кабинет Элары в понедельник утром – бледный, с тёмными кругами под глазами – и положил на стол заявление об увольнении.
– Я не могу, – сказал он. – Извините. Я просто не могу.
Элара взяла бумагу, но не стала читать.
– Почему?
– Потому что если это правда… – он сглотнул. – Если это правда, я не хочу быть тем, кто её обнародует. Я не хочу, чтобы моё имя стояло под этим.
– Это научное открытие, Мартин. Величайшее в истории.
– Это обвинение. – Его голос сорвался. – Обвинение всему человечеству. Каждому из нас. Каждому ребёнку, который когда-либо родится. Вы хотите сказать людям, что их существование – преступление. Что само их мышление – убийство.
– Я хочу сказать людям правду.
– А что, если они не справятся с правдой?
Элара молчала. Она думала об этом. Каждую ночь думала.
– Вы видели записи с Дельта-7, – продолжил Мартин. – Пять дней от первых симптомов до полного распада. Это то, что случилось с ними. А что случится с нами? Когда восемь миллиардов людей узнают, что они – причина величайшего геноцида в истории вселенной?
– Мы не можем скрывать это вечно.
– Может, не вечно. Но достаточно долго. Достаточно, чтобы подготовиться. Чтобы найти способ смягчить удар.
– Нет такого способа, Мартин.
Он посмотрел на неё – долго, тяжело – и покачал головой.
– Тогда я не хочу быть частью этого. Найдите кого-нибудь другого, чтобы помочь вам уничтожить мир.
Он ушёл. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком.
Элара осталась сидеть, держа в руках его заявление. За окном светило солнце – яркое, равнодушное, не знающее ни о мёртвых цивилизациях, ни о паттернах, ни о тяжести истины.
Месяц десятый.
Накамура нашла доказательство.
Не косвенное – прямое. Не статистическое – физическое.
Она работала с образцами, доставленными с одной из мёртвых планет – Тау-7, кремнийорганическая жизнь, погибшая вместе со всеми остальными. Образцы содержали остатки нейроподобных структур – кристаллические решётки, которые, по всей видимости, выполняли функцию мозга.
– Посмотрите, – сказала она, вызывая на экран результаты анализа. Её голос был ровным, но Элара видела, как дрожат её руки. – Это спектр квантовой когерентности в образце. А это – контрольный образец, неорганический кристалл с похожей структурой.
Два графика. Один – гладкий, ожидаемый. Другой – с характерным провалом в определённом диапазоне частот.
– Что это значит?
– Это значит, что квантовая когерентность в нейроподобных структурах была разрушена. Избирательно. Только в тех диапазонах, которые, согласно теории Пенроуза-Хамероффа, связаны с сознанием.
Элара смотрела на графики, и мир вокруг неё становился нереальным. Как будто она видела сон и знала, что видит сон, но не могла проснуться.
– Вы уверены?
– Я провела анализ семнадцать раз. Использовала три разных метода. Результат стабилен.
– Это может быть артефакт? Повреждение при транспортировке?
– Нет. Образцы хранились в вакууме при температуре, близкой к абсолютному нулю. Внешнее воздействие исключено.
– Тогда…
– Тогда мы имеем физическое доказательство того, что двенадцать тысяч лет назад что-то разрушило квантовую когерентность в сознательных системах по всей галактике. – Накамура выключила экран и повернулась к Эларе. – Ваша гипотеза подтверждена.
Элара села. Ноги отказывались держать.
– Мы убили их, – прошептала она. – На самом деле убили.
– Не мы. Наши предки. Люди, которые жили двенадцать тысяч лет назад и понятия не имели, что делают.
– Это имеет значение?
Накамура не ответила. Она подошла к окну и уставилась на горы – далёкие, заснеженные, безразличные.
– Мой сын, – сказала она вдруг. – Кэндзи. Ему девятнадцать.
Элара подняла голову.
– Что с ним?
– Три года назад он… – Накамура помолчала. – Врачи называют это кататонией. Он не реагирует. Не говорит. Не двигается. Но ЭЭГ показывает активность. Он там, внутри. Просто… не может выбраться.
– Мне очень жаль.
– Я сказала вам – я не ищу сочувствия. – Голос Накамуры был ровным, но что-то в нём треснуло. – Я рассказываю вам это, потому что вы должны понимать. Я работаю над теорией сознания не из академического интереса. Я хочу знать, что случилось с моим сыном. И если ваша гипотеза верна – если сознание действительно связано с квантовой когерентностью – тогда, может быть, существует способ…
Она не закончила. Не нужно было.
Элара встала и подошла к ней.
– Мы опубликуем это, – сказала она. – Скоро. И когда мир узнает – когда люди начнут искать решения – может быть, найдётся ответ и для Кэндзи.
– Или мир рухнет, и никаких ответов не будет.
– Это тоже возможно.
Накамура повернулась к ней. Её глаза были сухими, но в них плескалась боль, которую Элара узнала. Боль матери, не способной помочь своему ребёнку.
– Вы готовы взять это на себя? – спросила она. – Что бы ни случилось?
Элара думала о Соне. О синем инопланетянине Блюпи. О вопросе: «Мама, мы плохие?»
– Нет, – ответила она честно. – Но я сделаю это всё равно.
Месяц одиннадцатый.
Элара начала писать статью.
Это было сложнее, чем она ожидала. Не технически – техническая часть была готова давно. Сложнее было найти слова. Правильные слова. Слова, которые донесут истину, не разрушив тех, кто её услышит.
Она переписывала введение двенадцать раз.
«Данные, представленные в этой работе, свидетельствуют о…» Нет. Слишком сухо.
«Мы вынуждены сообщить, что…» Нет. Слишком драматично.
«Результаты нашего исследования указывают на возможность…» Нет. Слишком уклончиво.
В конце концов она остановилась на простом: «Двенадцать тысяч лет назад вся разумная жизнь в галактике прекратила существование одновременно. Мы представляем доказательства того, что причиной стало человечество».
Прямо. Честно. Невыносимо.
Накамура читала черновики и возвращала с комментариями – красными пометками на полях, вопросами, требованиями уточнить формулировки. Она была безжалостным редактором. Элара была ей благодарна.
Хавьер звонил каждый вечер. Спрашивал, как дела. Элара врала, что всё в порядке. Он знал, что она врёт, но не давил. Они научились этому за годы брака – давать друг другу пространство для секретов.
Соня рисовала новых инопланетян. Зелёных, фиолетовых, оранжевых. Целую галактику существ, которых никогда не было и никогда не будет. Элара вешала рисунки на стену лаборатории и смотрела на них, когда становилось совсем тяжело.
Месяц двенадцатый.
Последняя проверка.
Элара сидела в конференц-зале, окружённая голограммами данных, и слушала, как Накамура излагает результаты финального анализа. За столом были только они двое – никого больше, никаких свидетелей. Так безопаснее.
– Я проверила все альтернативные объяснения ещё раз, – говорила Накамура. – Систематически. По списку.
На экране появился документ – сорок семь пунктов, каждый с пометкой «отвергнуто» красным.
– Гамма-всплеск – не объясняет направление волны. Вакуумный распад – нет физических следов. Тёмная материя – неправильный механизм взаимодействия. Магнетар, сверхновая, столкновение галактик, экзотическая физика – всё отвергнуто.
– А наша гипотеза?
– Подтверждена тремя независимыми линиями доказательств. Статистический анализ дат вымирания. Паттерн распространения волны от Земли. Физические следы разрушения квантовой когерентности в образцах.
Накамура выключила экран и посмотрела на Элару.
– Мы сделали всё, что могли, – сказала она. – Проверили каждую возможность. Искали ошибки год. Их нет.
– Значит, это правда.
– Да. Это правда. Человечество уничтожило всю разумную жизнь в галактике.
Слова повисли в воздухе – тяжёлые, как надгробные камни. Элара смотрела на пустой экран и чувствовала, как что-то внутри неё окончательно ломается. Надежда, наверное. Надежда на то, что она всё-таки ошиблась.
– Что теперь? – спросила Накамура.
– Публикуем.
– Вы уверены?
– Нет. Но другого выбора нет. Рано или поздно кто-то другой найдёт то же самое. И лучше, если это придёт от нас – с полным анализом, с доказательствами, с рекомендациями по интерпретации – чем если это утечёт случайно, без контекста.
– Рекомендации по интерпретации? – Накамура приподняла бровь. – Вы думаете, кто-то будет их читать?
– Нет. Но мы должны попытаться.
Элара встала и подошла к окну. Женева расстилалась внизу – старый город, новые кварталы, озеро, горы на горизонте. Восемь миллионов лет эволюции, двенадцать тысяч лет цивилизации – и всё это построено на костях тех, кого мы убили, не зная об этом.
– Когда я была маленькой, – сказала она, – я мечтала о контакте. Читала фантастику, смотрела фильмы. Представляла, как мы встретим других – умных, добрых, готовых поделиться знаниями. Я стала астрономом, потому что хотела их найти.
– И нашли.
– Да. Нашла их могилы. – Она обернулась к Накамуре. – Вы знаете, что самое страшное?
– Что?
– Мы не можем даже попросить прощения. Не у кого.
Накамура молчала. Потом встала и подошла к ней.
– В японской культуре есть понятие «моно-но аварэ», – сказала она. – Печальное очарование вещей. Красота, которая существует именно потому, что всё проходит. Вишнёвый цвет, опадающий на ветру. Последний луч заката. Улыбка ребёнка, который вырастет и забудет.
– К чему вы это?
– К тому, что иногда нет утешения. Иногда есть только правда – и способность смотреть ей в глаза, не отворачиваясь. – Накамура коснулась её плеча – первый физический контакт за все месяцы работы. – Вы хороший учёный, Элара. Вы нашли правду, которую никто не хотел находить. Это требует мужества.
– Или глупости.
– Иногда это одно и то же.
День триста шестьдесят четвёртый.
Дождь за окном усилился. Элара сидела перед экраном, глядя на кнопку «Отправить».
Статья была готова. Проверена, перепроверена, одобрена Накамурой. Тридцать семь страниц, которые изменят всё.
Она думала о Соне. О том, как придётся объяснять ей – когда-нибудь, когда она вырастет достаточно, чтобы понять. «Мама нашла кое-что, малышка. Кое-что плохое. О нас. О всех людях».
Она думала о Мартине, который ушёл, потому что не хотел быть частью этого.
Она думала о Накамуре, которая осталась, потому что искала ответы для своего сына.
Она думала о мёртвых цивилизациях – о тех, кто забыл слово для любви, о тех, кто кричал в пустоту, о тех, кто рисовал своих детей на стенах, пока мир рушился.
Она думала о тишине. О великой тишине космоса, которую мы создали.
И она нажала кнопку.
Экран мигнул. «Отправлено».
Элара откинулась в кресле и закрыла глаза.
Год молчания закончился. Теперь начнётся что-то другое.
Она не знала что. Не знала, как мир отреагирует. Не знала, переживёт ли человечество эту правду или сломается под её тяжестью.
Она знала только одно: она сделала то, что должна была сделать. Нашла истину и не спрятала её.
Остальное – не в её власти.
За окном шёл дождь. Капли стекали по стеклу, рисуя узоры, похожие на слёзы. Или на звёзды. Или на красные точки на карте мёртвой галактики.
Элара смотрела на них и ждала.
Глава 3: Волна
Маркус Рейн проснулся за три секунды до сигнала тревоги.
Это была старая привычка – ещё с армейских времён, когда он служил пилотом штурмового звена на лунной базе «Тихо». Тело само знало, когда что-то не так. Ещё до того, как разум успевал включиться, мышцы уже напрягались, дыхание выравнивалось, руки искали оружие.
Оружия в каюте не было. Только стандартный набор: койка, откидной столик, иллюминатор с видом на терминатор Земли. Станция «Гагарин-7» медленно вращалась вокруг своей оси, и за толстым стеклом проплывала граница дня и ночи – идеальная дуга, разделяющая голубое и чёрное.
Сигнал тревоги всё-таки сработал. Не боевой – информационный. Три коротких гудка, означающих приоритетное сообщение для всего экипажа.
Маркус сел на койке и потёр лицо. Тридцать восемь лет, и каждое утро давалось всё труднее. Не физически – с этим проблем не было, он держал себя в форме. Труднее было заставить себя встать. Найти причину.
– Командир Рейн, – раздался голос из интеркома. – Капитан Морено просит вас в командный модуль. Немедленно.
Голос принадлежал лейтенанту Чэню, дежурному офицеру связи. Обычно невозмутимый, сейчас он звучал странно. Напряжённо.
– Иду, – ответил Маркус.
Он натянул комбинезон за сорок секунд – ещё одна армейская привычка – и вышел в коридор. «Гагарин-7» был исследовательской станцией, не военной, но Маркус всё равно двигался бесшумно, прижимаясь к стенам на поворотах. Восемь лет гражданской жизни не стёрли рефлексы.
В командном модуле собрался почти весь экипаж – двенадцать человек из шестнадцати. Остальные, вероятно, на дежурстве в других секциях. Все смотрели на главный экран, и на их лицах застыло одинаковое выражение. Маркус видел такое раньше. На войне. Когда приходили новости о потерях.
Капитан Морено – седая женщина шестидесяти лет, в прошлом командир марсианской экспедиции – стояла у пульта управления и смотрела на экран так, словно не верила собственным глазам.
– Что происходит? – спросил Маркус.
Морено не ответила. Просто указала на экран.
Там шла трансляция новостей. Земной канал, один из крупных. Ведущий говорил что-то, но звук был приглушён. Внизу бежала строка: «НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УНИЧТОЖИЛО ИНОПЛАНЕТНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
Маркус прочитал заголовок дважды. Потом ещё раз.
– Включи звук, – сказал он.
Морено коснулась панели. Голос ведущего заполнил модуль:
«…статья опубликована сегодня в журнале Nature Astronomy. Авторы – доктор Элара Васкес из проекта "Аргус" и доктор Ирен Накамура из Университета Киото – утверждают, что двенадцать тысяч лет назад когнитивная революция человечества вызвала каскадный коллапс квантовой когерентности, уничтоживший всю разумную жизнь в галактике. Согласно их данным, более четырёхсот цивилизаций погибли одновременно, и волна разрушения распространялась именно от Земли…»
Маркус слушал. Слова складывались в предложения, предложения – в абзацы, абзацы – в невозможную, чудовищную картину.
Мы убили их. Всех. Не намеренно, не осознанно – просто тем, что начали думать иначе. Эволюция превратила нас в оружие массового уничтожения, и мы даже не заметили.
– Это ведь… – начала кто-то из экипажа. – Это не может быть правдой?
Морено покачала головой.
– Статья прошла рецензирование. Данные открыты. Любой может проверить.
– Но это же безумие. Мысли не убивают на расстоянии.
– Согласно этой теории – убивают.
Маркус отошёл от экрана. Ему нужно было пространство. Воздух. Время подумать.
Он подошёл к иллюминатору и уставился на Землю. Голубой шар, укутанный белыми спиралями облаков. Восемь миллиардов человек там, внизу. Восемь миллиардов сознаний, каждое из которых – если верить статье – было частью оружия.
Его коммуникатор завибрировал. Личный вызов.
Лена.
Он отошёл в угол модуля и принял звонок. Лицо жены появилось на маленьком экране – бледное, с покрасневшими глазами. Она плакала.
– Ты видел? – спросила она вместо приветствия.
– Только что.
– Маркус… – её голос сорвался. – Маркус, это правда?
– Не знаю.
– Как это возможно? Как мы могли… все эти цивилизации… все эти существа… они думали, чувствовали, любили, а мы просто… – она не договорила.
– Лена. Дыши.
– Я не могу дышать! – Она почти кричала. – Ты понимаешь, что это значит? Мы – чудовища. Каждый из нас. Каждый человек, который когда-либо жил. Мы убийцы просто потому, что существуем!
– Мы не знаем всей картины.
– А какая картина тебе нужна? – Лена вытерла слёзы, но они продолжали течь. – Данные есть. Доказательства есть. Четыреста цивилизаций, Маркус. Четыреста. И ещё сколько мы не нашли? Тысячи? Миллионы?
Маркус молчал. Он не знал, что сказать. Слова всегда давались ему тяжело – особенно когда речь шла об эмоциях.
– Я люблю тебя, – сказал он наконец. Потому что это было единственное, в чём он был уверен.
– Этого недостаточно. – Голос Лены стал тише. – Любовь не отменяет того, что мы сделали.
– Мы ничего не делали. Это случилось двенадцать тысяч лет назад.
– Мы продолжаем это делать. Каждую секунду. Каждый раз, когда думаем. Каждый раз, когда осознаём себя. Мы – волна, которая всё ещё идёт.
Маркус не нашёлся с ответом. Лена смотрела на него через экран – бледная, измученная, потерянная.
– Когда ты вернёшься? – спросила она.
– Через три недели. По расписанию.
– Три недели… – Она покачала головой. – Это целая вечность.
– Я попрошу досрочную ротацию.
– Не надо. Ты нужен там. Ты… – она снова замолчала, собираясь с мыслями. – Просто позвони мне. Каждый день. Пожалуйста.
– Обещаю.
Лена кивнула. На мгновение её лицо смягчилось – та Лена, которую он знал. Философ, мечтатель, вечно ищущая смысл.
– Я тебя люблю, – сказала она. – Что бы это ни значило теперь.
Связь оборвалась.
Маркус стоял у иллюминатора и смотрел на Землю. Где-то там, внизу, его жена пыталась понять, как жить с новым знанием. Как и миллиарды других.
Он не знал ответа. Не был уверен, что ответ существует.
На Земле начинался хаос.
Маркус следил за новостями следующие сорок восемь часов – почти без сна, переключаясь между каналами, читая аналитику, просматривая реакции экспертов. Картина складывалась пугающая.
Первыми отреагировали учёные. Физики, биологи, нейробиологи – все бросились проверять данные Васкес и Накамуры. К концу первого дня трое независимых экспертов подтвердили статистический анализ. К концу второго – ещё семеро. Никто не нашёл ошибок.
Потом подключились философы. Ток-шоу, подкасты, стримы – все обсуждали одно и то же. Что это значит для человечества? Для морали? Для религии? Можем ли мы нести ответственность за то, чего не выбирали?
Религиозные лидеры разделились. Одни говорили о грехе, о наказании, о необходимости покаяния. Другие – о промысле Божьем, о том, что человечество избрано для какой-то цели. Третьи просто молчали, не зная, что сказать.
А потом начались самоубийства.
Первые сообщения пришли из Европы. Известный философ, профессор Сорбонны, выбросился из окна своего кабинета. В предсмертной записке – одна строчка: «Я не хочу быть частью этого».
Потом – Япония. Группа студентов, пятеро человек, приняли яд в университетском общежитии. Они оставили манифест: «Мы отказываемся продолжать геноцид».
Потом – Бразилия, Австралия, Канада, Россия. Каждый час – новые имена, новые истории, новые записки. Учёные, художники, писатели, философы – те, кто глубже других понимал масштаб открытия. Те, кто не смог это вынести.
Маркус смотрел на цифры и чувствовал, как внутри что-то каменеет. Сто смертей в первый день. Триста – во второй. К концу недели – тысячи.
Волна.
Так это стали называть. Волна суицидов. Волна отчаяния. Волна, которая катилась по планете, как эхо той, другой волны – той, что убила галактику двенадцать тысяч лет назад.
Кэндзи Накамура сидел в аудитории 304 корпуса гуманитарных наук Университета Киото и слушал лекцию по когнитивной антропологии.
Ему было девятнадцать. Второй курс, специализация – философия сознания. Он выбрал эту область из-за матери – знаменитого нейробиолога, чьи работы он читал ещё подростком. Хотел понять, над чем она работает. Хотел быть ближе к ней – хотя бы интеллектуально.
Профессор Ямагути – седой мужчина с мягким голосом – стоял у доски и рисовал схему эволюции человеческого мышления.
– Когнитивная революция, – говорил он, – это не просто развитие новых навыков. Это фундаментальное изменение самой структуры сознания. Переход от линейного мышления к рекурсивному. Способность думать о собственных мыслях. Осознавать себя как субъекта.
Кэндзи записывал машинально. Он слышал это раньше – от матери, в её статьях, в разговорах за ужином. Но сегодня слова звучали иначе. Тяжелее.
Он видел новости. Видел статью. Видел имя матери в списке авторов.
– Интересно, – продолжал Ямагути, – что именно этот переход совпадает по времени с массовым вымиранием мегафауны. Мамонты, гигантские ленивцы, саблезубые кошки – все исчезли примерно в тот же период. Некоторые учёные считают, что это связано…
– Профессор, – перебил кто-то из студентов. – Вы читали статью Васкес и Накамуры?
Аудитория замерла. Ямагути помолчал.
– Читал.
– И что вы думаете?
– Я думаю, – сказал он медленно, – что наука требует времени для проверки. Что выводы могут быть преждевременными. Что нам следует сохранять критическое мышление.
– Но данные подтверждены. Независимыми экспертами.
– Данные – да. Интерпретация – вопрос другой.
Кэндзи слушал, и что-то внутри него начинало сжиматься. Он знал работу матери лучше, чем кто-либо в этой аудитории. Знал, как тщательно она проверяет каждую гипотезу. Знал, что она не стала бы публиковать то, в чём не была уверена на сто процентов.
Мать не ошибалась. Мать никогда не ошибалась.
– Рекурсивное самоосознание, – продолжал Ямагути, возвращаясь к лекции, – это уникальная способность. Насколько нам известно, ни один другой вид на Земле не обладает ею в такой степени. Мы можем думать о том, что мы думаем, и о том, что мы думаем о том, что мы думаем, и так далее – бесконечно.
Бесконечно, подумал Кэндзи. Рекурсия. Петля. Аттрактор.
Слова из статьи матери всплывали в памяти: «Автокаталитическая петля рекурсивного самоосознания… критическая масса связанных сознаний… глобальный аттрактор… декогеренция…»
Он закрыл глаза и попытался представить это. Тысячи цивилизаций, каждая со своими городами, искусством, философией. Триллионы существ, думающих, мечтающих, любящих. И в один момент – тишина. Потому что где-то на маленькой планете у жёлтой звезды обезьяны научились думать о себе.
Мы убили их, подумал он. Не они – мы. Все мы. Каждый из нас.
Я.
Эта мысль пришла внезапно, как удар. Он – Кэндзи Накамура, девятнадцать лет – был частью этого. Каждый раз, когда он осознавал себя, каждый раз, когда думал «я существую», он участвовал в продолжающемся убийстве. Волна не остановилась двенадцать тысяч лет назад. Она продолжала расширяться. Со скоростью света, во все стороны. И он – каждое его мгновение осознанности – подпитывал её.
Он попытался не думать. Остановить мысли. Но это было невозможно. Сама попытка остановить мысли была мыслью. Рекурсия. Петля. Ловушка.
Чем больше он пытался не осознавать себя, тем острее становилось самоосознание. Он чувствовал себя – своё тело на стуле, своё дыхание, своё сердцебиение, свой разум, думающий о разуме, думающем о разуме…
Что-то внутри него начало рваться.
– Накамура-сан?
Голос профессора доносился издалека, как сквозь толщу воды.
– Накамура-сан, с вами всё в порядке?
Кэндзи хотел ответить. Хотел сказать, что нет, не в порядке, что он только что понял что-то ужасное, что он не может перестать думать, что каждая мысль – это убийство, каждое осознание – это ещё одна волна, расходящаяся по вселенной и уничтожающая всё на своём пути…
Но слова не выходили.
Тело отказывалось подчиняться.
Он сидел неподвижно, глядя в одну точку, и не мог пошевелиться. Не мог говорить. Не мог даже моргнуть.
Где-то очень далеко голоса становились громче. Кто-то звал его имя. Кто-то тряс за плечо. Кто-то кричал вызвать врача.
Кэндзи всё это слышал. Всё понимал. Но был заперт внутри себя – наблюдатель в клетке собственного сознания, которое продолжало думать, думать, думать, подпитывая волну, убивающую вселенную.
Он нашёл единственный выход. Единственный способ остановить рекурсию.
Он перестал быть.
Не умер – физически его тело продолжало функционировать. Но Кэндзи Накамура – личность, сознание, «я» – свернулся в точку и закрылся от мира. Как раковина захлопывается, защищаясь от хищника.
Его нашли через три часа. Всё это время он сидел в пустой аудитории – неподвижный, с открытыми глазами, не реагирующий ни на что.
Врачи назвали это кататонией.
Мать узнала к вечеру.
Маркус получил сообщение от Лены через неделю после публикации.
Они разговаривали каждый день, как он обещал. Но разговоры становились всё короче, всё тяжелее. Лена погружалась в себя. Перестала спорить, перестала искать аргументы. Просто слушала и кивала, и в её глазах плескалось что-то тёмное.
Сообщение было текстовым. Короткое.
«Я читаю всё, что могу найти. Научные статьи, философские эссе, комментарии теологов. Все пытаются найти утешение. Никто не находит. Ты понимаешь, Маркус? Нет утешения. Нет прощения. Есть только факт: мы – это сделали. И продолжаем делать. Каждую секунду».
Он ответил: «Лена, пожалуйста. Поговори с кем-нибудь. С психологом. С другом. Не замыкайся».
Она не ответила.
Он позвонил через час. Она не взяла трубку.
Позвонил ещё через час. То же самое.
Паника начала подниматься где-то в груди – тугой комок, мешающий дышать. Он связался с соседями Лены – парой пенсионеров, с которыми они иногда ужинали. Попросил проверить.
Ответ пришёл через двадцать минут: «Она дома. Дверь открыла. Говорит, что просто спала. Выглядит усталой, но в порядке. Не волнуйся».
Маркус выдохнул. Но комок в груди не исчез.
Он смотрел на Землю через иллюминатор и думал о Лене. О том, как они познакомились – на конференции по космической философии, где она читала доклад о смысле человеческого существования в бесконечной вселенной. Он тогда был ещё в армии, залетел на конференцию случайно, за компанию с другом-учёным.
Лена говорила о величии и одиночестве. О том, что мы – единственные известные носители разума, и это накладывает на нас ответственность. «Если мы одни, – сказала она тогда, – значит, вселенная смотрит на себя нашими глазами. Мы – её сознание. Её способ познать себя».
Он влюбился в неё в ту секунду. В её слова, в её уверенность, в свет в её глазах.
Теперь тот свет погас. Открытие Васкес перевернуло всё, во что Лена верила. Они не единственные носители разума – были другие. Сотни других. И мы их уничтожили. Вселенная смотрела на себя миллионами глаз – пока мы их не закрыли.
Маркус понимал, почему она не может это принять. Для Лены смысл был важнее жизни. Она могла выдержать страдание, несправедливость, потерю – если видела в этом смысл. Но бессмысленное зло? Геноцид без намерения, убийство без вины?
Это было слишком.
Мир продолжал рушиться.
Через две недели после публикации число самоубийств перевалило за сто тысяч. Не все были связаны с открытием напрямую – но статистика показывала резкий скачок, особенно среди образованных слоёв населения. Учёные, философы, художники, писатели – те, кто умел думать глубоко, первыми падали в пропасть.
Правительства пытались реагировать. Вводили цензуру – бесполезно, информация расползалась по сети быстрее любых блокировок. Запускали психологические горячие линии – они были перегружены в первый же день. Организовывали «группы поддержки» – но что могли сказать психологи людям, которые вдруг осознали себя частью космического преступления?
Появились первые движения.
Одни называли себя «Искупителями». Они говорили: мы должны искупить вину. Колонизировать галактику, создать новую жизнь, заполнить пустоту, которую оставили после себя. Это был путь надежды – или отчаянной иллюзии, в зависимости от точки зрения.
Другие – «Терминаторы» – предлагали радикальное решение. Если человечество – источник разрушения, значит, человечество должно прекратить существование. Добровольно. Постепенно. Перестать размножаться, дать виду угаснуть. Только так можно остановить волну.
Третьи просто отрицали всё. Открытие – фальсификация, заговор, ошибка. Учёные врут, данные подделаны, всё это – попытка контроля над населением. Эти люди собирались на митинги, сжигали чучела Васкес и Накамуры, требовали расследования.
А большинство – молчаливое, растерянное большинство – просто не знало, что делать. Ходило на работу, покупало продукты, смотрело сериалы. Пыталось жить, как раньше. Но тень висела над всеми. Каждый разговор, каждая мысль, каждый взгляд на звёздное небо теперь несли в себе вопрос: что мы такое? И что нам делать?
Маркус наблюдал за всем этим с орбиты. Земля медленно вращалась под ним – голубая, зелёная, белая, прекрасная. Колыбель человечества. Источник волны.
Он думал о Лене. О её молчании. О тьме в её глазах.
Он думал о мёртвых цивилизациях. О существах, которые когда-то смотрели на свои звёзды и мечтали о контакте – пока волна не накрыла их.
Он думал о себе. О том, что он чувствует – и не чувствует.
Странно, но он не испытывал того ужаса, который накрыл Лену. Не испытывал вины, отчаяния, желания умереть. Он смотрел на факты – и принимал их. Как принимал когда-то приказы. Как принимал потери в бою. Как принимал неизбежное.
Может быть, в этом была его проблема. Он слишком хорошо умел принимать. Слишком мало умел чувствовать.
Лена говорила ему об этом. «Ты как камень, Маркус. Волны разбиваются о тебя – и ничего. Я не знаю, что происходит у тебя внутри. Иногда мне кажется, что там – пустота».
Он не спорил. Может, она была права.
На восемнадцатый день его вызвали в командный модуль.
Капитан Морено стояла у экрана с лицом, которое Маркус не мог прочитать. За её спиной – двое офицеров службы безопасности. Это было необычно.
– Командир Рейн, – сказала она. – Нам нужно поговорить.
– О чём?
– О вашей жене.
Комок в груди, который он успел забыть, вернулся. Сжался. Стал камнем.
– Что с ней?
Морено помолчала. Потом произнесла:
– Вчера вечером она… – голос капитана дрогнул. – Она совершила попытку. Её нашли вовремя. Она жива. Но…
– Но?
– Она в больнице. В психиатрическом отделении. Врачи говорят… – Морено отвела взгляд. – Говорят, что она нестабильна. Что риск повторной попытки высокий.
Маркус стоял неподвижно. Тело отказывалось реагировать. Разум – тоже.
– Мы организуем вам досрочный спуск, – продолжала Морено. – Челнок будет готов через шесть часов. Я уже связалась с Землёй…
– Почему я узнаю только сейчас?
Голос был спокойным. Слишком спокойным.
– Информация пришла ночью. Мы хотели проверить, прежде чем…
– Шесть часов?
– Быстрее невозможно. Процедуры безопасности…
– К чёрту процедуры.
Маркус развернулся и вышел. Он не помнил, как добрался до своей каюты. Не помнил, как сел на койку. Не помнил, как руки сами потянулись к коммуникатору.
Лена. Лена. Лена.
Он набрал номер больницы. Автоматический голос попросил подождать. Он ждал. Минуту. Две. Три.
Наконец – живой голос. Медсестра.
– Лена Рейн? – переспросила она. – Вы муж?
– Да.
– Она спит сейчас. Под седативами. Врач может поговорить с вами через…
– Мне нужно знать, что случилось.
Пауза. Шелест бумаг или электронных записей.
– Передозировка снотворного. Её нашла соседка – почувствовала неладное, взломала дверь. Скорая успела.
– Она что-нибудь говорила? Оставила записку?
Ещё одна пауза. Дольше.
– Да. Записка была. Но я не могу…
– Прочитайте.
– Это конфиденциальная информация. Врач должен…
– Я её муж. Я на орбите, в четырёхстах километрах от неё. Буду на Земле через двенадцать часов. Пожалуйста.
Молчание. Потом – тихий вздох.
– Там написано… – голос медсестры стал мягче. – «Я не могу это нести. Не я – но мы. А я – часть "мы". Прости меня».
Маркус закрыл глаза.
Он видел Лену – ту Лену, которая говорила о величии человечества. О смысле. О звёздах, которые ждут нас.
Он видел её глаза – потухшие, пустые.
Он видел записку.
«Я не могу это нести».
– Сэр? – голос медсестры. – Вы ещё там?
– Да.
– Она будет в порядке. Физически. Мы следим за ней. Когда прилетите…
– Спасибо.
Он отключился.
Каюта была тесной, тёмной. За иллюминатором проплывала Земля – бесконечно далёкая, бесконечно близкая.
Маркус сидел неподвижно и думал.
Нет, не думал. Ощущал. Впервые за долгое время – что-то ощущал. Не камень внутри. Не пустоту. Что-то горячее, тяжёлое, рвущееся наружу.
Страх. За неё.
Гнев. На себя – за то, что был так далеко.
И где-то глубже – трещина. Тонкая, едва заметная. Трещина в стене, которую он выстроил вокруг себя за годы службы, за годы выживания.
Лена была права. Волны разбивались о него – и ничего. Он не чувствовал.
Но сейчас – сейчас что-то начинало чувствоваться.
Шесть часов спустя он был в челноке.
Спуск занял три часа. Посадка – в Женеве, ближайший космопорт к клинике в Лозанне. Такси – ещё сорок минут.
Маркус смотрел в окно на мелькающие пейзажи – альпийские луга, аккуратные деревеньки, блеск озера вдали – и не видел ничего. Мысли были только о Лене.
Клиника – белое здание с большими окнами и садом вокруг. Красивое место, спокойное. Место, где лечат сломанные души.
Врач встретил его у входа. Мужчина средних лет, с усталыми глазами и профессиональным сочувствием в голосе.
– Господин Рейн? Я доктор Фишер. Мы говорили по видеосвязи.
– Как она?
– Стабильна. Физически – почти полностью восстановилась. Психологически… – он помолчал. – Мы работаем.
– Я могу её видеть?
– Да, но… – Фишер поднял руку. – Есть вещи, которые вы должны знать.
– Говорите.
– Ваша жена переживает то, что мы называем экзистенциальным кризисом. Это не депрессия в клиническом смысле – хотя симптомы похожи. Это глубокий распад смысловой системы. Всё, во что она верила, рухнуло.
– Из-за открытия.
– Да. Она не единственная. За последние две недели мы приняли сорок семь пациентов с похожей симптоматикой. И ещё десятки – в других клиниках. Это… – он вздохнул. – Это эпидемия. Новый вид эпидемии.
– Что я могу сделать?
– Быть рядом. Слушать. Не пытаться убедить её, что всё в порядке – она знает, что не в порядке. Просто… быть.
Маркус кивнул. Он умел быть. Это было единственное, в чём он был по-настоящему хорош.
Палата была светлой. Большое окно с видом на сад. Кровать, стул, тумбочка с цветами – кто-то принёс, наверное, кто-то из друзей.
Лена лежала с закрытыми глазами. Бледная, осунувшаяся, но живая. Дышала.
Маркус сел рядом и взял её руку.
– Я здесь.
Она открыла глаза. Посмотрела на него – долго, пристально, как будто не узнавала.
– Ты прилетел, – сказала она наконец. Голос был слабым, хриплым.
– Конечно.
– Не нужно было. Я… – она отвернулась. – Я в порядке.
– Лена.
– Я знаю, что ты хочешь сказать. Что я глупая, что нельзя было так, что…
– Я не хочу это говорить.
Она повернулась обратно. В её глазах – удивление. И что-то ещё. Что-то похожее на надежду – или на страх.
– А что ты хочешь сказать?
Маркус молчал. Он не знал. Слова никогда не были его сильной стороной.
Вместо слов он наклонился и поцеловал её в лоб. Мягко. Осторожно. Как целуют что-то хрупкое и бесценное.
– Я люблю тебя, – произнёс он. – Это всё, что я знаю. Всё остальное – неважно.
Лена смотрела на него. Слёзы потекли по её щекам – беззвучно, медленно.
– Этого недостаточно, – прошептала она.
– Может быть. Но это начало.
Ночью Маркус сидел в коридоре клиники и смотрел в окно.
За окном – темнота. Редкие огни в долине. Звёзды – яркие, холодные, бесконечные.
Он думал о волне. О той, первой – которая убила галактику. И о той, что катилась сейчас – по больницам, моргам, кладбищам.
Два миллиона, сказали в новостях. К концу месяца – два миллиона самоубийств по всему миру. Большинство – образованные люди, те, кто понимал значение открытия. Те, кто не смог вынести правду.
Лена могла быть одной из них.
Маркус сжал кулаки. Впервые за долгое время он чувствовал – по-настоящему чувствовал. Не гнев, не страх, не боль. Что-то другое. Что-то тёмное и тяжёлое, что поднималось из глубины и требовало выхода.
Он не знал, как это назвать.
Но он знал одно: он не даст волне забрать Лену. Не позволит. Любой ценой.
За окном мерцали звёзды. Мёртвые миры, пустые орбиты, тишина, которую мы создали.
Маркус смотрел на них и ждал рассвета.
В Киото, в университетской больнице, Ирен Накамура сидела у кровати сына.
Кэндзи не двигался. Не говорил. Не реагировал ни на что – ни на голос, ни на прикосновения, ни на свет. Его глаза были открыты, но смотрели в никуда.
Врачи говорили: кататония. Острая психотическая реакция на стресс. Редкий случай, но не уникальный – за последние недели поступило несколько похожих пациентов. Молодые люди, студенты, те, кто слишком глубоко задумался о последствиях открытия.
Накамура держала сына за руку и молчала.
Она сделала это. Её статья. Её исследование. Она знала, что публикация изменит мир – но не думала, что это коснётся её так прямо. Так жестоко.
ЭЭГ показывала активность. Кэндзи был там, внутри. Думал, чувствовал, осознавал. Но не мог выйти. Заперся в собственном разуме – как улитка в раковине.
– Я найду способ, – прошептала она. – Я обещаю. Я найду способ тебя вернуть.
Кэндзи не ответил.
За окном поднималось солнце. Новый день. Ещё один день в мире, который уже никогда не будет прежним.
Глава 4: Последнее сообщение
Три недели.
Маркус считал дни, как когда-то считал патроны в обойме. Механически, точно, без эмоций. Двадцать один день с тех пор, как Лену выписали из клиники. Двадцать один день надежды – если это можно было назвать надеждой.
Врачи говорили: прогресс. Она ест. Спит. Разговаривает. Выходит на прогулки в сад. Принимает лекарства без сопротивления. Всё это – хорошие знаки.
Маркус видел другое. Он видел, как она смотрит в окно – не на что-то конкретное, а сквозь стекло, сквозь горы, сквозь небо. Куда-то, куда он не мог последовать. Он видел, как её улыбка не достигает глаз. Как она говорит правильные слова – те, которые хотят услышать врачи – но голос остаётся пустым, как выгоревшая комната.
Он не сказал этого докторам. Не нашёл слов. Или не хотел находить.
Лена вернулась домой на двадцать второй день. Маркус взял бессрочный отпуск – формально «по семейным обстоятельствам», неформально все понимали. Космос подождёт. Жена важнее.
Квартира казалась чужой после месяца отсутствия. Пыль на полках, засохшие цветы в вазе, свет, падающий не под тем углом. Маркус убрал, проветрил, выбросил мёртвые растения. Лена наблюдала, сидя на диване, поджав ноги.
– Ты не должен был, – сказала она.
– Должен.
– Я могла бы сама.
– Могла бы.
Она не стала спорить. Это тоже было частью новой Лены – той, что вернулась из клиники. Старая Лена спорила бы. Настаивала бы на своей независимости. Эта – просто смотрела и принимала.
Маркус не знал, что хуже.
Первая неделя дома прошла в странном ритме.
Утром Маркус просыпался раньше Лены – он всегда просыпался раньше – и готовил завтрак. Яичница, тосты, кофе. Простые вещи. Лена спускалась, ела немного, благодарила. Потом садилась у окна с книгой, которую не читала.
Днём они гуляли. Короткие маршруты – до парка и обратно. Лена шла рядом, но не рядом. Как будто между ними было стекло – невидимое, непробиваемое.
Вечером – ужин, телевизор, молчание. Ложились в одну кровать, но не касались друг друга. Маркус лежал в темноте и слушал её дыхание. Иногда оно сбивалось – всхлипы, которые она пыталась скрыть. Он не спрашивал. Она не объясняла.
На третий день она начала писать.
Маркус заметил случайно – проходил мимо кабинета и увидел её за столом, склонившуюся над планшетом. Пальцы летали по виртуальной клавиатуре. Лицо – сосредоточенное, почти живое.
– Что пишешь? – спросил он.
Лена вздрогнула. Закрыла файл.
– Ничего. Просто мысли.
Он не настаивал. У всех есть право на приватность. Даже у тех, кого ты любишь. Особенно у тех.
На пятый день она попросила:
– Можешь сходить в магазин? Нужны продукты.
– Вместе пойдём?
– Нет, я устала. Посижу дома.
Маркус посмотрел на неё – долго, оценивающе. Врачи говорили: не оставляйте одну надолго. Но они также говорили: дайте пространство. Баланс. Доверие.
– Хорошо, – сказал он. – Буду через час.
Он вернулся через сорок минут. Лена сидела там же, у окна. С книгой, которую не читала.
– Всё в порядке? – спросил он.
– Да. Всё хорошо.
Но её глаза сказали другое. Что-то в них сместилось, пока его не было. Маркус не мог определить что. Только чувствовал – как чувствовал приближение засады в старые времена. Интуиция, которой он научился доверять.
Он решил не оставлять её одну больше, чем на несколько минут.
Восьмой день.
Ночь. Три часа семнадцать минут – Маркус посмотрел на часы машинально, по привычке фиксировать время.
Он проснулся от звука. Не громкого – тихого. Скрипа половицы в коридоре.
Койка рядом была пуста.
Маркус лежал неподвижно, прислушиваясь. Шаги – осторожные, крадущиеся – удалялись в сторону кабинета. Щелчок двери.
Она снова пишет, подумал он. Среди ночи. Что-то, что не хочет показывать.
Он должен был встать. Пойти к ней. Спросить, что происходит.
Вместо этого он продолжал лежать, глядя в потолок.
Почему? Он не знал. Страх? Уважение к её пространству? Или что-то другое – то тёмное, тяжёлое, что поселилось в нём с момента звонка из клиники?
Может быть, часть его не хотела знать. Не хотела слышать. Не хотела нести ответственность за то, что услышит.
Трусость. Слово всплыло само, горькое, точное. Ты трус, Маркус Рейн. Солдат, пилот, командир – и трус.
Он закрыл глаза и заставил себя уснуть.
На одиннадцатый день Лена сказала:
– Мне нужно побыть одной.
Они завтракали. Яичница, тосты, кофе. Та же рутина.
Маркус поднял голову.
– Что?
– Одной. Хотя бы несколько часов. – Она смотрела в свою чашку, не на него. – Ты рядом всё время. Я понимаю почему. Но мне нужно пространство.
– Врачи сказали…
– Я знаю, что сказали врачи. – Впервые за недели в её голосе появилась тень раздражения. – Но я не могу дышать, Маркус. Не могу думать. Ты смотришь на меня, как на бомбу, которая вот-вот взорвётся.
– Я просто…
– Заботишься. Я знаю. – Она подняла глаза. – Но забота может быть клеткой. Ты понимаешь?
Он понимал. Не хотел – но понимал.
– Сколько времени тебе нужно?
– День. Один день. Ты можешь пойти куда-нибудь? К друзьям, в спортзал, куда угодно. Просто… не быть здесь.
Маркус молчал. Внутри него боролись два голоса. Один говорил: нет. Нельзя. Слишком рискованно. Другой: она просит. Впервые за недели – просит о чём-то конкретном. Это хороший знак. Разве нет?
– Ладно, – сказал он наконец. – Один день.
Лена улыбнулась. Та же улыбка, что не достигает глаз. Но что-то в ней изменилось – едва заметно, как рябь на воде.
– Спасибо.
Он ушёл в девять утра.
Не к друзьям – у него не было друзей. Не в спортзал – слишком далеко. Он просто ходил по городу. Бесцельно, механически. Улицы Лозанны – старый город, набережная, мосты через Женевское озеро. Люди вокруг жили своими жизнями: смеялись, спорили, целовались на скамейках. Как будто мир не изменился. Как будто открытие Васкес было просто ещё одной новостью, которую можно забыть.
Может, для большинства так и было. Два миллиона самоубийств – это много, но это всё ещё капля в океане восьми миллиардов. Остальные приспособились. Или сделали вид.
Маркус не мог. И Лена не могла.
Он вернулся в шесть вечера. Раньше, чем обещал – но тревога грызла его весь день, не отпуская ни на секунду.
Дверь была закрыта. Ключ повернулся легко.
– Лена?
Тишина.
– Лена, я вернулся.
Квартира была тёмной. Шторы задёрнуты. Свет не горел ни в одной комнате.
Маркус прошёл в гостиную. Пусто. На кухню. Пусто. В спальню…
Она лежала на кровати.
Первая мысль: спит. Устала, легла отдохнуть. Ничего страшного.
Вторая мысль пришла, когда он подошёл ближе.
Лена лежала на спине, руки сложены на груди. Аккуратно, как на похоронах. Глаза закрыты. Лицо спокойное – впервые за недели по-настоящему спокойное.
На тумбочке рядом – пустая упаковка от таблеток. Те самые, что врачи прописали от тревожности. Полная упаковка – тридцать штук.
– Нет.
Маркус произнёс это вслух, хотя не собирался. Голос был чужим, хриплым.
– Нет, нет, нет…
Он схватил её за плечи. Потряс. Кожа была тёплой – почти тёплой.
– Лена! Лена, очнись!
Никакой реакции. Никакого движения.
Он нашёл пульс на шее – или ему показалось, что нашёл. Едва заметный трепет под пальцами.
Телефон. Скорая. Сейчас.
– Мне нужна скорая! – кричал он в трубку. – Передозировка. Да, она дышит. Нет, не реагирует. Адрес…
Дальше – фрагменты. Осколки времени, не связанные между собой.
Сирена за окном.
Люди в форме, заполняющие комнату.
Носилки.
Кислородная маска на её лице.
Двери машины захлопываются.
Он бежит следом – или ему кажется, что бежит.
Белые коридоры. Запах антисептика. Голоса, которые он не понимает.
Ожидание.
Часы на стене: 19:47.
Ожидание.
20:15.
Ожидание.
Врач выходит. Лицо – профессиональная маска, но что-то в ней треснуло.
– Мистер Рейн?
– Да.
– Мне очень жаль…
Он не помнил, как добрался до дома.
Квартира была такой же, как три часа назад. Тёмной. Пустой. Только теперь пустота была другой. Окончательной.
Маркус сел на кровать – ту же кровать, где нашёл её – и уставился в стену.
Внутри него что-то должно было быть. Боль. Гнев. Отчаяние. Хоть что-то.
Но было только молчание. Пустота, похожая на вакуум космоса. Ни звука, ни чувства, ни мысли.
Он сидел так час. Или два. Время перестало иметь значение.
Потом взгляд упал на планшет.
Он лежал на тумбочке, рядом с местом, где была пустая упаковка – её уже забрали как улику, но планшет остался. Маркус не сразу понял почему, а потом вспомнил: он сказал полицейским, что это его. Соврал. Не хотел, чтобы они читали её личные файлы.
Теперь он потянулся к нему сам.
Экран разблокировался по отпечатку пальца – они настроили доступ друг для друга много лет назад, на случай экстренных ситуаций.
Рабочий стол. Иконки приложений. Папка «Документы».
Внутри – файл. Один. Созданный сегодня, в 14:32. Название: «Маркус».
Он открыл его.
Маркус.
Если ты читаешь это, значит, я всё-таки сделала то, что должна была сделать. Прости, что не смогла иначе. Прости, что не нашла другого выхода.
Я знаю, ты будешь винить себя. Ты всегда винишь себя, даже когда не за что. Но пожалуйста, пойми: это не твоя вина. Это не чья-то вина. Это просто… я не могу больше.
Ты помнишь, как мы познакомились? Я читала доклад о смысле человеческого существования. Говорила, что мы – сознание вселенной, её способ познать себя. Ты сидел в последнем ряду и смотрел на меня так, словно я говорила что-то важное. Никто никогда так на меня не смотрел.
Я влюбилась в твой взгляд. В то, как ты слушаешь – молча, внимательно, без суждений. В то, как ты любишь – тихо, упрямо, не ожидая ничего взамен.
Десять лет. Десять лет рядом с человеком, который был моим якорем. Который удерживал меня на земле, когда я хотела улететь к звёздам.
Но теперь – теперь нет якорей, которые удержат.
Ты не можешь понять, что я чувствую. Я знаю. Ты принимаешь вещи такими, какие они есть. Это твой дар – и твоё проклятие. Ты можешь жить с правдой, которая убивает других. Волны разбиваются о тебя и уходят, не оставляя следа.
Я не такая. Я не камень. Я – вода. И эта правда… она отравила меня. Каждую каплю. Каждую мысль.
Ты спросишь: почему? Почему это так важно? Почему нельзя просто жить дальше, как миллиарды других?
Потому что я не могу перестать думать, Маркус. Не могу остановить разум, который видит последствия. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу их. Тех, кого мы убили. Миллиарды существ, которые думали, мечтали, любили – как мы. И которых больше нет – из-за нас.
Я не могу это нести. Не я – но мы. А я – часть «мы».
Знаешь, что самое страшное? Не вина. Не стыд. Самое страшное – что я продолжаю. Каждую секунду, каждым вдохом, каждой мыслью я продолжаю то, что мы начали двенадцать тысяч лет назад. Волна не остановилась. Она всё ещё идёт. И я – её часть.
Я пыталась найти утешение. Читала всё, что могла. Философов, теологов, учёных. Все говорят одно и то же: мы не виноваты, потому что не выбирали. Эволюция сделала нас такими. Мы не знали. Не намеренно.
Но это не помогает. Потому что вина – это не про намерение. Вина – это про последствия. И последствия наших действий – пустая галактика. Тишина там, где могли бы звучать миллионы голосов.
Я не хочу больше быть частью этого.
Маркус, ты сильнее меня. Ты переживёшь. Ты всегда переживаешь. Это твоя природа – выживать, адаптироваться, идти дальше. Не теряй её. Не позволяй моей смерти сломать то, что выдержало всё остальное.
Найди что-то, ради чего стоит жить. Пожалуйста. Ради меня.
Я люблю тебя. Любила все эти годы. Буду любить – если что-то остаётся после. Если есть какое-то «после».
Прощай.
Лена
Маркус читал письмо трижды.
Потом отложил планшет и снова уставился в стену.
Слова крутились в голове, как осколки в водовороте. «Я не могу это нести». «Волна не остановилась». «Найди что-то, ради чего стоит жить».
Он пытался чувствовать. Заставлял себя. Концентрировался на образе Лены – живой, смеющейся, той, что была до всего этого. Но вместо боли приходила только пустота. Холодная, бесконечная, как космос за иллюминатором станции.
Может, она была права. Может, он действительно камень. Волны разбиваются – и ничего.
Но сейчас, в этой тёмной комнате, пустота ощущалась иначе. Не как защита. Как приговор.
Он не смог её спасти. Не потому что не пытался – пытался. Но не смог пробиться через стекло, которое она выстроила вокруг себя. Не нашёл правильных слов. Не понял, насколько всё серьёзно.
Или понял – и всё равно не смог.
Одиннадцатая ночь. Три часа семнадцать минут. Он слышал, как она встаёт. Слышал скрип половицы. Щелчок двери.
И остался лежать.
Почему?
Потому что боялся. Боялся того, что увидит. Боялся разговора, который придётся провести. Боялся её боли, с которой не знал, как справиться.
Трус. Он был трусом. И его трусость убила её.
Нет. Не убила. Она сама выбрала. Написала в письме: «Это не твоя вина».
Но слова – просто слова. А правда была в том, что он мог войти в ту комнату. Мог спросить. Мог попытаться.
И не сделал этого.
Похороны были через пять дней.
Маленькая церемония. Несколько друзей Лены – большинство он видел впервые. Её сестра, прилетевшая из Аргентины, с красными глазами и обвиняющим взглядом. Родители – развелись давно, но пришли оба, сидели по разные стороны зала.
Маркус стоял у гроба и смотрел на её лицо. Бледное, восковое, не похожее на живую Лену. Парадокс: мёртвая, она выглядела спокойнее, чем в последние недели жизни.
Священник говорил что-то о вечной жизни, о Божьей милости. Слова скользили мимо, не задевая. Маркус не верил в Бога. Лена тоже не верила – но её семья была католической, и он не стал спорить.
После церемонии к нему подошла сестра.
– Ты должен был её спасти, – сказала она. Голос дрожал от сдерживаемой ярости. – Ты был рядом. Ты знал, что она…
– Я знаю.
– Тогда почему? Почему ты не…
– Я не знаю.
Она смотрела на него – ища что-то в его лице. Раскаяние? Боль? Что-нибудь человеческое?
Не нашла. Развернулась и ушла.
Маркус остался стоять у могилы, пока все не разошлись. Кладбище опустело. Солнце село за горы. Тени удлинились, превращая надгробия в чёрные зубы, вгрызающиеся в землю.
Он стоял и думал о пустоте.
Квартира стала невыносимой.
Не из-за воспоминаний – Маркус умел справляться с воспоминаниями. Из-за тишины. Той самой тишины, о которой писала Лена. Тишины, которую мы создали.
Теперь она была здесь, внутри стен. Внутри него.
Он перестал спать в спальне. Перебрался на диван в гостиной. Потом – на пол в кабинете. Потом понял, что не имеет значения, где он спит, потому что не спит вовсе. Просто лежит в темноте и слушает пустоту.
Еда потеряла вкус. Он ел – потому что тело требовало – но не чувствовал разницы между хлебом и картоном.
Работа… какая работа? Он был в отпуске. Бессрочном. Космос мог подождать. Космос всегда мог подождать.
На третий день после похорон он нашёл бутылку виски в кухонном шкафу. Открыл. Сделал глоток.
Потом ещё один.
К полуночи бутылка опустела. Он не опьянел – алкоголь словно проваливался в ту же пустоту, что заполняла всё остальное. Просто сидел на полу, спиной к стене, и смотрел в одну точку.
Телефон зазвонил. Он не ответил.
Зазвонил снова. И снова.
Потом – сообщение. От капитана Морено: «Маркус, отзовись. Мы беспокоимся».
Он не отозвался.
Ещё сообщение. От кого-то из экипажа. От соседей. От сестры Лены – та всё-таки нашла его номер.
Он выключил телефон.
Тишина вернулась. Та самая. Единственная настоящая.
На седьмой день он вышел из квартиры.
Не потому что хотел – потому что кончилась еда. Даже пустота требовала топлива.
Магазин был в трёх кварталах. Он шёл медленно, щурясь от солнца – слишком яркого после недели в темноте. Люди вокруг занимались своими делами: разговаривали, смеялись, жаловались на пробки и погоду. Обычная жизнь. Как будто ничего не изменилось.
Маркус купил хлеб, консервы, ещё одну бутылку виски. На кассе девушка улыбнулась ему – профессиональная, пустая улыбка.
– Хорошего дня, – сказала она.
Он не ответил.
На обратном пути он прошёл мимо новостного экрана на площади. Заголовок: «ВОЛНА СУИЦИДОВ ДОСТИГЛА ДВУХ МИЛЛИОНОВ. ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ГЛОБАЛЬНОМ КРИЗИСЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ».
Два миллиона. Лена была одной из двух миллионов. Капля в океане.
Он остановился и смотрел на экран, пока репортаж не сменился рекламой энергетических напитков.
Потом пошёл дальше.
Письмо он перечитывал каждый вечер.
Не знал зачем. Может, искал что-то, что пропустил. Скрытый смысл. Надежду, спрятанную между строк.
Не находил.
«Найди что-то, ради чего стоит жить. Пожалуйста. Ради меня».
Найди. Как будто это так просто. Как будто можно пойти в магазин и купить смысл жизни, как покупают хлеб и виски.
Ради чего он жил раньше? Служба. Долг. Потом – любовь. Лена.
Служба кончилась. Долг остался, но стал абстракцией. Лена…
Лены больше нет.
Что остаётся?
Пустота. Та самая пустота, которую он носил в себе всегда – но которая теперь, без Лены, заполнила всё пространство. Не было больше якоря. Не было центра.
Он вспомнил её слова: «Ты можешь жить с правдой, которая убивает других».
Может быть. Но ради чего?
На двенадцатый день он достал из шкафа свой старый армейский пистолет.
Не для того, чтобы использовать. Просто… достал. Положил на стол. Смотрел на него.
Холодный металл. Функциональный дизайн. Инструмент, созданный для одной цели.
Лена выбрала таблетки. Тихо, мирно, безболезненно – насколько это возможно. Уснуть и не проснуться.
Он мог бы выбрать быстрее.
Мысль пришла без эмоций. Как статистика. Как факт.
Маркус сидел и смотрел на пистолет, и пистолет смотрел на него.
Что удержало его? Он не знал. Не страх – страха не было. Не надежда – на что надеяться? Может, просто инерция. Тело, которое привыкло функционировать и не знало, как остановиться.
Или слова Лены. «Не позволяй моей смерти сломать то, что выдержало всё остальное».
Она не хотела, чтобы он умирал. Написала это прямо. Просила жить – хотя сама не смогла.
Это было нечестно. Жестоко. Эгоистично, может быть.
Но это было всё, что у него осталось от неё. Последняя просьба.
Он убрал пистолет обратно в шкаф.
На четырнадцатый день он включил телефон.
Сто семьдесят три сообщения. Сорок два пропущенных звонка. Он просматривал их механически, не вчитываясь.
Одно выделялось. От неизвестного номера. Текст короткий:
«Командир Рейн. Мы не знакомы, но у меня есть предложение, которое может вас заинтересовать. Речь идёт о том, чтобы сделать что-то осмысленное – в мире, где смысл, кажется, исчез. Если хотите поговорить – ответьте. Вэй Чжан».
Маркус смотрел на сообщение долго. Имя ничего не говорило. Предложение было расплывчатым до бессмысленности.
Но одно слово зацепило. «Осмысленное».
Он не ответил. Пока.
Но и не удалил сообщение.
На двадцать первый день – ровно месяц после смерти Лены – он вышел на балкон.
Ночь была ясной. Звёзды горели холодным светом – тысячи, миллионы точек в бесконечной черноте. Где-то там, среди них, были мёртвые планеты. Пустые орбиты. Руины цивилизаций, которые мы убили.
Маркус смотрел на звёзды и думал о Лене.
Она хотела, чтобы он нашёл смысл. Нашёл что-то, ради чего стоит жить.
Он не знал, возможно ли это. Не знал, хочет ли этого.
Но он всё ещё был здесь. Всё ещё дышал. Всё ещё смотрел на звёзды.
Может быть, этого пока достаточно.
Он вернулся в комнату, взял телефон и открыл сообщение от Вэй Чжана.
Пальцы зависли над клавиатурой.
Потом он набрал:
«Слушаю».
Он не знал, что это сообщение изменит всё. Что человек на другом конце уже выбрал его – выбрал именно потому, что он пустой, сломанный, готовый на всё ради хоть какого-то смысла.
Не знал, что станет инструментом. Оружием. Частью плана, который больше его самого.
Всё, что он знал – тишина. Внутри и снаружи.
И что он больше не хочет нести её один.
Глава
5:
Осколки
Мир не рухнул.
Элара ждала этого – в первые дни после публикации, потом в первые недели. Ждала, что цивилизация расколется, что города запылают, что человечество уничтожит себя быстрее, чем волна суицидов успеет сделать это за него.
Но мир не рухнул. Он просто… треснул. Как зеркало, в которое бросили камень: всё ещё на месте, всё ещё отражает, но изображение распалось на тысячи осколков, и каждый показывает что-то своё.
Три месяца. Девяносто два дня с момента, когда она нажала кнопку «Отправить». Элара считала – не специально, просто числа застревали в голове. Профессиональная деформация учёного.
За окном лаборатории шёл снег – первый в этом году, ранний для ноября. Хлопья кружились в свете фонарей, оседая на антенных полях и куполах проекта «Аргус». Красиво. Мирно. Как будто ничего не изменилось.
Но изменилось всё.
На экране перед ней мигал входящий вызов. Незнакомый номер, но префикс она узнала – Ватикан. Третий звонок за неделю. Она не отвечала на первые два.
На этот раз – ответила.
– Доктор Васкес? – Голос был мужским, мягким, с едва уловимым акцентом. Русский, определила она машинально. – Меня зовут Кирилл. Архимандрит Кирилл. Я звоню от имени движения, которое вы, возможно, знаете как «Искупители».
– Я знаю.
– Вы не отвечали на мои предыдущие звонки.
– Была занята.
Пауза. В ней не было осуждения – только терпеливое ожидание.
– Я понимаю, – сказал Кирилл. – Вы заняты всегда. Но я звоню не для того, чтобы отнять ваше время. Я звоню, чтобы предложить разговор. Лицом к лицу, без камер, без повестки. Просто два человека, пытающихся понять, что делать дальше.
– Зачем вам я?
– Потому что вы нашли истину. А истина – это начало любого пути. Даже пути искупления.
Элара хотела отказать. Она отказывала всем – журналистам, политикам, активистам. Не хотела становиться символом. Не хотела, чтобы её лицо ассоциировалось с катастрофой, которую она раскрыла.
Но что-то в голосе Кирилла остановило её. Не фанатизм – она научилась распознавать его за эти месяцы. Что-то другое. Усталость, может быть. Или искренность.
– Когда? – спросила она.
– Завтра. Есть кафе в старом городе, на площади Бур-де-Фур. Тихое место. Я буду в два часа.
– Как я вас узнаю?
– Я буду в рясе, – ответил он, и в его голосе мелькнула улыбка. – Это довольно заметно в Женеве.
Площадь Бур-де-Фур была старейшей в городе – римский форум, превращённый временем в туристическую достопримечательность. Сейчас, в ноябре, туристов было мало. Только местные – спешащие по делам, не поднимающие глаз.
Элара пришла на пятнадцать минут раньше. Профессиональная привычка – осмотреться, оценить обстановку. Не то чтобы она ожидала засады, но последние месяцы научили осторожности. Её узнавали на улицах. Не все реагировали дружелюбно.
Кафе называлось «Клеманс» – старомодное заведение с деревянными столами и запахом свежей выпечки. Она заняла столик в углу, спиной к стене. Заказала кофе. Ждала.
Кирилл появился ровно в два. Рослый мужчина под шестьдесят, с аккуратно подстриженной седой бородой и глазами, которые видели слишком много. Ряса – чёрная, православная – действительно выделялась среди зимних курток и пальто.
Он подошёл к её столику, не оглядываясь, словно знал точно, где она сидит.
– Доктор Васкес. – Он протянул руку. – Благодарю, что пришли.
– Архимандрит.
– Просто Кирилл, если позволите. – Он сел напротив, сложив руки на столе. – Титулы – для церемоний. А это разговор.
Официантка подошла, и он заказал чай. Простой, без изысков. Пока они ждали, Элара изучала его лицо. Морщины, следы бессонных ночей, но никакой экзальтации. Не похож на тех проповедников, которых она видела в новостях.
– Вы не такой, как я ожидала, – сказала она.
– А чего вы ожидали?
– Огня. Серы. Цитат из Писания через каждое предложение.
Кирилл улыбнулся – мягко, без обиды.
– Огонь и сера – для толпы. Для тех, кому нужны простые ответы. Вы – учёный. Вам нужна сложность.
– И вы можете её предложить?
– Могу предложить вопросы. Ответы – это ваша специальность.
Чай принесли. Кирилл обхватил чашку ладонями, согревая руки.
– Расскажите мне о движении, – попросила Элара. – О том, что вы на самом деле хотите.
– То же, что и все. Понять, как жить дальше. – Он помолчал. – Когда ваша статья вышла, я читал её трое суток. Не потому что не понял с первого раза. Потому что не мог принять.
– Вы не верите данным?
– Верю. В этом и проблема. – Кирилл отпил чай. – Я верил в Бога всю жизнь. Верил, что человек создан по Его образу и подобию. Что у нас есть цель, предназначение, место в замысле. А потом узнал, что мы – чума. Космическая чума, убившая всех, кого могли бы встретить.
– И как вы это примирили?
– Пока никак.
Элара не ожидала такой честности. Фанатики не сомневаются. Фанатики знают ответы.
– Тогда почему «Искупители»? – спросила она. – Если вы сами не уверены?
– Потому что вера – это не уверенность. Вера – это выбор. – Кирилл посмотрел ей в глаза. – Я выбираю верить, что искупление возможно. Что мы можем исправить то, что сделали, – не стереть, но компенсировать. Заполнить пустоту, которую создали.
– Как?
– Колонизация. Распространение жизни. Новые цивилизации, которые мы поможем создать. – Он наклонился вперёд. – Вы понимаете, доктор, мы уничтожили галактику случайно. Без намерения. Но теперь мы знаем. И если мы ничего не сделаем с этим знанием, то станем виновны уже сознательно.
– Это займёт тысячи лет. Миллионы.
– И что? – Кирилл пожал плечами. – Мы живём в вечности, доктор. Каждый из нас – звено в цепи. Неважно, увижу ли я результат. Важно, что цепь не прервётся.
Элара смотрела на него и думала о Соне. О том, как объяснить восьмилетней девочке, что её мать открыла нечто ужасное. О том, какой мир она оставит дочери.
– У вас есть дети? – спросила она.
– Нет. Я принял обет задолго до… – он не закончил.
– У меня есть дочь. Восемь лет.
– Я знаю.
– Она спрашивает, плохие ли мы. Я не знаю, что ей отвечать.
Кирилл молчал долго. Потом сказал:
– Бабочка не плохая, потому что её крылья вызывают ураган на другом конце мира. Она просто машет крыльями. Делает то, для чего создана.
– Но ураган всё равно убивает.
– Да. И в этом трагедия. Не вина – трагедия. – Он отодвинул пустую чашку. – Скажите дочери правду, доктор. Дети сильнее, чем мы думаем. Они могут нести то, что ломает взрослых.
– Или сломаться раньше.
– Это тоже правда.
Разговор продолжался ещё час. Они говорили о теологии и науке, о вине и ответственности, о том, что значит быть человеком после того, как узнал о цене человечности. Кирилл не пытался её обратить. Не предлагал вступить в движение. Просто – разговаривал.
Когда они вышли на улицу, снег прекратился. Небо прояснилось, и сквозь облака пробивалось бледное зимнее солнце.
– Есть ещё одно, – сказал Кирилл. – То, о чём я хотел предупредить.
– О чём?
– Терминаторы. Они устроят акцию сегодня вечером. Здесь, в Женеве. Возле штаб-квартиры «Аргуса».
Элара напряглась.
– Откуда вы знаете?
– У нас есть… контакты. – Он поморщился. – Не шпионы. Просто люди, которые пытаются понять, что происходит. Терминаторы планируют протест. Мирный, насколько я знаю, но с ними никогда нельзя быть уверенным.
– Что они хотят?
– Того же, что всегда. Чтобы человечество прекратило существование. – Кирилл посмотрел на неё. – Они считают вас врагом, доктор. Вы раскрыли правду, но не сделали «правильных» выводов.
– Правильных – это каких?
– Что единственный способ искупить вину – умереть. Всем нам.
Элара почувствовала холод – не от погоды. От слов.
– Я буду осторожна.
– Будьте. – Кирилл протянул ей визитку – простую, белую, с номером телефона. – Если понадобится помощь. Любая помощь. Мы не всегда согласны друг с другом, доктор, но мы все – люди. Это должно что-то значить.
Он ушёл, чёрная ряса мелькнула среди прохожих и растворилась в толпе. Элара стояла на площади, держа визитку в руке, и думала о том, как странно изменился мир.
Три месяца назад она была просто учёным. Теперь – символом. Врагом для одних, надеждой для других. И ничего из этого она не выбирала.
Протест начался в шесть вечера.
Элара смотрела с крыши лабораторного корпуса – не хотела быть внизу, среди толпы, но и уйти не могла. Это касалось её. Это было о ней.
Терминаторы собрались у главных ворот «Аргуса». Человек двести, может, триста – трудно считать в темноте. Они несли плакаты и транспаранты: «ПРЕКРАТИ ВОЛНУ – ПРЕКРАТИ СЕБЯ», «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО = ГЕНОЦИД», «СМЕРТЬ – ЕДИНСТВЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ».
Скандировали что-то – слов было не разобрать с такого расстояния, только ритм. Монотонный, гипнотический.
Рядом с Эларой стоял охранник – молодой парень, нервно переминающийся с ноги на ногу.
– Они пытались прорваться через периметр час назад, – сказал он. – Полиция их остановила. Но они не уходят.
– Они мирные?
– Пока да. Но… – он замолчал.
– Но?
– Вон тот, в центре. Видите? Это Мира Озбек. Основательница движения.
Элара присмотрелась. Среди толпы выделялась женщина – высокая, с обритой головой, в чёрном, несмотря на холод. Она не кричала, не размахивала плакатом. Просто стояла, и люди вокруг неё двигались, как волны вокруг камня.
– Она опасна? – спросила Элара.
– Она потеряла всю семью в волне. Мужа, двоих детей, родителей. Все покончили с собой в один день. После этого она основала Терминаторов.
– Господи.
– Она не верит в Бога, – сказал охранник. – Не верит ни во что. Только в то, что человечество должно исчезнуть.
Элара смотрела на Миру Озбек и пыталась представить, каково это. Потерять всех. Остаться единственной. И решить, что единственный ответ – уничтожить не себя, а всех.
Это было своего рода безумие. Но безумие, которое она могла понять.
Толпа внизу заволновалась. Кто-то бросил бутылку – она разбилась о ворота, звук долетел до крыши секунду спустя. Полицейские выстроились в линию, подняли щиты.
– Мне нужно вниз, – сказала Элара.
– Что? Нет, это опасно…
– Они пришли из-за меня. Может, они выслушают меня.
Охранник открыл рот, чтобы возразить, но она уже шла к лестнице.
Она вышла через боковую дверь и обогнула здание, подойдя к толпе сбоку. Её узнали не сразу – темнота, капюшон зимней куртки. Но потом кто-то крикнул:
– Это Васкес! Васкес здесь!
Толпа развернулась. Сотни глаз уставились на неё. Плакаты опустились.
Мира Озбек двинулась к ней – не быстро, не угрожающе, но неотвратимо.
– Доктор Васкес. – Голос был низким, хриплым. – Как мило, что вы вышли.
– Мне сказали, что вы хотите поговорить.
– Нет. – Мира покачала головой. – Разговоры бесполезны. Мы хотим, чтобы вы признали правду.
– Какую правду?
– Ту, которую вы открыли, но от которой прячетесь. – Мира подошла ближе. Её глаза были тёмными, провалившимися – глаза человека, который давно перестал спать. – Вы показали, что человечество – убийца. Но не сделали вывод. Не сказали, что убийца должен умереть.
– Я учёный, не судья.
– Тогда наука – ложь. – Мира усмехнулась. – Вы находите факты и отворачиваетесь от их последствий. Это трусость, доктор.
– Это осторожность.
– Четыреста цивилизаций, – прошипела Мира. – Триллионы существ. Они были осторожны? Они могли защититься?
– Нет.
– Тогда почему мы должны иметь право жить?
Элара молчала. Вокруг них образовался круг – протестующие, полицейские, журналисты с камерами. Все ждали её ответа.
– Потому что смерть не отменит того, что мы сделали, – сказала она наконец. – Если мы все умрём, цивилизации не вернутся. Галактика останется пустой. Навсегда.
– Но волна остановится.
– Волна уже ушла. Двенадцать тысяч световых лет от нас. Мы не можем её догнать, не можем остановить. Можем только решить, что делать с тем, что осталось.
Мира смотрела на неё – долго, пристально. Потом отступила на шаг.
– Вы верите в это, – произнесла она. – По-настоящему верите.
– Да.
– Тогда вы глупее, чем я думала.
Она развернулась и пошла прочь. Толпа потянулась за ней – медленно, неохотно, но уходя. Протест заканчивался.
Элара стояла у ворот и смотрела им вслед. Руки дрожали – от холода или от адреналина, она не знала.
Журналист приблизился к ней, протягивая микрофон.
– Доктор Васкес! Что вы можете сказать о…
– Без комментариев.
Она вернулась внутрь и закрыла дверь за собой.
Той ночью она позвонила в Киото.
Накамура ответила на третий гудок. Экран засветился, показывая её лицо – осунувшееся, серое от недосыпа. Фон был незнакомым: не лаборатория, не квартира. Больничная палата.
– Элара. – Накамура не удивилась. – Я ждала твоего звонка.
– Как он?
Пауза. Накамура отвернулась от камеры, и Элара увидела кровать в глубине палаты. Неподвижную фигуру под белой простынёй.
– Так же, – сказала Накамура. – Стабильно. Это слово, которое врачи используют, когда не знают, что ещё сказать.
– Я могу прилететь.
– Зачем?
– Помочь. Или просто… быть рядом.
– Ты нужна там, Элара. В Женеве. Я справляюсь.
Это была ложь, и обе это знали. Но Элара не стала спорить.
– Что говорят врачи? – спросила она.
– Кататония неопределённой этиологии. Состояние стабильное, но без улучшений. ЭЭГ показывает активность – он думает, чувствует, осознаёт. Но не может выйти наружу. – Накамура говорила ровно, как будто читала отчёт. – Они предлагают экспериментальную терапию. Глубокая стимуляция мозга. Я отказала.
– Почему?
– Потому что они не понимают. – В голосе Накамуры прорезалось что-то – не злость, но близко к ней. – Они думают, что это травма. Психологическая защита. Но я видела данные, Элара. Его состояние… – она запнулась. – Это не защита. Это реакция.
– Реакция на что?
– На правду.
Накамура повернулась к камере. Её глаза были сухими, но в них горело что-то, что Элара узнала. То же, что горело в глазах Миры Озбек. То же, что горело в её собственных глазах, когда она впервые увидела паттерн.
Одержимость.
– Кэндзи понял, – сказала Накамура. – Раньше, чем остальные. Он сидел на лекции, слушал о когнитивной революции, и вдруг осознал всё. Что каждая его мысль – часть волны. Что он не может перестать думать, не может остановить разум, и каждую секунду, пока он осознаёт себя, он участвует в… – она не договорила.
– Ирен…
– Он нашёл единственный выход, – продолжала Накамура, не слушая. – Закрылся. Свернул сознание в точку, которая ни с чем не взаимодействует. Как квантовая система, которая отказывается коллапсировать.
– Это метафора.
– Это гипотеза. – Накамура наклонилась к камере. – И я собираюсь её проверить. Врачи не понимают, что с ним. Но я пойму. Я его мать, и я нейробиолог, и я посвятила жизнь изучению сознания. Если кто-то может его вернуть, то это я.
Элара смотрела на неё и видела одновременно учёного и мать. Холодный разум и горящую боль. Накамура всегда умела разделять личное и профессиональное, но сейчас эти границы стирались.
– Чем я могу помочь? – спросила Элара.
– Продолжай работать. – Накамура откинулась назад. – Мы открыли дверь, но не прошли в неё. Там есть что-то ещё. Должно быть.
– Что ты имеешь в виду?
– Хранителей. – Слово прозвучало странно – как название, а не описание. – Те, кто выжил. Кто-то должен был выжить, Элара. Волна не могла убить всех. Статистически – не могла.
– Мы искали. Ничего не нашли.
– Значит, плохо искали.
Накамура потянулась к кнопке отключения, но остановилась.
– Спасибо, что позвонила, – сказала она тише, почти человеческим голосом. – Это… значит.
– Мы в этом вместе, Ирен.
– Нет. – Накамура покачала головой. – Ты – там, со своей дочерью. Я – здесь, со своим сыном. Мы несём разный груз. Но идём к одной цели.
Экран погас.
Элара сидела в темноте и думала о Кэндзи. О девятнадцатилетнем юноше, который понял слишком много слишком быстро. Который не смог вынести правду, которую она раскрыла.
Ещё один осколок. Ещё одна трещина в зеркале.
Утром она поехала к Соне.
Квартира Хавьера была такой же, как всегда – чистой, упорядоченной, пахнущей свежим кофе. Бывший муж встретил её у двери с выражением, которое она знала слишком хорошо.
– Она не спала всю ночь, – сказал он тихо. – Опять.
– Кошмары?
– Вопросы. – Хавьер вздохнул. – Она задаёт вопросы, на которые я не могу ответить. О тебе, о твоей работе, о том, что происходит в мире.
– Что ты ей говоришь?
– Правду. Насколько могу. – Он посторонился, пропуская её внутрь. – Но я не знаю всей правды, Элара. Это твоя область.
Соня сидела в своей комнате – маленькой, заваленной книгами и рисунками. Она повернулась, когда дверь открылась, и Элара увидела её глаза. Восьмилетние глаза, которые смотрели так, будто им было тридцать.
– Мама.
– Привет, малышка.
Соня не бросилась к ней, как раньше. Осталась сидеть, держа в руках планшет с открытой статьёй. Элара узнала заголовок: это была её собственная публикация, упрощённая для широкой аудитории.
– Ты читаешь это?
– Мне нужно понять, – сказала Соня. – Все в школе говорят разное. Одни говорят, что мы чудовища. Другие – что всё это ложь. Третьи – что неважно, потому что мы всё равно умрём.
– И что думаешь ты?
Соня молчала. Потом отложила планшет и посмотрела на мать.
– Я думаю, что ты нашла что-то очень плохое. И что ты не знаешь, как это исправить. – Её голос был ровным, почти взрослым. – И что тебе страшно.
Элара села рядом с ней. Обняла – неловко, словно забыла, как это делается.
– Мне страшно, – признала она. – Очень.
– Тогда почему ты рассказала? – В голосе Сони было не обвинение – вопрос. – Если тебе страшно, если ты не знаешь, как исправить… зачем?
– Потому что правда важнее страха. – Элара поцеловала дочь в макушку. – Потому что люди имеют право знать. Даже если это больно.
– А я? Я имею право знать?
Элара не ответила сразу. Смотрела на дочь – такую маленькую, такую взрослую – и думала о том, что отняла у неё. Детство. Невинность. Право не думать о космическом геноциде.
– Ты имеешь право, – сказала она наконец. – На правду. На страх. На вопросы без ответов. Это… – она запнулась. – Это и значит быть человеком.
– Даже если люди – чудовища?
– Мы не чудовища, малышка. – Элара сжала её крепче. – Мы просто… не знали. Делали то, для чего созданы, и не знали о последствиях. Это не делает нас хорошими. Но и не делает злыми. Это делает нас… – она искала слово. – Трагичными.
Соня молчала. Потом повернулась в объятиях матери и посмотрела ей в лицо.
– Учительница ушла, – сказала она. – На прошлой неделе. Она была… – Соня не договорила.
– Терминатором?
– Не знаю, как они называются. Она говорила, что люди должны исчезнуть. Что это единственный правильный путь. Потом она ушла и не вернулась. Говорят, она… – снова пауза. – Говорят, она сделала то, о чём говорила.
Элара закрыла глаза. Ещё одна смерть. Ещё одна жертва правды, которую она раскрыла.
– Мне жаль, – прошептала она.
– Мне тоже. – Соня вздохнула. – Но я не хочу быть как она, мама. Не хочу думать, что мы должны умереть. Это… неправильно.
– Это неправильно, – согласилась Элара.
– Но что тогда правильно?
– Не знаю, малышка. – Она снова поцеловала дочь – в лоб, в щёки, в кончик носа. – Но мы найдём. Вместе. Я обещаю.
Соня кивнула. Она не улыбалась – в последние месяцы она редко улыбалась – но что-то в её глазах смягчилось. Не надежда, может быть. Но отсутствие отчаяния.
Для восьми лет этого было достаточно.
Неделю спустя пришло сообщение от Накамуры.
Короткое, сухое, без приветствия:
«Я нашла кое-что. Нужна твоя помощь. Прилетай, как только сможешь».
Элара смотрела на экран и чувствовала, как что-то сдвигается. Три месяца она ждала – чего? Продолжения. Ответа. Хоть чего-то, кроме осколков и трещин.
Может быть, это было оно.
Она забронировала билет в Киото на завтра и начала собирать вещи.
Больница, где лежал Кэндзи, располагалась на окраине города – современное здание из стекла и бетона, окружённое садом. Накамура ждала её у входа, несмотря на ранний час и холодный дождь.
– Спасибо, что приехала, – сказала она вместо приветствия.
– Что ты нашла?
– Пойдём. Покажу.
Они прошли через приёмную, поднялись на третий этаж. Палата Кэндзи была в конце коридора – отдельная, с большим окном и медицинским оборудованием, мигающим разноцветными огнями.
Он лежал так же, как на видео – неподвижный, с закрытыми глазами. Но что-то изменилось. Элара не сразу поняла что.
– Его ЭЭГ, – сказала Накамура, подходя к монитору. – Смотри.
На экране бежали волны – привычный узор мозговой активности. Но Накамура указала на одну линию – тонкую, едва заметную.
– Это гамма-ритм, – объяснила она. – Обычно он связан с высшими когнитивными функциями. Вниманием, памятью, сознанием.
– Я знаю, что такое гамма-ритм.
– Тогда смотри внимательнее.
Элара присмотрелась. И увидела.
Гамма-волны не были случайными. Они складывались в паттерн – повторяющийся, регулярный. Слишком регулярный для обычной мозговой активности.
– Это… – она не закончила.
– Это код, – сказала Накамура. Её голос дрожал – впервые за всё время, что Элара её знала. – Он не просто закрылся. Он что-то передаёт. Изнутри.
– Что?
– Я не знаю. Пока не расшифровала. Но это не случайность, Элара. Это намеренный сигнал.
Они стояли у кровати, глядя на неподвижное тело юноши, который нашёл способ говорить из тюрьмы собственного разума.
– Он ждёт, – прошептала Накамура. – Ждёт, пока мы поймём.
Элара смотрела на линии на экране – на код, который никто ещё не расшифровал – и думала о том, что мир продолжал удивлять её. Даже теперь. Даже после всего.
Осколки зеркала. Каждый показывал что-то своё. И где-то среди них, может быть, был ответ.
Интерлюдия I: Вэй
Дождь барабанил по стеклу лимузина – монотонно, настойчиво, как пальцы нетерпеливого человека по столу. Вэй Чжан смотрел на мокрые улицы Пекина и думал о том, как странно устроена память.
Шестьдесят четыре года. Сорок из них – на государственной службе. Директор проекта «Аргус» последние двенадцать лет. Человек, который знал больше секретов, чем мог бы вместить любой разум.
И всё это не имело значения для женщины, к которой он ехал.
Клиника располагалась в престижном районе Хайдянь – современное здание, окружённое садом камней и искусственными водопадами. Здесь лечились те, кто мог позволить себе лучшее. Или те, чьи близкие могли.
Охранник у входа узнал машину и поднял шлагбаум, не проверяя документы. Вэй вышел под дождь, отказавшись от зонта, который протянул водитель. Несколько шагов по мокрому асфальту – мелочь. Он привык к неудобствам.
Внутри было тепло, тихо, пахло цветами. Медсестра за стойкой приветливо улыбнулась.
– Директор Чжан. Она в саду. Сегодня хороший день.
– Хороший?
– Спокойный. Она рисовала утром.
Вэй кивнул и пошёл по знакомому коридору. Третья дверь направо, потом через холл, потом стеклянные двери в зимний сад. Он мог бы пройти этот маршрут с закрытыми глазами.
Мэй сидела у окна, глядя на дождь. Её волосы – когда-то чёрные, как воронье крыло – стали совсем седыми. Руки лежали на коленях, тонкие, с просвечивающими венами. Она выглядела хрупкой. Она всегда выглядела хрупкой, но раньше это было обманчиво.
– Мэй.
Она повернулась. Её глаза – всё ещё красивые, тёмные – скользнули по его лицу без узнавания.
– Здравствуйте, – сказала она вежливо. – Вы новый врач?
Вэй сел напротив. Не слишком близко – она пугалась, когда незнакомцы подходили слишком близко.
– Нет. Я Вэй. Твой муж.
Мэй нахмурилась. Что-то мелькнуло в её взгляде – тень воспоминания, которая тут же растаяла.
– У меня нет мужа, – сказала она уверенно. – Я не замужем. Мне нужно закончить диссертацию.
Диссертация. Сорок лет назад. Она до сих пор возвращалась туда – в то время, когда они только познакомились. Молодой офицер разведки и блестящий физик-теоретик. Он влюбился в её ум раньше, чем в её лицо.
– Конечно, – сказал он мягко. – Как продвигается работа?
Мэй оживилась.
– Хорошо. Очень хорошо. Я работаю над проблемой квантовой когерентности в макросистемах. Знаете, большинство считает, что декогеренция неизбежна, но я думаю… – она замолчала, потеряв нить. – О чём я говорила?
– О квантовой когерентности.
– Да, да. Это важно. Очень важно. Если я права, это изменит всё, что мы знаем о сознании.
Вэй смотрел на неё и чувствовал, как что-то сжимается в груди. Она была так близка к правде – тогда, сорок лет назад. Её теория предвосхитила работу Пенроуза на десятилетие. Но она бросила науку ради него. Ради семьи, которую они так и не создали. Ради жизни, которую она больше не помнила.
– Мэй, – сказал он тихо. – Ты узнаёшь меня?
Она посмотрела на него – внимательно, пристально. На мгновение ему показалось, что сейчас… что она…
– Вы похожи на кого-то, – сказала она наконец. – На кого-то, кого я знала. Давно. – Её лицо омрачилось. – Но я не помню кого.
– Это нормально.
– Нет. – Она покачала головой. – Это ненормально. Я знаю, что что-то не так. Знаю, что должна помнить больше. Но когда пытаюсь… – она прижала ладонь к виску. – Как будто стена. Стеклянная стена, за которой всё видно, но нельзя дотянуться.
Вэй взял её руку. Она не отдёрнула – просто посмотрела на его пальцы, как на что-то незнакомое.
– Всё хорошо, – сказал он. – Ты в безопасности. Здесь тебе помогут.
– Помогут с чем?
– С диссертацией.
Мэй улыбнулась – детская, доверчивая улыбка.
– Правда? Это было бы замечательно. Мне так нужна помощь.
Он просидел с ней час.
Она говорила о физике, о теориях, которые разрабатывала сорок лет назад. Иногда – о родителях, давно умерших, но живых в её памяти. Иногда – о студенческих годах, о друзьях, чьи имена Вэй никогда не слышал.
Она ни разу не вспомнила их свадьбу. Тридцать лет брака. Ночи, когда они спорили до рассвета о природе реальности. Утра, когда он приносил ей чай в постель. Вечера, когда они просто сидели рядом, держась за руки, не нуждаясь в словах.
Всё это исчезло. Стёрто болезнью, которая медленно пожирала её разум.
Когда он уходил, она помахала ему – как машут приветливым незнакомцам.
– Приходите ещё, – сказала она. – Мне понравилось с вами разговаривать.
– Приду.
Он всегда приходил. Каждую неделю, уже три года. И каждую неделю она не узнавала его.
В коридоре его догнала главврач – доктор Линь, женщина его возраста, с проницательными глазами.
– Директор Чжан. Можно вас на минуту?
Он остановился.
– Её состояние?
– Стабильное. Но прогрессирующее. – Доктор Линь говорила осторожно, как говорят с теми, кто не хочет слышать правду. – Вы понимаете, что это значит.
– Понимаю.
– Есть экспериментальные протоколы. Нейростимуляция, генная терапия. Шансы небольшие, но…
– Нет.
– Директор Чжан…
– Я сказал: нет. – Его голос был ровным, но в нём звенела сталь. – Она участвовала в достаточном количестве экспериментов, когда работала. Не хочу, чтобы её последние годы превратились в ещё один.
Доктор Линь кивнула. Она знала его достаточно хорошо, чтобы не спорить.
– Как скажете. Но если передумаете…
– Я не передумаю.
Он вышел из клиники и сел в машину. Дождь не прекращался – если что, стал сильнее.
– Куда, директор? – спросил водитель.
– В офис.
Штаб-квартира проекта «Аргус» располагалась не в Женеве, как думало большинство. Женева была витриной – научным центром, открытым для международного сотрудничества. Настоящий командный пункт находился здесь, в Пекине, на минус пятом этаже здания, которое официально числилось архивом Министерства науки.
Вэй прошёл через три контрольных пункта – биометрия, голосовая верификация, сканирование сетчатки. Лифт спустил его в бункер, построенный ещё во времена холодной войны и модернизированный дюжину раз с тех пор.
Его кабинет был спартанским: стол, стул, несколько экранов, никаких личных вещей. Единственное исключение – фотография на столе. Мэй, тридцать лет назад, смеющаяся над чем-то за кадром. Он не помнил, над чем. Это было давно.
Вэй сел и активировал защищённый канал.
– Статус проекта «Прометей», – произнёс он.
Экран ожил. Появилась схема – сложная, многоуровневая, с десятками связей и зависимостей. В центре – название: «ПРОМЕТЕЙ».
– Проект в стадии альфа, – ответил синтезированный голос. – Три направления активны. Направление один: рекрутинг агентов. Направление два: разработка технологии. Направление три: стратегическое планирование.
– Подробнее по первому направлению.
На экране появился список. Имена, фотографии, краткие досье. Двенадцать человек – все с безупречным послужным списком, все с особыми навыками.
И все – со сломанными судьбами.
Вэй пролистал список. Бывший спецназовец, потерявший семью в теракте. Инженер, чья дочь погибла в аварии. Учёный, чей брат покончил с собой после публикации Васкес.
Сломанные люди. Самые полезные.
Он остановился на одном досье. Маркус Рейн. Тридцать восемь лет. Бывший военный пилот, теперь – командир гражданской орбитальной станции. Жена – Лена Рейн, философ. Покончила с собой две недели назад.
Фотография показывала мужчину с жёстким лицом и пустыми глазами. Вэй узнавал этот взгляд. Видел его в зеркале каждое утро.
– Рейн, – произнёс он вслух. – Интересный кандидат.
Он открыл полное досье. Военная карьера – безупречная. Боевые операции на Луне во время Второго кризиса. Награды, повышения, рекомендации. Потом – переход на гражданскую службу. Брак. Тихая жизнь человека, который нашёл свой якорь.
И теперь – ничего. Якорь исчез. Остался только человек, который умеет выполнять приказы и не задаёт лишних вопросов.
– Идеально, – прошептал Вэй.
Он отправил сообщение – короткое, зашифрованное, через каналы, которых официально не существовало. Первый контакт. Приглашение к разговору.
Потом откинулся в кресле и закрыл глаза.
Сознание – оружие.
Эта мысль не давала ему покоя с момента, когда он впервые прочитал статью Васкес. Не данные – данные он принял сразу, без эмоций. Годы в разведке научили его отделять факты от чувств.
Но вывод. Вывод был другим.
Человечество уничтожило галактику. Не намеренно, не осознанно – просто фактом своего существования. Эволюция создала разум, который оказался смертельным для всего остального разума во вселенной.
Большинство людей восприняли это как трагедию. Как вину. Как повод для отчаяния.
Вэй увидел другое.
Если сознание способно уничтожать на расстоянии в тысячи световых лет, значит, это сила. Реальная, измеримая сила. И любая сила может быть направлена. Контролируема. Использована.
Он не был злым человеком. Он был прагматиком. Сорок лет в разведке научили его одному: мир полон угроз, и единственный способ выжить – быть сильнее угроз.
Человечество только что узнало, что оно – самая большая угроза из всех. Логичный ответ – научиться контролировать эту угрозу. Превратить случайное оружие в намеренное.
«Прометей» был его ответом.
Совещание началось в полночь – когда в Вашингтоне было утро, в Москве – вечер, в Лондоне – день. Четыре экрана, четыре лица. Совет директоров проекта «Аргус» – официально. Координационный комитет операции «Прометей» – на самом деле.
– Статус? – спросил генерал Паркер из Пентагона. Седой, с лицом, похожим на гранитный утёс.
– Рекрутинг идёт по графику, – ответил Вэй. – Двенадцать кандидатов отобраны. Шесть уже получили первичный контакт.
– Качество?
– Отличное. Все – профессионалы высшего уровня. Все – с личными мотивами, которые делают их управляемыми.
– Управляемыми? – Директор Волков из российской СВР приподнял бровь. – Или лояльными?
– Есть разница?
Волков усмехнулся. Он понимал. Они все понимали – профессионалы, выросшие в мире, где доверие было роскошью.
– Технологическое направление? – спросила леди Уинстон из MI6. Седые волосы, жемчужное ожерелье, взгляд кобры.
– Прогресс медленнее, чем хотелось бы. – Вэй вызвал на экран схему. – Теория Васкес даёт нам понимание механизма, но не контроль. Мы знаем, что коллапс когерентности распространяется. Не знаем, как его направить.
– Сколько времени?
– Годы. Может, десятилетия.
– Неприемлемо, – отрезал Паркер.
– Реалистично. – Вэй не дрогнул. – Мы говорим о фундаментальной физике сознания. Это не бомба, которую можно собрать по чертежам.
– Тогда зачем нам агенты сейчас? – спросил Волков.
– Потому что технология – не единственный путь. – Вэй переключил изображение. На экране появилась карта галактики – та самая, с красными точками мёртвых цивилизаций. – Четыреста двадцать три цивилизации погибли. Но кто-то мог выжить.
– Хранители, – сказала Уинстон. Не вопрос – утверждение.
– Именно. Накамура и Васкес уже ищут следы. Рано или поздно они найдут. И когда найдут – мы должны быть готовы.
– Готовы к чему?
– К любому сценарию. – Вэй посмотрел на каждый экран по очереди. – Если выжившие существуют, они знают то, чего не знаем мы. Механизм волны. Способы защиты. Возможно – способы использования.
– Или они – угроза, – добавил Паркер.
– Или они – угроза, – согласился Вэй. – В любом случае нам нужны люди внутри. Агенты, которые будут рядом, когда контакт произойдёт. Которые смогут действовать.
– Действовать как?
– По обстоятельствам.
Пауза. Четыре лица на четырёх экранах переглянулись – насколько это возможно через видеосвязь.
– Вы понимаете, что предлагаете, – медленно произнесла Уинстон. – Это не разведывательная операция. Это потенциальный акт войны.
– Против кого? – Вэй пожал плечами. – Против существ, которых мы не нашли? Это страховка, леди Уинстон. Не более.
– Страховка с возможностью эскалации.
– Любая страховка имеет эту возможность. Вопрос в том, хотим ли мы быть беззащитными, когда придёт время платить.
Снова пауза. На этот раз – дольше.
– Голосование, – сказал наконец Паркер. – Продолжение «Прометея» в текущем режиме. За?
Четыре руки поднялись. Единогласно.
– Принято. – Паркер кивнул Вэю. – Продолжайте, директор. И держите нас в курсе.
Экраны погасли.
Вэй остался один в бункере, окружённый тишиной и гулом кондиционеров. Он смотрел на фотографию Мэй и думал о том, что она сказала бы, если бы могла понять.
Она была пацифисткой. Верила в науку как путь к миру. Посвятила жизнь изучению сознания – не чтобы превратить его в оружие, а чтобы понять.
Она не одобрила бы.
Но она больше не помнила его. Не помнила себя. Её разум рассыпался, как песочный замок под волной.
И Вэй не мог позволить, чтобы то же самое случилось с человечеством.
Ответ от Рейна пришёл через три дня.
Одно слово: «Слушаю».
Вэй улыбнулся – первый раз за неделю. Он узнал этот ответ. Краткий, деловой, без лишних эмоций. Ответ человека, который потерял всё и теперь ищет цель.
Идеальный кандидат.
Он набрал ответное сообщение:
«Командир Рейн. Меня зовут Вэй Чжан. Я директор проекта "Аргус". У меня есть предложение, которое может дать вашей жизни новый смысл. Если заинтересованы – встретимся. Время и место на ваш выбор. Только вы и я. Без протоколов, без формальностей. Просто разговор».
Отправил. Откинулся в кресле.
Теперь – ждать.
Пока он ждал, пришли новые данные.
Накамура обнаружила аномалию в мозговых волнах своего сына. Паттерн, который не должен существовать. Код, передаваемый изнутри закрытого разума.
Вэй читал отчёт и чувствовал, как что-то сдвигается в его понимании.
Кэндзи Накамура не просто впал в кататонию. Он… изменился. Нашёл способ существования, который не укладывался в привычные рамки. Закрылся от мира, но не исчез. Передавал что-то – что?
Если один человек смог сделать это сознательно…
Вэй вызвал досье Накамуры. Ирен Накамура, нейробиолог. Соавтор статьи, изменившей мир. Мать юноши, который, возможно, нашёл ключ к контролю над сознанием.
Она будет полезна. Очень полезна.
Он добавил её в список. Не как агента – как ресурс. Человека, которого нужно отслеживать, направлять, использовать, когда придёт время.
«Прометей» рос. Разветвлялся. Превращался из плана в организм – живой, адаптивный, готовый к любому сценарию.
На пятый день Рейн согласился на встречу.
Женева. Нейтральная территория. Публичное место – кафе в старом городе.
Вэй прилетел сам, без охраны. Это был риск, но необходимый. Рейн не стал бы доверять человеку, который прячется за телохранителями.
Кафе было маленьким, уютным, с видом на озеро. Вэй пришёл на полчаса раньше и занял столик у окна. Заказал чай. Ждал.
Рейн появился ровно в назначенное время. Вэй узнал его по фотографии – жёсткое лицо, военная выправка. Но глаза были другими. Не пустыми, как на снимке. Мёртвыми.
Он сел напротив без приветствия.
– Директор Чжан.
– Командир Рейн.
Пауза. Они изучали друг друга – два хищника, оценивающих угрозу.
– Ваше сообщение было интересным, – сказал Рейн наконец. – «Новый смысл». Громкие слова.
– Я не бросаю слова на ветер.
– Тогда объясните.
Вэй отпил чай. Не спешил. Рейн не уйдёт – ему некуда идти.
– Вы читали статью Васкес, – начал он. Не вопрос.
– Как и все.
– И что вы о ней думаете?
Рейн пожал плечами.
– Данные убедительны. Выводы… – он помолчал. – Неприятны.
– Неприятны? – Вэй приподнял бровь. – Ваша жена покончила с собой из-за этих выводов. «Неприятны» – мягкое слово.
Что-то мелькнуло в глазах Рейна. Боль? Гнев? Исчезло так быстро, что Вэй не успел определить.
– Что вам нужно, директор?
– Человечество только что узнало, что оно – оружие, – сказал Вэй, наклоняясь вперёд. – Случайное, неконтролируемое, смертельное. Большинство реагирует паникой, отчаянием, отрицанием. Но некоторые из нас видят другое.
– Что именно?
– Возможность. – Вэй понизил голос. – Если сознание способно уничтожать, значит, его можно контролировать. Направлять. Превращать из случайного оружия в намеренное.
Рейн смотрел на него молча. Не соглашался, не возражал. Просто слушал.
– Я собираю команду, – продолжал Вэй. – Людей, которые понимают ставки. Которые готовы делать то, что необходимо. Не ради морали – ради выживания.
– Выживания кого?
– Человечества. – Вэй откинулся назад. – Мы не знаем, что ждёт нас там, в космосе. Может, мы одни. Может, кто-то выжил и хочет мести. Может, есть силы, о которых мы даже не подозреваем. В любом случае – мы должны быть готовы.
– К чему готовы?
– К любому сценарию. Включая те, о которых не хочется думать.
Рейн молчал. За окном по озеру скользила лодка – маленькая, белая, мирная.
– Вы предлагаете мне стать шпионом, – сказал он наконец.
– Я предлагаю вам стать тем, кто защитит восемь миллиардов человек. – Вэй посмотрел ему в глаза. – Вы потеряли жену. Я понимаю эту боль лучше, чем вы думаете. Но вопрос: что вы будете делать с тем, что осталось? Пить в одиночестве? Ждать смерти? Или сделаете что-то, что имеет значение?
– И что, по-вашему, имеет значение?
– То, что я вам предлагаю.
Снова молчание. Рейн смотрел на озеро, на лодку, на горы вдали.
– Моя жена верила в смысл, – произнёс он тихо. – Искала его всю жизнь. А потом узнала, что мы – чудовища, и не смогла с этим жить.
– Вы не чудовище, командир.
– Нет? – Рейн повернулся к нему. – Мы уничтожили галактику. Каждый из нас – часть этого. Каждая мысль, каждое осознание. Если это не делает нас чудовищами, то что?
– Это делает нас опасными. – Вэй наклонился вперёд. – А опасность – это сила. Вопрос только в том, как её использовать.
Рейн смотрел на него долго. Потом кивнул.
– Расскажите подробнее.
Разговор продолжался два часа.
Вэй объяснил структуру «Прометея» – не всю, но достаточно. Рейн слушал, задавал вопросы, анализировал. Военный разум, привыкший к сложным операциям.
К концу встречи он согласился.
Не из патриотизма – Вэй не апеллировал к патриотизму. Не из идеализма – Рейн давно перестал быть идеалистом. Из пустоты. Из потребности заполнить чем-то дыру, которую оставила смерть жены.
Это было достаточно. На первое время.
– Один вопрос, – сказал Рейн, вставая. – Почему я?
– Потому что вам нечего терять, – ответил Вэй честно. – И потому что вы способны делать то, что необходимо, не задавая лишних вопросов.
– Вы так уверены?
– Я изучил ваше досье, командир. Вы убивали на войне. Выполняли приказы, которые другие не смогли бы выполнить. И при этом остались человеком. Такие люди редки.
Рейн не возразил. Не подтвердил. Просто протянул руку.
Вэй пожал её.
Сделка заключена.
Ночью он снова сидел в бункере, глядя на фотографию Мэй.
Она улыбалась – та, молодая, из прошлого. Та, которая верила в науку и мир. Та, которой больше не существовало.
– Я защищу их, – прошептал он. – Всех. Любой ценой.
Фотография не ответила. Фотографии не отвечают.
Но где-то в клинике на окраине Пекина старая женщина смотрела в окно на дождь и пыталась вспомнить лицо, которое казалось знакомым.
Она не могла. Стена была слишком высокой, слишком толстой.
Но иногда – совсем редко – ей снились сны. В снах был человек с усталыми глазами, который держал её за руку и говорил что-то важное.
Она просыпалась и забывала.
А человек с усталыми глазами продолжал делать то, что считал необходимым.
Потому что кто-то должен был.
Глава 6: Вербовка
Шесть месяцев – это сто восемьдесят два дня.
Маркус знал точно, потому что считал. Каждое утро, открывая глаза, он добавлял единицу к числу в голове. Не знал зачем. Может, чтобы отмечать время. Может, чтобы доказать себе, что всё ещё жив.
Сто восемьдесят два дня без Лены.
Квартира осталась прежней – он так и не убрал её вещи. Книги на полках, одежда в шкафу, чашка с остатками чая, которую она не допила в тот последний день. Он мог бы выбросить всё это. Должен был, наверное. Но каждый раз, когда тянулся к её свитеру или блокноту, что-то останавливало руку.
Не боль. Боли не было. Была пустота – огромная, гулкая, как заброшенный ангар. Вещи Лены заполняли её хоть чем-то. Без них пустота стала бы невыносимой.
Утро начиналось одинаково. Подъём в шесть – тело помнило армейский распорядок, даже когда разум не видел смысла. Душ. Бритьё. Кофе – чёрный, без сахара, обжигающий. Завтрак он пропускал уже месяца три.
Потом – время. Много времени. Он не работал – формально числился в отпуске, неформально все понимали, что назад он не вернётся. Орбитальная служба требовала людей с ясной головой. Его голова была чем угодно, только не ясной.