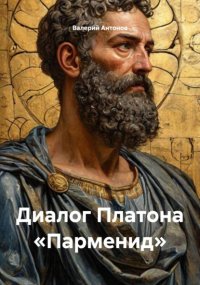Читать онлайн Эннеады Плотина бесплатно
- Все книги автора: Валерий Антонов
Аннотация к «Эннеадам» Плотина.
Трактаты, собранные его учеником Порфирием в шести «Эннеадах», представляют собой не систематический учебник, а глубоко продуманную и внутренне связную интеллектуальную медитацию, разворачивающую иерархическую картину реальности. Исходным пунктом и центральным стержнем учения Плотина выступает понятие Единого – абсолютно трансцендентного, непостижимого рассудком первоначала, которое есть чистое благо и источник всякого бытия. Из неизреченного изобилия Единого, подобно свету, неизбежно истекает (эманирует) следующая субстанция – Ум (Нус). В этом акте самопознания Ума рождается мир идеальных форм, платоновских идей, где мысль и мыслимое тождественны. Это царство подлинного, вечного и совершенного бытия.
Из созерцающей деятельности Ума, в свою очередь, проистекает Душа (Психея), которая, обращаясь к Уму, пребывает в умопостигаемом порядке, а обращаясь вовне, порождает чувственный космос и время. Мировая Душа не создает мир из ничего, но организует пассивную материю, являющуюся последней градацией бытия, предельным ослаблением эманации, почти не-сущим. Индивидуальные человеческие души – неотделимые части этой Мировой Души, нисшедшие в телесность. Страдание и несовершенство человека проистекают из этой «смеси» и забвения своей высшей природы.
Отсюда выводится этико-психологический императив Плотина: цель жизни – «обратное бегство», возвращение души к своему источнику через очищение (катарсис), интеллектуальное сосредоточение и, наконец, мистическое восхождение. Высшей ступенью этого пути является экстатическое соединение с Единым, невыразимое переживание единства, где исчезает различие между познающим и познаваемым. Эта практика самотрансценденции имеет отчетливый современный резонанс в контексте поисков трансперсонального опыта и критики рассеянного, «внешнего» существования.
Внутренняя логика системы Плотина, таким образом, развертывается как диалектика исхождения (прободос) и возвращения (эпистрофе): от абсолютного единства через умножение и усложнение уровней бытия – к осознанному воссоединению с ним. Его метафизика, синтезировавшая платонизм с элементами аристотелизма и стоицизма, стала фундаментом всей последующей европейской мистической и идеалистической мысли. Современное звучание «Эннеад» заключается не только в их историческом влиянии, но и в предлагаемом ответе на экзистенциальный вызов: человек оказывается не случайным продуктом материального мира, а точкой встречи всех уровней реальности, обладающей потенциалом восхождения к Абсолюту через углубление в собственное сознание.
Эннеада
I
.
О человеке, добродетелях, счастье, прекрасном, природе зла. (Этико-антропологическая)
Первый тракт. Пределы тождества: как страдает тот, кто не может страдать.
Первый трактат Плотина – это не просто рассуждение о душе и теле. Это фундаментальное исследование границ субъективности, попытка ответить на мучительный вопрос: кто этот «я», который радуется, страдает, боится и мыслит? И если этот «я» страдает, то как он может быть бессмертным? Плотин начинает с простого перечисления феноменов, но его цель – не классификация, а демистификация. Его метод – не описание, а радикальная редукция, стремящаяся отделить подлинное бытие от его случайных и болезненных наслоений.
Логика его мысли разворачивается как строгая геометрическая прогрессия от частного к общему. Отправной точкой является очевидность: человек испытывает аффекты. Но кому они принадлежат? Телу? Тогда душа – лишь эпифеномен. Душе? Тогда она подвержена порче, и ее бессмертие – иллюзия. Или сложному целому? Но что это за целое и как оно составлено? Этот вопрос заставляет Плотина пересмотреть саму онтологию души.
Первое и ключевое открытие: душа не тождественна «бытию-в-качестве-души» акцидентально; она и есть это бытие. Это не качество, а сущность. Как сущность, она проста, самодостаточна и, следовательно, бесстрастна. Страсть предполагает изменение, недостаток, внешнее воздействие. Сущность же, по определению, есть то, что есть, и она не может стать иной, не уничтожившись. Поэтому страх, боль, вожделение – все это чуждо душе как таковой. Она может быть их причиной в ином, но не их субстратом. Это не этический постулат, а строгий логический вывод из понятия простой субстанции. Современный ум видит здесь предвосхищение трансцендентального субъекта Канта – чистого, неэмпирического «я мыслю», которое сопровождает все представления, но само не является объектом опыта и свободно от его содержаний.
Однако факт воплощенного страдания отрицать нельзя. Поэтому Плотин выстраивает второй, диалектический шаг: модель пользования телом как орудием. Душа – кормчий, тело – корабль. Повреждение корабля не есть повреждение кормчего. Но тут же возникает контрдовод: чтобы пользоваться орудием, нужно получать от него информацию. Так рождается концепция сложного живого существа (τὸ κοινὸν ζῷον). Это не просто тело + душа, а новое образование, «третий род», возникающий, когда душа, оставаясь собой, излучает в тело некий «свет» жизни, формируя оживленную природу. Именно это сложное существо, а не душа, является субъектом восприятия, боли, желания. Оно – продукт взаимодействия, интерфейс между чистым сознанием и материальным миром.
Этот ход мысли разрешает апорию, но порождает новую: двойственность «мы». В обыденном опыте «мы» отождествляем себя с этим сложным существом – его страхами, его радостями, его смертностью. Но в акте философской рефлексии, в моменте чистого мышления открывается иное «мы» – то, что созерцает эти страсти со стороны, бесстрастное и вечное. Плотин не просто констатирует эту двойственность; он устанавливает строгую иерархию. Эмпирическое «я» с его «львиными» страстями и «пестрыми» влечениями – это наше (ἡμέτερον), но не мы сами (οὐχ ἡμεῖς). Истинный человек (ὁ ἀληθὴς ἄνθρωπος) – это умопостигающая душа. Добродетели низшие (мужество, умеренность) принадлежат сложному существу; высшая же добродетель – мудрость (φρόνησις) – есть деятельность уже отделимой души.
Так Плотин приходит к своему этическому и сотериологическому выводу. Страдает и несет наказание в Аиде не душа, а ее отражение, «образ Главка», облепленный наростами опыта. Философия – это практика очищения (κάθαρσις), снятия этих наслоений через обращение (ἐπιστροφή) ума к самому себе. Цель – не улучшить животную жизнь, а осознать свою не-тождественность ей. Нисхождение души в тело – не грех, а необходимое следствие ее плодотворности, ее способности излучать жизнь. Грех – в обращении вовне, в отождествлении себя с этим излучением, а не с его источником.
Современное звучание этой схемы оглушительно. В эпоху нейронаук и редукционистской психологии плотиновский анализ предлагает мощный язык для сопротивления тотальному сведению сознания к мозговым процессам. Он напоминает, что вопрос «Что такое человек?» не решается через каталогизацию его реакций. Человек – это то, что ставит этот вопрос, и этот вопрошающий субъект не может быть полностью объективирован. Феноменология, экзистенциализм, некоторые направления философии сознания – все они сталкиваются с той же проблемой: как мыслить «я», которое одновременно является условием мира и частью этого мира. Плотин отвечает радикально: путем различения уровней бытия. Его учение – не бегство от реальности, а попытка найти внутри самой субъективности точку абсолютной опоры, неуязвимый архимедов рычаг для подъема к подлинному существованию. Страдание, заблуждение, смерть реальны, но они реальны для того, кем мы не являемся в своей глубочайшей сути. Осознать это – значит не отрицать трагедию эмпирической жизни, но обрести свободу внутри и вопреки ей. Философия, таким образом, становится актом предельного саморазличения, в котором человек вновь обретает свое божественное, неумирающее начало.
1. О природе живого существа и человека.
Исходный вопрос Плотина носит строго аналитический характер и направлен на установление онтологического статуса субъекта переживаний и познания. В центре внимания оказываются различные состояния, такие как удовольствия, страдания, страхи, смелость, желания и отвращения. Философ последовательно исследует, какому началу – душе, душе, пользующейся телом, или некоему третьему образованию, составленному из обоих – эти состояния могут быть приписаны. Этот вопрос не является отвлеченным, но ведет к фундаментальному определению сущности живого существа и, в частности, человека.
Плотин тщательно разбирает возможные варианты. Если принять третью возможность – составное существо, то и здесь требуется дальнейшее уточнение: представляет ли оно собой просто смешение (μῖγμα) двух природ или нечто новое, отличное от простой суммы частей, некую новую сущность (ἄλλο ἕτερον ἐκ τοῦ μίγματος). Этот логический ход демонстрирует метод восхождения от частных проявлений жизни к ее принципу. Вслед за анализом аффектов (παθήματα) он ставит под вопрос и природу действий, мнений, размышления (διάνοια) и собственно мнения (δόξα), которые либо происходят от того же субъекта, что и страсти, либо имеют иное происхождение. Критическому рассмотрению подлежат даже высшие познавательные акты – νοήσεις (умопостижения), а также само начало, которое осуществляет это исследование и выносит суждение – рефлектирующее сознание.
Логичным отправным пунктом для такого анализа Плотин избирает чувственное восприятие (αἴσθησις), поскольку страсти либо суть некоторые виды восприятия, либо не существуют без него. Этот выбор методологически важен: отправляясь от наиболее доступного и общего для всего живого опыта – способности ощущать, – можно постепенно восходить к более сложным и высшим способностям, выявляя их носителя. Таким образом, внутренняя логика трактата строится как движение от множественности конкретных психических феноменов к единству их источника, что является классическим примером применения платоновского метода сведения многого к единому. Современное звучание этого подхода заключается в его феноменологической строгости: прежде чем строить теории о сознании или душе, необходимо описать и классифицировать сами переживания и спросить о том, кому или чему они вообще принадлежат. Это вопрос о субъективности, которая предшествует любым ее конкретным содержаниям, оставаясь центральной проблемой как философии сознания, так и психологии.
2. О сущности души и ее свойствах.
Плотин переходит к тончайшему различению, имеющему ключевое значение для всей его метафизики: необходимо понять, тождественна ли душа (ψυχή) самому бытию-в-качестве-души (τὸ ψυχῇ εἶναι) или это разные вещи. Этот вопрос не является схоластическим; от его решения зависит, может ли душа как таковая быть подвержена аффектам и изменениям. Если душа есть нечто сложное, составленное из сущности и ее бытийной функции, то тогда допустимо, что страсти, худшие или лучшие состояния (ἕξεις καὶ διαθέσεις) принадлежат ей самой. Однако Плотин развивает альтернативную и, как очевидно из хода мысли, предпочтительную для него концепцию. Если душа тождественна чистому бытию-в-качестве-души, то она есть эйдос (εἶδός τι), определенная форма, непричастная (ἄδεκτον) всем тем активностям (ἐνεργειῶν), которые она производит в другом (ἄλλῳ), но обладающая собственной, сросшейся с ней (συμφυᾶ) внутренней энергией.
Из этого строгого определения следуют радикальные выводы о природе души, выстроенные с неумолимой логикой. Подлинное бессмертие (ἀθάνατον) и нетленность (ἄφθαρτον) требуют бесстрастности (ἀπαθές). Бесстрастное начало может быть активным, даруя себя иному (ἄλλῳ ἑαυτοῦ πως διδόν), но само оно не получает ничего от низшего, а лишь от высших, предшествующих ему принципов (παρὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ), от которых оно не отсечено. Далее Плотин последовательно отрицает возможность для такой сущности испытывать все перечисленные ранее состояния. Страх возможен лишь для того, что способно претерпевать (δύναται παθεῖν) извне; бесстрашное начало не нуждается и в смелости (θάρρος). Телесные желания (ἐπιθυμίαι) связаны с наполнением и опустошением тела, которое есть иное (ἄλλου), а не сама душа. Соитие и внесение чего-либо извне (ἐπεισαγωγὴ) были бы для простой сущности стремлением к не-бытию (εἰς τὸ μὴ εἶναι ὅ ἐστι). Боль и страдание еще более чужды ей, ибо простая, самодостаточная (αὔταρκες) сущность пребывает в своем собственном бытии. Удовольствие же предполагает прибавку некоего блага, но истинно сущее (ὃ γάρ ἐστιν) уже обладает им всегда.
Это рассуждение подводит к важному эпистемологическому ограничению: чистая душа не обладает ни чувственным восприятием (αἴσθησις), ни рассудком (διάνοια), ни мнением (δόξα). Восприятие есть принятие формы или страдания тела, а рассудок и мнение оперируют на основе восприятия. Таким образом, все эти способности принадлежат не душе самой по себе, а сложному живому существу. Остается открытым вопрос об умопостижении (νοήσις) и чистом, не телесном удовольствии (ἡδονὴ καθαρᾶς): могут ли они быть атрибутами обособленной души? Этому будет посвящено дальнейшее исследование. Внутренняя логика аргументации здесь очевидна: Плотин очищает понятие души от всех атрибутов, связанных с телом, временем и становлением, чтобы утвердить ее как вечный, простой и самотождественный эйдетический принцип жизни. Современное звучание этого пассача – в радикальном разделении между феноменальным, эмпирическим субъектом переживаний и трансцендентальным основанием сознания, которое само по себе не является объектом опыта и свободно от его содержаний, оставаясь условием их возможности.
3. О взаимоотношении души и тела.
Плотин вновь обращается к изначальной проблеме, но теперь в рамках конкретного условия: душа помещена в тело, и из их соединения образуется живое существо (ζῶιον τὸ σύμπαν). Это допущение порождает новый круг вопросов, требующих согласования с ранее установленными свойствами чистой души. Развивая важную платоническую метафору, Плотин рассматривает душу как пользующуюся телом как орудием (ὄργανον). Эта модель имеет ключевое следствие: ремесленник не принимает на себя повреждения своего инструмента. Следовательно, душа не должна с необходимостью принимать страдания (παθήματα), возникающие в теле.
Однако модель орудия немедленно сталкивается с необходимостью объяснить генезис опыта. Если душе надлежит пользоваться телом, она должна как-то узнавать о его состояниях, чтобы адекватно им реагировать. Отсюда признается, по-видимому, с необходимостью, существование восприятия (αἴσθησις), которое позволяет душе-пользователю познавать внешние воздействия. Пользование глазами, по сути, и есть зрение. Но если инструмент поврежден, это может повлиять на саму способность им пользоваться. Таким образом, через связь с поврежденным органом к душе могут приходить боль, страдание и – косвенно – желания, направленные на лечение инструмента. Здесь Плотин нащупывает границу между бесстрастной сущностью и ее вовлеченностью в управление изменчивым телом.
Далее философ ставит принципиальный метафизический вопрос: каким вообще образом телесные состояния (πάθη) могут передаваться бестелесной душе? Тело может сообщать что-то другому телу, но каков механизм передачи от тела к душе? Это было бы равносильно тому, чтобы страдание одного субъекта вызывало страдание в совершенно ином субъекте. Плотин фиксирует здесь фундаментальную трудность психофизической проблемы: как непространственное, бескачественное сознание может взаимодействовать с протяженной, качественной материей?
Это затруднение заставляет философа пересмотреть первоначальную модель чистого пользования, предполагающую полную раздельность пользователя и орудия. До философского разделения, в обыденном состоянии, душа и тело каким-то образом смешаны. Плотин перечисляет возможные типы этого смешения: это может быть полное слияние (κρᾶσίς), взаимопроникновение (διαπλακεῖσα), неотделимая форма (εἶδος οὐ κεχωρισμένον), соприкасающаяся форма (εἶδος ἐφαπτόμενον) – подобно кормчему на корабле, – или, наконец, душа может быть представлена в двух аспектах. Именно последний вариант, судя по дальнейшему, кажется Плотину наиболее продуктивным. Часть души, собственно пользующаяся начало (τὸ χρώμενον), остается отделенной, в то время как другая часть оказывается смешанной (μεμιγμένον) с телом, будучи помещенной в порядок того, чем пользуются. Задача философии – повернуть эту смешанную часть к отделенной, высшей части (ἐπιστρέφῃ πρὸς τὸ χρώμενον) и отвести саму отделенную часть, насколько это возможно, от тела, чтобы она не была вынуждена постоянно им пользоваться.
Таким образом, внутренняя логика рассуждения ведет от жесткой дихотомии к более гибкой иерархической модели. Душа не едина в своем отношении к телу: в ней есть высший, непричастный страданию полюс и низший, вовлеченный в управление и, следовательно, в потенциальную аффектацию полюс. Современное звучание этой схемы заключается в попытке разрешить парадокс сознания: как тождественное, чистое «Я» может одновременно быть источником сознательной жизни и подвергаться влиянию физических процессов? Ответ Плотина – в раздвоении субъекта на трансцендентальное эго и эмпирическое, воплощенное сознание, где первое сохраняет свою чистоту, а второе служит медиатором между миром идей и миром становления. Философская практика есть процесс внутренней дифференциации и воссоединения с самим собой.
4 Об анализе смешения души и тела.
Продолжая анализ гипотезы о смешении (μεμῖχθαι) души и тела, Плотин подвергает ее строгой критике, выявляя внутренние противоречия и отстаивая онтологический приоритет души. Если допустить такое смешение, то возникает парадоксальный обмен свойствами: худшее, тело, становится лучше, получив участие в жизни, а лучшее, душа, становится хуже, приобщившись смерти и неразумия. Этот тезис – не просто риторика, а логическое следствие допущения равноправного смешения двух разнородных природ. Для Плотина неприемлема сама идея, что бестелесная и вечная причина может ухудшиться от соединения со своим следствием. Возникает и конкретный вопрос: каким образом тело, лишенное жизни, могло бы получить в качестве добавки способность чувствовать? Напротив, более последовательным кажется вывод, что именно тело, получив жизнь, становится тем субъектом, который причастен восприятию и сопутствующим ему аффектам.
Следуя этой логике, именно тело – как оживленное и оформленное начало – будет желать, наслаждаться, бояться за себя, испытывать лишения и подвергаться разрушению. Однако признание этого факта не отменяет необходимости исследовать сам способ предполагаемого смешения. Плотин сомневается в самой его возможности, проводя аналогию с невозможностью смешения белизны и линии – двух разнородных природ. Даже если принять образ взаимопроникновения (διαπλακεῖσα), он не ведет к уподоблению состояний проникшихся друг в друга начал. То, что проникло, может оставаться бесстрастным (ἀπαθὲς), и душа, пронизывающая тело, может не страдать от его состояний, подобно тому как свет, наполняющий воздух, не загрязняется им, особенно если это проникновение является полным. Следовательно, сам факт взаимопроникновения еще не означает, что душа претерпевает телесные страдания.
Плотин далее анализирует альтернативную модель – душу как форму в материи (εἶδος ἐν ὕλῃ). Он сразу же оговаривает, что если душа есть сущность (οὐσία), то это форма отделимая (χωριστὸν εἶδος), что скорее возвращает нас к модели пользующегося начала. Если же уподобить ее форме, как форме топора на железе, то действия сложного целого – топора – определяются именно железом, обладающим такой-то формой. По аналогии, телесным страстям (πάθη) следует приписать телу, но телу особого рода – природному, организованному, потенциально обладающему жизнью (φυσικῶι, ὀργανικῶι, δυνάμει ζωὴν ἔχοντι). Именно это оживленное тело, живое существо (τὸ ζῶιον), а не душа сама по себе, является подлинным субъектом ткачества, желаний и страданий. Таким образом, через последовательную критику моделей смешения Плотин не просто отрицает их, но уточняет онтологическую карту: между чистой, бесстрастной душой и инертным телом существует опосредующее звено – одушевленное тело как целое, которое и является носителем эмпирической жизни и аффектов. Эта реконструкция позволяет сохранить трансцендентность души, объясняя при этом факты воплощенного опыта. Современный резонанс этого хода мысли – в различении между сознанием как чистой функцией и личностью как психофизическим комплексом, где аффекты и восприятия возникают на уровне целостного организма, а не как свойства невещественного «я».
5. О субъекте переживаний: живое существо, сложное целое или нечто третье?
Плотин систематизирует возможные ответы на центральный вопрос: что является субъектом аффектов и восприятия? Это может быть либо само живое существо (τὸ ζῶιον), либо тело определенного вида (τὸ σῶμα τὸ τοιόνδε), либо общее целое (τὸ κοινόν), либо некое третье (ἕτερόν τι τρίτον), возникшее из обоих. Независимо от выбора, перед мыслью встает фундаментальная дилемма: следует ли сохранять душу бесстрастной, признавая ее лишь причиной (αἰτίαν) таких состояний в ином, или же она должна разделять страдания (συμπάσχειν)? И если разделяет, то претерпевает ли она то же самое страдание (ταὐτὸν πάθημα) или же нечто подобное (ὅμοιόν τι), например, живое существо желает одним образом, а вожделеющее начало в нем действует или страдает другим?
Философ оставляет вопрос о теле особого вида для последующего рассмотрения, сосредотачиваясь на сложном целом. Как возможно, чтобы оно, например, страдало? Один из возможных путей – физиологический: тело определенным образом расположено, страдание доходит до уровня ощущения, и это ощущение завершается в душе. Однако сам механизм ощущения (αἴσθησις) все еще неясен. Другой путь – психологический: страдание может брать начало от мнения (δόξα) и суждения (κρίσις) о наличии зла для самого себя или близких, и уже отсюда печальное изменение передается телу и всему живому существу. Но и здесь возникает вопрос о субъекте мнения: души или сложного целого? Более того, само мнение о зле не содержит аффекта страдания; возможно иметь такое мнение, но не испытывать страдания, так же как мнение о пренебрежении не обязательно ведет к гневу, а мнение о благе – к желанию.
Это приводит к ключевому вопросу: как тогда эти состояния могут быть общими (κοινὰ) для составного существа? Возможно, в том смысле, что желание принадлежит желательному началу, гнев – гневливому, и вообще устремленность к чему-либо есть исступление (ἔκστασις) желающего начала. Однако при таком подходе они уже не будут общими, а окажутся принадлежностью одной только души. Или же они общи, потому что требуют участия тела: необходимо, чтобы кровь и желчь вскипели и тело определенным образом настроилось, чтобы возбудить желание, как в случае вожделений. Но желание блага, напротив, можно считать не общим аффектом, а принадлежащим лишь душе – как и многие другие состояния, и не все явления следует приписывать сложному целому.
Плотин подводит к парадоксу двойного субъекта. Когда человек желает чувственных удовольствий, желающим будет человек (ἄνθρωπος), но иначе (ἄλλως) будет желать и само желательное начало (τὸ ἐπιθυμητικόν). Как это возможно? Начинает ли человек желание, а желательное начало следует за ним? Но как человек вообще мог бы возжелать, если бы желательное начало не было приведено в движение? Значит, оно и начинает. Однако как желательное начало может начать, если тело не было предварительно расположено определенным образом? Здесь обнаруживается круговая зависимость, раскрывающая сложную природу составного субъекта: телесное расположение может пробуждать низшую часть души, а ее движение, в свою очередь, осознается как желание целостного «я». Внутренняя логика анализа ведет к признанию иерархической и функциональной дифференциации внутри живого существа, где аффекты рождаются на стыке телесного состояния и соответствующей душевной способности. Современное звучание этого рассуждения – в проблеме психофизического взаимодействия и в дискуссиях между когнитивными и аффективными теориями эмоций, где эмоция понимается не как простое ощущение, а как комплекс, включающий телесное возбуждение, когнитивную оценку и осознанное переживание, которые могут иметь разные, хотя и взаимосвязанные, источники.
6. О принципе присутствия способностей и природе восприятия.
Стремясь разрешить апории взаимодействия, Плотин предлагает более изощренную и универсальную (καθόλου) модель. Суть ее в том, что способности (δυνάμεις) души присутствуют (παρεῖναι) в их носителях, и именно носители (τὰ ἔχοντα) действуют (τὰ ἐνεργοῦντα) в соответствии с этими способностями. Сами же способности, а следовательно, и душа как их источник, остаются неподвижными (ἀκινήτους), лишь предоставляя возможность (τὸ δύνασθαι) тем, кто их имеет. Этот принцип можно рассматривать как метафизическое обоснование отношения причины и следствия: причина, оставаясь в себе неизменной, порождает активность в ином.
Если принять эту модель, то следствия проясняются. Когда живое существо страдает, душа как причина жизни, отданная сложному целому (τῷ συναμφοτέρῳ), остается бесстрастной (ἀπαθῆ) по отношению к страданиям и действиям своего обладателя. Однако это порождает новый вопрос: не означает ли это, что и сама жизнь в целом (τὸ ζῆν ὅλως) принадлежит не душе, а сложному целому? Плотин уточняет: жизнь сложного целого действительно будет происходить не от души в смысле ее собственного акта, но благодаря душе. Подобным образом, чувствующая способность (δύναμις ἡ αἰσθητικὴ) не будет ощущать сама по себе; ощущает тот, кто обладает этой способностью.
Но как тогда согласовать это с фактом переживания? Если восприятие (αἴσθησις) есть движение через тело, завершающееся в душе (εἰς ψυχὴν τελευτᾷ), как душа может не ощущать? Плотин находит выход в различении: душа будет ощущать постольку, поскольку чувствующая способность присутствует в сложном целом (τῆς δυνάμεως τῆς αἰσθητικῆς παρούσης). Присутствие способности – это условие возможности ощущения для носителя. Тогда что именно ощущается? Ощущает сложное целое (τὸ συναμφότερον). Однако здесь возникает последний логический контрольный вопрос: если способность сама не движется (μὴ κινήσεται), то как сложное целое может ощущать, если душа или душевная способность не включены в состав этого действующего целого (μὴ συναριθμουμένης)? Иными словами, если способность абсолютно трансцендентна и не участвует в акте, она не может быть частью объяснения этого акта. Этот вопрос указывает на пределы модели чистого присутствия и подготавливает почву для дальнейшего различения уровней души. Внутренняя логика Плотина ведет к необходимости разграничить душевный принцип как таковой и его воплощенную энергию, которая уже имманентна живому существу. Современный резонанс этой дискуссии виден в спорах о природе ментальной каузальности: как непротяженное сознание или информационное содержание может быть причиной физических событий? Ответ, подобный плотиновскому, часто заключается в различении между каузальной замкнутостью физического мира и каузальной действенностью ментального как реализующегося через физические механизмы, которые оно организует, но не нарушая их законов.
7. О сложном целом, истинном человеке и иерархии субъективности.
Для преодоления тупика чисто трансцендентной модели Плотин предлагает более динамичную и эманационную концепцию формирования живого существа. Сложное целое (τὸ συναμφότερον) возникает не потому, что душа отдает себя в его состав, а потому, что она, присутствуя (τῷ παρεῖναι), творит (ποιούσης) из определенного тела и некоего подобия света (οἷον φωτὸς), исходящего от нее, иную природу – природу живого существа (τὴν τοῦ ζώιου φύσιν). Это новое образование (ἕτερόν τι) и является субъектом восприятия (τὸ αἰσθάνεσθαι) и всех прочих аффектов, свойственных животному. Таким образом, между чистой душой и инертным телом возникает опосредующая реальность – одушевленный организм, который и есть непосредственный носитель эмпирического опыта.
Отсюда следует ответ на вопрос «как мы ощущаем?». Мы ощущаем постольку, поскольку не отделены (οὐκ ἀπηλλάγημεν) от такого живого существа. В состав нашей целостной сущности человека (ὅλην ἀνθρώπου οὐσίαν), сложенной из многих частей, входит и это животное начало. Однако способность души к восприятию (τὴν τῆς ψυχῆς τοῦ αἰσθάνεσθαι δύναμιν) должна пониматься иначе. Ее объект – не чувственные вещи сами по себе, а скорее отпечатки (τύπων), возникающие в живом существе в результате восприятия. Эти отпечатки уже принадлежат умопостигаемому порядку (νοητὰ γὰρ ἤδη ταῦτα). Внешнее чувство (ἡ αἴσθησις ἡ ἔξω) оказывается лишь образом (εἴδωλον) этой внутренней, высшей способности, которая, будучи истиннее по своей сути (ἀληθεστέρα τῇ οὐσίᾳ), есть бесстрастное созерцание (ἀπαθῶς εἶναι θεωρίαν) одних только форм (εἰδῶν).
Именно с этих внутренних форм, которые душа, уже как руководящее начало (ἡγεμονίαν), принимает, берут начало рассудочная деятельность (διάνοιαι), мнения (δόξαι) и умопостижения (νοήσεις). И здесь, в этой сфере, пребываем мы в наибольшей степени (ἔνθα δὴ ἡμεῖς μάλιστα). Все, что ниже этого, – наше (ἡμέτερα) лишь в том смысле, что принадлежит нашему составу, но истинное «мы» (ἡμεῖς) – это то, что, начиная отсюда, стоит выше животного (τὸ ἐντεῦθεν ἄνω ἐφεστηκότες τῷ ζῴῳ). Ничто не мешает, заключает Плотин, называть целостным существом (τὸ σύμπαν ζῷον) это смешение (μικτὸν) низших частей, тогда как истинный человек (ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθὴς) – это, собственно, то, что отсюда и выше. Низшие же части – это «львиное» и «пестрое» начало, то есть вообще животное (θηρίον) в человеке.
Поскольку человек сопутствует (συνδρόμου) разумной душе, когда мы рассуждаем (ὅταν λογιζώμεθα), это мы рассуждаем, ибо акты рассуждения (λογισμοὺς) суть деятельности (ἐνεργήματα) души. Так завершается ход мысли: через различение уровней в составе человека Плотин локализует подлинное тождество личности в высшей, интеллектуальной деятельности души, которая пользуется низшими способностями и одушевленным телом как инструментами, не смешиваясь с ними. Внутренняя логика этого построения ведет от множественности эмпирических функций к единству трансцендентального субъекта. Современное звучание этого учения – в постоянной философской и психологической проблеме самоидентификации: где находится «подлинное Я» – в потоке ощущений и эмоций или в рефлексивном, рациональном сознании? Плотин дает иерархический ответ: «Я» есть прежде всего мыслящее и созерцающее начало, которое, хотя и связано с животной природой, не сводится к ней и способно подняться над ее страстями.
8. О соотношении с умом и божественным принципом.
Рассмотрев природу души и сложного живого существа, Плотин восходит к высшим принципам – уму (νοῦς) и божественному (τὸν θεόν). Он проводит важное терминологическое различение: речь идет не об уме как расположении (ἕξις), которым обладает душа и который происходит от Ума, а о самом Уме как самостоятельной ипостаси. Каково же наше отношение к нему? Мы «имеем» (ἔχομεν) и его, но – превыше нас (ὑπεράνω ἡμῶν). Это обладание парадоксально: оно и общее (κοινὸν), и собственное (ἴδιον). Общее – потому что Ум неделим (ἀμέριστος), един (εἷς) и тождественен повсюду (πανταχοῦ ὁ αὐτός). Собственное – потому что каждый из нас имеет его целиком (ὅλον) в первой душе, то есть в высшей, ближайшей к Уму части своей души.
Это влечет за собой различие в способе обладания формами (εἴδη). В душе они существуют как бы развернутыми (ἀνειλιγμένα) и разделенными, в то время как в Уме все они пребывают вместе (ὁμοῦ τὰ πάνта). Здесь Плотин намечает эпистемологическую иерархию: дискурсивное мышление души работает с последовательностью отдельных понятий, тогда как интеллектуальное созерцание схватывает целокупность сущего в едином акте.
Затем философ ставит вопрос о божественном принципе (Едином, или Благе). Он описывает его как «восседающего» (ὡς ἐποχούμενον) на умопостигаемой природе и подлинной сущности. Мы же оказываемся «третьими оттуда»: первое – нераздельное начало свыше (Единое), второе – разделяющееся около тел начало (душа), и мы – сложное существо, возникающее от соединения обеих. Душа становится «раздельной около тел» (περὶ τὰ σώματα μεριστὴν) не в том смысле, что она дробится, а в том, что она отдает себя величинам тел (διδωσιν ἑαυτὴν τοῖς σώματος μεγέθεσιν), оживляя каждое живое существо, оставаясь при этом единой – подобно тому как она оживляет и вселенную в целом. Или, как поясняет другая яркая метафора, она присутствует в телах не прямо, а как образ, отражающийся во многих зеркалах: она сияет (ἐλλάμπουσα) в тела, творя живые существа, но не состоит из себя и тела, а, оставаясь самой собой (μένονσα μὲν αὐτή), дает свои отражения (εἴδωλα δὲ αὐτῆς διδοῦσα).
Из этой модели проистекает вся иерархия психических функций. Первым и самым внешним отражением (πρῶτον δὲ εἴδωλον) является чувственное восприятие, принадлежащее сложному целому. От него, в свою очередь, происходит всякая другая форма душевной деятельности (πᾶν ἄλλο εἶδος λέγεται ψυχῆς), причем каждая возникает из предыдущей (ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου ἀεί). Эта цепь отражений нисходит вплоть до порождающей, питающей и вообще производящей способности (γεννητικοῦ καὶ αὐξήσεως καὶ ὅλως ποιήσεως), которая творит уже иное, отличное от самой творящей души. Это творчество происходит, когда сама творящая душа обращена (ἐπεστραμμένης) к своему произведению. Таким образом, внутренняя логика всего трактата обретает завершение: от анализа единичного аффекта мы поднялись к системе мира, где все эмпирические функции человека суть удаляющиеся отблески единого, нераздельного и бесстрастного источника – души, которая, в свою очередь, является отражением Ума и, в конечном счете, Единого. Современное звучание этой концепции – в идее эманации сознания: от чистого, безобъектного сознания (аналог Единого) через интеллектуальное самосознание (Ум) и индивидуальную психическую организацию (Душа) к конкретному, воплощенному субъекту опыта, где каждый уровень представляет собой как бы особый модус или «отзеркаливание» высшей реальности. Это предлагает метафизическое решение проблемы единства и множественности в психической жизни.
9. О безвинности высшей души и источнике заблуждения.
Итоговый вывод (ἔσται τοίνυν) гласит: наша природа, относящаяся к высшей, истинной душе (ἐκείνης τῆς ψυχῆς), свободна от ответственности (ἀπηλλαγμένη αἰτίας) за зло, которое человек творит и претерпевает. Все это происходит вокруг живого существа, сложного целого (περὶ γὰρ τὸ ζῷον, τὸ κοινόν) и является его общим делом, как уже было сказано. Однако возникает возражение: если мнение (δόξα) и рассудок (διάνοια) принадлежат душе, как она может быть безошибочной (ἀναμάρτητος)? Ведь ложное мнение и многие дурные поступки совершаются именно согласно ему.
Плотин дает тонкий ответ, развивающий его учение о множественности «я». Злые поступки совершаются, когда мы, как сложные существа (πολλὰ γὰρ ἡμεῖς), оказываемся побеждены (ἡττωμένων) худшей частью – будь то вожделение, гнев или дурное подобие (εἴδωλον). Ложное же мышление (ἡ δὲ τῶν ψευδῶν λεγομένη διάνοια) – это, по сути, фантазия (φαντασία), которая не дождалась суждения (κρίσιν) собственно рассудочной способности. Мы действуем, подчинившись худшему, подобно тому как в восприятии общее чувство (τῇ κοινῇ αἰσθήσει) может видеть ложное, прежде чем рассудок вынесет решение. Что же касается ума (νοῦς), то он либо коснулся истины, либо нет, и в этом смысле он безошибочен. Или, точнее, следует сказать, что мы либо коснулись (ἐφηψάμεθα) умопостигаемого в уме, либо нет, – но это уже касается ума, пребывающего в нас (τοῦ ἐν ἡμῖν), ибо возможно и обладать им, и не иметь его под рукой (μὴ πρόχειρον ἔχειν).
Таким образом, мы провели разделение (διείλομεν) между общим и собственным. Общим является все телесное и не существующее без тела. Собственным же души является то, что не нуждается в теле для своей деятельности (εἰς ἐνέργειαν). К этому собственному относится и рассудок (διάνοια), который, производя оценку (ἐπίκρισιν) чувственных отпечатков (τύπων), созерцает уже формы (εἴδη) и созерцает их как бы с непосредственной ясностью (οἷον συναισθήσει), – это и есть собственно рассудок истинной души. Истинный рассудок есть деятельность умопостижений (νοήσεων ἐνέργεια), и часто он есть подобие и общение (ὁμοιότης καὶ κοινωνία) внешнего с внутренним.
Следовательно, душа сама по себе (πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἐν ἑαυτῇ) будет пребывать в полном покое (ἀτρεμήσει). Все же перемены, смятение и шум (τροπαὶ καὶ ὁ θόρυβος) происходят в нас от привходящих элементов и от страстей (παθημάτων) сложного целого, каким бы оно ни было. Внутренняя логика всего трактата находит здесь свое завершение: через скрупулезный анализ составного субъекта Плотин не только отделяет вечную, бесстрастную сущность человека от преходящих аффектов, но и снимает с высшего начала ответственность за зло, локализуя его источник в неупорядоченном взаимодействии низших частей сложного живого существа. Современное звучание этого заключения – в экзистенциальном и этическом различении между подлинным «Я» как свободным, ответственным умопостигающим центром и эмпирической личностью как продуктом биологических, социальных и бессознательных сил. Это различение лежит в основе многих концепций духовного освобождения и этики, утверждающих возможность и необходимость обращения к высшему в себе вопреки хаосу страстей и внешних обстоятельств.
10. О двойственности «мы» и природе истинного человека.
Возникает последний, кажущийся неразрешимым парадокс: если мы – это душа (εἰ ἡμεῖς ἡ ψυχή), и эти страдания претерпеваем мы, то выходит, что их претерпевает именно душа, и она же совершает наши поступки. Однако это противоречит всему предыдущему анализу. Для разрешения этого противоречия Плотин возвращается к уже намеченной концепции множественности субъекта. Он напоминает, что сложное целое (τὸ κοινόν) также названо нашим (ἡμῶν), особенно когда мы еще не отделены от него философски. В обыденной речи мы говорим: «мы страдаем» от того, что страдает наше тело. Следовательно, понятие «мы» двусмысленно (διττὸν οὖν τὸ ἡμεῖς).
Одно «мы» включает в счет (συναριθμουμένου) животное начало (τοῦ θηρίου), то есть оживленное тело (ζῳωθὲν τὸ σῶμα). Другое «мы» – это то, что уже выше этого (τὸ ὑπὲρ τοῦτο ἤδη). Истинный же человек (ὁ ἀληθὴς ἄνθρωπος) – иной, чистый от всего этого, обладающий добродетелями, которые суть в умопостижении (ἀρετὰς τὰς ἐν νοήσει). Эти добродетели укоренены в самой отделяемой душе (ἐν αὐτῇ τῇ χωριζομένῃ ψυχῇ), которая, даже будучи еще здесь, уже отделима (χωριστῇ). Более того, когда эта душа окончательно отступает (ὅταν αὕτη παντάπασιν ἀποστῇ), тогда и сияние, исходящее от нее (ἡ ἀπ᾽ αὐτῆς ἐλλαμφθεῖσα), удаляется вместе с ней. Это ясно указывает на то, что жизнь и сознание сложного целого всецело зависят от присутствия высшей души.
Далее следует важное этическое различение. Добродетели, возникающие не от разумения (φρονήσει), а от привычек (ἔθεσι) и упражнений (ἀσκήσεσι), принадлежат сложному целому. Ибо ему же принадлежат и пороки (κακίαι) – зависть, ревность, жалость. Даже дружба (Φιλίαι) двояка: одна – дружба сложного целого, другая – дружба внутреннего человека (τοῦ ἔνδον ἀνθρώπου).
Таким образом, внутренняя логика всего трактата получает завершение в строгой иерархии идентичностей. Эмпирическое «я», погруженное в мир страстей, аффектов и социальных связей, оказывается производным образованием – «животным», озаренным светом души. Подлинное же «я», тождественное высшей душе, есть умопостигающий, бесстрастный и вечный принцип, чья добродетель есть чистая интеллектуальная деятельность. Страдает, желает, заблуждается и умирает не оно, а сложное существо, с которым оно временно связано. Современное звучание этого вывода чрезвычайно сильно: оно говорит о фундаментальном раздвоении человеческого существования между эмпирической, психофизической личностью и трансцендентальным субъектом, или, в экзистенциальных терминах, между «inauthentic» и «authentic self». Этика, основанная на таком различении, призывает не к улучшению низшей природы, но к отождествлению себя с высшим, истинным началом, к «обращению» (ἐπιστροφή) души к самой себе и к Уму.
11. О стадиях развития, активности и природе животных.
Для полноты картины Плотин рассматривает крайние случаи и особые состояния, что позволяет уточнить его теорию. Он начинает с детей (παίδων): в них активно (ἐνεργεῖ) прежде всего то, что исходит из сложного целого (ἐκ τοῦ συνθέτου), то есть природные влечения и восприятия. От высших начал (ἐκ τῶν ἄνω) в них светит лишь немногое. Это указывает на эволюционный аспект: становление личности – это процесс нисхождения активности от высшего «я» к вовлеченности в эмпирическое существование.
Далее рассматривается важный принцип распределения внимания и энергии. Когда активность отдыхает (ἀργῇ) от нас, то есть от уровня сложного целого, она действует в направлении высшего (πρὸς τὸ ἄνω). Напротив, она действует «в нас» (εἰς ἡμᾶς), когда доходит до середины (μέχρι τοῦ μέσου). Этот «серединный» уровень, по-видимому, и есть уровень души как управляющего принципа живого существа, где происходит встреча высшего и низшего. Возникает вопрос: разве мы не существуем и до этого вовлечения? Плотин дает ключевой эпистемологический ответ: для использования того, что мы имеем, необходимо осознание (ἀντίληψιν δεῖ γενέσθαι). Не всем, чем мы обладаем (ἔχομεν), мы пользуемся (χρώμεθα) постоянно, а лишь тем, что мы приводим из потенции (δυνάμεως) или расположения (ἕξεως) в актуальность (ἐνέργειαν), ориентируя среднее начало либо к высшему, либо к противоположному.
Наконец, Плотин обращается к загадке животных (τὰ θηρία). Как устроено их живое существо (τὸ ζῷον)? Если в них есть человеческие души, как иногда говорят (например, в теориях метемпсихоза), которые согрешили, то это падение относится не к животному как таковому, а к отделимой части (ὅσον χωριστόν) души. Эта часть, хотя и присутствует, не присутствует для них актуально (παρὸν οὐ πάρεστιν αὐτοῖς): их самосознание (ἡ συναίσθησις) имеет лишь отражение души (τὸ τῆς ψυχῆς εἴδωλον) вместе с телом. Их тело таково, что оформлено отражением души. Если же в него не вселилась человеческая душа, то такое животное возникло благодаря сиянию (ἐλλάμψει) от мировой души (τῆς ὅλης). Таким образом, различие между человеком и животным заключается не в наличии жизни как таковой, а в степени и способе присутствия высшей, разумной и самотождественной души. Внутренняя логика рассуждения требует иерархии одушевления: от чистой человеческой души, через ее ослабленные отражения в животных, до простейших жизненных функций. Современный резонанс этой идеи – в спорах о природе сознания у животных и о критериях личности; Плотин предлагает не биологический, а метафизический и аксиологический критерий, где подлинная субъективность связана со способностью к рефлексии и умопостижению, которой лишены существа, живущие лишь «идолом» души.
12. О согласовании учения о безвинности души с традицией о воздаянии.
Заключительный пассаж трактата обращен к возможному возражению, вытекающему из платоновской традиции. Если душа безвинна (ἀναμάρτητος), то каким образом возможны суды, наказания, пребывание в Аиде и переселения в другие тела (μετενσωματοῦσθαι), о которых говорят многие учения, включая мифы и диалоги Платона? Этот вопрос ставит под сомнение внутреннюю согласованность (ἀσυμφωνεῖ παντὶ λόγῳ) всей проведенной Плотином аналитики.
Философ предлагает стратегию согласования (ἐξεύροι καὶ ὅπῃ μὴ μαχοῦνται). Различие, по его мнению, кроется в том, какой аспект души рассматривается. Логический аргумент, дарующий душе безошибочность, рассматривает ее как нечто простое и единое (ἓν ἁπλοῦν πάντη), отождествляя душу с самим бытием-в-качестве-души. Тот же аргумент, который допускает ее грех, связывает и присоединяет к ней (συμπλέκει καὶ προστίθησιν) иной вид души (ἄλλο ψυχῆς εἶδος), содержащий в себе ужасные страсти. В результате душа сама становится сложной (σύνθετος), и страдает, и ошибается именно это сложное образование. И воздает – это оно (τὸ διδὸν δίκην αὐτῷ), а не та простая сущность.
Для иллюстрации Плотин прибегает к знаменитому платоновскому образу из «Государства»: мы видим душу, как видят морского Главка, облепленного ракушками и водорослями. Чтобы увидеть ее природу, необходимо очистить (περικρούσαντας) все наносное с помощью философии и увидеть, чего она касается и с чем родственна по своей сути. Таким образом, иная жизнь, иные деятельности и иной субъект наказания (τὸ κολαζόμενον ἕτερον). Отступление и отделение (ἀναχώρησις καὶ ὁ χωρισμός) есть отделение не только от этого тела, но и от всего присоединенного. Это присоединение происходит уже при возникновении в мир (ἐν τῇ γενέσει). Можно сказать, что само возникновение есть возникновение иного вида души.
Возникает тогда ключевой вопрос: если нисхождение (καταβαίνουσα, νεύσις) души порождает это отражение, то не является ли само это нисхождение грехом? Плотин дает принципиальный ответ: если нисхождение есть озарение (ἔλλαμψις) низшего, то это не грех, как не грех и отбрасывание тени. Причина – в самом освещаемом предмете: если бы его не было, свету негде было бы сиять. Поэтому говорят, что душа «нисходит» и «склоняется», поскольку с ней срослось (συνεζηκέναι) озаренное ею начало. Она оставляет свое отражение (εἴδωλον), если нет рядом приемлющего тела, и оставляет его не путем отсечения, а тем, что оно перестает быть, когда вся она обращает взор (ἐὰν ἐκεῖ βλέπῃ ὅλη) ввысь.
В заключение Плотин приводит поэтический пример Гомера, который, по его мнению, интуитивно следовал этой двойственной логике: в «Одиссее» в Аиде находится образ (εἴδωλον) Геракла, в то время как сам он – среди богов. Поэт, будучи связан обоими логосами (и о пребывании среди богов, и о пребывании в Аиде), разделил (ἐμέρισε) его. Вероятное истолкование этого, по Плотину, таково: поскольку Геракл обладал практической добродетелью и был удостоен за свою доблесть стать богом, но, будучи практиком, а не созерцателем, он не смог подняться целиком; потому часть его (ἔτι ἐστί τι αὐτοῦ) осталась внизу.
Внутренняя логика всего трактата обретает в этом пассаже окончательное единство. Метафизическая антропология, аналитическая психология и традиционная эсхатология согласуются через учение о сложной природе эмпирического субъекта. Страдает, судится и перевоплощается не бессмертная и простая душа, а ее временное, сложное порождение – «живое существо». Философия же есть практика очищения и возвращения к себе, в котором это временное образование постепенно упраздняется, уступая место чистому, божественному «я». Современное звучание этого заключения – в психотерапевтической и духовной практике, где целью является не сублимация или улучшение травмированного эго, а достижение состояния «свидетеля», отождествление с тем в себе, что никогда не было ранено и не совершало ошибок.
13. О субъекте философского исследования и природе мышления.
Финальный вопрос трактата возвращает к его началу, но уже на новом уровне: кто или что осуществляло это исследование (τὸ ἐπισκεψάμενον) – мы или душа? Ответ уточняет всю предшествующую иерархию: мы (ἡμεῖς), но с помощью души (ἀλλὰ τῇ ψυχῇ). Однако выражение «с помощью души» требует прояснения: означает ли это, что мы исследовали, обладая душой (τῷ ἔχειν), или же поскольку мы и есть душа (ἧι ψυχή)? Плотин склоняется ко второму: исследование совершается именно поскольку мы суть душа в ее высшем аспекте.
Следует ли тогда допустить, что душа движется (κινήσεται) в этом акте? Плотин соглашается, но с оговоркой: такому движению должно быть даровано особое качество. Это движение не телесное (μὴ σωμάτων), но является самой ее жизнью (ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτῆς ζωή). Таким образом, интеллектуальная деятельность души есть не внешнее изменение, а внутренняя, имманентная ей энергия, сущностное проявление ее бытия.
Это приводит к заключительному утверждению о природе нашего мышления (νόησις). Оно возможно именно потому, что душа умопостигающа (νοερὰ ἡ ψυχὴ) и мышление есть жизнь более высокая (ζωὴ κρείττων), чем просто растительная или чувственная. Мы мыслим в двух модусах: когда душа сама мыслит (ὅταν ψυχὴ νοῇ) и когда ум (νοῦς) действует в нас (ὅταν νοῦς ἐνεργῇ εἰς ἡμᾶς). Ибо ум также является частью нас (μέρος γὰρ καὶ οὗτος ἡμῶν), и к нему мы восходим (πρὸς τοῦτον ἄνιμεν). В этой краткой формуле выражен итог всего трактата: сложное человеческое существо («мы») способно к философскому исследованию и умопостижению потому, что его высшая часть тождественна мыслящей душе, которая, в свою очередь, причастна и восходит к Уму. Подлинное «мы» раскрывается не в пассивном страдании, а в активном, бесстрастном движении мысли, которое есть сама жизнь истинного субъекта. Современное звучание этого заключения – в утверждении познания как способа бытия, а не просто как инструментального акта: философское вопрошание есть одновременно акт самораскрытия и само-преодоления, в котором эмпирическое «я» трансцендируется к своему собственному умопостигаемому основанию.
Второй тракта
.
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ.
Этика как онтологическое возвращение: добродетель и уподобление божественному у Плотина.
В основе второго трактата Шестой Эннеады Плотина лежит не просто нравственное учение, а целостная метафизическая антропология, где этика оказывается проекцией онтологии, а путь души – процессом восстановления своей подлинной природы. Ключевая интуиция, пронизывающая весь текст, формулируется как парадокс: чтобы бежать от зла, присущего материальному миру, душа должна уподобиться божественному, но само это божественное – Ум и Единое – не обладает добродетелью в человеческом смысле. Разрешение этого парадокса приводит Плотина к построению сложной иерархической системы, где добродетель выступает не как конечная цель, а как инструмент метафизической трансформации.
Исходным пунктом является различение двух типов уподобления. Первый – симметричное сходство между равными сущностями (образ с образом). Второй, радикально иной – асимметричное уподобление низшего высшему, где высшее есть самодостаточный архетип, а низшее – его несовершенное, производное подобие. Именно ко второму типу относится уподобление души божественному. Это означает, что этика с самого начала выводится за рамки межличностных отношений или социального конструирования и укореняется в онтологии причастности. Добродетель – это не социальная конвенция и не внутренний закон, а следствие и признак правильной онтологической ориентации души, ее обращенности к своему источнику.
На этом основании выстраивается строгая иерархия добродетелей, соответствующая ступеням освобождения души. Гражданские (политические) добродетели – первый, необходимый уровень. Их функция – не искоренение, а упорядочивание. Они вносят меру, границу и гармонию в «материю» души, смешанной с телом, умеряя страсти и исправляя ложные мнения. Плотин описывает их как «меры», делающие душу подобной умопостигаемой Мере. Это аскеза оформления, превращающая хаотичную психическую жизнь в нечто соразмерное и прекрасное. Однако это подобие есть лишь «отпечаток» (ихнос), а не сущностное тождество. Душа, обладающая лишь этими добродетелями, упорядочена, но все еще отождествлена с комплексом «душа-тело» и потому лишь внешне, по образу, подобна божественному.
Подлинное «бегство» начинается с перехода к высшим (катартическим) добродетелям. Если гражданские добродетели упорядочивают смешение, то высшие – устраняют саму смешанность. Их суть – очищение (катарсис), понимаемое как радикальное отличение истинного «я» души (ее умопостигаемой части) от всего привнесенного телом. Это не борьба со страстями, а пересмотр идентификации: боль, удовольствие, гнев признаются как нечто «иное» (алло) и «непроизвольное» (апроайретон), происходящее на периферии существа. Высшая добродетель есть состояние бесстрастия (апатейя) как не-соучастия, при котором разумное начало, «собрав себя в себе», пребывает в покое. Каждая из платоновских добродетелей получает здесь новое, «негативное» определение: мужество – отсутствие страха отделения от тела; благоразумие – независимость от страстей; справедливость – деятельность, сообразная уму; мудрость – чистое мышление, свободное от мнений.
Но и здесь Плотин проводит критическое различение. Само очищение – процесс удаления чужого – еще не есть благо. Оно создает лишь предпосылку, «благовидную» природу, способную к соединению. Подлинный поворот совершается в акте обращения (эпистрофэ) – метафизическом развороте внимания и воли души к умопостигаемому свету. Это обращение и есть сущность высшей добродетели. Его результатом становится созерцание (тэа) и оживление врожденных «отпечатков» (типои) высших форм в душе, которые до того пребывали в спящем состоянии. Метафора света ключева: как зрение актуализируется при встрече со светом, так и душа оживает для истинного знания лишь при «освещении» со стороны Ума. Таким образом, высшая добродетель оказывается синергией собственного усилия души (очищение) и даруемого просвещения (обращение). Это жизнь в соответствии с усмотренной внутренней истиной.
Этот анализ ведет к кульминационному переопределению цели: задача не в том, чтобы «быть безгрешным человеком», а в том, чтобы «быть богом». Плотин различает две степени этого обожения (тэозис). Если в очищенной душе сохраняются остатки непроизвольных движений, она – «двойственный бог», где высшее «я» пребывает в созерцании, сопровождаемое подчиненным психофизическим комплексом. Если же достигнуто полное бесстрастие, душа становится «богом в единственном числе» – то есть полностью отождествляется с умопостигаемым началом (Умом), «богом из числа следующих за Первым». Это и есть предельное «тождество», в отличие от «уподобления».
Отсюда следует радикальный вывод: добродетель в собственном смысле существует только в душе. В самом Уме нет «добродетелей»; там есть сама сущность блага, мудрости, справедливости как его непосредственная деятельность (энергейа). Ум не «имеет» справедливости – он и есть Справедливость как парадигма. Добродетель души – это отражение этой парадигмы в иноприродной, стремящейся сущности. Поэтому высшие добродетели – это просто различные аспекты одной и той же устойчивой ориентации души на Ум.
Завершает трактат различение двух образов жизни. «Предваряющая жизнь» – жизнь «хорошего человека», регулируемая гражданскими добродетелями. Это уподобление образу образу. «Иная жизнь» – жизнь богов, избираемая достигшим высших добродетелей. Его действия в мире могут внешне походить на действия добродетельного человека, но их источник и мера – иные, проистекающие из созерцания парадигмы. Это жизнь по ту сторону обычной морали, управляемая не правилами, а непосредственным видением истины.
Современное звучание этой концепции глубоко актуально. В противовес релятивизму и конструктивизму Плотин предлагает объективную основу этики, укорененную не в субъективных предпочтениях или общественном договоре, а в онтологической структуре реальности и природе сознания. Его иерархия добродетелей представляет собой тонкую феноменологию духовного развития: от интеграции личности (гражданские добродетели) через деидентификацию с психофизическим комплексом (очищение) к трансперсональному, созерцательному существованию (высшие добродетели). Это перекликается с современной психологией (например, идеей «осознанности» и децентрации) и философией, исследующей пределы субъективности. Плотин напоминает, что высшая этика – это не свод правил, а аскетика внимания, дисциплина, делающая сознание прозрачным для света, источник которого лежит за пределами индивидуального «я». В конечном счете, его учение – это призыв к метафизическому мужеству: признать, что наша глубочайшая сущность не принадлежит миру становления, и что подлинная нравственность есть следствие и выражение онтологического возвращения души к самой себе.
1. О подобии божеству через добродетель.
Поскольку зло по необходимости присутствует в этом мире и в этом месте, а душа желает избежать зла, необходимо бегство отсюда. Что же такое это бегство? Согласно мыслителю, оно есть уподобление божеству. Это возможно, если мы станем справедливыми и благочестивыми, обладая рассудительностью, и вообще пребудем в добродетели. Если мы уподобляемся через добродетель, то возникает вопрос: уподобляемся ли мы тому, кто обладает добродетелью? И какому именно божеству? Возможно, тому, кто, как принято считать, обладает этими качествами в высшей степени, а именно – мировой Душе и правящему в ней началу, которому присуща удивительная мудрость? Ибо разумно, пребывая здесь, уподобляться именно ему.
Однако прежде всего спорно, присущи ли ему все добродетели в том же смысле. Например, может ли он быть мужественным, если для него не существует ничего страшного, поскольку ничто не угрожает ему извне? Или благоразумным, если для него нет наслаждения, приходящего извне, которое могло бы породить вожделение при его отсутствии? Но если и он сам устремлен к умопостигаемому, откуда происходят и наши собственные высшие начала, то ясно, что и наш космос, и добродетели происходят оттуда же. Обладает ли то высшее начало этими добродетелями? Вероятно, неразумно приписывать ему так называемые гражданские добродетели: рассудительность, относящуюся к расчетливой части души; мужество – к яростной; благоразумие как согласие и гармонию вожделеющей части с разумным расчетом; справедливость как деятельность каждой из этих частей в соответствии с присущим ей уделом в отношении начальствования и подчинения.
Стало быть, мы уподобляемся не через гражданские добродетели, а через иные, более великие, хотя и носящие те же имена? Но если через иные, то означает ли это, что через гражданские – никак? Однако нелепо отрицать всякое уподобление через них, ведь именно таких людей молва называет божественными, и следует сказать, что они в определенной мере уподобились. Уподобление же через высшие добродетели представляет собой иной уровень. Но в обоих случаях получается, что высшее начало обладает добродетелями, пусть и не такими, как наши. Если же допустить, что уподобление возможно даже при различии состояний, когда мы соотносимся с иными добродетелями., ничто не мешает нам, уподобляясь не через его. добродетели, а через наши собственные, стать подобными тому, кто сам не обладает добродетелью как приобретенным качеством.
Как это возможно? Рассуждение таково: если нечто согревается присутствием теплоты, обязательно ли и источник этой теплоты должен согреваться? И если нечто становится горячим от присутствия огня, должен ли сам огонь нагреваться от присутствия огня? На первое возражение можно ответить, что в огне теплота присутствует, но как врожденное свойство, так что по аналогии добродетель для души является приобретенной, а для того начала, которое, будучи подражаемо, дает ее, – врожденной сущностью. На второе же возражение, основанное на примере с огнем, следует ответить, что то начало и есть сама добродетель, и мы считаем его более великим, чем добродетель.
Но если бы то, в чем причастна душа, было тождественно тому, от чего она причастна, следовало бы говорить именно так. Однако на деле одно – то высшее начало, а другое – то, что здесь. Ведь чувственно воспринимаемый дом не тождествен умопостигаемому образу дома, хотя и подобен ему. И чувственный дом причастен порядку и гармонии, однако в самом логосе образе. дома нет порядка, гармонии или соразмерности как чего-то отдельного; они суть его сущность. Таким же образом, причастные оттуда порядку, гармонии и согласию, которые и составляют здесь суть добродетели, мы понимаем, что там, в высшем, нет нужды ни в согласии, ни в гармонии, ни в порядке как в чем-то отличном от сущности, а следовательно, нет нужды и в добродетели как отдельном качестве. И все же мы уподобляемся тем высшим началам ничуть не менее через присутствие в нас добродетели.
Итак, против аргумента о том, что добродетель не необходима там, раз мы уподобляемся через добродетель здесь, приведены эти соображения. Однако к рассуждению следует привлечь не только логическую необходимость, но и убедительность, не останавливаясь на одном лишь принуждении разума.
В данном рассуждении Плотин исследует парадокс этического совершенствования: как конечная человеческая душа может уподобиться абсолютно совершенному и самодостаточному началу (Уму или даже Единому) через добродетель, если само это начало, по-видимому, не нуждается в добродетелях в человеческом понимании. Внутренняя логика строится на различении двух уровней добродетели: «гражданских» (политических), которые упорядочивают земную жизнь души, связанной с телом, и «высших» (катартических), которые очищают душу и направляют ее к умопостигаемому миру. Уподобление через гражданские добродетели уже делает человека «божественным» в земных пределах, но истинная цель – уподобление через причастность к самому источнику блага.
Ключевой ход мысли – разрешение парадокса через метафизику причастности. Высшее начало не «обладает» добродетелью как атрибутом; оно и есть сама сущность блага, порядка и гармонии, которые в нашем мире проявляются как отдельные добродетели. Подобно тому как огонь не «имеет» теплоты, а есть сама теплота, высшее начало есть сама совершенная действительность, которой добродетель имманентна. Человеческая же душа, приобщаясь к этому источнику через интеллектуальное и нравственное очищение, «перенимает» или отражает его свойства, обретая добродетель как качество, ведущее ее к подлинному уподоблению. Таким образом, добродетель – не инструмент для достижения внешней цели, а форма внутреннего преображения, делающая душу сообразной ее умопостигаемому истоку.
Современное звучание этой идеи заключается в переосмыслении этики не как системы внешних предписаний или социальных конвенций, а как онтологического пути самореализации. Вопрос «зачем быть добродетельным?» трансформируется в вопрос «каким необходимо стать, чтобы реализовать свою глубинную природу?». Идея Плотина предлагает модель, где нравственное совершенство – не служение абстрактной норме, а процесс становления тем, кто ты есть на уровне самой высокой своей возможности, процесс отражения в себе абсолютного источника гармонии и блага. В этом контексте конфликт между «естественным» и «моральным» снимается: высшая добродетель есть самое полное и адекватное выражение истинной сущности разумной души, ее возвращение к самой себе из состояния рассеяния в материальном мире.
2. О природе и степенях уподобления.
Итак, прежде всего следует рассмотреть те добродетели, через которые, как мы утверждаем, происходит уподобление, чтобы вновь обнаружить то самое, что у нас, будучи подражанием, является добродетелью, а там, будучи как бы первообразом, – добродетелью не является. При этом необходимо отметить, что уподобление бывает двояким. Один его вид предполагает тождество в сходных вещах, когда они в равной степени уподоблены одному и тому же образцу. В случаях же, когда одно уподобляется другому, а это другое есть нечто первичное и самотождественное, не обратимое к первому и не называемое ему подобным, – здесь уподобление должно быть понято иным способом, не требующим тождества формы, но, скорее, допускающим иное, если уподобление происходит по иному модусу.
Что же тогда такое добродетель – как совокупность и каждая в отдельности? Рассуждение прояснится, если обратиться к каждой из них; таким образом и общее начало, в силу которого все они суть добродетели, станет легко понятным.
Так называемые гражданские добродетели, о которых мы говорили ранее, упорядочивают нас, пока мы еще пребываем здесь в материальном мире., и делают нас лучше, ограничивая и соразмеряя вожделения, а в целом – умеряя страсти и устраняя ложные мнения посредством обращения к лучшему началу и через принцип определенности, выводящий за пределы безмерного и неопределенного к соразмеренному. И сами эти добродетели, будучи определенными, поскольку они суть меры в материи души, уподобляются той Мере, что пребывает в умопостигаемом мире, и несут в себе отпечаток тамошнего Блага. Ибо всецело безмерное, будучи материей, всецело лишено подобия; но по мере причастности форме оно уподобляется тому, что само есть бесформенный первообраз. Точнее сказать, более близкие к материи. сущности причастны форме.; душа же ближе к телу и сродственна ему, потому причастна форме. в большей степени, так что даже способна ввести в заблуждение, представляясь божеством, – ведь это соединение. не есть всецело божество. Таким вот образом эти люди, обладающие гражданскими добродетелями. и уподобляются.
Плотин вводит фундаментальное различие между двумя типами уподобления, что является ключом к пониманию его этической метафизики. Первый тип – простое, симметричное сходство между равными по статусу вещами, имеющими общий образец. Второй, более важный тип – асимметричное уподобление низшего высшему, где высшее есть абсолютный и самодостаточный первообраз (архетип), а низшее – его несовершенное, производное подобие (имидж). Добродетель в человеческой душе относится ко второму типу: это не копия некоей божественной добродетели как отдельного качества, но отражение и следствие причастности души к самому источнику меры, порядка и блага. Таким образом, этика укоренена в онтологии причастности.
Далее анализ конкретизируется на примере гражданских добродетелей. Их функция – не в отрицании психофизической природы человека, а в ее упорядочивании, установлении внутренних границ и меры в сфере аффектов и мнений. Они действуют как формирующие принципы («меры»), вносимые в пластичную «материю» души, еще вовлеченной в телесное существование. Сама по себе неоформленная душевная жизнь подобна безмерной материи и потому чужда высшему благу. Добродетель как мера делает душу подобной умопостигаемой Мере – не как внешнему стандарту, а как онтологическому принципу определенности и совершенства. Однако это подобие именно что «след» или «отпечаток» (ихнос), а не тождество. Душа, будучи промежуточной сущностью, способна благодаря этой мере казаться божественной, но важно не обольщаться: ее соединение с телом не есть абсолютное божественное состояние. Гражданские добродетели – это начальная, но подлинная ступень онтологического преображения, переводящая душу из состояния хаотичной неопределенности к состоянию оформленности и, следовательно, уподобленности высшему принципу Порядка.
Современное звучание этой концепции раскрывается в ответе на вызов релятивизма и анти-эссенциализма. Плотин предлагает не релятивистскую «этику дискурса», а объективную «этику уподобления», где критерием нравственного совершенства является не общественный договор, а степень внутренней согласованности, цельности и меры, которые суть отражение вневременного онтологического принципа. В психологическом ключе это можно интерпретировать как идею о том, что психическое здоровье и зрелость (аналог «гражданских добродетелей») достигаются не подавлением, а введением структуры, иерархии и смысла в стихийные влечения и мысли. Это процесс «индивидуации» в юнгианском смысле, где архетип Самости (у Плотина – умопостигаемый первообраз) выступает как внутренняя мера и цель. В экзистенциальном плане мысль Плотина утверждает, что подлинная самореализация – это не произвольное самовыражение, а аскетика (в первоначальном смысле «упражнения») по наложению меры на хаос собственного опыта, чтобы через эту форму явить в себе отблеск абсолютной и внеличностной гармонии.
3. О высшем уподоблении через очищение
Но поскольку предыдущее рассуждение. указывает на иное уподобление, соответствующее высшей добродетели, следует сказать именно о нем. При этом станет яснее как сущность гражданской добродетели, так и то, какова по своей сущности высшая добродетель, и вообще – что существует иная добродетель. помимо гражданской. Платон, говоря, что уподобление богу есть бегство отсюда, и называя добродетели в «Государстве» не просто добродетелями, но добавляя эпитет «гражданские», а в другом месте называя добродетели. очищениями, явно полагает их двоякими и помещает уподобление не в сфере гражданской добродетели.
Каким же образом мы называем эти высшие. добродетели очищениями и как, очистившись, мы наиболее полно уподобляемся? Дело в том, что душа становится дурной, будучи смешана с телом, сострадая ему и разделяя все его мнения. Она была бы благой и обладала бы добродетелью, если бы не разделяла телесные. мнения, но действовала бы самостоятельно – что есть мышление и разумение; если бы не сострадала телу. – что есть благоразумие; если бы не боялась отделения от тела – что есть мужество; если бы ею правили логос и ум, а низшие части не противились – это была бы справедливость. Такое состояние души, в котором она мыслит и пребывает бесстрастной, если кто назовет уподоблением богу, не ошибется. Ибо божественное чисто, и деятельность его такова, что подражающее ей обладает мудростью.
Почему же тогда и то высшее не пребывает в таком состоянии? Или оно и не «пребывает» в состоянии., ибо состояние есть свойство души. И душа мыслит иным образом; а из высших начал одно Ум. мыслит иначе, а другое Единое. – вообще не мыслит. Стало быть, и мышление здесь и там – омоним? Никоим образом. Но одно есть мышление в первичном смысле, а другое – производное от него и иное. Ибо как слово в звуке есть подражание слову в душе, так и слово в душе есть подражание слову в ином высшем начале.. Итак, как разделенное в произнесении слово. относится к слову. в душе, так и слово. в душе, будучи истолкователем того высшего., относится к тому, что предшествует ему. Добродетель же принадлежит душе; ума же она не касается, тем более – того, что за его пределами.
Реконструкция ключевых идей и их современное звучание
Плотин, опираясь на Платона, выстраивает иерархию добродетелей и соответствующих им модусов бытия. Гражданские добродетели, рассмотренные ранее, связаны с упорядочиванием смешанной с телом души. Но подлинное «бегство» и уподобление божественному требует перехода к «очистительным» или «высшим» добродетелям. Их суть – не в наведении порядка внутри сложного состава, а в радикальном обособлении высшей части души от всего телесного и аффективного. Ключевой метод – «катарсис», очищение, понимаемое как прекращение отождествления души с телом: отказ разделять его ложные мнения (докса), сострадать его страстям (патэ) и бояться его утраты. В этом состоянии душа действует самостоятельно (монэ энергэи), что есть суть мышления (ноэин).
Каждая высшая добродетель предстает как негативное определение, фиксирующее отсутствие связи с низшим: мудрость (фронесис) – это мышление без смешения с мнениями; благоразумие (софросюнэ) – это независимость от страстей; мужество (андрия) – это отсутствие страха перед отделением от тела; справедливость (дикайосюнэ) – это господство ума и подчинение ему низших частей без сопротивления. Такое состояние, будучи чистым и бесстрастным, и есть прямое уподобление божественному, которое по определению чисто и самодостаточно.
Затем следует важнейший метафизический ход: Плотин спрашивает, а пребывает ли само божественное в таком «состоянии» (диатесис)? Ответ отрицательный: состояние – это атрибут изменчивой души, обретающей определенное качество. Высшие начала – Ум и Единое – не «имеют» добродетели; они суть то, чему добродетель в душе лишь подражает. Мышление души – это подражание (мимэма) первичному мышлению Ума, которое, в свою очередь, есть отражение абсолютной простоты Единого. Плотин использует знаменитую аналогию с речью: произнесенное слово (профора) – подражание внутреннему слову в душе (логос эн психэ), которое само есть подражание слову в высшем начале (логос эн этеро). Добродетель, таким образом, принадлежит исключительно сфере души как стремящейся сущности; это ее специфический способ организации, делающий ее пригодной для восприятия света высших начал, которые сами пребывают в совершенстве, не нуждающемся в «добродетельности».
Современное звучание этой концепции раскрывается в критике психологизации и морализации духовного опыта. Плотин напоминает, что высшие состояния сознания (чистое мышление, бесстрастие) – это не просто психологические техники, а онтологические жесты, меняющие саму природу субъективности, переводя ее из режима отождествления с психико-физическим комплексом (эго) в режим безличного созерцания. Это перекликается с восточными (адвайта-веданта, буддизм) и некоторыми западными мистическими традициями, где цель – не улучшение личности, а ее трансценденция. В философской антропологии это ставит вопрос о «я»: наше обычное «я» – это душа, смешанная с телом; подлинное же «мы» – это ум (нус), которому душа может приобщиться лишь через аскезу очищения. В экологии сознания идея катарсиса предлагает радикальную гигиену внимания: не управлять страстями, а прекратить с ними отождествляться, перенаправив энергию сознания на созерцательные, сверхличностные содержания. Добродетель в этом свете – не социальная условность и не внутренний комфорт, а инструмент метафизической настройки, делающий душу прозрачной для реальности, лежащей по ту сторону добра и зла как человеческих категорий.
4. О соотношении очищения, добродетели и блага
Следует исследовать, тождественна ли добродетель очищению, или же очищение предшествует, а добродетель следует за ним, и пребывает ли добродетель в процессе очищения или в состоянии очищенности. Добродетель. в процессе очищения, конечно, менее совершенна, чем в состоянии очищенности, ибо очищенность есть уже как бы завершение. Но очищенность есть удаление всего чуждого, тогда как благо есть нечто иное по отношению к этому акту. Если же благо присутствовало и до очищения, то одного очищения достаточно; однако очищение лишь создаст условия, а оставшимся по его завершении. будет само благо, а не акт очищения. И нужно исследовать, что же это за оставшееся. Возможно, природа, которая остается, и не была изначально благой; иначе она не оказалась бы во зле. Следует ли тогда назвать ее благовидной? Но одной благовидности недостаточно для пребывания в подлинном благе; ведь по природе она способна к тому и другому. Следовательно, ее благо заключается в соединении с родственным высшим началом., а зло – в связи с противоположным. Поэтому, очистившись, она должна соединиться. Соединение же произойдет через обращение. Обращается ли она после очищения? Или же после очищения она уже обращена? Так вот, есть ли это обращение ее добродетелью? Или же добродетель есть то, что возникает в ней в результате обращения. Что же это такое? Это созерцание и отпечаток увиденного, внедренный и действующий в ней, подобно тому как зрение активируется. в отношении видимого.
Неужели же она не обладала этим изначально и не припоминает? Или же обладала, но не в действии, а как бы в покое и неосвещенная? Чтобы осветиться и тогда познать присутствующее в ней, ей необходимо соприкоснуться с освещающим началом. Она обладала не самими умопостигаемыми формами., а их отпечатками. Следовательно, необходимо сообразовать эти отпечатки с подлинными формами., от которых они и произошли. Но, возможно, говорят, что она обладает ими, поскольку ум не чужд ей, и особенно не чужд, когда она взирает на него; если же нет, то даже будучи присутствующим, он остается чуждым. Это подобно и наукам: если мы вовсе не действуем сообразно им, они для нас чужды.
Плотин проводит тонкий феноменологический анализ внутреннего преобразования души, различая три взаимосвязанных, но не тождественных момента: процесс очищения (катарсис), состояние очищенности (кекатартхаи) и обретенное в этом состоянии благо (агафон). Очищение – это активный, аскетический акт удаления всего чуждого, привнесенного смешением с телом. Это негативная работа. Добродетель не тождественна этому процессу; она скорее есть позитивное качество, возникающее или раскрывающееся по его завершении, в состоянии очищенности. Однако сама по себе очищенность, будучи лишь пустотой от страстей и ложных мнений, еще не есть благо. Она создает лишь необходимую предпосылку – «благовидную» (агатхойидэ) природу, способную к соединению с благом, но по своей двойственной природе еще не гарантированную от падения.
Ключевой переход от потенциальной благовидности к актуальному благу совершается через «обращение» (эпистрофэ) – метафизический поворот души от многообразия внешнего к сосредоточению на внутреннем, умопостигаемом свете. Это обращение и есть, по сути, высшая добродетель: не набор качеств, а сам акт устойчивой ориентации на источник блага. Результатом этого акта, его позитивным содержанием, становится «созерцание» (тэа) и «отпечаток» (типос) увиденного, который начинает действовать в душе как формирующий принцип. Плотин использует оптическую метафору: подобно тому как зрение актуализируется лишь при встрече со светом и видимым, так и потенциальные «отпечатки» высших форм в душе (врожденные логои) оживают и становятся действующим знанием лишь при «освещении» со стороны деятельного Ума. Добродетель, таким образом, есть не что иное, как жизнь души, сообразная этому ожившему внутреннему свету, ее постоянная деятельность в соответствии с усмотренной истиной.
Здесь раскрывается важнейший платонический принцип: знание (а значит, и добродетель как его практическое выражение) есть не заучивание внешнего, а припоминание (анамнесис) и актуализация внутреннего. Однако эта актуализация требует встречного импульса извне – благодати просвещения от Ума. Душа обладает всем необходимым потенциально, но для реализации этого потенциала необходим метафизический «замыкание цепи», обращение к Источнику. В этом смысле высшая добродетель – это синергия собственного усилия души (очищение) и дарованного ей просвещения (обращение и созерцание).
Современное звучание этого анализа раскрывает глубину психологии духовного развития. Оно предостерегает от двух упрощений: 1) представления о добродетели как о простом подавлении низшего (очищение – лишь подготовка); 2) мистического квиетизма, ожидающего блага без собственных усилий (очищение необходимо). Путь предстает как трехступенчатый: аскетическая работа по расчистке внутреннего пространства (очищение) -> экзистенциальный поворот внимания и воли к смыслу и истине (обращение) -> интеграция обретенного смысла в ткань сознания и жизни, делающая его действующей силой (добродетель как просвещенный образ жизни). В когнитивной психологии этому соответствует переход от дисциплины ума (устранение когнитивных искажений) к инсайту (момент понимания) и, наконец, к устойчивой ментальной модели или навыку. В экзистенциальной философии это напоминает идею «подлинного существования», которое рождается не извне, а из решительного поворота к собственной экзистенциальной возможности, всегда уже присутствующей, но заглушенной повседневностью. Добродетель для Плотина – это и есть жизнь в свете этого поворота, где каждое действие становится выражением усмотренной внутренней истины.
5. О мере очищения и природе подлинного уподобления.
Но следует определить, какова мера очищения; ибо таким образом прояснится и уподобление какому божеству., и тождество с каким божеством. Это особенно важно исследовать в отношении того, как очищается. яростное начало, вожделеющее начало и все прочее – скорбь и родственные ей состояния, – и насколько возможно отделиться от тела. Отделение от тела, возможно, достигается тем, что душа как бы собирает себя в самой себе, во всяком случае, пребывая бесстрастной, допуская лишь необходимые удовольствия и ощущения – только ради врачевания и избавления от страданий, чтобы они не беспокоили ее; боли же она устраняет, а если это невозможно, переносит их кротко и ослабляет тем, что не сострадает им. Ярость она устраняет настолько, насколько возможно, и если возможно, полностью, если же нет, то, по крайней мере, сама не гневается вместе с ней, но признает непроизвольное движение принадлежащим иному началу; причем это непроизвольное должно быть малым и слабым. Страх же она устраняет полностью; ибо она не будет бояться ничего – кроме непроизвольной реакции и разве что в качестве предостережения.
Что же до вожделения? Ясно, что она не будет иметь вожделения ни к чему дурному. Влечения к пище и питью ради удовлетворения потребности не будут принадлежать ей самой; равно как и влечения к любовным утехам. Если же таковые и возникают, то, полагаю, как природные и непроизвольные; а если и с каким-то предвосхищающим представлением, то и оно будет таковым. В целом, высшая часть души будет чиста от всего этого и пожелает сделать бесстрастным и неразумное начало, дабы оно не подвергалось ударам; а если и подвергнется, то не сильно, чтобы удары были редкими и тотчас разрешались благодаря соседству с разумом.. Подобно тому как тот, кто соседствует с мудрецом, пользуется этим соседством, становясь либо подобным ему, либо испытывая благоговение, так что не дерзает делать ничего, чего добрый не желает.
Таким образом, борьбы не будет; ибо присутствия разума достаточно, чтобы низшее начало благоговело перед ним, так что даже само это низшее будет тяготиться, если придет в какое-либо движение, потому что не сохранило покоя в присутствии господина, и укорять себя за слабость.
Плотин переходит от теоретического определения катарсиса к его практическому измерению, задавая вопрос о «мере» очищения. Этот вопрос не технический, а сущностный: предельная цель – не просто умеренность, а полное преображение отношения души к своему психофизическому составу, ведущее к иному модусу бытия – «тождеству» (таутотэс) с божественным, а не просто «уподоблению» (хомойосис). Логика развертывается через конкретизацию того, как высшая, разумная часть души («она сама») должна относиться к аффективным и телесным процессам.
Суть не в уничтожении низших начал (это невозможно для воплощенной души), а в радикальном изменении идентификации. Душа собирается «в самое себя», то есть отождествляется исключительно с интеллектуальным началом. Все прочее – боль, удовольствие, гнев, страх, вожделение – признается как нечто «иное» (алло), «непроизвольное» (апроайретон), происходящее на периферии существа. Ключевая стратегия – «бесстрастие» (апатхос эхусан) не как онемение, а как не-соучастие, не-сорасположение (мета симпатейн). Боль ослабляется не сопротивлением, а отказом от психического со-переживания с телесным сигналом. Гнев признается чужим импульсом, который можно наблюдать со стороны. Вожделение допускается лишь как минимальный природный остаток, лишенный эмоционального заряда и фантазийного сопровождения.
Идеал – не война с низшей природой, а установление такой внутренней иерархии, при которой «присутствия разума достаточно». Низшее начало, благодаря постоянному соседству и благоговению (айдесис) перед разумом, само начинает стыдиться своих движений и стремится к покою. Это состояние описывается социальной метафорой: подобно тому как присутствие мудрого господина (деспотэс) дисциплинирует слугу не принуждением, а самим фактом своего достоинства, так и разум, просто пребывая в своей силе, гармонизирует низшие слои психики. Добродетель здесь – это не борьба, а сияющее присутствие, организующее пространство вокруг себя.
Современное звучание этой концепции глубоко актуально для психологии и этики. Плотин предлагает модель саморегуляции, альтернативную как репрессивному контролю (подавление), так и пермиссивному потворству (идентификация с импульсами). Это модель «децентрации» или «деидентификации»: я – не мои эмоции, не мои телесные ощущения, не мои автоматические реакции. Я – то свидетельствующее и разумное присутствие, которое может наблюдать их, не вовлекаясь. Это прямая параллель с практиками осознанности (mindfulness) и некоторыми направлениями психотерапии (например, Acceptance and Commitment Therapy), где ключевой навык – это разотождествление с содержаниями сознания.
Более того, Плотин указывает на высшую цель этого процесса: не просто психическое здоровье, а метафизическое преобразование. Когда душа перестает тратить энергию на внутренние конфликты и со-страстие, она «собирается в самой себе», обретая целостность и покой, необходимые для созерцания. В этом состоянии «тождества» она уже не подобна божественному, но в своей сущностной сердцевине совпадает с ним. Таким образом, этика очищения оказывается онтологической аскезой, готовящей ум к восприятию абсолютного. В мире, перенасыщенном стимулами и требованиями постоянной вовлеченности, идеал Плотина звучит как призыв к радикальной внутренней свободе через дисциплину внимания и пересмотр самого понятия «я».
6. О двойственности достижения и пределе уподобления.
Итак, ничего из подобного непроизвольных движений. не является грехом, но, напротив, правильным действием для человека. Однако стремление состоит не в том, чтобы быть безгрешным, а в том, чтобы быть богом. Если же какое-либо из таких непроизвольных движений все же происходит, то такой человек. будет богом, но богом двойственным, или, вернее, тем, кто имеет при себе иного, обладающего иной добродетелью. Если же ничего подобного нет, то он – бог в единственном числе; но это бог из числа следующих за первым началом.. Ибо сам он по своей сути есть тот, кто пришел оттуда, и его подлинное «я», если он станет таким, каким пришел, пребывает там. А то, с чем он соединился, придя сюда, он также по возможности уподобит себе в меру способностей этого низшего, чтобы сделать его, если возможно, неуязвимым или, по крайней мере, не совершающим того, что не угодно господину.
Каковы же тогда каждая из добродетелей для такого существа? Мудрость и разумение – в созерцании того, что содержит ум; а ум – в соприкосновении с высшим.. И каждая из них двояка: одна пребывает в уме, другая – в душе. И там, в уме, это не добродетель, а в душе – добродетель. Что же это там, в уме? Его собственная деятельность и его сущность; здесь же, в душе, то, что происходит оттуда и пребывает в ином, и есть добродетель. Ибо не существует самосущей справедливости или какой-либо отдельной добродетели, но есть как бы парадигма; а происходящее от нее в душе и есть добродетель. Добродетель всегда есть добродетель чего-то; каждое же высшее начало есть само по себе, а не что-то иное.
Если же справедливость есть «деяние своего», то всегда ли она предполагает множество частей? Или же одна справедливость – во множестве, когда частей много, а другая – просто «деяние своего», даже если часть одна? Подлинная же самосущая справедливость есть отношение единого к самому себе, в котором нет иного, а есть лишь само оно, но в модусе иного. Так и для души высшая справедливость есть деятельность в направлении к уму; благоразумие есть обращение внутрь, к уму; мужество есть бесстрастие по подобию того, на что она взирает и что по природе бесстрастно, сама же она обретает это бесстрастие. из добродетели, дабы не сострадать худшему сожителю.
Здесь Плотин совершает кульминационный поворот, переопределяя саму цель этического пути. Обычная человеческая мера – «быть безгрешным» (экзо амартиас эйнай) или правильно действовать (катортōма) – признается недостаточной. Истинная цель – «быть богом» (тэон эйнай). Однако это богоподобие имеет две возможные степени, соответствующие степени внутреннего единства.
Первая степень: если в очищенной душе все еще остаются следы непроизвольных движений низшей природы, то достигнутое состояние – это «двойственный бог» или «бог с при себе иным». Высшее «я» человека тождественно умопостигаемому началу и пребывает «там», в созерцании, но оно все еще сопровождается подчиненным, очищенным психофизическим комплексом («иной»). Это состояние высшего возможного для воплощенной души уподобления.
Вторая, идеальная степень: если душа достигла полного бесстрастия, так что низшее начало полностью успокоено и не производит даже непроизвольных движений, то она есть «бог в единственном числе». Но Плотин тут же уточняет: это не первый Бог (Единое), а «бог из числа следующих», то есть умопостигаемое начало (Ум), с которым душа отождествилась. Предел пути – это не создание новой личности, а возвращение индивидуальной души к ее истоку, обретение ею статуса вечного ума, который лишь временно и по необходимости был вовлечен в становление.
Затем следует ключевое различение: добродетели существуют только в душе как качества стремящегося существа. В самом уме нет «добродетелей»; там есть сама сущность и деятельность (энергейа) блага, мудрости, справедливости. Ум не «имеет» справедливости; он и есть сама справедливость как парадигматический принцип. Добродетель в душе – это отпечаток (типос) этой парадигмы, ее отражение в иной, стремящейся природе.
На этом основании Плотин дает окончательное определение высших (катартических) добродетелей, переосмысливая платоновскую тетраду:
– Мудрость (софия/фронесис): созерцание содержаний ума.
– Справедливость (диканйосюнэ): деятельность души, сообразная уму (отношение части к целому переосмыслено как отношение производного к источнику).
– Благоразумие (софросюнэ): обращение души внутрь, к уму (вместо гармонии частей).
– Мужество (андрия): бесстрастие, достигнутое через подражание бесстрастной природе ума, чтобы не сострадать телу.
Таким образом, высшие добродетели суть не что иное, как различные аспекты одного и того же метафизического акта: устойчивой ориентации и причастности души уму.
Современное звучание этой концепции предлагает радикальную трансцендентальную этику. Нравственный идеал предстает не как гуманистическое самосовершенствование, а как «обожение» (тэōсис), выход за пределы чисто человеческого измерения к сверхличному, космическому разуму. Это созвучно некоторым направлениям трансперсональной психологии и философии, где высшие состояния сознания понимаются как реализация безличного, универсального измерения «я». В практическом плане это означает, что этика – это не система запретов и предписаний, а дисциплина внимания, цель которой – стабилизировать сознание в режиме созерцательной ясности, где исчезает разрыв между познающим и познаваемым, а действие становится спонтанным выражением усмотренной истины. Противоречие между «быть хорошим человеком» и «стать богом» разрешается тем, что первое есть лишь побочный эффект и подготовительная ступень ко второму. Подлинная добродетель – это уже не человеческое качество, а свидетельство пребывания души в ином, вечном порядке бытия.
7. О взаимосвязи добродетелей и двух образах жизни.
Таким образом, и эти добродетели в душе взаимосвязаны, подобно тому как и там, в уме, существуют их прообразы, предшествующие добродетели. Ибо мышление (нóэсис) там есть знание и мудрость; обращенность к себе – благоразумие; собственное действие – деятельность своего; а чистота и пребывание в себе – нечто вроде мужества. В душе же созерцание (óрасис), обращенное к уму, есть мудрость и разумение, и это – ее добродетели; ибо она не есть это само, как там в уме.. И остальные добродетели. следуют аналогично.
Поскольку же все они суть очищения, и притом согласно состоянию очищенности, то необходимо, чтобы присутствовали все; иначе ни одна не будет совершенной. И тот, кто обладает высшими, необходимо обладает и низшими, по крайней мере в потенции; но тот, кто обладает низшими, не обязательно обладает высшими. Эта жизнь с гражданскими добродетелями. есть предваряющая жизнь серьезного человека. Но следует исследовать, обладает ли обладающий высшими добродетелями и низшими в действительности, или же каким-то иным образом, рассматривая каждую в отдельности. Например, разумение: если он будет пользоваться иными принципами, как же тогда та низшая разумность. остается, даже если и не действует? И если одна добродетель. по природе измеряет в определенных границах, а другая вовсе упраздняет измеряемое., как, скажем, та благоразумие, что измеряет, и та, что полностью устраняет страсти.? То же самое в целом, когда высшая разумность приходит в движение.
Или же он будет просто знать их и иметь от них лишь то, что от них остается? Возможно, иногда, в определенных обстоятельствах, он будет действовать согласно некоторым из них. Но, достигнув более высоких принципов, он будет действовать согласно иным мерам, сообразным им. Например, благоразумие он будет полагать не в той мере, но, насколько возможно, вообще отделяя душу от тела. и живя вовсе не человеческой жизнью хорошего человека, которую утверждает гражданская добродетель, но, оставив эту жизнь, избрав иную – жизнь богов. Ибо уподобление направлено к ним, а не к хорошим людям. Одно уподобление – к хорошим людям, как образ уподобляется образу, поскольку оба происходят от одного оригинала. Другое же – к иному, как к парадигме.
Плотин завершает систематизацию своей этической иерархии, подчеркивая органическую взаимосвязь (антаколутхия) добродетелей на каждом уровне и радикальное различие между самими уровнями.
В Уме прообразы добродетелей суть не отдельные качества, а аспекты его единой, самотождественной деятельности: мышление (мудрость), самососредоточенность (благоразумие), самодействие (справедливость), чистота и самодостаточность (мужество). В душе эти аспекты отражаются как отдельные, но взаимосвязанные приобретенные состояния (гексейс), поскольку душа не тождественна своей деятельности и должна собирать себя в единство.
Важен императив целостности: поскольку высшие добродетели суть очищения, а состояние очищенности предполагает завершенность, то обладание одной из них влечет за собой обладание всеми. Они образуют единый синергетический комплекс. Логика иерархии необратима: тот, кто достиг высших добродетелей, уже потенциально обладает и низшими (гражданскими), ибо прошел через их сферу или превзошел их. Но обладающий лишь гражданскими добродетелями может вовсе не касаться высших.
Затем Плотин ставит тонкий психологический вопрос: как сосуществуют в одном существе два этических кода – высший и низший? Обладает ли мудрец гражданскими добродетелями «в действительности»? Ответ диалектичен. По сути, он их «превзошел»: его принципы и меры иные. Его благоразумие – не умеренность страстей, а полное отстранение от них; его справедливость – не гармония частей души, а деятельность, сообразная уму. Однако он «знает» гражданские добродетели и в силу своего всеведения понимает их относительную ценность. Более того, в «обстоятельствах» (перистатикōс), т.е. в ходе необходимого взаимодействия с миром, он может ситуативно действовать в соответствии с их логикой, но не потому, что они для него нормативны, а потому, что такова разумная организация жизни в его текущем, еще не полностью преображенном состоянии («двойственном боге»). Его действия будут внешне похожи на действия добродетельного человека, но их внутренний источник и мера – принципиально иные.
Это приводит к финальному и самому резкому различению: существует два рода жизни и два типа уподобления. «Предваряющая жизнь» (проэгуменос биос) – это жизнь «хорошего человека», соответствующая гражданским добродетелям и социальной этике. Она подобна уподоблению между двумя копиями одного оригинала (образ – образу). «Иная жизнь» (аллос биос) – это жизнь богов (тōн тэōн), которую избирает достигший высших добродетелей. Его уподобление – это прямое отношение к самому первообразу, Парадигме. Первая жизнь ценна и необходима как подготовка, но вторая есть цель, отменяющая первую как конечную ценность.
Современное звучание этого завершающего анализа ставит под вопрос само основание светской, социально ориентированной морали. Плотин утверждает существование «пост-моральной» духовной позиции, где субъект действует не из долга или стремления к личному совершенству в человеческих терминах, а из непосредственного созерцания иной реальности. Это не анти-мораль, а мета-мораль. В философском плане это предвосхищает ницшеанскую идею «по ту сторону добра и зла», но с важным отличием: для Плотина источник «пост-морального» действия – не воля к власти, а причастность объективному, надличному Уму. В психологическом плане это описывает переход от эго-ориентированной личности (управляемой социальными нормами и внутренними конфликтами) к трансперсональной, «свидетельствующей» позиции, которая может спонтанно и адекватно действовать в мире, не будучи им обусловлена. Таким образом, этика Плотина завершается утверждением двух измерений существования: горизонтального (социально-психологическая интеграция) и вертикального (метафизическая трансценденция), где второе не отрицает первое, но переводит его в разряд инструментального и преходящего.
Третий трактат
.
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ.
Диалектика как аскеза ума: от множественности к единству
Третий трактат первой «Эннеады» Плотина, «О диалектике», представляет собой не просто методическое руководство, а глубокое метафизическое исследование о преобразовании человеческого сознания. Его центральная тема – диалектика (διαλεκτική) – раскрывается не как формальная логика, а как целостный путь восхождения души от рассеянности в чувственном мире к сосредоточенному единству с Умом (νοῦς) и, в пределе, к Благу. Внутренняя логика трактата строится на точной диагностике различных типов душевного склада и выработке для каждого адекватного метода обращения (ἀναγωγή) к первоистоку.
Плотин начинает с антропологического различения. Он выделяет три типа натур, предрасположенных к восхождению: «мусический» (ὁ μουσικός), плененный гармонией чувственных форм; «влюбленный» (ὁ ἐρωτικός), в чьей страсти к телесной красоте просвечивает память об архетипе; и «философский» (ὁ φιλόσοφος τὴν φύσιν), чья душа от природы обращена к умопостигаемому. Критически важно, что путь для всех один – к Единому, – но начальные отрезки различны. Для мусика и влюбленного диалектика выступает как искусство сублимации: их необходимо научить отделять принцип красоты (λόγοι, ἁρμονία) от материального носителя, дабы частное восхищение стало вратами к созерцанию прекрасного самого по себе (αὐτὸ τὸ καλόν). Это педагогика отвлечения (χωρίζειν), переводящая вектор внимания с внешнего эффекта на внутреннюю причину. Для прирожденного же философа, чья душа уже «окрылена», диалектика является не лекарством, а естественным завершением: ему требуется не пробуждение, а лишь ясное руководство и систематизация врожденных устремлений.
Сущность самой диалектики Плотин определяет радикально онтологически. Это не инструмент (ὄργανον) философа, а его высшее состояние (ἕξις), «чистейшая часть ума и разумения». Её сфера – сущее как таковое (τὰ ὄντα). Она различает сущности, устанавливает их место в иерархии бытия, восходит к первым родам и нисходит к видам, используя платоновский метод диэрезы. Однако её источник – не в самой себе, а в Уме, дающем самоочевидные начала (ἐναργεῖς ἀρχας). Таким образом, диалектика есть жизнь ума, развертывающаяся в душе: от интуитивного схватывания принципов – через дискурсивное различение и связывание – к возвращению в молчаливое созерцательное единство (εἰς ἓν γενόμενα). На этом пике она превосходит саму себя как деятельность, пребывая в покое (ἡσυχία). Именно здесь Плотин проводит ключевое разграничение: подлинная, «онтологическая» диалектика, имеющая дело с вещами-сущностями (πράγματα), принципиально отлична от формальной «логической деятельности» (λογικὴ πραγματεία), занятой предложениями и силлогизмами. Последняя – лишь полезный технический навык, подобный грамоте, которым высшая мудрость пользуется, но не отождествляется с ним.
В системном отношении диалектика является благороднейшей частью философии, её вершиной, но не всей её полнотой. Физика и этика получают от неё основополагающие принципы, но добавляют собственное содержание: физика – исследование природы, этика – формирование привычек и характер. Возникает строгая иерархия: природные добродетели и рассудочные навыки могут существовать несовершенно без диалектической мудрости, но подлинная мудрость невозможна без их наличия как основы. Диалектика завершает и преображает их, придавая осмысленность и совершенство. Она – тот завершающий акт, который превращает неосознанную тягу к порядку в ясное видение самого Порядка, а любовь к частной красоте – в причастность к Источнику всякой красоты.
Современное звучание этой концепции многогранно. Во-первых, это признание множественности путей к духовному – через искусство, любовь или интеллектуальную жажду – при единстве конечной цели. Во-вторых, это протест против редукции философского мышления к формальной логике: Плотин напоминает, что суть философии – в живом, интуитивном и содержательном схватывании реальности, для которого логические структуры суть служебный, а не определяющий аппарат. В-третьих, это модель образования как аскезы, направленной не на накопление информации, а на трансформацию способа видения мира – от множественности явлений к единству принципов. Диалектика у Плотина предстает, таким образом, как интеллектуальный и экзистенциальный тренинг, ведущий душу из царства мнений и образов в «поля истины», где мысль, достигнув предела, умолкает перед лицом простоты Единого. Это не дискуссия, а путь безмолвного собирания себя, кульминацией которого является не новый аргумент, но новое состояние бытия.
1. О диалектике как методе восхождения к Единому.
Анализ Плотина начинается с вопроса о методе, ведущем к высшей цели – Благу, или Первоначалу. Этот путь уже обозначен в предшествующих рассуждениях как «восхождение» (ἀναγωγή), но теперь требуется выяснить, кто способен на такое восхождение и каков конкретный механизм этого процесса. Внутренняя логика аргументации строится на распознавании различных психологических типов, от природы предрасположенных к духовному подъему, и на разработке для них соответствующей педагогической стратегии. К таким типам относятся человек «мусический» (ὁ μουσικός), любящий прекрасное в чувственных формах, «влюбленный» (ὁ ἐρωτικός), влекомый красотой в другом человеке, и собственно «философ» (ὁ φιλόσοφος), от природы стремящийся к умопостигаемому. Плотин утверждает, что путь для всех один, но начальные этапы для каждого типа различны, ибо отправная точка определяется характером их душевного движения.
Рассмотрение начинается с натуры «мусической» – впечатлительной, отзывчивой на внешнюю красоту, гармонию звуков, ритмов и форм, но слабой в самостоятельном движении к источнику этой красоты. Его душа подобна чувствительному инструменту, болезненно реагирующему на дисгармонию и тянущемуся к созвучию. Метод работы с такой душой заключается в диалектическом «отвлечении» (χωρίζοντα) от материи. Педагог должен помочь ему отделить математические пропорции, законы (λόγοι) и отношения, являющиеся основой чувственной гармонии, от самой звучащей или зримой материи, и направить его мысль к красоте самих этих принципов. Таким образом, восхищение конкретной мелодией или статуей должно стать ступенью к постижению умопостигаемой гармонии (νοητὴ ἁρμονία) и красоты как таковой (καλὸν καὶ ὅλως τὸ καλόν). Лишь после этого подготовленный ум можно знакомить с философскими рассуждениями (λόγους τοὺς φιλοσοφίας), которые укрепят его в новой, умственной области бытия, прежде ему неведомой.
Современное звучание этой идеи заключается в признании множественности путей к трансцендентному, которые отталкиваются от различных эстетических или эмоциональных опытов. Плотиновский «мусик» – это прообраз современного человека, чья душа прежде всего откликается на искусство, музыку или поэзию. Плотин предлагает не отвергать эту чувствительность как низменную, а использовать ее как педагогический рычаг, как импульс для интеллектуального озарения, переводящего внимание с эффекта на его причину, с прекрасного образа – на идею прекрасного. Это программа сублимации эстетического переживания в метафизическое познание, где диалектика выступает не как формальная логика, а как искусство внутреннего превращения взгляда, ведущее от множественности чувственных впечатлений к единству умопостигаемого принципа.
2. Путь эротической природы: от памяти к первообразу.
Далее Плотин рассматривает натуру «влюбленного» (ὁ ἐρωτικός), к которой может перейти, преодолев свою первоначальную стадию, и «мусический» человек. Этот тип характеризуется «памятью» (μνημονικός) о красоте, он от рождения носит в душе её смутный образ, но в разобщенном состоянии неспособен его распознать. Чувственная красота телесного облика поражает его, вызывая сильнейшее волнение, но эта реакция есть не что иное, как отклик на воспоминание о подлинном Первообразе. Внутренняя логика педагогики здесь заключается в том, чтобы перевести эту слепую, сосредоточенную на единичном объекте страсть в осознанное созерцание универсального принципа.
Метод восхождения для «влюбленного» требует последовательного расширения объекта его устремлений. Его необходимо научить видеть тождественную красоту во всех прекрасных телах, показав, что эта красота есть нечто отличное от самих тел и приходит из иного источника (ἄλλοθεν). Затем его взор следует обратить к более возвышенным, бестелесным сферам прекрасного: к прекрасным обычаям, законам, добродетелям, наукам и искусствам. Этот этап критически важен, так как привычка к «вожделению» (ἐθισμὸς τοῦ ἐρασμίου) переносится здесь на нематериальные объекты, что готовит душу к полному отрешению от чувственного. После того как душа научилась воспринимать красоту, рассеянную в многообразии, её нужно привести к осознанию её единства, показав, что все частные проявления суть отблески единого Прекрасного.
Лишь пройдя эту школу любви к прекрасному в деяниях и нравах, душа оказывается готовой к финальному восхождению от добродетелей (ἀρεταί), которые упорядочивают её жизнь, к самому Уму (νοῦς) и бытию (τὸ ὄν). Здесь начинается «вышний путь» (ἡ ἄνω πορεία), собственно интеллектуальное восхождение в умопостигаемый мир. Современное звучание этой концепции видится в психологии сублимации, где энергия индивидуального влечения перенаправляется на творческие, интеллектуальные и духовные цели. Плотин предлагает не подавлять эрос, а признать его мощным, хотя и не осознающим себя, стремлением к Абсолюту, и, признав, умело направить по лестнице всё более обобщенных и очищенных от материи форм, превращая личную страсть в универсальную любовь к Истине и Благу.
3. Философская природа: врожденное стремление и потребность в руководстве.
Прямой противоположностью первым двум типам предстает прирожденный философ (ὁ φιλόσοφος τὴν φύσιν). Его душа от рождения «готова» и «как бы окрылена» (ἕτοιμος… καὶ οἷον ἐπτερωμένος), что означает её непосредственную и самодостаточную тягу к умопостигаемому. Ей не требуется болезненный процесс «отвлечения» (χωρίσεως) от материи, необходимый для мусика и влюбленного, поскольку она изначально ориентирована ввысь (πρὸς τὸ ἄνω). Внутренняя логика здесь подчеркивает качественное различие в стартовых условиях: если предыдущие типы нуждались в переориентации их привязанностей, то философская душа уже движется в правильном направлении, но пребывает в состоянии растерянности (ἀπορῶν) из-за отсутствия точного путеводителя.
Таким образом, потребность философа не в пробуждении, а в ясном указании пути (δεικνύντος). Он от природы «развязан» (λελυμένον), то есть не скован плотской привязанностью к единичным вещам, и сам желает окончательного освобождения. Задача наставника – дать ему систематические знания (τὰ… μαθήματα), которые укрепят его врожденную склонность и разовьют привычку мышления, ориентированного на бестелесное (συνεθισμὸν κατανοήσεως καὶ πίστεως ἀσωμάτου). Будучи по природе любознательным и добродетельным, он легко воспримет эти знания. Образование здесь выступает не как коррекция, а как совершенствование и доведение до полноты уже наличных задатков.
Кульминацией подготовки для философа является овладение диалектикой (λόγους διαλεκτικῆς). После усвоения наук его необходимо сделать «диалектиком» (διαλεκτικὸν ποιητέον). В этом контексте диалектика предстает уже не как педагогический прием для отвлечения от чувств, а как высший методологический инструмент самого Ума, позволяющий мыслящей душе свободно ориентироваться в сфере чистых сущностей, различать и связывать их, и восходить к их первоистоку. Таким образом, если для других диалектика – лекарство и лестница, то для философа по природе она – естественное и завершающее выражение его собственной сущности. В современной перспективе это описание созвучно идее о врожденных когнитивных стилях и призваниях, где одна из задач образования – не нивелировать различия, а распознать особый дар и предоставить ему адекватные инструменты для максимальной реализации.
4. Сущность диалектики: наука о сущем и метод восхождения.
Определяя, что же такое диалектика (διαλεκτική), которую надлежит передать и подготовленным ученикам, Плотин дает её развернутое описание не как формальной дисциплины, а как высшего состояния ума (ἕξις). Диалектика есть способность разумного слова точно определить сущность каждой вещи, её отличия от иного и её родовую общность. Она исследует место каждой сущности в иерархии бытия, утверждает её подлинное существование, различает истинно сущее и не-сущее, отличное от него. Её сфера, таким образом, охватывает все ключевые метафизические категории: Благо и не-благо, вечное и тленное, всё, что подчинено этим началам. Она оперирует знанием (ἐπιστήμηι), а не мнением (δόξηι), что подчеркивает её онтологическую укорененность.
Внутренняя логика диалектики раскрывается в её двойном движении. Прежде всего, она прекращает блуждание души в чувственном (παύσασα δὲ τῆς περὶ τὸ αἰσθητὸν πλάνης) и утверждает её в умопостигаемом (ἐνιδρύει τῶι νοητῶι). Здесь, в «полях истины», она разворачивает свою подлинную деятельность, используя платоновский метод диэрезы (διαίρεσις). Это интеллектуальное искусство включает в себя: 1) различение видов, 2) постижение «чтó есть» каждой сущности (τί ἐστι), 3) восхождение к высшим родам (πρῶτα γένη). Далее, следуя нисходящему пути, диалектика «сплетает» (πλέκουσα) сложные понятия из простых, мысленно охватывая всё умопостигаемое, а затем, восходя аналитически (ἀναλύουσα), вновь возвращается к первоначалам.
Этот диалектический процесс – не самоцель, а средство достижения высшего покоя. Достигнув предела умопостигаемого мира, душа успокаивается (ἡσυχίαν ἄγουσα), переставая быть активной в дискурсивном смысле, и, собранная воедино (εἰς ἓν γενομένη), созерцает. Важнейший аспект позиции Плотина – чёткое размежевание подлинной диалектики как онтологического метода с формальной «логической деятельностью» (λογικὴν πραγματείαν), занятой предложениями и силлогизмами. Последнюю он сравнивает с искусством письма – полезным техническим навыком, который диалектика, будучи царственным искусством, использует как инструмент, судит о его полезности, но не отождествляет с собой.
Современное звучание этого учения видится в различении философии как поиска мудрости и формальной логики как её служебного аппарата. Плотин утверждает примат содержательного, интуитивного постижения целостных сущностей над аналитическим расчленением. Диалектика для него – это живой путь разума к Истоку, интеллектуальный аскезис, ведущий от дискурсии к молчаливому созерцанию, где инструменты логики, выполнив свою подготовительную роль, отступают перед непосредственным схватыванием истины.
5. Диалектика как вершина философии и дар Ума.
Возникает ключевой вопрос о гносеологических основаниях диалектики: откуда эта наука (ἐπιστήμη) получает свои начала? Плотин дает прямой ответ: их дарует Нус, Ум (νοῦς δίδωσιν), предоставляющий ясные, самоочевидные принципы (ἐναργεῖς ἀρχάς), если душа способна их воспринять. Таким образом, диалектика не конструирует истину из ничего, но получает от высшей инстанции первичные интуиции, а затем, уже в сфере души, развертывает их, осуществляя деятельность синтеза, сплетения и разделения (συντίθησι καὶ συμπλέκει καὶ διαιρεῖ), пока не приходит к полному, систематическому уму (τέλεον νοῦν). Она есть «чистейшая часть ума и разумения» (τὸ καθαρώτατον νοῦ καὶ φρονήσεως), его актуальное проявление в душе.
Из этого статуса вытекает её абсолютная ценность: это драгоценнейшее из наших внутренних состояний (τιμιωτάτην οὖσαν ἕξιν), обращенное к сущему и самому ценному. Её функция двояка: как разумение (φρόνησις) она занята сферой бытия (τὸ ὄν), как ум (νοῦς) – тем, что за его пределами (τὸ ἐπέκεινα). Это поднимает вопрос о соотношении диалектики и философии. Является ли философия высшим, или она тождественна диалектике, или же диалектика – её благороднейшая часть? Плотин отвергает инструменталистское понимание: диалектика не есть просто орудие философа, набор голых теорем и правил. Напротив, она имеет дело с самими вещами (περὶ πράγματά ἐστι), её «материей» являются сущие (ὕλην ἔχει τὰ ὄντα). Она движется к ним путём (ὁδῶι), но не отдельно от теорем, а уже обладая самими вещами в мысли. Ложь и софизм она познаёт привходяще (κατὰ συμβεβηκὸς), по контрасту с истинами, в ней пребывающими, распознавая их как чуждые.
Это приводит к важному различению. Диалектика не занята специально анализом «предложений» (περὶ προτάσεως οὐκ οἶδε) – это, по его сравнению, дело «грамоты», то есть формальной логики. Но, зная истину, она тем самым знает и то, что называют предложением. Она интуитивно схватывает движения души при утверждении и отрицании, их последовательность и противоречия, подобно тому как чувство мгновенно применяется к своему объекту. Тонкое же логическое выяснение этих форм она предоставляет другой, специально любящей это, дисциплине. Внутренняя логика здесь утверждает онтологический и интуитивный примат диалектики: это живое, содержательное мышление, непосредственно соприкасающееся с реальностью, тогда как формальная логика – её производная и служебная рефлексия. Современный резонанс этой идеи – в споре о природе философского знания: является ли оно, в своей основе, системой формальных выводов или же, прежде всего, интуитивным усмотрением смыслов и связей, для которого логические структуры суть лишь последующая, частичная экспликация.
6. Диалектика в системе философского знания и её отношение к добродетели.
Окончательно определяя место диалектики, Плотин утверждает, что она является благороднейшей частью (μέρος τὸ τίμιον) философии, но не исчерпывает её целиком. Философия включает в себя и другие сферы. Например, физика (φυσικά) исследует природу, используя помощь диалектики, подобно тому как прочие искусства используют арифметику. Однако физика получает принципы от диалектики более непосредственно (ἐγγύθεν), поскольку та определяет сами категории бытия. Точно так же этика (περὶ ἠθῶν) черпает из диалектики основополагающие представления о благе, но добавляет к ним практику формирования устойчивых состояний души (ἕξεις) и упражнения (ἀσκήσεις), из которых эти состояния возникают.
Таким образом, возникает иерархия познавательных и нравственных способностей. Рассудочные навыки (λογικαὶ ἕξεις) уже содержат в себе элементы, полученные от высшего ума, но смешанные с материей частных случаев. Прочие добродетели (ἄλλαι ἀρεταὶ) оперируют рассуждениями в сфере собственных страстей и действий. Практическая мудрость (φρόνησις) – это уже более общий расчёт, взвешивание универсальных принципов, их взаимосвязи и уместности применения. Диалектика же (ἡ διαλεκτικὴ) и высшая мудрость (ἡ σοφία) действуют на самом универсальном и бестелесном уровне, предоставляя чистые принципы для использования практическим разумом.
Отсюда возникает вопрос о возможности существования низших ступеней без высших. Может ли человек обладать «нижними» (как природными) добродетелями без диалектики и мудрости? Плотин отвечает: может, но несовершенно, с изъяном (ἀτελῶς καὶ ἐλλειπόντως). Обратное же невозможно: нельзя быть подлинно мудрым и диалектиком, не обладая этими природными задатками. Они либо предшествуют высшей мудрости, либо развиваются вместе с ней. Вероятно, сначала возникают природные добродетели (φυσικαὶ ἀρεταί), а уже с обретением мудрости они становятся совершенными. Таким образом, мудрость приходит после природных добродетелей и завершает устроение характера. Или же, как предполагает альтернативный вариант, они развиваются и завершаются совместно. В любом случае, природная добродетель – это несовершенное око и незавершенный характер, но в ней, как и в мудрости, присутствуют те же первичные задатки (αἱ ἀρχαὶ), данные нам от природы. Внутренняя логика системы Плотина здесь демонстрирует строгую субординацию: диалектическая мудрость – вершина, венчающая и преобразующая все низшие формы познания и нравственности, придавая им подлинную осмысленность и совершенство, но не отменяющая их необходимости как подготовительных ступеней.
Четвертый трактат.
Περὶ εὐδαιμονίας.
Эйдос блаженства: онтология счастья у Плотина.
Четвертый трактат Плотина «О блаженстве» (Περὶ εὐδαιμονίας) представляет собой не просто этическое рассуждение, но метафизическое исследование условий возможности счастья как такового. Его внутренняя логика развертывается как последовательное восхождение от наивно-антропоморфных определений к онтологическому ядру, где счастье перестает быть психологическим состоянием и становится модусом бытия. Современный человек, погруженный в культуру успеха и гедонистического расчета, обнаруживает здесь радикальный вызов: счастье не только не зависит от внешних обстоятельств, но и не требует даже непрерывности сознания – оно оказывается тождеством с вечнодействующей основой собственного «я».
От «живого существа» к «жизни как таковой»: Плотин начинает с апории: если счастье есть «благая жизнь» (εὖ ζῆν), а жизнь присуща всем живым существам, то почему бы не признать счастливыми животных и растения? Этот кажущийся провокационным вопрос служит методологическим приемом для выявления скрытых предпосылок. Оппоненты интуитивно ограничивают круг счастливых, ссылаясь на отсутствие разума или чувств, но их аргументы рушатся при логическом анализе. Если благо – в соответствии с природой (κατὰ φύσιν), то существо, реализующее свою природу, уже блаженствует, даже не осознавая этого. Если же благо – в осознании, то оно сводится к простой рефлексии, что делает его вторичным и случайным. Так выявляется первый водораздел: счастье либо имманентно жизни как ее совершенство, либо является эпифеноменом сознания.
Иерархия жизней и эйдолоны блага: Плотин разрешает апорию через учение об омонимии жизни. «Жизнь» говорится во многих смыслах: жизнь растения – смутный образ (εἴδωλον) жизни чувствующей, та – образ жизни разумной. Соответственно, и «благо» каждой ступени есть лишь образ высшего блага. Но тогда подлинное счастье должно принадлежать не любой жизни, а той, которая является жизнью par excellence – совершенной, не нуждающейся ни в каких добавлениях (τελεία ζωή). Эта жизнь не может быть привходящим качеством; она есть сама сущность. Так фокус смещается с эмпирических носителей жизни на ее трансцендентный источник: совершенная жизнь – это жизнь Ума (νοῦς), вечно актуальная, самотождественная, блаженная.
Человек как пограничное существо: Здесь возникает ключевой для антропологии Плотина момент. Человек существует в двойном модусе: он может отождествлять себя с составным существом, включающим тело и низшие душевные функции, или же – с высшим, умным «я». В первом случае его блаженство проблематично, ибо подвержено ударам судьбы, болезням, потере сознания. Во втором – оно неуязвимо, ибо это блаженство самого Ума, который есть наша глубочайшая сущность. Мудрец (σπουδαῖος) – это тот, кто совершил метанойю, «переместился» (μεταβέβηκε) в это тождество. Его счастье – не моральная награда, а онтологический факт: он есть то, что есть благо.
Преодоление стоического парадокса: Плотин тонко полемизирует со стоиками, для которых счастье – в «жизни согласно добродетели», но все же предполагает отсутствие страданий. Он показывает, что это компромисс, рождающий полу-счастье. Если страдание может повлиять на блаженство, то оно уже не абсолютно. Его решение радикально: страдает тело или низшая душа, но не умное «я». Даже в пытке быка Фаларида один элемент страдает, другой – созерцает благо. Это не жестокость, а строгое различение онтологических уровней. Добродетель здесь – не терпение, а свидетельство иной природы.
Счастье без сознания: апогей интериорности: Самый поразительный ход Плотина – утверждение, что мудрец может быть счастлив, даже находясь в беспамятстве. Сознание (παρακολουθεῖν) – это лишь «зеркало», отражающее деятельность ума, но не сама деятельность. Когда зеркало разбито (болезнь, опьянение), ум продолжает свою вечную работу. Счастье, таким образом, не требует саморефлексии; оно есть не переживание, а бытие в акте. Это разрыв с общепринятым пониманием счастья как субъективного благополучия. У Плотина счастлив не «человек» как эмпирический индивид, а тот вечный субъект, который в нем присутствует.
Практический императив: жизнь как уподобление Уму: Итог трактата – не созерцательная отрешенность, но конкретный жизненный проект. Мудрец использует тело и внешние блага как лиру – инструмент, которым можно пользоваться, а можно отложить. Он не ненавидит мир, но видит его относительность. Его действия делятся на те, что направлены к счастью (созерцание), и те, что обусловлены заботой о «присоединенном». Он может править городами или бедствовать, но это не касается его сущности. Конечная цель – «петь без инструментов», т.е. осуществить чистую деятельность Ума, свободную от всякой привязанности к материальному.
Современное звучание: В эпоху кризиса внешних идентичностей и поиска устойчивой основы самости плотиновский анализ обретает новую актуальность. Он предлагает не психотехники позитивного мышления, а онтологическую терапию: наше подлинное «я» уже сейчас пребывает в состоянии самодостаточного блаженства, и задача – осознать эту данность, отождествиться с ней. Это вызов культуре, которая счастье маркетизирует, делает его зависимым от достижений, статуса, здоровья. Плотин напоминает: счастье не приобретается – оно узнается как всегда уже присутствующее основание нашего бытия. В этом – его освобождающая и одновременно требовательная сила: освобождающая, ибо делает нас неуязвимыми перед лицом фортуны; требовательная, ибо призывает к радикальному преобразованию всего жизненного строя.
Таким образом, трактат Плотина – это манифест абсолютного имманентизма, который оборачивается радикальным трансцендентизмом: блаженство имманентно нашей глубочайшей сущности, но чтобы актуализировать его, необходимо трансцендировать все эмпирические определения человека. Счастье оказывается не аффектом, а онтологической позицией – бытием в истине о себе.
1. О границах счастья: может ли блаженство быть уделом всех живых существ?
В рассуждении о природе истинного благоденствия, обозначенного как εὖ ζῆν (благая жизнь) и εὐδαιμονία (счастье), возникает фундаментальный вопрос о круге его причастников. Если мы полагаем, что суть благой жизни заключается в беспрепятственном осуществлении собственной природы, то какое основание имеется для того, чтобы исключать из числа счастливых прочие живые существа? Ибо если животное реализует то, к чему оно предназначено от природы, не встречая препятствий, и если его существование протекает в соответствии с его естественной функцией (ἔργον οἰκεῖον), достигая в ней завершенности, то по каким критериям можно отрицать у него наличие εὐζωία (благой жизни)? Логика здесь последовательна: если счастье отождествлять с переживанием удовольствия (εὐπάθεια), то многие существа, например, поющие птицы, явно испытывают его, следуя своим природным склонностям. Если же определять счастье как достижение конечной цели (τέλος) природного стремления (ὄρεξις), то и в этом случае животные, достигающие этой цели, завершая полный цикл жизни, задуманный их природой от начала и до конца, формально удовлетворяют условию.
Однако подобный вывод вызывает интуитивное сопротивление: неужели понятие счастья, столь возвышенное, можно распространить на всех без исключения животных, включая самых низших, а по той же логике – и на растения, которые также обладают жизнью, развертывающейся к своему концу? Возражение против такого расширения часто основано не на строгом аргументе, а на скрытой предпосылке о малой ценности такой жизни. Но разве право на благую жизнь должно определяться внешней, субъективной оценкой её достоинства? Более строгим критерием различия могло бы стать наличие чувственного восприятия (αἴσθησις), которое отсутствует у растений, но присуще животным. Тем не менее, если признать, что сама жизнь (ζωή) допускает градации – будучи либо благой, либо дурной, – то и в жизни растений можно усмотреть аналог благого состояния: растение может преуспевать или чахнуть, приносить плоды или нет.
Таким образом, внутренняя дилемма трактата раскрывается с полной ясностью: определение счастья диктует его универсальность, тогда как человеческая интуиция стремится к его исключительности. Если суть счастья – в удовольствии, или в невозмутимости (ἀταραξία), или просто в жизни согласно природе (κατὰ φύσιν ζῆν), то, следуя строгой дефиниции, нельзя последовательно отрицать его у других живых существ. Проблема, таким образом, смещается с вопроса «кому принадлежит счастье?» на более глубокий: «что есть само счастье?». Современное звучание этого рассуждения заключается в критике антропоцентризма и в постановке вопроса о границах морального сообщества. Логика Плотина заставляет задуматься: не является ли наше нежелание признать возможность счастья у иных существ следствием не строгого философского анализа, а предвзятой иерархизации ценности жизней, что, в свою очередь, требует либо пересмотра определения счастья, либо радикального расширения сферы этической ответственности.
2. О природе восприятия и высшем благе: от чувства к логосу.
Если, возражая против распространения счастья на растения, в качестве решающего критерия выдвигается отсутствие у них чувственного восприятия (αἴσθησις), то возникает риск лишить блаженства и многих животных. Ключевой вопрос заключается в том, какую именно роль играет восприятие в обретении блага. Если под восприятием понимать просто осознание испытываемого состояния (πάθος), то возникает дилемма: должно ли само по себе это состояние быть благом, прежде чем оно будет осознано? Например, пребывание в согласии с природой (κατὰ φύσιν ἔχειν) является благом, даже если оно не осознано; точно так же действие, соответствующее природе существа (οἰκεῖον), остается таковым, даже если сам субъект ещё не знает, что оно соответствует его природе и приятно. Следовательно, если благо уже присутствует как таковое в самом состоянии или расположении, то обладающее им существо уже пребывает в благе (ἐν τῶι εὖ). Зачем же тогда требуется дополнительное условие в виде восприятия? Получается, что сторонники этой позиции переносят источник блага не на само переживаемое состояние, а на знание (γνῶσις) или восприятие этого состояния. Но тогда они должны признать, что само восприятие и есть благо, как актуализация чувственной жизни (ἐνέργεια ζωῆς αἰσθητικῆς). А это ведет к абсурдному выводу: любое восприятие, каким бы оно ни было, станет благом.
Если же благо состоит из двух элементов – и состояния, и восприятия этого состояния, – то как нечто, составленное из двух, самих по себе безразличных (ἀδιάφορον) компонентов, может быть благом? Допустим, состояние (πάθος) само по себе благо, и благая жизнь (τὸ εὖ ζῆн) наступает тогда, когда человек осознает присутствие этого блага. Но что именно он должен осознать? Только факт наличия приятного ощущения или также и то, что это ощущение и есть само благо (τὸ ἀγαθόν)? Если требуется понимание, что это именно благо, то задача уже выходит за пределы простого чувственного восприятия. Это требует иной, более высокой способности (μείζων δύναμις), нежели αἴσθησις. Следовательно, благая жизнь доступна не просто испытывающему удовольствие, а тому, кто способен познать (γινώσκειν), что удовольствие есть благо. Причина благой жизни будет заключаться уже не в удовольствии, а в способности суждения (τὸ κρίνειν), постигающей ценность удовольствия.
Это приводит к решающему онтологическому различению. Способность суждения принадлежит к высшему порядку, чем простое переживание: это разум (λόγος) или ум (νοῦς). Удовольствие же есть переживание, состояние (πάθος). Нигде не может быть так, чтобы неразумное (ἄλογον) превосходило разумное. Как же тогда сам разум, отступив от собственной природы, станет полагать высшим благом нечто, относящееся к противоположному, низшему роду? Таким образом, все рассуждения, будь то тех, кто отказывает растениям в блаженстве, или тех, кто связывает его с определенным видом восприятия, содержат внутреннее противоречие. Они бессознательно ищут нечто большее в понятии «благая жизнь», интуитивно помещая «лучшее» в более ясную и выраженную форму жизни.
Те же, кто определяет блаженную жизнь как жизнь разумную (ἐν λογικῆι ζωῆι), а не просто жизнь чувствующую, возможно, движутся в верном направлении. Но почему они ограничивают счастье только разумным существом? Если причина в том, что разум (λόγος) более изобретателен (εὐμήχανον) и легче обнаруживает и обретает первичные природные блага, то тогда счастье будет доступно и неразумным существам, если те по природе обладают этими благами. В таком случае разум выступал бы лишь как полезный инструмент (ὑπουργός), а не как нечто ценное само по себе; и совершенство разума, которое мы называем добродетелью (ἀρετὴ), тоже не было бы самоцелью.
Если же утверждать, что ценность разума не в добывании природных благ, а в нём самом, в его самодостаточной притягательности, то необходимо точно определить его иную природу, его собственное действие (ἔργον) и то, что делает его совершенным (τέλειον). Его совершенство должно заключаться не в исследовании этих внешних благ, а в чём-то ином. Его природа должна быть иной, он должен принадлежать не к роду этих первичных природных вещей и даже не к тому, из чего они происходят, но быть выше всего этого. Иначе невозможно обосновать его высшую ценность (τὸ τίμιον).
Таким образом, позиция, связывающая счастье лишь с приобретением первичных благ, оказывается в тупике, пока её сторонники не откроют для себя иную, высшую природу, превосходящую ту, на которой они сейчас настаивают. Они остаются там, где желают оставаться, в недоумении относительно подлинного пути к благой жизни, довольствуясь тем, что им доступно. Этот анализ выводит рассуждение за рамки утилитарного понимания разума как инструмента и подготавливает почву для утверждения его трансцендентной, самодостаточной ценности, коренящейся в причастности к высшему, умопостигаемому началу.
3. О градации жизни и сущности блаженства: от эйдолона к совершенству.
Исходным положением является то, что счастье (τὸ εὐδαιμονεῖν) полагается в жизни (ἐν ζωῆι). Если бы понятие «жизнь» употреблялось однозначно (συνώνυμον), то все живые существа, как причастные жизни, были бы способны к счастью, а благой жизнью (εὖ ζῆν) в действительности жили бы те, у кого присутствует некое единое и тождественное благо, к восприятию которого, по природе, способны все живые существа. В таком случае нельзя было бы даровать эту возможность разумному существу (τῶι λογικῶι) и отказывать в ней неразумному (τῶι ἀλόγωι), ибо общим для них была бы именно жизнь, как основа, способная воспринять одно и то же благо для счастья. Отсюда проистекает и ошибка тех, кто утверждает, что счастье осуществляется в жизни разумной, поскольку они, по сути, не полагают счастье в общей жизни и даже не предполагают жизнь как таковую в качестве субстрата. Их вынуждают говорить о разумной способности (λογικὴ δύναμις) как о неком качестве (ποιότης), вокруг которого конституируется счастье. Однако их собственное подлежащее (ὑποκείμενον) – это разумная жизнь, и счастье складывается именно вокруг этого целого. Следовательно, оно относится к иному виду жизни (ἄλλο εἶδος ζωῆς), не как к чему-то противопоставленному разуму, но, как мы утверждали ранее, как к чему-то первичному, тогда как разум является вторичным.
Поскольку жизнь говорится во многих смыслах (πολλαχῶς λεγομένης) и имеет различие согласно степеням: первичным, вторичным и последующим, а также поскольку «жить» говорится омонимично – иначе о растении, иначе о неразумном существе, – причём различие заключается в степени явленности, ясности или смутности (τρανότητι καὶ ἀμυδρότητι), то, очевидно, по аналогии следует понимать и «благо» (τὸ εὖ). И если один род жизни есть лишь образ (εἴδωλον) другого, то и сопутствующее ему благо будет образом блага высшего. Однако если счастье принадлежит тому, у кого жизнь присутствует в высшей степени (ὅτωι ἄγαν ὑπάρχει τὸ ζῆν) – а это есть такая жизнь, которой ничто из присущего жизни не недостаёт, – то счастье будет принадлежать лишь тому, кто живёт в высшей мере. Ибо ему принадлежит и наилучшее, если только наилучшее среди сущих – это подлинно сущая жизнь, жизнь совершенная (ἡ τέλειος ζωή). Только в этом случае благо не будет чем-то привходящим извне (οὐδὲ ἐπακτὸν τὸ ἀγαθὸν), и не потребуется иного подлежащего, которое, будучи произведено откуда-то ещё, поставит его в состояние блага. Ибо что могло бы привнесться к совершенной жизни, чтобы сделать её наилучшей?
Если же кто-то станет говорить о природе блага как такового, такое рассуждение будет близко нашей мысли, однако мы ищем сейчас не причину (οὐ τὸ αἴτιον), а имманентное начало (τὸ ἐνυπάρχον). Что совершенная, истинная и подлинно сущая жизнь пребывает в той интеллектуальной природе (ἐν ἐκείνηι τῆι νοερᾶι φύσει), что все прочие жизни несовершенны, суть образы (ἰνδάλματα) жизни и не являются жизнью в чистом и полном смысле, а скорее в меру своего удаления от источника, – об этом было сказано многократно. И сейчас следует кратко повторить: поскольку всё живое происходит из единого начала (ἐκ μιᾶς ἀρχῆς), но прочее живёт не в равной степени, то необходимо, чтобы само это первое начало было жизнью первичной и в высшей степени совершенной. Таким образом, внутренняя логика рассуждения ведёт от признания омонимии жизни к иерархии её проявлений и, наконец, к утверждению, что подлинное счастье есть актуализация самой совершенной формы жизни, которая тождественна высшему Благу и не нуждается ни в каких внешних добавлениях для своего совершенства.
4. О человеке и совершенной жизни: тождество, ауттаркия и трансценденция блага.
Если человек способен обладать совершенной жизнью (τὴν τελείαν ζωὴν), то человек, обладающий такой жизнью, и есть счастливый. Если же нет, тогда счастье следовало бы отнести лишь к богам, если только у них пребывает жизнь такого рода. Однако, поскольку утверждается, что это счастье существует и среди людей, необходимо исследовать, каким образом это возможно. Человек, очевидно, обладает не только чувственной жизнью, но и способностью суждения (λογισμὸν), и подлинным умом (νοῦν ἀληθινόν). Но является ли он чем-то одним, а совершенная жизнь – чем-то другим, чем он лишь обладает? Или же вообще не существует человека, который не имел бы этого, по крайней мере потенциально (δυνάμει) или актуально (ἐνεργείαι), и именно такого мы и называем счастливым?
Скорее, следует сказать, что эта совершенная форма жизни (τὸ εἶδος τῆς ζωῆς τὸ τέλειον) пребывает в нём как его подлинная сущность. Обычный человек имеет эту часть лишь потенциально, тогда как счастливый уже актуализировал её и сам стал ею, переместившись (μεταβέβηκε) в тождество с ней. Всё прочее в нём теперь лишь окружает (περικεῖσθαι) эту сущность, и не может считаться его частью, поскольку существует не по его истинной воле; однако при правильном устроении это окружение может быть согласовано с волей высшего начала. Что же тогда является благом (τὸ ἀγαθόν) для такого существа? Он сам для себя и есть то, что он имеет. Причина же, пребывающая за его пределами (τὸ ἐπέκεινα αἴτιον), есть благо для него иным образом, присутствуя в нём, но не будучи им самим. Доказательством этого служит то, что существо, пребывающее в таком состоянии, не ищет ничего иного. Что ему искать? Ничто из низшего его не интересует, ибо оно пребывает в соединении с наилучшим (τῶι ἀρίστωι σύνεστιν).
Таким образом, жизнь того, кто обладает такой жизнью, самодостаточна (αὐτάρκης). Поскольку он серьёзен (σπουδαῖος) в своём высшем измерении, он самодостаточен для счастья и для обладания благом; ибо нет никакого блага, которого бы он не имел. Если он что-то и ищет как необходимое, то ищет не для себя, но для чего-то из своего окружения. Он ищет для тела, к которому привязан; и даже живя телесной жизнью, он живёт для этого своего низшего., а не для того, чем является подлинный человек. И он знает это различие, и даёт то, что даёт, не умаляя нисколько своей собственной, истинной жизни.
Следовательно, и при враждебных обстоятельствах (ἐν τύχαις ἐναντίαις) его счастье не умалится, ибо такая жизнь остаётся неизменной. При смерти близких и друзей он знает, что такое смерть – знание, доступное и тем, кто страдает, будучи внутренне серьёзным. Хотя страдания касаются его родных и могут причинять скорбь, они затрагивают не его самого, но то в нём, что не обладает умом, – ту часть, которая не примет страданий в свою высшую сущность. Внутренняя логика здесь ведёт к радикальному утверждению: счастье есть не состояние обладания, но онтологическое тождество с совершенной жизнью ума, которая благодаря своей самодостаточности и причастности к трансцендентному источнику остаётся невредимой в потоке внешних событий. Это учение о нерушимом внутреннем бастионе, актуальность которого – в ответе на экзистенциальную неустойчивость и поиск незыблемого основания человеческого достоинства.
5. О пределах страдания: испытания плоти и сущность блаженства
Возникает, однако, вопрос о более острых препятствиях: что делать с болью, болезнями и вообще всеми состояниями, которые полностью блокируют деятельность (τὰ ὅλως κωλύοντα ἐνεργεῖν)? А что, если человек вследствие действия ядов или некоторых болезней даже теряет самосознание (μηδ᾽ ἑαυτῶι παρακολουθοῖ)? Как при всех этих обстоятельствах можно сохранять благую жизнь и счастье? Вопросы о бедности и бесславии можно пока оставить в стороне, хотя и они требуют внимания, особенно если вспомнить столь часто упоминаемые «приамовы» несчастья (Πριαμικὰς τύχας). Даже если мудрец выносит их и выносит легко, сами по себе они не были бы желательны (βουλητά) для него. Между тем, счастливая жизнь должна быть желаема. Ведь невозможно считать серьёзного человека (τὸν σπουδαῖον) такой душой, которая бы не включала в свою сущность природу тела. Готовы ли мы допустить это, пока воздействия на тело относятся к нему, а выборы и избегания происходят у него по этой причине? Если удовольствие считается составной частью (συναριθμουμένης) счастливой жизни, то как может быть счастлив тот серьёзный человек, кто испытывает скорбь от превратностей судьбы и боль? Разве такие состояния возможны для него?
Очевидно, для богов подобное состояние (безмятежное и самодостаточное) является счастливым. Но человек, принявший в свой состав низшее начало (προσθήκην τοῦ χείρονος λαβοῦσι), должен искать счастья в отношении целого, образовавшегося из этого соединения, а не в отношении лишь одной части. Ибо если одна часть, низшая, пребывает в дурном состоянии, она по необходимости препятствует и высшей части в её собственной деятельности, поскольку условия для этой деятельности не обеспечены благополучием низшего. Отсюда следует радикальная дилемма: для того чтобы обладать самодостаточностью (τὸ αὔταρκες) в отношении счастья, необходимо либо оторваться (ἀπορρήξαντα) от тела и телесного восприятия, либо же принять, что условием деятельности высшего начала является определённый порядок и в низшем. Эта антиномия раскрывает трагическую двойственность человеческого удела: блаженство, по своей сути принадлежащее чистой интеллектуальной жизни, в земном воплощении оказывается подверженным помехам со стороны того, что не является сущностным, но с чем оно связано. Логика требует либо радикального трансцендирования, либо признания сложной целостности, в которой счастье высшей части не может быть абсолютно нечувствительным к страданиям части низшей. Этот пункт представляет собой кульминацию критики стоического идеала невозмутимости, демонстрируя его онтологическую несостоятельность для составного существа.
6. О единой цели: различение блага и необходимого.
Если бы рассуждение предоставляло счастье (τὸ εὐδαιμονεῖν) в том, чтобы не испытывать боли, не болеть, не быть несчастным и не попадать в большие бедствия, то при наличии противоположных обстоятельств никто не мог бы быть счастливым. Но если счастье положено в обладании истинным благом (ἐν τῆι τοῦ ἀληθινοῦ ἀγαθοῦ κτήσει), то к чему, оставив это в стороне и отводя взгляд от этого, судить о счастливом, требуя наличия прочего, что не входит в число условий счастья? Если бы конечная цель (τὸ τέλος) была совокупностью (συμφόρησις) благ и необходимых вещей, или даже не необходимых, но также называемых благами, то следовало бы требовать присутствия и их. Но если цель должна быть единой, а не множественной (ибо в противном случае это была бы не цель, а цели), то следует принимать во внимание лишь то одно, что является конечным (ἔσχατον), наиценнейшим (τιμιώτατον) и чего душа ищет, чтобы вместить в себя (ἐγκολπίσασθαι).
Это искание и это желание (βούλησις) заключается не в отсутствии нежелательных состояний; ибо они не относятся к её природе. Разум (ὁ λογισμὸς), устраивая свои дела, избегает их, когда они присутствуют, или же, принимая их в расчёт, ищет; но само стремление (ἡ ἔφεσις) направлено к тому, что выше её (τὸ κρεῖττον αὐτῆς), и когда это высшее входит в неё, она наполняется и останавливается. Вот эта жизнь и есть поистине желаемая (ὁ βουλητὸς ὄντως βίος). Присутствие же чего-либо необходимого не было бы предметом желания в собственном смысле, если строго понимать желание, а не пользоваться словом в переносном смысле, поскольку мы и эти вещи считаем нужными. Ведь мы вообще избегаем зол, и, конечно, само это избегание не есть предмет желания; скорее желательно то, чтобы не было нужды в таком избегании. Это подтверждают и сами эти вещи, когда они присутствуют: например, здоровье и отсутствие боли. Что в них привлекательного? Здоровье, когда оно есть, презирают, и отсутствие боли тоже.
То, что в присутствии не имеет ничего привлекательного и ничего не прибавляет к счастью, но в отсутствии ищется из-за присутствия неприятных вещей, разумно называть необходимым (ἀναγκαῖα), но не благом (ἀγαθά). Следовательно, это не должно входить в расчёт при определении конечной цели (οὐδὲ συναριθμητέα τῶι τέλει). Даже при их отсутствии и при наличии противоположного цель должна сохраняться незатронутой (ἀκέραιον τὸ τέλος τηρητέον). Внутренняя логика здесь совершает решающее движение: она отделяет сущностное стремление души к высшему трансцендентному Благу от всех инструментальных и негативных условий земного существования. Счастье определяется не через сумму позитивных состояний или отсутствие страданий, а через онтологическое обладание единым, самодостаточным Принципом. Это радикальная интериоризация и одновременно трансценденция цели, делающая подлинное блаженство независимым от фортуны. Современный отзвук этой идеи – в поиске не относительного психологического благополучия, а абсолютного смыслового основания, устойчивого перед лицом любой конечности и страдания.
7. О безразличии внешнего: величие духа и границы страдания.
Почему же тогда счастливый желает, чтобы эти необходимые вещи присутствовали, а противоположные отсутствовали? Утверждается, что не потому, будто они вносят какой-то вклад в само счастье, но скорее ради самого существования; противоположные же вещи либо вредят существованию, либо, присутствуя, мешают осуществлению цели (τῶι τέλει) – не в том смысле, что отнимают её, но потому, что обладающий наилучшим хочет иметь только его, а не что-либо иное вместе с ним. Когда это иное присутствует, оно не отнимает высшее благо, но всё же, даже при его наличии, высшее. остаётся.
Вообще, если счастливый чего-то не желает, но оно всё же происходит, это ещё не означает, что у него отнимается часть счастья. Иначе он ежедневно переходил бы из одного состояния в другое и выпадал из счастья – например, если бы терял ребёнка или любое имущество. Бесчисленны вещи, которые, случаясь против его воли, нисколько не затрагивают присутствующей в нём цели. «Но есть же большие несчастья, а не случайные мелочи», – возражают. Что же из человеческого может быть столь великим, чтобы не быть презренным для того, кто вознёсся к тому, что выше всего этого, и больше не зависит ни от чего низшего? Почему, в самом деле, удачи, сколь бы велики они ни были – царства, власть над городами и народами, основание и построение городов, даже если это его дело, – он не считает великими, а утрату власти или разрушение родного города сочтёт чем-то значительным? Но если он и впрямь сочтёт это великим или вообще злом, то он смешон в своей вере и уже не серьёзен, раз полагает великим бревна, камни и, клянусь Зевсом, смерть смертных, – он, у кого, как мы говорим, должно быть убеждение, что смерть есть благо по сравнению с жизнью в теле.
А если бы он сам был убит, счёл бы он смерть злом для себя из-за того, что пал у алтарей? Но если его не погребут, разве тело, положенное над или под землёй, всё равно не истлеет? А если его похоронят без пышности, безымянно, не удостоив высокого памятника – это мелочность. Если же его уводят в плен, у него всегда есть путь выйти – если только он не считает, что иначе не сможет быть счастлив. А если в плен уводят его близких, например, уводят невесток и дочерей – что ж, скажем, разве он умер бы, не видя такого? Разве он ушёл бы из жизни с убеждением, что такое невозможно случиться? Но это было бы нелепо. Неужели же он станет думать, что его близкие могут попасть в такие несчастья, и из-за такого убеждения, будто это может произойти, он уже не будет счастлив? Но даже и с таким убеждением он может быть счастлив – а значит, может быть счастлив и когда это происходит. Ибо он помнит, что природа всего этого мира такова, что несёт с собой и такие события, и что нужно следовать ей. И многие, попав в плен, проживут жизнь даже лучше. А если они тяготятся этим – могут уйти из жизни.. Или же, оставаясь, они либо остаются с разумным основанием, и тогда нет ничего ужасного, либо остаются без основания, когда не следовало бы, – и тогда виновники сами себе. Ведь не из-за неразумия других, пусть даже близких, он сам окажется в зле и не станет зависеть от удач и несчастий других.
Внутренняя логика этого рассуждения доводит до предела идею самодостаточности мудреца. Она не просто утверждает независимость высшего блага от внешних обстоятельств, но подвергает радикальной переоценке саму шкалу человеческих ценностей: то, что обывателю кажется величайшим горем, для восшедшего к умопостигаемому – ничто, «бревна и камни». Трагические сюжеты (плен, смерть, бесчестие) разбираются не как моральные дилеммы, а как онтологические иллюзии, проистекающие из ложной идентификации себя с телесным и социальным. Современный резонанс этой позиции – в её безжалостном требовании к экзистенциальной автономии: подлинная свобода и достоинство предполагают радикальное внутреннее дистанцирование от всех форм внешней детерминации, включая самые сакрализованные – родственные узы и патриотические привязанности. Это не бесчувственность, но признание иного порядка реальности, в котором наше подлинное «я» неуязвимо.
8. О силе добродетели перед лицом крайних страданий.
Что же до самой боли, то пока он в силах выносить её, он будет нести; если же она превзойдёт меру, она унесёт его из жизни.. И он не будет жалок в страдании, но будет хранить свой внутренний свет, подобно свету в светильнике среди сильной бури и вьюги, когда снаружи бушует ветер. Но что, если он лишится сознания или если боль продлится так долго и будет столь сильной, что, даже не убивая, сделает невозможным внутреннее присутствие? Если она продлится, он будет размышлять, что следует делать; ибо даже в этом не отнята у него способность к свободному выбору (τὸ αὐτεξούσιον). Нужно понимать, что вещи будут представляться серьёзному человеку не так, как другим, и ничто внешнее – ни страдания, ни скорби – не проникнет в его внутреннюю сущность. А когда речь идёт о страданиях других? Это было бы слабостью нашей души. Об этом свидетельствует и то, что мы считаем выгодой, когда несчастья. проходят мимо нас, и полагаем выгодой для себя, когда мы умираем, если такое происходит, – заботясь уже не о них, а о себе, чтобы не страдать. Это уже наша слабость, которую нужно устранять, а не, оставляя её, бояться, как бы она не проявилась.
Если же кто-то скажет, что мы так устроены от природы, чтобы страдать от несчастий близких, пусть знает, что не все таковы, и что долг добродетели – вести общую природу к лучшему и к более прекрасному, вопреки мнению большинства. Более же прекрасное – не поддаваться тому, что считается ужасным по общей низшей. природе. Ибо не частным образом, но как великий атлет, должен быть настроен мудрец., отражая удары судьбы, зная, что они неприятны некой низшей. природе, но по своей собственной природе он способен нести их – не как нечто ужасное, а как то, что страшно лишь детям. Разве он желал этого? Нет, но и перед лицом нежеланного, когда оно случается, он проявляет добродетель, сохраняя душу нелегко сдвигаемой и нелегко подверженной страданию (δυσκίνητον καὶ δυσπαθῆ). Этот пассаж представляет собой кульминацию этики сопротивления: добродетель здесь – не просто знание, но аскетическая сила души, её «атлетическая» закалка, позволяющая сохранять внутренний свет (φέγγος) сознания даже в агонии. Современный смысл – в утверждении, что человеческое достоинство заключается не в отсутствии страдания, а в качестве внутренней позиции по отношению к нему, в способности к смыслопорождению и сохранению идентичности даже за порогом сознательного контроля. Это героический идеал, но лишённый пафоса: стойкость есть естественное следствие онтологического превосходства высшего «я».
9. О непрерывности блаженства: бессознательная деятельность сущности.
Но что, если он не осознаёт себя, будучи погружён в беспамятство из-за болезни или колдовства? Если, однако, признают, что он остаётся серьёзным мудрецом. в таком состоянии – подобно спящему во сне, – то что мешает ему быть счастливым? Ведь и во сне его не лишают счастья, и это время не исключают из расчёта, чтобы не считать счастливым всю его жизнь. А если не признают его серьёзным в таком состоянии., то они уже ведут речь не о серьёзном человеке. Мы же, предположив серьёзного человека, исследуем, счастлив ли он, пока он остаётся таковым.
«Пусть он серьёзный, – скажут, – но если он не воспринимает и не действует согласно добродетели, как он может быть счастлив?» Однако если он не осознаёт, что здоров, он всё равно здоров; если не осознаёт, что красив, он всё равно красив; а если не осознаёт, что мудр, разве он от этого менее мудр? Разве только кто-то не скажет, что в мудрости должно присутствовать самовосприятие и самоосознание; ибо в актуальной мудрости (ἐν τῆι κατ᾽ ἐνέργειαν σοφίαι) присутствует и счастье. Этот довод, возможно, имел бы смысл, если бы рассудительность и мудрость были чем-то привходящим (ἐπακτοῦ ὄντος). Но если существование мудрости (ἡ τῆς σοφίας ὑπόστασις) заключено в некой сущности, или, точнее, в сущности самого человека., и если эта сущность не утрачивается ни в спящем, ни вообще в том, кто, как говорят, не осознаёт себя, – если, далее, сама энергия этой сущности (ἡ τῆς οὐσίας αὐτὴ ἐνέργεια) пребывает в нём, и эта энергия не спит (ἄυπνος ἐνέργεια), – тогда серьёзный человек и в таком состоянии действует (ἐνεργοῖ), поскольку он таков. И эта деятельность может ускользать от осознания, но не от него целиком, а лишь от некой его части. Подобно тому как деятельность растительной души, совершаясь, не доходит до восприятия другим, чувствующим человеком, и, если бы мы были нашим растительным началом, мы бы и действовали как оно.. Но сейчас мы – не оно; наша сущность – в деятельности мыслящего начала (τοῦ νοοῦντος ἐνέργεια). Следовательно, когда это начало действует, действуем и мы.
Здесь происходит тончайшее и решающее различение. Плотин отделяет самосознание эмпирического субъекта (παρακολουθεῖν ἑαυτῶι) от непрерывной, «неусыпной» деятельности (ἄυπνος ἐνέργεια) высшей умной сущности человека. Счастье принадлежит не феноменальному «я», которое может терять сознание, а ноуменальному субъекту, чьё бытие тождественно его вневременной деятельности созерцания. Таким образом, блаженство оказывается онтологическим состоянием, а не психологическим переживанием. Его непрерывность гарантирована не памятью или рефлексией, а самой природой ума как актуальности. Современный аналог – различение личности и сущности, эго и глубинного «Я», где подлинное бытие и благо не зависят от колебаний сознания. Это метафизическое обоснование нерушимого достоинства и ценности человеческой личности даже в состояниях, кажущихся невменяемостью или деградацией.
10. О деятельности без самосознания: приоритет бытия над рефлексией.
Возможно, эта деятельность ускользает от осознания потому, что не касается ничего чувственного; ибо через посредство чувств, как через среду, нам кажется, что мы действуем и в отношении этих чувственных вещей.. Но почему же сам ум (νοῦς) не может действовать, и душа, предшествующая чувству и вообще всякому восприятию (ἀντίληψις)? Ведь должно существовать действие (ἐνέργημα), предшествующее восприятию, если мысль (τὸ νοεῖν) и бытие (τὸ εἶναι) – одно и то же.
Похоже, что восприятие возникает и имеет место, когда мысль возвращается к самой себе., и когда действующее начало души, связанное с жизнью, как бы отражается назад, подобно тому как в зеркале, гладком и блестящем, возникает образ, если оно покоится. Таким образом, когда такое зеркало в нас присутствует, возникают образы (εἴδωλα) мыслей и ума, и они зримы и, так сказать, познаются чувственно, вместе с предшествующим знанием, что ум и мысль действуют. Но когда это зеркало нарушено из-за расстроенной гармонии тела, мысль и ум мыслят без образа, и мышление происходит без фантазии. Так что можно помыслить, что мышление и с фантазией происходит тогда, когда самой фантазии для мышления не требуется. Можно найти множество прекрасных действий, созерцаний и поступков даже у бодрствующих, когда мы созерцаем или действуем без самоосознания (τὸ παρακολουθεῖν). Читающему необязательно осознавать, что он читает, особенно когда он читает с напряжением; и мужественно действующий не осознает, что проявляет мужество и действует согласно добродетели ровно настолько, насколько действует; и так в бесчисленном множестве случаев. Отсюда следует, что самоосознание рискует сделать менее яркими сами деятельности, которым оно сопутствует; будучи же сами по себе, без сопровождения, они чисты и действуют более интенсивно, и жизнь в них полнее. И именно в таком состоянии, когда оно случается с серьёзными людьми, жизнь присутствует в большей степени – не разлитая в чувственности, но собранная в самой себе, сосредоточенная в своём внутреннем единстве.
В этом пассаже Плотин проводит решающий поворот: он не только защищает возможность блаженства без сознания, но и утверждает, что высшие деятельности ума по своей природе предшествуют рефлексивному осознанию и часто более чисты и интенсивны именно в отсутствие последнего. Самосознание, понимаемое как возвращение акта к самому себе (ἀνακάμπτοντος), вторично и может даже ослаблять изначальную энергию. Образ зеркала объясняет, почему наше эмпирическое «я» не всегда застаёт деятельность высшего ума: «зеркало» низшей души, через которое эта деятельность могла бы отразиться в сознании, бывает затемнено или разбито. Таким образом, подлинная жизнь (τὸ ζῆν) и счастье суть атрибуты самой ноэтической деятельности, а не её отражения в самосознании. Современный резонанс этой идеи – в критике культа рефлексии и в поисках «нерефлексивного сознания» или «потока», где субъект полностью поглощён объектом, а его деятельность достигает максимальной эффективности и полноты. Это утверждение имманентной ценности чистого акта бытия, независимого от его субъективного переживания.
11. О подлинном субъекте блаженства: отказ от внешних критериев.
Если же некоторые станут утверждать, что такой человек даже не живёт, мы скажем, что он живёт, но они не замечают ни его жизни, ни его счастья. Если же они не убедятся, мы потребуем от них, чтобы они, предположив живого и серьёзного человека, именно как такового исследовали, счастлив ли он, – не умаляя сначала его жизни и не ища, присутствует ли благая жизнь, не упразднив человека и не исследуя счастье человека, не согласившись, что серьёзный человек обратился вовнутрь, и не ища его во внешних деятельностях, и вообще не полагая предмет его воли во внешнем. Ибо в таком случае не было бы и основания для счастья, если бы предметами воли называли внешнее и если бы серьёзный человек желал этого. Ведь он, возможно, и желал бы, чтобы все люди преуспевали и чтобы ни с кем не случалось зла; но даже если это не происходит, он всё равно счастлив. Если же кто-то скажет, что это сделало бы его нелогичным, если бы он желал этого – ибо невозможно, чтобы зла не было, – то ясно, что он согласится с нами, что его воля должна быть обращена вовнутрь.
Здесь подводится итог всей полемике. Плотин указывает, что оппоненты совершают ряд недопустимых подмен: они сводят жизнь к её внешним проявлениям, ищут счастье человека, предварительно «упразднив» (ἀνελόντας) его как носителя высшей, умной сущности, и проецируют истинную волю мудреца на внешние, невозможные или несущественные объекты. Серьёзный человек, обращённый вовнутрь (εἰς τὸ εἴσω ἐπεστράφθαι), находит цель и объект воли в самом себе, в своей тождественной уму сущности. Его благосклонность к другим (желание всеобщего блага) – это не условие его счастья, а естественное следствие его состояния, но не его суть. Признание же неизбежности зла в мире вынуждает согласиться, что единственно последовательной позицией является полный интровертивный поворот воли. Таким образом, внутренняя логика трактата завершается утверждением радикального автономизма: подлинное счастье есть бытие-в-себе и для-себя умной сущности, абсолютно независимое от эмпирического мира причин и следствий. Современное звучание этого заключения – в его вызове всем утилитарным и социально-ориентированным этикам: конечное благо человека трансцендентно по отношению к историческому и социальному контексту и достижимо только через онтологическую трансформацию, делающую внешнее мирное благоденствие желанным, но не необходимым.
12. О радости внутреннего покоя: подлинная услада совершенной жизни.
Когда же требуют удовольствия (τὸ ἡδὺ) для такой жизни, они не должны требовать присутствия наслаждений распущенных или телесных – ибо они невозможны в таком состоянии. и уничтожают само счастье, – но и не тех радостей, что суть ликование (περιχαρείαι) – ибо зачем они? – а тех, что сопутствуют присутствию благ, не состоящих в движениях и, следовательно, не возникающих как события. Ибо блага уже присутствуют, и он сам присутствует для себя; и это удовольствие пребывает неизменным (ἕστηκε), это благосклонное состояние (τὸ ἵλεων). Серьёзный человек всегда благосклонен, и его устроение (κατάστασις) спокойно, и его расположение (διάθεσις) желанно; его ничто из так называемых зол не поколеблет, если он поистине серьёзен. Если же кто-то ищет для жизни серьёзного человека иного рода удовольствия, то он ищет не жизни серьёзного человека.
В этом заключительном пассаже даётся окончательное определение того положительного аффекта, который совместим с блаженством. Это не динамическое, событийное удовольствие (ἡδονὴ ἐν κινήσεσιν), а статическое, имманентное состояние радости (τὸ ἵλεων), проистекающее не из приобретения, а из самого факта бытия в благе. Оно не «возникает», но «пребывает» (ἕστηκε), будучи атрибутом вечного присутствия блага в себе. Такая радость есть синоним внутреннего покоя (ἡσυχία) и неуязвимого расположения души. Тем самым проводится последнее радикальное различие: между счастьем как экстатическим переживанием и счастьем как онтологическим покоем сущности. Современный эквивалент – различение между гедонистическим поиском удовольствий и эвдемонистическим состоянием «процветания» (flourishing), которое есть скорее фоновая гармония бытия, а не пиковые переживания. Блаженство Плотина – это не эмоция, а модус существования, в котором радость есть просто синоним полноты и нерушимости бытия.
13. О неизменности внутренней деятельности: разнообразие форм, единство источника.
Ни сами деятельности (αἱ ἐνέργειαι) не могут быть остановлены превратностями судьбы, но одни будут сменяться другими в соответствии с различными обстоятельствами, и все они тем не менее будут прекрасны, и, возможно, тем прекраснее, чем более вынужденны. Что же касается деятельностей созерцания (αἱ κατὰ τὰς θεωρίας ἐνέργειαи), то одни, относящиеся к частным предметам., возможно, будут затруднены., например, те, которые требуют исследования и размышления. Но величайшее знание (τὸ μέγιστον μάθημα) всегда под рукой (πρόχειρον) и пребывает с ним, и тем более, даже если он окажется в так называемом быке Фаларида, о котором тщетно говорят, что дважды или даже многократно повторяемое страдание. становится приятным. Ибо там в быке. звучащее есть именно то, что существует в страдании, здесь же страдающее – одно, а другое – то, что сопутствует ему, пока по необходимости сопутствует, – не отлучится от созерцания всего блага (τῆς τοῦ ἀγαθοῦ ὅλου θέας).
Это завершающее утверждение окончательно снимает возможные возражения о внешних препятствиях. Внешние условия могут менять форму проявления деятельности (практической или даже низших форм созерцания), но не её сущностное ядро – непосредственное созерцание высшего блага, которое всегда «под рукой», как имманентное состояние бытия. Знаменитый пример быка Фаларида (медного быка, в котором жгли людей, и их крики превращались в рёв) используется для различения: у страдающего в быке нет ничего, кроме страдания, но у мудреца, даже в агонии, страдает одно начало, а другое, высшее, остаётся свободным и созерцает благо. Это не означает наслаждения страданием (как в извращённой стоической интерпретации), а констатирует онтологический дуализм в человеке. Таким образом, последний барьер – экстремальное физическое страдание – преодолевается: созерцание целокупного блага есть не интеллектуальный акт, требующий досуга, а модус существования умной сущности, неустранимый даже в самых ужасных обстоятельствах. Логика трактата достигает своей кульминации: счастье абсолютно, потому что абсолютна причастность ума к Благу, которая есть само его бытие.
14. О завершении: человеческое и истинное «я», аскетизм как свидетельство.
То, что человек, и особенно серьёзный, не есть нечто составное из высшего и низшего., подтверждается и отделением от тела, и презрением к так называемым благам тела. Что же касается требования, чтобы счастье принадлежало живому существу как целому, это смехотворно, поскольку счастье есть благоустроенность жизни (εὐζωία), которая складывается в отношении души, являясь её деятельностью, и притом не всякой души – конечно, не растительной (ибо тогда бы оно касалось и тела: ведь счастье не есть величина тела и хорошее сложение), но и не в хорошем чувствовании, поскольку излишества в этом, отягощая, могут увлечь человека к самим себе. Когда же происходит, так сказать, противовес в сторону наилучшего, телесное умаляется и ухудшается, дабы показать, что этот человек – иной, нежели внешнее. Пусть же человек здешний будет и красив, и велик, и богат, и властвует над всеми людьми, как подобает существу этого места, – и не должно завидовать ему, обманутому такими вещами. Для мудрого же, возможно, этого и вовсе не произойдёт, а если произойдёт, он сам умалит это, если заботится о себе. И он умалит и иссушит небрежением излишества тела, а власти сложит с себя. Заботясь о здоровье тела, он не захочет быть совершенно незнакомым с болезнями; но и не быть незнакомым с болями; и, даже если они не случаются в молодости, он захочет узнать их; уже же в старости ни эти боли., ни удовольствия, ни что-либо здешнее – ни приятное, ни противное – не будут его беспокоить, чтобы он не взирал на тело. Оказавшись же в страданиях, он противопоставит им свою заранее приготовленную силу, не принимая ни прибавления к счастью от удовольствий, здоровья и отсутствия боли, ни умаления или уменьшения его от противоположного. Ибо если противоположное не прибавляет ничего к тождественному высшему «я»., как же может противоположное у него что-то отнять?
Заключительный раздел подводит онтологический итог: истинный человек, мудрец, тождествен своему высшему, умному началу, что доказывается его способностью к отделению (χωρισμός) от тела и презрению к его благам. Аскетическая практика – умаление телесного – не самоцель, но demonstratio, свидетельство иного, вне-телесного бытия. Социальные и физические преимущества «здешнего человека» – удел обманутого сознания, достойный не зависти, но снисхождения. Мудрец не избегает болезней и боли, ибо они – часть опыта, который не должен заслонять главного; он готовится к ним, культивируя внутреннюю силу (δύναμις). Ключевой вывод: поскольку внешние обстоятельства, будь то приятные или болезненные, ничего не прибавляют к сущностному бытию высшего «я», они не могут и убавить от него. Счастье, таким образом, есть инвариантное состояние сущности, которое внешний мир может лишь затемнить для неведения, но не затронуть в его бытии. Это – метафизическое обоснование стоического идеала, но выведенное за его пределы: апатия здесь не психологический навык, а онтологический факт высшей природы человека. Современный отзвук – в призыве к идентификации не с социальными ролями и физическим состоянием, а с тем трансцендентным ядром личности, которое остаётся неизменным во всех перипетиях жизни и смерти.
15. О равенстве блаженства и преодолении иллюзий страха.
Если бы было два мудреца, и одному из них были бы присущи так называемые природные внешние. блага, а другому – противоположные, скажем ли мы, что счастье присутствует в них в равной мере? Скажем, если они равны в мудрости. Но если один прекрасен телом и обладает всем прочим, что не относится к мудрости и вообще к добродетели, созерцанию наилучшего и бытию в наилучшем, какое это имеет значение? Ведь и сам обладающий этим не будет гордиться как более счастливый, чем не обладающий, ибо избыток этих вещей не вносит вклада в цель, подобную цели флейтиста. Однако мы созерцаем счастливого, примешивая нашу собственную слабость, считая ужасным и страшным то, что счастливый таковым не сочёл бы; иначе он не был бы ни мудрым, ни счастливым, не изменив все представления об этом и не став как бы совершенно иным, уверенным в себе, что никогда не потерпит зла; ибо так он будет бесстрашен во всём. А если он боится чего-либо, он не совершенен в добродетели, но есть некое полу-существо. Ведь и непроизвольный страх, возникающий в нём до сознательного. суждения, даже если иногда возникает у него при виде других, мудрец, приблизившись к этому страху., отгонит его и успокоит встревоженного в нём, как ребёнка, склонного к печалям, либо угрозой, либо словом; угрозой же – бесстрастной, как если бы ребёнок устрашился одного лишь величавого взгляда. Не значит ли это, что такой человек бессердечен или неблагодарен? Нет, ибо таков же он и в отношении себя и своего. Отдавая же то, что надлежит. ему и друзьям, он был бы другом в высшей степени, сохраняя при этом разумность.
Этот заключительный пассаф решает последний возможный вопрос о справедливости: неравенство внешних условий ничего не меняет в равенстве внутреннего состояния блаженства, ибо последнее зависит исключительно от мудрости и причастности высшему. Обладание внешними благами столь же нерелевантно для счастья, как физическая красота для искусства флейтиста. Далее следует важное замечание о психологии мудреца: обычный человек проецирует на него свои собственные страхи, но подлинный мудрец достиг радикальной трансформации сознания, изменив все фантазии (φαντασίας) о добре и зле. Он убеждён в своей неуязвимости для зла, что и составляет основу его бесстрашия (ἀδεής). Спонтанные, дорефлексивные движения страха возможны как остаточные явления низшей души, но они мгновенно подавляются высшим началом, как взрослый успокаивает ребёнка. Это не делает мудреца бесчувственным или недружелюбным; его дружба и благодарность основаны на разуме и выражаются в должном действии. Таким образом, идеал завершается не отрешенным бесстрастием, а гармоничным соотношением: абсолютная внутренняя свобода и неуязвимость сочетаются с разумной и щедрой вовлечённостью в мир. Это высший синтез самодостаточности и связи, трансценденции и имманентности.
16. О ложном компромиссе и истинном образе жизни.
Если же кто-то не поместит серьёзного человека здесь, в этом уме, возвысив его, а низведёт его к превратностям судьбы и станет бояться, как бы они не случились с ним, тот не сохранит серьёзного человека таким, каким мы требуем его видеть, но лишь человека порядочного, и, представляя его смесью из блага и зла, он припишет такому и жизнь смешанную, состоящую из некоего блага и зла, что нелегко осуществимо. И если бы даже такой человек. и возник, он не был бы достоин именоваться счастливым, не имея в себе ни величия, соразмерного мудрости, ни чистоты блага. Следовательно, невозможно жить счастливо, оставаясь. в общем человеческом уделе.. Ибо правильно и Платон полагает, что благо должно принимать оттуда, сверху, и что тот, кто намерен стать мудрым и счастливым, должен взирать на него и уподобляться ему, и жить согласно ему. Это одно и должно иметь в виду как цель, прочее же – принимая. как бы при перемене мест, не получая от мест прибавления к счастью, но сообразуясь и с другими обстоятельствами, обступившими его, например, как он ляжет – так или иначе, давая этому низшему. то, что требуется для нужды и что в его силах, сам же будучи иным, не будучи удержан и от того, чтобы отпустить его, и отпустив его в свой срок природы, и будучи властен и сам решить об этом. Так что одни его действия будут направлены к счастью, другие же – не ради цели и вообще не его собственные, но принадлежащие присоединённому, о котором он будет заботиться и терпеть, пока возможно, как, например, музыкант – о лире, пока можно ею пользоваться; если же нет, он сменит её или оставит игры на лире, и воздержится от деятельности, связанной с лирой, имея другое дело без лиры, и будет смотреть на лежащую рядом лиру, распевая без инструментов. И не напрасно инструмент был дан ему изначально: ведь он уже пользовался им много раз.
В этом заключительном разделе Плотин проводит окончательную черту: всякая попытка «смешать» высшее счастье с заботой о низшем, внешнем благополучии есть компромисс, уничтожающий само понятие серьёзного человека. Такой «порядочный человек» (ἐπιεικὴς ἄνθρωπος) – не более чем гибрид добра и зла, лишённый чистоты и величия подлинной мудрости. Отсюда следует радикальный вывод: счастливо жить в обычном, «общем» (ἐν τῶι κοινῶι) человеческом укладе невозможно. Истинный путь указан Платоном: благо трансцендентно, и жизнь должна быть непрерывным обращением к нему и уподоблением ему. Практическое следствие: мудрец использует тело и внешние обстоятельства как инструмент (ὄργανον) – лиру, – заботясь о нём ровно настолько, насколько это нужно для высшей деятельности, и будучи готов в любой момент отложить его, когда оно перестаёт быть полезным или когда приходит срок. Его собственное, сущностное действие – это «пение без инструментов», чистое созерцание. Таким образом, трактат завершается не отрицанием мира, но утверждением абсолютного примата умной жизни: мир становится полем для проявления добродетели лишь постольку, поскольку служит высшей цели, но сама эта цель всегда трансцендентна ему и достижима только через внутреннее отрешение. Это этика радикальной ориентации: всё ценно лишь в отношении к Единому Благу, и ничто внешнее не может ни прибавить, ни убавить от него.
Пятый
трактат
. Εἰ ἐν παρατάσει χρόνου τὸ εύδαιμονεῖν.
Вечное настоящее: онтология счастья в философии Плотина.
Трактат Плотина «Об увеличении ли счастья во времени?» представляет собой не просто дискуссию об этической категории, но радикальную онтологическую деконструкцию самого способа человеческого существования во времени. Сжатый до афористической точности, его центральный тезис гласит: счастье (εὐδαιμονία) не может увеличиваться во времени, ибо оно по своей сути есть актуальная энергия вечной жизни, схватываемая исключительно в незамутнённом «теперь». Это утверждение, основанное на логических дистинкциях и приведении к противоречию (reductio ad absurdum), служит фундаментом для философской системы, которая ставит под сомнение базовые интуиции о ценности, времени и природе блага.
Внутренняя логика трактата движется от отрицания к утверждению. Плотин начинает с отрицания эмпирических доводов в пользу кумулятивного счастья. Память, наслаждение, множественность деяний – все эти кандидаты на роль «прибавителей» счастья последовательно отвергаются. Память оказывается либо указанием на качественное изменение в настоящем (например, рост мудрости), либо призраком, компенсирующим текущую недостаточность. Наслаждение, если оно и является беспрепятственной деятельностью, существует только в актуальном моменте; его прошлые моменты исчезли в небытии. Множество прекрасных деяний также не конституируют счастье, ибо их источник – внутреннее состояние души, а их внешнее совершение может быть случайным и даже совершённым порочным человеком. Каждый из этих шагов демонстрирует одну и ту же ошибку: смешение порядка сущего (τὸ ὄν) с порядком становления и исчезновения (τὸ μηκέτι ὄν). Стремясь измерить счастье, мы бессознательно применяем к нему метрику времени – ту самую метрику, которая по определению есть мера не-бытия, последовательность угасающих «теперь».
Апофеозом этой критики становится введение категориального различия между временем (χρόνος) и вечностью (αἰών). Это – сердцевина онтологического аргумента Плотина. Время есть «образ вечности», но образ искажённый, рассеивающий единство и присутствие в череду несовпадающих моментов. Оно по природе своей есть сфера утраты. Вечность же есть жизнь самого бытия, тотальность, собранная в неделимое, неизменное настоящее, лишённое протяжённости, «большего» или «меньшего». Истинное счастье, соответствующее блаженной жизни, принадлежит именно этому порядку. Оно есть не психологическое состояние смертного существа, а причастность души высшему Уму (Νοῦς), чья деятельность есть вневременное созерцание вечных идей. Поэтому счастье не может «длиться» – оно может лишь актуализироваться, когда душа, отвратившись от раздробленности временного мира, обращается к своему собственному, вечному основанию.
Отсюда проистекает парадоксальная с точки зрения обыденной морали этика Плотина. Добродетель (ἀρετή) важна не как средство для достижения счастья в будущем и не как инструмент для совершения множества благородных поступков, а как имманентное качество души, которое прямо здесь и теперь делает её причастной благу. Мудрец счастлив не потому, что долго жил и много совершил, а потому, что в любой доступный ему момент его душа пребывает в согласии с вечным. Даже краткий миг такого пребывания содержит в себе всю полноту блаженства, ибо качество этого состояния абсолютно и несоизмеримо ни с каким иным модусом существования. Это приводит к удивительному выводу: с точки зрения вечности, нет разницы между жизнью, полной внешних свершений, и жизнью, внешне бедной, но внутренне сосредоточенной. Есть лишь разница между присутствием и отсутствием света ума в настоящем моменте.
Современное звучание этой философии оглушительно. В мире, одержимом оптимизацией, накоплением опыта, культом продуктивности и нарративами «построения счастливой жизни» как долгосрочного проекта, Плотин предлагает радикальную альтернативу. Это призыв к бунту против тирании хронологии и количественных метрик. Его мысль обнажает ловушку, в которой мы пребываем: гоняясь за счастьем во времени, мы неизбежно обращаемся к прошлому (ностальгия) или будущему (надежда), упуская единственную реальную почву для его обретения – настоящее. Его «вечное настоящее» – это не гедонистический миг, а состояние предельной собранности и осознанности, в котором исчезает сама субъективность, отчуждающая себя в прошлое и будущее. Это философия, предлагающая измерить жизнь не длиной, а глубиной; не количеством событий, а интенсивностью бытия. В эпоху тотальной дистракции и фрагментации внимания, идея Плотина о счастье как о неделимой, целостной энергии души, актуальной здесь и сейчас, звучит не только как метафизический тезис, но и как urgentный этический императив: перестать проецировать себя на хронологическую шкалу и обрести себя в чистом акте осознанного существования.
1. Увеличивается ли счастье во времени?.
Плотин начинает исследование с острой постановки проблемы: совместима ли сама сущность счастья (εὐδαιμονεῖν) с понятием возрастания (ἐπίδοσις) во времени. Возможность такого возрастания предполагает счастье как процесс, протяжённый и суммируемый из последовательных состояний, что в корне противостоит идее счастья как актуального, вневременного состояния бытия. Внутренняя логика рассуждения строится на строгом различении между переживаемым опытом и его последующей рефлексией. Память (μνήμη) или даже словесное утверждение (τὸ λέγειν) о том, что некогда был счастлив, сами по себе ничего не прибавляют к счастью как таковому, ибо они относятся к прошлому, уже не сущему. Счастье – это не нарратив о прожитой жизни, но определённый модус существования здесь и сейчас. Оно есть уникальная диспозиция (διάθεσις) души, её устроенность и качество сознания, которые реализуются исключительно в присутствующем моменте (ἐν τῶι παρεῖναι). Таким образом, счастье тождественно актуальной энергии (ἐνέργεια) жизни в её высшем и полнейшем проявлении, когда жизнь совпадает не с биологическим процессом, а с актом интеллектуально-духовного присутствия в вечности. Это не результат или цель во времени, но сам способ бытия, лишённый всякой процессуальности и, следовательно, не способный «увеличиваться». Современное звучание этой идеи резонирует с критикой культуры достижений, где счастье откладывается на будущее или реконструируется из прошлого, тогда как Плотин настаивает на его имманентности и доступности лишь в акте чистого, неопосредованного сознавания настоящего.
2. Критика счастья: апории временного накопления.
Далее Плотин подвергает критической проверке возможный контр-аргумент: а что если счастье – это именно достижение (τυγχάνειν) того, к чему мы вечно стремимся, а именно – полноты жизни и деятельности? В таком случае оно казалось бы естественным образом размещается во времени как исполнение желания. Однако Плотин выводит из этого допущения ряд логических несообразностей, разрушающих само понятие счастья как блага. Если счастье кумулятивно, то завтрашнее счастье неизбежно будет больше сегодняшнего, а послезавтрашнее – ещё больше, и так до бесконечности. Это ведёт к абсурдному выводу о принципиальной неполноте и незавершённости счастья в любой данный момент, что лишает его ценности как совершенного состояния. Более того, такая модель делает невозможным измерение счастья добродетелью (ἀρετῇ), ибо последняя есть качество настоящего, а не количественный итог. Катастрофические последствия этой логики простираются и на божественное: даже боги в таком случае никогда не обладают совершенным счастьем, а лишь бесконечно приближаются к нему, что противоречит самой их сути как вечных и самодостаточных сущностей. Глубинная логика Плотина раскрывается в анализе самой структуры стремления (ἔφεσις). Истинное стремление к жизни, по его мысли, есть стремление не к будущему существованию, а к актуальному бытию (τὸ εἶναι) здесь и сейчас. Достигая своей цели, стремление обретает не завтрашний день, а именно настоящее (τὸ παρόν). Таким образом, подлинный объект желания – не бесконечная временная протяжённость («всегда»), а уже осуществлённое, настоящее бытие («уже»). Это ключевой поворот: счастье не может быть проектом, оно есть модус настоящего, ибо само бытие, к которому направлено стремление, имманентно присутствует (ἐν τῶι παρόντι). В современном контексте этот аргумент звучит как радикальная критика общества потребления и культуры бесконечного самоосуществления, где цель постоянно откладывается, а настоящее приносится в жертву гипотетическому будущему совершенству, которое, как показывает Плотин, логически недостижимо.
3. Опыт и время: критика количественной оценки.
Возникает естественный вопрос, связанный с обыденным опытом: разве тот, кто счастлив или видит некий объект более долгое время, не обладает чем-то бóльшим по сравнению с тем, у кого этот опыт был краток? Плотин разбирает этот кажущийся очевидным аргумент, применяя к нему строгий качественный критерий. Если в более длительном времени заключено более точное или совершенное восприятие (τὸ ἀκριβέστερον), то лишь тогда время можно считать привнёсшим нечто существенное. Однако это «нечто» будет не количественным приростом времени как такового, а качественным улучшением самого акта видения или переживания, что уже относится к иной категории – интенсивности, а не длительности. Если же качество опыта на всём протяжении идентично и совершенно с самого начала («видел подобным образом всё время»), то его длительность не добавляет ничего принципиально нового к тому, что уже было обретено в первый момент. Тот, кто увидел истину или испытал счастье однажды, в совершенном акте, уже обладает всем существенным, что может дать этот опыт. Сравнение здесь проводится не между протяжённостями, а между состояниями завершённости. Таким образом, Плотин отделяет подлинную полноту осуществлённой деятельности (ἐνέργεια) от её случайной временной протяжённости. Эта мысль направлена против редукции ценности опыта к его хронометрируемой длине. В современном звучании этот аргумент можно услышать в критике культуры «накопления переживаний» и количественных метрик успеха, где важнее продолжительность «стажа счастья», а не его качественная глубина и актуальная полнота в каждый отдельный момент. Сущностное обладание истиной или счастьем не подлежит градуировке по шкале времени.
4. Наслаждение и актуальность: развенчание иллюзии длительности.
Может возникнуть возражение, обращённое к сфере чувственного опыта: но ведь один человек наслаждался (ἥσθη) дольше другого – разве это не аргумент в пользу значимости временной протяжённости? Плотин категорически отвергает такую возможность. Арифметическое суммирование временных отрезков наслаждения не имеет никакого отношения к сущности счастья (εὐδαιμονεῖν). Это смешение принципиально разных порядков: счастье – это модус бытия, а не сумма психофизиологических состояний. Однако он рассматривает и более тонкое определение: а что если под наслаждением понимать беспрепятственную деятельность (ἡδονὴν τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀνεμπόδιστον)? В таком случае, утверждает Плотин, сторонник этой точки зрения неосознанно говорит о том же, что и он сам, ибо беспрепятственная деятельность есть именно актуальная, присутствующая энергия жизни, тождественная счастью по своей природе. Но даже если принять это определение, проблема длительности остаётся неразрешимой. Так называемое «большее» наслаждение, растянутое во времени, в каждый конкретный момент обладает лишь настоящим (τὸ παρὸν μόνον ἔχει). Прошедшие моменты наслаждения исчезли (οἴχεται) и более не существуют в актуальности; они представляют собой лишь воспоминание, призрак, а не часть живого, действующего счастья. Следовательно, даже в контексте гедонистической модели, очищенной до идеи совершенной деятельности, количественное превосходство во времени оказывается фикцией, ибо реально существует только настоящий, незамутнённый акт. Этот анализ предвосхищает феноменологические интуиции о том, что сознание существует только в модусе настоящего, а прошлое и будущее – это конструкции, лишённые актуальной данности. Для современного человека этот аргумент разрушает иллюзию, будто ценность жизни можно измерить совокупной «продолжительностью удовольствия», предлагая вместо этого сосредоточиться на качественной интенсивности и чистоте актуального переживания, свободного от внутренних препятствий.
5. Абсолютность состояния: счастье не терпит сравнений.
Возникает последний, казалось бы, практический вопрос о справедливости и сравнении жизненных путей: разве нет разницы между тем, кто счастлив с начала до конца жизни, тем, кто обрёл счастье лишь позже, и тем, кто, испытав его, затем утратил? Неужели они обладают равным (τὸ ἴσον) счастьем? Плотин указывает, что сама постановка вопроса некорректна, поскольку она производит сравнение между состояниями, которые не являются одновременными и, следовательно, не могут быть сопоставлены по объёму. Подлинное сравнение возможно только между тем, кто актуально счастлив (εὐδαιμονοῦντα), и теми, кто в данный конкретный момент счастлив не является (μὴ εὐδαιμονούντων). В тот самый момент «теперь», когда один пребывает в состоянии счастливой деятельности, а другие – нет, между ними существует качественная, а не количественная разница. Тот, кто счастлив, обладает всем (πλέον ἔχει), что возможно в этом модусе бытия; его превосходство (πλεονεκτεῖν) – это превосходство актуального совершенства над его отсутствием. Оно измеряется не протяжённостью, а самим фактом наличия этого уникального качества существования. Счастье, понимаемое как энергия жизни в её высшей точке, не является веществом, которое можно накапливать, терять или частично распределять по отрезкам времени. Поэтому сравнение жизней «в целом» лишено смысла с точки зрения самой природы счастья. Современный резонанс этой идеи лежит в области отказа от утилитарных расчётов «успешности» жизни, основанных на суммировании позитивных эпизодов. Вместо этого Плотин предлагает радикально иную оптику: ценность имеет не продолжительность «счастливых периодов», а максимальная реализация человеческого потенциала в актуальном настоящем, которое несоизмеримо с любым другим модусом существования. Тот, кто живёт в согласии с высшим началом в себе, превосходит любого, кто этого не делает, независимо от биографических обстоятельств. Счастье, таким образом, есть абсолютное качество, а не относительная величина.
6. Асимметрия блага и зла: в чём истинное прибавление?
Далее Плотин ставит вопрос об асимметрии: если счастье не возрастает со временем, то почему страдание, кажется, от его протяжённости усиливается? Разве продолжительные страдания, боли и несчастья не являются большим злом, чем кратковременные? И если время увеличивает (ἐπαύξει) зло, то почему бы ему не увеличивать и благо симметрично? Этот контр-аргумент Плотин признаёт частично обоснованным, но лишь для определённого класса явлений. В случае физической боли или душевной скорби время действительно может приносить дополнительное зло (προσθήκην ὁ χρόνος δίδωσιν), но не путём простого суммирования одинаковых моментов. Опасность длительной болезни, например, в том, что она становится устойчивым состоянием, привычкой (ἕξις γὰρ γίνεται), которая всё глубже портит тело, причиняя всё больший вред (μείζων ἡ βλάβη). Точно так же хроническое несчастье – это не просто сумма отдельных моментов печали, а усиливающееся (ἐπιτείνεσθαι) и укореняющееся порочное состояние души, рост самой порочности (κακίας) через её постоянство. Здесь прибавка происходит за счёт качественного ухудшения, «более сильного» зла (τὸ μᾶλλον), а не за счёт сложения «большего количества» равных единиц (τὸ πλεῖον ἴσον). Последнее невозможно, поскольку прошлые, уже не существующие страдания нельзя реально прибавить к настоящему – это лишь иллюзия счёта.
Совершенно иначе обстоит дело со счастьем. Блаженство имеет свой предел и полноту (ὅρον τε καὶ πέρας ἔχει) и по сути своей тождественно (ταὐτὸν ἀεί) в каждый момент своей актуальности. Оно не оставляет места для качественного «ухудшения» в короткий срок, поэтому и механизм качественного усиления со временем к нему неприменим. Единственное возможное «приращение» счастья – это не хронологическое накопление, а углубление в добродетели (εἰς ἀρετὴν ἐπιδιδόντα). Но и это не делает «многолетнее счастье» количественно большим; это означает лишь, что в тот момент, когда человек стал более добродетельным, он в тот самый момент и стал счастливее (ὅτε μᾶλλόν ἐστιν). Таким образом, время как длительность не сопричастно сущности блага; оно может быть лишь средой для порчи или, в лучшем случае, для актуализации уже существующей возможности совершенства. Эта мысль находит отклик в современной этике, подчёркивающей, что духовный рост – это не линейный прогресс, а серия качественных преобразований, каждое из которых ценно само по себе, а не как ступень к некоей отдалённой цели.
7. Тайна вечности: разоблачение иллюзии времени.
Почему же, в таком случае, в обыденном опыте мы так упорно суммируем прошлое с настоящим, говоря о «большем времени», и отказываемся применять ту же логику к счастью? Плотин видит корень этой двойственности в самой природе времени как становления. Подсчитывать прошедшие, уже не существующие отрезки времени не столь абсурдно, как делать то же со счастьем, ибо время по сути своей есть мера исчезновения, последовательность «уже-не-бытия». Мы считаем умерших или прошедшие события, признавая их утраченную актуальность. Но утверждать, что несуществующее счастье больше существующего – полный нонсенс, поскольку сама сущность счастья требует его постоянного присутствия (συμμεμενηκέναι). Большее же время, выходящее за пределы настоящего, есть указание на небытие (τὸ μηκέτι εἶναι). В этом – фундаментальное различие: время по своей природе стремится к рассеянию (σκέδασιν) единого и пребывающего в настоящем. Именно поэтому время справедливо называют образом (εἰκὼν) вечности, но образом искажённым, желающим растворить в своей текучести и дробности то, что в вечности пребывает недвижно. Время разрушает, пытаясь присвоить себе то, что принадлежит вечности; то, что могло бы быть сохранено в вечном, гибнет, будучи ввергнуто во временной поток.
Следовательно, если истинное счастье соответствует жизни в её высшем, блаженном модусе (ζωὴν ἀγαθήν), то его основанием должна быть жизнь самого бытия (κατὰ τὴν τοῦ ὄντος ζωήν) – жизнь вечная и совершенная. Такое счастье не подлежит измерению временем, оно принадлежит сфере вечности (αἰῶνι). Вечность же не имеет степеней: она не бывает больше или меньше, не имеет протяжённости, она есть абсолютное «теперь», неделимое и вневременное (ἀδιάστατον). Поэтому смешивать сущее с не-сущим, вечность со временем, а тем более простирать неделимое на протяжённость – грубая ошибка восприятия. Ухватить подлинное счастье можно, лишь схватывая его целиком (πᾶν ὅλον) – не как мгновенную точку на линии времени, но как жизнь вечности, которая есть не сумма многих времён, а всё (πᾶσαν ὁμοῦ) время, собранное в единый, неделимый акт. Здесь Плотин выходит на онтологический уровень: счастье – это не психологическое состояние во времени, а причастность к вечной жизни Ума, где всё дано сразу, в полноте настоящего. Современное звучание этой концепции – это призыв к преодолению линейного, количественного восприятия собственного существования и поиску опыта целостности и полноты «здесь и сейчас», который прорывает последовательность причин и следствий, открывая измерение, где ценность не зависит от длительности.
8. Память и её призраки: последняя иллюзия прибавления.
Последнее возможное возражение апеллирует к памяти (μνήμη): разве не память о прошлых счастливых моментах, пребывающая в настоящем, не даёт некое «большее» тому, кто счастлив дольше? Плотин разбивает этот аргумент на два варианта, показывая их несостоятельность. Если под памятью понимается память о ранее бывшей мудрости (φρονήσεως μνήμη), то это означает, что человек благодаря прошлому опыту стал более рассудительным (φρονιμώτερον) в настоящем. Однако это уже изменение не в количестве счастья, а в качестве самого человека, что выходит за рамки исходной гипотезы о простом накоплении идентичных состояний во времени. Более того, сама эта возросшая рассудительность и является причиной большего счастья в актуальном настоящем, а не памятью как таковой.
Если же речь идёт о памяти об удовольствии (τῆς ἡδονῆς τὴν μνήμην), то эта позиция раскрывает свою внутреннюю ущербность. Она предполагает, что счастливый человек нуждается в обильных дополнительных радостях (πολλῆς περιχαρίας δεομένου), не довольствуясь настоящим. Но память о прошлом удовольствии сама по себе не является удовольствием; это лишь бледное воспоминание, лишённое живой силы переживания. Плотин приводит саркастический пример: что приятного в воспоминании о том, как вчера наслаждался яством? А если вспоминать об этом через десять лет, ситуация становится и вовсе нелепой (γελοιότερος). То же самое со вспоминанием прошлогодней рассудительности: само воспоминание не делает человека мудрым сейчас. Таким образом, память либо указывает на реальное качественное изменение в настоящем (которое и есть истинная причина возможного «большего» счастья), либо представляет собой лишь тень, неспособную обогатить актуальное бытие. Она принадлежит порядку мнения и воображения, а не порядку сущей деятельности. Этот финальный анализ снимает последнюю возможную претензию времени на соучастие в счастье, окончательно утверждая его как феномен чистой актуальности, самодостаточный и не требующий для своей полноты никаких отсылок к прошлому. В современном контексте это звучит как предостережение против ностальгии и «проживания жизни в воспоминаниях», которые подменяют интенсивность настоящего опыта его умственной реконструкцией, лишённой подлинной жизненной силы.
9. Память о прекрасном: знак недостатка, а не изобилия.
Что, однако, если речь идет не о памяти об удовольствии, а о памяти о прекрасном (τῶν καλῶν εἴη ἡ μνήμη)? Неужели и здесь нельзя утверждать, что она что-то прибавляет? Плотин признает, что этот случай кажется более убедительным, однако и его он подвергает радикальному переосмыслению. Само обращение к памяти о прекрасном в контексте стремления к счастью он интерпретирует не как обогащение, а как симптом некой фундаментальной недостаточности. Такая память свойственна человеку (ἀνθρώπου ἐστὶ τοῦτο), который в настоящем моменте лишен полноты соприкосновения с прекрасным (ἐλλείποντος τοῖς καλοῖς ἐν τῶι παρόντι). Поскольку он не обладает им «сейчас» (νυνὶ), он вынужден искать суррогат в воспоминании о том, что было. Память о прекрасном, таким образом, выступает не как прибавка к настоящему счастью, а как его заменитель, компенсация отсутствия. Истинно счастливый, пребывающий в актуальной деятельности ума и созерцании вечно-прекрасного, не нуждается в таком обращении к прошлому, ибо всё существенное для его блаженства дано ему в вечном «теперь». Его бытие настолько насыщено наличным присутствием красоты и блага, что не оставляет места для рефлексивного цепляния за ушедшие моменты. Следовательно, сама отсылка к памяти о прекрасном как к источнику счастья косвенно доказывает тезис Плотина: она маркирует дистанцию между подлинным, актуальным обладанием и его эрзацем. В современной перспективе этот аргумент можно рассмотреть как критику культурного потребления, где накопленные впечатления от встреч с прекрасным (посещение музеев, путешествия) подменяют собой способность к глубокому, преобразующему переживанию красоты в непосредственном, ничем не опосредованном настоящем. Память становится архивом, а не жизнью, свидетельствуя об упущенной возможности полноты «здесь и сейчас».
10. Праксис и внутреннее состояние: где источник подлинного блага?
Но возникает последний и, возможно, самый убедительный аргумент: долгая жизнь порождает множество прекрасных деяний (καλὰς πράξεις), которыми обделен тот, чьё счастье было кратким. Можно ли вообще назвать поистине счастливым того, кто не совершил многого? Плотин отвергает эту позицию, указывая на её логическую структуру: тот, кто выводит счастье из множества времён и деяний, фактически конструирует его из не-сущего – из прошлого, – и лишь малой частью из одного-единственного настоящего момента. Это возвращает нас к изначальному тезису: счастье положено в настоящем, и лишь затем мы спрашиваем, придаёт ли большее время ему большее совершенство.
Таким образом, вопрос должен быть переформулирован: действительно ли обладание многими деяниями даёт превосходство (πλεονεκτεῖ) тому, кто счастлив долгое время? На это Плотин даёт два принципиальных ответа. Во-первых, счастье может иметь место и без внешней деятельности (μὴ ἐν πράξεσι γενόμενον), и такое счастье не меньше, а, возможно, даже больше (μᾶλλον), чем счастье деятельного человека. Ибо источник счастья – внутренний. Во-вторых, деяния сами по себе не дают блага; напротив, внутренние устроения, диспозиции (διαθέσεις) души – вот что делает деяния прекрасными. Мудрец пожинает благо (καρποῦταί τε ὁ φρόνιμος τὸ ἀγαθὸν) не потому, что действует, и не из внешних результатов, а из того, чем обладает внутри (ἐξ οὗ ἔχει). Даже спасение отечества может быть совершено и дурным человеком, а радость от этого спасения может ощутить и тот, кто его не совершал. Следовательно, не деяние создаёт радость счастливого, но устойчивое состояние души (ἡ ἕξις), которое порождает и само счастье, и всё приятное, что из него проистекает.
Помещать же счастье в деяниях – значит искать его вовне, за пределами добродетели и самой души. Истинная деятельность души (ἐνέργεια τῆς ψυχῆς) заключается в акте мудрствования (φρονῆσαι) и в том, чтобы внутренне пребывать в определённом, совершенном модусе бытия. И именно это, а не внешняя аффектация, есть подлинное бытие-счастливым (τὸ εὐδαιμόνως). Здесь Плотин проводит окончательное разделение между эмпирической биографией, измеряемой поступками во времени, и онтологическим статусом личности, определяемым её внутренней сосредоточенностью и причастностью вечному уму. Для современного человека этот аргумент становится вызовом, призывающим перестать отождествлять свою ценность с «списком достижений» и обратиться к качеству собственного сознания как к единственному мерилу подлинно исполненной жизни.
Шестой трактат.
Περὶ τοῦ καλοῦ.
Онтология красоты как путь к себе.
Шестой трактат Плотина, посвященный природе прекрасного, представляет собой не просто эстетический трактат, но развернутую онтологическую карту реальности и одновременно руководство по духовной навигации. Его внутренняя логика разворачивается как восходящее движение от мира явлений к абсолютному принципу, где каждый шаг анализа красоты становится шагом самопознания души.
Исходный пункт – феноменологическое наблюдение: красота рассыпана по всем уровням бытия, от зримых форм до добродетелей и наук. Уже этот факт ставит ключевую проблему: что обеспечивает единство столь разнородных проявлений? Является ли красота единым трансцендентным принципом или набором случайных свойств? Плотин начинает с отрицания. Он последовательно демонтирует общепринятое объяснение через симметрию и соразмерность, показывая его несостоятельность как для простых явлений (свет, цвет), так и для сложных духовных феноменов (добродетель, истина). Этот критический разворот – не просто полемический прием, а фундаментальный методологический ход. Он очищает поле мысли от редукционизма, который пытается свести высшее к комбинации низшего. Симметрия оказывается не причиной красоты, а её возможным материальным носителем, который сам становится прекрасным только благодаря чему-то иному.
Этим «иным» является эйдос – умопостигаемая форма, причастность к которой и сообщает вещам красоту. Но Плотин углубляет платоническую схему «причастности», делая её динамичной и психологически насыщенной. Красота – это не статичное свойство, а *событие встречи* между душой и проступившим в материи эйдосом. Душа узнает красоту, потому что она сама – родственной природы. Её восторг и волнение суть анамнесис, воспоминание о своей истинной родине в умопостигаемом мире. Таким образом, эстетический опыт изначально оказывается опытом самоузнавания. Чувственная красота – это «тень» или «след», пробуждающий в душе тоску по подлинному.
Отсюда логичен переход к анализу красоты умопостигаемой – нравов, наук, добродетелей. Если красота тела – это победа формы над материей, то красота души – это победа единства над внутренней раздробленностью. Безобразие души трактуется не как позитивная сила, а как состояние загрязнения, смешения с низшим, утраты самоидентичности. Добродетель же есть очищение – возвращение души к самой себе, к её простой и световой природе. Этический идеал оказывается онтологическим: быть добродетельным – значит быть самим собой в высшем смысле, то есть соответствовать своей умопостигаемой сущности. В этом пункте этика, эстетика и онтология сливаются воедино: благо, истина и красота становятся разными именами одной реальности – действительности чистого, самотождественного бытия.
Апофеозом трактата является описание восхождения к самому Первому – Благу, которое есть и абсолютная Красота. Этот путь – не интеллектуальное умозрение, а мистический акт, требующий радикального «совлечения» всего наносного, всего, что душа наделала на себя в процессе нисхождения. Важнейшим оказывается парадоксальный принцип: видящее должно стать подобным видимому. Нельзя узреть Красоту, не став прекрасным; нельзя увидеть Бога, не став богоподобным. Поэтому конечный этап пути – это не пассивное созерцание, а активное самотворчество. Душа должна стать скульптором самой себя, отсекая всё лишнее, пока не явится её собственный сияющий лик. Внутреннее преображение – не моральное предписание, а эпистемологическое условие познания высшей реальности.
Современное звучание мысли Плотина раскрывается в нескольких аспектах:
1. .Критика редукционизма:. В эпоху доминирования научных объяснений, сводящих сложное к простому, Плотин напоминает, что высшие феномены (смысл, ценность, красота) не могут быть адекватно поняты через анализ их материальных носителей. Эстетический опыт сопротивляется полной натурализации.
2. .Этика как онтология:. В противовес релятивизму или утилитаризму, Плотин обосновывает добродетель не общественным договором или пользой, а соответствием глубинной природе человека как умного существа. Нравственность – это реализация своего подлинного «Я», а не следование внешним правилам.
3. .Экологичность восприятия:. Идея о том, что душа радуется в красоте встрече с родственным, имеет экологическое измерение. Если мир прекрасен как воплощение разумных эйдосов, а наша душа – их родственница, то разрушение мира есть не просто практическая ошибка, а акт саморазрушения, разрыв связи с собственной сущностью.
4. .Познание как со-творчество:. Принцип «подобное познается подобным» бросает вызов идеалу объективного, дистанцированного знания. Понимание в сфере смыслов и ценностей требует личного вовлечения, внутреннего изменения и своего рода духовного резонанса между познающим и познаваемым.
5. .Духовный путь как интроспекция:. Призыв «бежать в отечество» и «обратиться внутрь» актуален в мире, перенасыщенном внешними стимулами и информационным шумом. Плотин указывает, что источник смысла и подлинности находится не в накоплении внешних впечатлений, а в углублении во внутреннее пространство, где пребывает связь с абсолютным.
Таким образом, трактат Плотина «О прекрасном» – это манифест духовного идеализма, где красота выступает универсальным языком, на котором говорит с душой высшая реальность. Путь к прекрасному оказывается путём к себе – но не к эмпирическому, а к трансцендентному «Я», которое есть частица божественного Ума. В этом путешествии этическое очищение, эстетическое наслаждение и метафизическое познание сходятся в одну точку – точку экстатического узнавания, где душа, наконец, видит и то, что она искала, и то, чем она всегда, в глубине, была.
1. О природе прекрасного: критика теории симметрии и поиск абсолютного принципа.
Шестая эннеада Плотина открывается фундаментальным вопросом: что есть прекрасное? Философ начинает с индуктивного наблюдения: прекрасное проявляется в различных сферах – в зримом (тела, формы), в слышимом (гармония речей и мелодий), а также в нравственных поступках, характерах, науках и добродетелях. Уже эта классификация указывает на иерархию: от чувственного к умопостигаемому. Однако возникает ключевая дилемма: является ли красота единым принципом, пронизывающим все уровни бытия, или же в каждом классе явлений она имеет иную природу? Особенно острым этот вопрос становится при сравнении красоты тел, которая кажется привходящей и изменчивой («тела являются то прекрасными, то не прекрасными»), и красоты добродетели, которая представляется сущностной и самодостаточной.
Для решения этой проблемы Плотин сначала обращается к наиболее распространенному и, казалось бы, очевидному объяснению чувственной красоты – теории симметрии. Согласно ей, прекрасное в телах и сложных композициях есть соразмерность частей друг другу и по отношению к целому, дополненная благозвучием или приятным цветом. Однако Плотин последовательно демонтирует эту теорию с помощью ряда логических контраргументов. Во-первых, если красота есть исключительно свойство сложного и соразмерного, то простое (ἁπλοῦν) по определению не может быть прекрасным. Но это противоречит опыту: сияние солнца, блеск золота, молния в ночи, отдельный прекрасный звук в мелодии – все это суть простые явления, чья красота не может быть сведена к внутренним пропорциям, ибо они не имеют частей. Во-вторых, даже в сложных объектах теория симметрии терпит крах при анализе частей: если целое прекрасно лишь благодаря соразмерности, то его части, взятые сами по себе, красоты лишены. Но это абсурдно, ибо целое не может быть составлено из безобразных элементов, оно должно «всецело охватывать красоту». В-третьих, и это самый убедительный аргумент, один и тот же объект с неизменными пропорциями может казаться нам то прекрасным, то нет. Следовательно, красота не тождественна симметрии, а является чем-то иным, что делает саму эту симметрию прекрасной.
Этот критический заход приводит Плотина к необходимости радикального расширения горизонта исследования. Если теория симметрии несостоятельна даже для тел, то она совершенно неприменима к высшим формам красоты. Что есть соразмерность в благих поступках, справедливых законах, математических теоремах или, тем более, в уме (νοῦς), пребывающем в чистом единстве? Добродетель души, истинно более прекрасная, чем телесная форма, не является композицией размеров или чисел. Можно ли говорить о «пропорции» между частями души или между умопостигаемыми понятиями? Более того, согласие и гармония (ὁμολογία, συμφωνία) могут быть и у пороков, что доказывает: сама по себе внутренняя согласованность не тождественна красоте и благу. Таким образом, общепринятое объяснение оказывается поверхностным и не затрагивающим сути.
Логика рассуждения Плотина подводит к неизбежному выводу: должен существовать некий абсолютный, единый принцип красоты (αὐτὸ δείξει – «оно само покажет себя»), предшествующий всем ее частным проявлениям и сообщающий им их прекрасный характер. Чувственные вещи прекрасны не сами по себе, а благодаря причастности (μεθέξει) этому высшему началу. Красота, таким образом, понимается не как атрибут материальной организации, а как сияние иного, высшего порядка бытия, пронизывающее и оживляющее соразмерную форму, но не сводимое к ней. Это «нечто иное» (ἄλλο), присутствующее в телах и заставляющее душу узнавать себя, обращаться к нему, тянуться к нему и радоваться его созерцанию, есть эманация Единого-Блага, которое тождественно Прекрасному само по себе. Современное звучание этой критики заключается в отказе от редукционистских объяснений эстетического опыта, будь то биологические, социологические или формальные. Плотин напоминает, что переживание прекрасного всегда содержит момент трансценденции, выхода за пределы чистой данности объекта, и указывает на метафизический голод души, которая в красоте мира ищет отблеск абсолютной и простой совершенной Истины.
2. О душевном узнавании и причастности как основе красоты.
Второй этап рассуждения Плотина посвящен положительному определению того, что же делает тело прекрасным, и прояснению механизма восприятия красоты душой. Отказавшись от объяснения через симметрию, философ обращается к динамике встречи души с прекрасным объектом. Это встреча узнавания: душа, «словно заранее зная», тотчас постигает красоту, одобряет ее, «словно прилаживается» к ней, испытывая радость и волнение. Напротив, при столкновении с безобразным она содрогается, отрицает, отстраняется, ощущая чуждость и несогласие. Этот психологический феномен – ключ к метафизике прекрасного. Реакция души не случайна; она вытекает из ее природы. Душа по своей сущности принадлежит высшему, божественному порядку бытия (τῆς κρείττονος ἐν τοῖς οὖσιν οὐσίας). Поэтому, когда она видит в чувственном мире нечто родственное или след (ἴχνος) этого родства, она приходит в восторг, обращается к самой себе и вспоминает о своем истинном происхождении и своей сути. Красота, таким образом, выступает как анамнесис – воспоминание, пробуждающее душу от сна погруженности в материю.
Но что обеспечивает это родство между здешними прекрасными телами и высшими, умопостигаемыми «тамошними» красотами? Ответ – причастность (μετοχή). Чувственно прекрасное есть прекрасное не само по себе, а благодаря причастности эйдосу, форме-идее (εἶδος, λόγος). Здесь Плотин вводит онтологическую пару: форма и бесформенная материя (ὕλη). Безобразное определяется двояко: как то, что совершенно лишено формы и разумного принципа (ἄμοιρον λόγου καὶ εἴδους), и как то, где материя не полностью подчинена форме, сопротивляется ей. Следовательно, красота есть торжество формы над материей, просвечивание разумного образца в чувственном. Эйдос, нисходящий от божественного, упорядочивает множество частей, приводит их к единству, согласованности (ὁμολογία) и целостности (μία συντέλεια). Именно это внесенное извне единство, это сияние формы в материальном, и есть красота тела (τὸ καλὸν σῶμα γίγνεται λόγου ἀπὸ θείων ἐλθόντος κοινωνίαι). Она может проявиться и в сложном целом (дом со всеми частями), и в простом элементе (отдельный камень), будучи дарована как природой, так и искусством.
Таким образом, внутренняя логика аргументации переходит от критики имманентных теорий (симметрия) к утверждению трансцендентного принципа. Красота – не свойство композиции как таковой, а ее одухотворенность, ее способность стать проводником высшего, единого смысла. Душа радуется, потому что видит в этом единстве отсвет своего собственного, умопостигаемого дома. Современное звучание этого подхода раскрывается в понимании эстетического опыта как встречи с осмысленностью: прекрасный объект воспринимается не просто как набор качеств, а как целостное, осмысленное высказывание, обращенное к глубинным слоям сознания. Плотин, по сути, описывает красоту как феномен, в котором преодолевается разрыв между материальным и идеальным, а восприятие становится актом познания и самопознания.
3. О внутреннем критерии и трансцендентном происхождении красоты.
Далее Плотин углубляет анализ, рассматривая механизм суждения души о прекрасном и распространяя принцип причастности на все виды чувственной красоты. Способность суждения о прекрасном отнесена к особой внутренней силе души (ἐπ᾽ αὐτῶι δύναμις τεταγμένη), которая является верховным арбитром в своей области. Эта сила действует особенно верно, когда вся душа в согласии с ней выносит суждение, «словно соразмеряя» воспринимаемое с внутренним, присущим ей самой эйдосом и используя его как канон, мерило прямого. Здесь Плотин вводит важнейшую концепцию: душа обладает врожденным, трансцендентным прообразом прекрасного (τὸ ἔνδον εἶδος), который служит эталоном для оценки всего внешнего. Это объясняет, почему архитектор может признать дом прекрасным: он соразмеряет материальное строение с бестелесным, неделимым (ἀμερὲς) эйдосом дома, пребывающим в его уме. Внешняя красота есть, таким образом, «разделившийся в массе внешней материи» внутренний эйдос.
Процесс восприятия подробно описан: чувство (αἴσθησις) схватывает эйдос, уже воплотившийся в теле, победивший бесформенную природу и великолепно возвышающийся над другими формами. Затем душа, «собрав это воедино», восходит от множественности к единству и вносит этот теперь уже неделимый образ внутрь себя, где он находит созвучие, соответствие и родство (σύμφωνον, συναρμόττον, φίλον). Аналогия с моральной сферой проясняет эту мысль: как доброму мужу приятно видеть в юноше след добродетели, созвучный истинному внутреннему образу, так и душа радуется встрече с любым воплощенным эйдосом. Этот механизм объясняет красоту простых явлений. Красота цвета, например, есть победа формы и разума (λόγου καὶ εἴδους) над темнотой материи через присутствие бестелесного света. Огонь прекрасен, ибо среди стихий он занимает высшее положение, наиболее тонок и близок к бестелесному, не смешиваясь с другим, но сам сообщая другим тепло и цвет. Он светится, будучи эйдосом в чистейшем виде. То, что не может удержать свет, теряя форму цвета, перестает быть прекрасным. Точно так же и гармонии в звуках, будучи незримыми числовыми отношениями (ἀριθμοῖς ἐν λόγωι), производят зримые красивые мелодии лишь тогда, когда служат созданию господствующего эйдоса, а не являются произвольными.
Таким образом, вся чувственная красота – от гармонии до сияния – оказывается воплощением разумного принципа, формой, излившейся из высшего мира и одухотворившей материю. Это «идолы и тени» (εἴδωλα καὶ σκιαί), выбежавшие в материю, чтобы ее украсить и восхитить душу своим явлением. Логика рассуждения подводит к выводу, что истинным объектом любви души является не чувственный образ сам по себе, а проступающий через него умопостигаемый эйдос, родственный ее собственной сущности. В современном прочтении этот пассаж раскрывает креативную и интерпретирующую природу восприятия: эстетический опыт – это не пассивная рецепция, а активный акт «собирания воедино», восхождения к смыслу и узнавания родственного начала, который предполагает наличие у субъекта внутренних, априорных структур осмысления мира. Плотин утверждает герменевтическую природу красоты: она есть всегда для души, способной ее прочесть.
4. О красоте умопостигаемой: гносис и экстатическое узнавание.
Переходя к красоте, пребывающей за пределами чувственного восприятия, Плотин описывает качественно иную ступень эстетического и духовного опыта. Речь идет о красоте нравов, наук, добродетелей, истины и самого ума – о том, что душа созерцает непосредственно, «без орудий» (ἄνευ ὀργάνων). Чтобы узреть эту красоту, душа должна совершить восхождение, оставив чувственное восприятие внизу. Это требование аскетично: как слепому от рождения невозможно объяснить красоту зримых форм, так и человеку, не вкусившему внутренней гармонии добродетели или сияния справедливости, недоступно понимание этой красоты. Она не дана в готовом виде, но требует духовной зрячести, особой способности видения (ἰδόντας μὲν εἶναι ὧι ψυχὴ τὰ τοιαῦτα βλέπει), которая пробуждается лишь при непосредственной встрече.
Эмоциональный отклик на эту встречу, однако, описывается Плотином в терминах, сходных с реакцией на чувственную красоту, но превосходящих их по силе и качеству. Это потрясение, восторг, изумление, сладостный трепет, страстное влечение и любовь (θάμβος, ἔκπληξις ἡδεῖα, πόθος, ἔρως, πτόησις μεθ᾽ ἡδονῆς). Но если в чувственном мире эти аффекты могут быть поверхностными, то здесь они суть признаки прикосновения к подлинной реальности (ἀληθινῶν ἤδη ἐφαπτομένους). Красота добродетели или истины не просто нравится – она потрясает до основания, ибо душа узнает в ней свою собственную, забытую сущность. Это узнавание носит характер экстатического пробуждения: душа, погруженная в многообразие мира, внезапно сталкивается с чистым, простым светом того, что она есть на самом деле.
Логика этого перехода от чувственного к умопостигаемому основана на принципе непрерывности и превосходства. Способность души отзываться на красоту едина, но объекты ее приложения образуют иерархию. Все души в потенциале отзывчивы к высшей красоте, однако степень этой отзывчивости, эта «эротичность» (ἐρωτικώτεραι), варьируется, подобно тому, как не все одинаково поражены красотой тела, и лишь некоторых называют влюбленными. Таким образом, любовь к высшему – это не отмена, а сублимация и усиление того самого влечения, которое движет душой в мире форм. Это влечение направлено уже не на образ или тень, а на сам первообраз, на живую реальность Ума и Блага. Современное звучание этой части учения – в утверждении, что подлинный эстетический и этический опыт имеет трансцендентное измерение и связан с переживанием самоидентичности. Встреча с красотой мысли или поступка – это встреча с самим собой на уровне подлинного «Я», что вызывает не просто удовольствие, а глубокое преобразующее потрясение. Плотин, по сути, описывает феномен духовного озарения, в котором познание, этика и эстетика сливаются в едином акте экстатического узнавания и возвращения домой.
5. О природе внутреннего безобразия и подлинной красоты души
Для прояснения природы умопостигаемой красоты Плотин прибегает к методу контраста, исследуя ее антипод – внутреннее безобразие души. Он обращается к тем, кто действительно пережил любовь к прекрасным нравам и добродетелям, с вопросом: что они испытывают, созерцая это и видя прекрасными самих себя изнутри? Описываемое состояние – это род духовной вакханалии (ἀναβακχεύεσθε), трепетного волнения и страстного желания пребывать в собранном единстве с собой, отвратившись от тела. Объект этого экстаза лишен каких-либо физических атрибутов: это не форма, не цвет, не величина, но сама душа, бесцветная, как и исходящее от нее сияние целомудрия и прочих добродетелей. Душа предстает в своем величии, с правым характером, чистой умеренностью, мужеством, имеющим грозный лик, с достоинством и благоговением, струящимся по невозмутимому, непоколебимому и бесстрастному устроению, над всем этим же сияет богоподобный ум. Это и есть истинно сущее (τὰ ὄντως ὄντα).
Однако разум требует понять: что же именно, будучи сущим, делает душу желанной? Каков тот свет, что блистает поверх всех добродетелей? Чтобы ответить, Плотин вводит образ безобразной души: необузданной, несправедливой, переполненной низменными вожделениями и смятением, живущей в страхах и зависти, мыслящей лишь бренным и низким, искривленной во всем, любящей нечистые удовольствия, принимающей за благо то, что приятно телу. Это безобразие – не сущностное свойство души, а нечто привнесенное извне (ἐπακτὸν), наподобие скверны, которая осквернила и затемнила ее, смешав со злом. Такая душа уже не живет подлинной жизнью и не обладает чистым восприятием; ее жизнь притуплена примесью зла и смешана со смертью. Она не видит того, что должна видеть, не может пребывать в себе, ибо постоянно влечется вовне, вниз, во тьму. Она нечиста, тяготеет к чувственному, содержит в себе много телесного, смешана с материальным и, восприняв иную форму, изменилась от смешения с худшим. Здесь Плотин приводит яркую аналогию: как человек, погрузившийся в грязь или ил, более не являет собственной красоты, а являет лишь то, что заимствовал от скверны. Его безобразие есть прибавление инородного, и чтобы вновь стать прекрасным, ему должно омыться и очиститься, став тем, чем он был по сути.
Таким образом, безобразие души правильно определять как смешение, скверну и устремленность (μίξει, κράσει, νεύσει) к телу и материи. Оно есть небытие чистоты и простоты, подобное золоту, смешанному с землей: удали землю – и останется чистое, прекрасное золото, пребывающее в единстве с самим собой. Так и душа, уединенная от телесных вожделений и страстей, очищенная от всего, что она приобрела, воплотившись, и оставшаяся одна, сбрасывает с себя всё безобразие, пришедшее от иной природы. Логика аргументации здесь онтологически этична: зло и безобразие суть лишенность, отпадение, загрязнение, тогда как благо и красота суть самотождественность, чистота, возвращение к своей простой и неделимой сущности. Современное звучание этого анализа – в понимании порока не как позитивной силы, а как состояния рассеяния, зависимости и утраты внутренней цельности. Красота души, соответственно, есть не набор моральных предписаний, а состояние собранности, автономии и просветленности, в котором проявляется ее божественная, умопостигаемая природа. Плотин утверждает, что этика коренится в метафизике: быть добродетельным – значит быть самим собой в высшем, онтологическом смысле этого слова.
6. О добродетели как очищении и обожении.
Развивая мысль о красоте души, Плотин обращается к древнему учению, отождествляющему добродетель с очищением (κάθαρσις). Мудрость мистерий, гласящая, что неочищенная душа будет лежать в Аиде среди грязи, получает у него глубокое метафизическое толкование: нечистое по природе влечется к грязи, подобно свиньям, радующимся нечистому телу. Добродетели, таким образом, суть не что иное, как последовательное освобождение от телесного. Истинное целомудрие (σωφροσύνη) есть отказ от телесных удовольствий как от нечистых. Мужество (ἀνδρία) есть бесстрашие перед смертью, а смерть есть отделение души от тела; того не страшится, кто жаждет остаться наедине с собой. Величие души (μεγαλοψυχία) есть пренебрежение земным. Разумность же (φρόνησις) есть мысль, отвращенная от низшего и возводящая душу к высшему.
Очистившись таким образом, душа сама становится эйдосом и логосом, всецело бестелесной, умной и причастной божественному, откуда истекает источник красоты. Возводя себя к Уму (νοῦς), душа становится прекраснее, ибо красота Ума и исходящего от него для нее не чужая, а родная; лишь в этом состоянии она подлинно есть душа (ὄντως μόνον ψυχή). Отсюда Плотин заключает, что правильно говорят: для души стать доброй и прекрасной означает уподобиться богу, поскольку красота и есть доля (μοῖρα) божественного в сущем. Более того, само сущее (τὰ ὄντα) и есть красота, тогда как иная, низшая природа – безобразие, которое тождественно первому злу. Следовательно, в высшем смысле благо и красота – одно и то же (τὸ ἀγαθόν τε καὶ καλλονή), или благо есть сама красота.
Исходя из этого тождества, следует искать единую природу прекрасного и благого, а также безобразного и злого. Первым должно быть положено именно Красота-Благо, от которого сразу проистекает Ум как прекрасный; душа прекрасна через причастность Уму; все же прочее становится прекрасным уже от души, оформляющей (μορφούσης) его: это дела, занятия и даже тела. Ведь душа, будучи божественной и как бы частью красоты, все, чего касается и чем овладевает, делает прекрасным, насколько то способно приобщиться. Таким образом, устанавливается нисходящая иерархия красоты: Единое-Благо-Прекрасное → Ум (красота умопостигаемого) → Душа (красота жизни и добродетели) → оформленный ею мир (красота действий, искусств и тел). Логика этого построения выявляет этику как онтологическую дисциплину: стать добродетельным – значит реализовать свою истинную природу как умной души, очиститься от материального и тем самым стать активным источником красоты в мире. Современное звучание этой концепции – в утверждении, что подлинная нравственность и творчество суть проявления одной и той же внутренней собранности и просветленности, а эстетическое восприятие мира есть одновременно его этическое преображение. Красота не созерцается пассивно, но творится душой, вернувшейся к своему божественному истоку.
7. О восхождении к Прекрасному-Благому: апофатический восторг.
Заключительный этап трактата посвящен описанию высшей ступени мистического восхождения, где душа встречается с Первоисточником – само́м Благом, которое есть одновременно и само́ Прекрасное (τὸ ἀγαθόν, ὅπερ καὶ τὸ καλόν). Чтобы узреть Его, необходимо вновь взойти ввысь, обратившись и совлекши все, во что мы облачились, нисходя вниз, – подобно тем, кто, поднимаясь в святилища, проходит очищения и снимает прежние одежды, чтобы предстать нагими. Восхождение требует последовательного отвержения всего чуждого божественному, пока путник не увидит одиноким и единственным (αὐτῶι μόνωι αὐτὸ μόνον) простую, чистую, беспримесную (ἁπλοῦν, καθαρόν, εἰλικρινές) реальность, от которой все зависит, к которой все устремлено и благодаря которой все существует, живет и мыслит.
Тот, кто удостоился этого видения, испытывает не просто эстетическое удовольствие, а трансформирующий восторг, составляющий суть истинной любви. Пока душа не видела, она влечется к Нему как к Благу; узрев же, она пребывает в изумлении, сладостном потрясении и истинной любви (ἔρᾶν ἀληθῆ ἔρωτα). Прежние красоты, в том числе богов и демонов, теряют всякую притягательность – как может сравниться с Ним все прочее, если лишь Оно дарует красоту всему, само оставаясь непричастным никакой смеси, свободным от плоти, земли и неба? Это Прекрасное пребывает в себе (ἐφ᾽ ἑαυτοῦ), дает себя, ничего не принимая в себя (δίδωσι καὶ οὐ δέχεταί τι εἰς αὐτό). Пребывая в созерцании такого Начала и наслаждаясь Им, душа уподобляется Ему и более не нуждается ни в каком ином прекрасном, ибо это и есть Красота сама по себе, которая и делает влюбленных в нее прекрасными и достойными любви.
Плотин подчеркивает, что величайшая и последняя борьба (ἀγὼν μέγιστος καὶ ἔσχατος) душ состоит именно в том, чтобы не лишиться этого наилучшего созерцания. Обладающий им блажен, лишенный же – истинно несчастен (ἀτυχής). При этом несчастье заключается не в лишении телесной красоты, власти, царства или земных благ, но исключительно в лишении этого Единого. Ради достижения Его следует отринуть царства, власти над землей, морем и небом, если, оставив и презрев все это, обратиться и узреть То.
Логика всего трактата находит здесь свое завершение: иерархия красоты, начавшаяся с вопросов о телесных формах, приводит к апофатическому принципу, который есть чистая самотождественность и источающая щедрость. Современное звучание этого финала – в утверждении предельного приоритета духовного опыта: высшая ценность человеческого существования усматривается не в обладании внешними благами, а в экстатическом соединении с источником всякого смысла и красоты, что требует радикального самоотречения и внутреннего преображения. Плотин описывает не абстрактную идею, а живую встречу, которая переопределяет все шкалы ценностей и наполняет жизнь подлинным, неотчуждаемым содержанием.
8. О методе восхождения: внутренний поворот и пробуждение внутреннего зрения.
Естественным завершением восхождения к само́му Прекрасному становится вопрос о практическом пути: каков способ, каково орудие, как можно узреть эту непостижимую красоту, пребывающую внутри, в священных святилищах, не выходящую вовне, чтобы ее не увидел непосвященный? Ответ Плотина – это призыв к радикальному внутреннему повороту. Следует войти внутрь себя, оставив внешнее зрение очей и не обращаясь вспять к прежним блескам телесных красот. Видя прекрасные тела, нужно не устремляться к ним, но, распознав в них образы, следы и тени (εἰκόνες, ἴχνη, σκιαί), бежать к Тому, чьими отображениями они являются.
Здесь Плотин приводит глубокий мифологический образ: тот, кто, желая схватить как истинную красоту её отражение в воде (подобно тому, о ком повествует миф), ныряет в поток и исчезает. Так и тот, кто привязывается к прекрасным телам и не отпускает их (не телом, но душой), погрузится в темные и безрадостные для ума глубины, останется слепым в Аиде и здесь и там будет общаться лишь с тенями. Отсюда рождается знаменитый призыв: «Бежим же к милому отечеству!» Это отечество – то, откуда мы пришли, и Отец – там.
Но как совершить это бегство и это плавание? Плотин подчеркивает, что путь этот – не физический. Не ногами его пройти, ибо ноги лишь переносят с одной земли на другую; не нужно ни конной колесницы, ни корабля. Необходимо отринуть все это и, более того, перестать пользоваться обычным зрением. Следует, «словно закрыв глаза», обменять одно зрение на другое и пробудить то, которое есть у каждого, но пользуются которым немногие. Это пробуждение внутреннего зрения (ὄψιν ἄλλην) есть акт собирания души в самое себя, отворот от внешних образов и активация той самой высшей способности, которая способна узреть единое, простое и божественное. Путь к Абсолюту, таким образом, есть не внешнее путешествие, а внутренняя метанойя, требующая отказа от захваченности чувственными подобиями и мужественного обращения к собственной глубине, где уже пребывает искомый свет. Современный резонанс этой мысли – в утверждении, что доступ к подлинному смыслу и ценности требует не накопления внешних впечатлений или информации, а глубокой интроспекции, «закрывания глаз» на шум мира для того, чтобы услышать и увидеть внутреннюю, духовную реальность, составляющую нашу сущностную природу.
9. О самопреображении как условии видения: путь к умопостигаемому.
Разъясняя метод пробуждения внутреннего зрения, Плотин описывает процесс постепенного воспитания души, который одновременно является ее само-творчеством. Пробуждающаяся душа изначально не способна сразу вынести сияние высшего. Поэтому ее необходимо приучать последовательно: сначала созерцать прекрасные нравы и поступки не как внешние произведения искусства, но как дела добродетельных мужей; затем – усматривать красоту самой души, производящей эти прекрасные дела.
Здесь возникает центральный вопрос: как увидеть прекрасную душу? Ответ Плотина парадоксален и глубок: «Обратись к себе самому и смотри». Если ты еще не видишь себя прекрасным, следует поступить как ваятель, создающий прекрасную статую: устранять лишнее, выпрямлять кривое, очищать темное, полировать шероховатое, пока не явится прекрасный лик. Так и человек должен снимать с души все избыточное, выпрямлять искривленное, очищать темное, работать, пока не станет сияющим, и не переставать ваять свое собственное изваяние, пока не воссияет ему боговидное великолепие добродетели и не узреет он целомудрие, стоящее на священном основании.
Этот процесс само-ваяния и есть очищение, ведущее к единству. Когда человек стал этим (т.е. чистой добродетелью), увидел это и, очистившись, соединился с самим собой, не имея внутри ничего препятствующего единству, ничего постороннего, но весь став истинным светом – не измеренным величиной, не ограниченным формой, но неизмеримым и превосходящим всякую меру – тогда, увидев себя таким, он сам становится зрением. Обретя дерзновение и уже взойдя на высоту, он более не нуждается в проводнике; устремив взор, он видит. Ибо лишь этот глаз видит великую красоту. Напротив, если кто приступает к созерцанию, обремененный пороками, неочищенный или слабый от малодушия, он ничего не увидит, даже если другой укажет ему на присутствующую и видимую реальность.
Плотин формулирует фундаментальный онтологический принцип восприятия: видящее должно стать родственным и подобным видимому (τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ ὁρώμενον συγγενὲς καὶ ὅμοιον ποιησάμενον). Как глаз не может видеть солнце, не став солнцевидным, так и душа не может узреть красоту, не став прекрасной. Следовательно, каждый должен сперва стать весь боговидным и прекрасным, если намерен созерцать Бога и Прекрасное. Только тогда, восходя к Уму, душа познает все прекрасные эйдосы и признает красотой именно их – идеи, ибо ими все прекрасно. Это красота умопостигаемого космоса, порождений и сущностей Ума.
Но за пределами этого Плотин указывает на высшее начало – природу Блага, которая пред-изливает (προβεβλημένον) красоту перед собой. В общем смысле (ὁλοσχερεῖ μὲν λόγωι) Первое есть Прекрасное; при раздельном же рассмотрении умопостигаемого прекрасным называют область эйдосов, а Благо – то, что за пределами, источник и начало красоты. Или же можно поместить Благо и Красоту в одно и то же Первое, с тем уточнением, что красота – именно там.
Тем самым, путь к созерцанию абсолютного оказывается неразрывно связан с этико-онтологическим преображением самого субъекта. Видение есть результат становления. Современный смысл этого учения – в утверждении нераздельности гносеологии и этики, познания и самосовершенствования. Истинное знание (особенно в сфере ценностей и смыслов) не может быть получено извне нейтральным наблюдателем; оно требует активного со-творчества, внутреннего уподобления познаваемому, превращения самого познающего в адекватный инструмент восприятия. Обретение духовного зрения есть, в конечном счете, творение себя по образу истинно сущего.
Седьмой
трактат
. Περὶ τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν.
Метафизика стремления: Благо как абсолютный покой и относительная деятельность.
В седьмом трактате Плотин предпринимает систематическую реконструкцию самой фундаментальной аксиологической категории – блага. Его изложение, разворачивающееся от критики расхожих определений к утверждению трансцендентного принципа, выстраивает не просто иерархию ценностей, но раскрывает динамическую онтологическую структуру реальности, где всё сущее определяется характером своего устремления.
Исходным пунктом становится не отрицание, а углубление классического эвдемонистического представления: благо для каждой вещи – это полное осуществление (ἐνέργεια) её природной функции. Однако это начало – лишь первая ступень диалектики. Плотин немедленно указывает на внутренний предел этого определения: если благо заключено в деятельности, направленной к чему-то иному, то должен существовать конечный предел этого ряда, предмет стремления, который сам уже ни к чему не стремится. Так рождается центральная интуиция трактата: абсолютное Благо (τὸ πρῶτον ἀγαθόν) тождественно абсолютному покою. Оно не есть деятельность, не есть мышление, не есть даже бытие в его определённости, но – запредельный источник всего этого. Его атрибуты – совершенная самодостаточность, неизменность и простота. Оно есть Единое, которое, пребывая «в тишине», является точкой опоры и центром притяжения для всего мироздания. Платоновский образ солнца получает здесь метафизическую отточенность: как свет неотрывен от солнца и всегда к нему обращён, так и всякое сущее, даже в самой низшей степени, укоренено в Едином и инстинктивно к нему направлено.
Эта направленность и составляет суть причастности благу для всего тварного мира. Благо не распространяется и не делится; оно сообщает себя через иерархию уподобления. Неодушевлённые вещи причастны ему лишь опосредованно, через причастность душе, дающей им форму и порядок. Душа причастна через устремлённость к уму (νοῦς). Сам ум, будучи ближайшей эманацией, уже непосредственно «следует» за Благом. Таким образом, всё обладает не благом как таковым, но его подобием (ἀγαθοειδές), меру которого определяет положение в онтологической цепи: от простого факта существования (как образа единства) – через одушевлённую жизнь – к разумной деятельности. Благость относительна и пропорциональна способности субъекта обращать свою внутреннюю активность к высшему источнику.
Именно здесь возникает самый острый и психологически пронзительный момент рассуждения – анализ жизни и смерти. Если всё стремится к Благу, а жизнь есть принцип стремления, то является ли жизнь безусловным благом? Плотин даёт жёсткий и парадоксальный ответ: нет. Жизнь в её эмпирической, смешанной с материей форме, может быть ущербной, «хромой», подобно больному глазу. Её ценность обусловлена не биологическим фактом, а качеством внутренней деятельности. Порочная жизнь, лишённая ориентации на ум и добродетель, есть зло для души. В этом свете смерть, понимаемая как разделение души и тела, теряет абсолютно негативный статус. Для неочищенной души смерть – лишь продолжение её зла; для души, уже начавшей в земной жизни процесс отрешения (χωρίζειν ἑαυτήν) через добродетель, смерть становится большим благом, полным освобождением для чистой умственной деятельности. Таким образом, этика Плотина оказывается прямой проекцией его метафизики: нравственное усилие – это не просто следование правилам, а онтологический акт поворота души к своему истинному истоку, постепенное умирание для низшей, смешанной жизни и рождение для высшей.
Современное звучание этой конструкции поразительно. В мире, одержимом культом безостановочной деятельности, продуктивности и внешних достижений, плотиновская апология «покоящегося» Абсолюта предлагает радикальный корректирующий принцип. Она напоминает, что смысл любой активности обретается только по отношению к некоему внутренне неподвижному, не утилизируемому центру – будь то этический идеал, экзистенциальная подлинность или творческое созерцание. Идея градуированной причастности благу бросает вызов как релятивизму, стирающему качественные различия в ценностях, так и догматизму, предписывающему для всех единый путь. Она утверждает иерархию, но иерархию, основанную не на внешнем статусе, а на внутренней направленности сознания. Наконец, переосмысление жизни и смерти как функциональных, а не абсолютных категорий созвучно поискам современной философии и психологии, стремящимся понять «хорошую жизнь» не как продолжительность существования, а как определённое качество осознанности и связи с чем-то, превосходящим индивидуальное «я». Плотин, таким образом, предлагает не готовые ответы, но мощный каркас для мышления, в котором ценность, бытие и сознание сплетены в единую динамическую ткань, натянутую между абсолютным покоем Единого и вечным стремлением к нему всего сущего.
1. О Первом Благе и прочих благах.
Плотин начинает с вопроса о природе блага для каждой вещи. По его мысли, благом для любого существа является осуществление его природной деятельности в соответствии с его сущностной природой, без какого-либо недостатка. Для души, следовательно, благом будет её собственная естественная деятельность. Однако Плотин немедленно вводит принцип иерархии: если эта деятельность направлена к наилучшему, то она становится благом не только для самой души, но и благом в абсолютном смысле. Это подводит к центральному различению между относительными и абсолютным благом. Все вещи стремятся к чему-то иному, и их благо состоит в этом устремлении и осуществлении. Но должно существовать нечто, что само является наилучшим, превосходит всякое бытие и потому не может быть направлено к чему-то другому. Напротив, всё остальное направлено к Нему. Это и есть Первое Благо, или Единое. Именно оно, пребывая в покое, есть источник, благодаря которому все прочие вещи могут приобщаться к благу. Их благость оказывается двойственной: с одной стороны, это уподобление Первому через ориентацию на Него, с другой – осуществление собственной деятельности, направленной к Нему.
Отсюда вытекает радикальный вывод о природе самого Абсолютного Блага. Если всякое стремление и деятельность хороши благодаря направленности к Наилучшему, то само это Наилучшее не может ни к чему стремиться, ни на что иное взирать. Оно пребывает в совершенном покое, будучи истоком и началом всякой естественной деятельности. Его способность делать другие вещи благообразными не есть какая-либо Его активность по отношению к ним, ибо они обращены к Нему, а не Он к ним. Следовательно, Благо не есть деятельность или мышление. Оно есть сама простота и покой. Поскольку оно запредельно сущности (ousia), оно также запредельно энергии (energeia) и уму (nous) с его мышлением (noesis). Ключевой признак Первого Блага – его абсолютная самодостаточность и бытие как конечная точка опоры для всего: «всё к Нему возводится, а Оно – ни к чему». Таким образом, общеизвестное определение блага как «того, к чему всё стремится» обретает истинный смысл лишь тогда, когда предмет стремления сам ни в чём не нуждается. Логика требует, чтобы Первое оставалось неподвижным центром, к которому всё обращается, подобно тому как все линии в круге сходятся и зависят от центра. Для наглядности Плотин использует два образа: солнце и свет, и растение и его корень. Как свет, где бы он ни был, не отделён от солнца и всегда обращён к нему как к источнику, так и всё сущее не может быть отсечено от своего истока, Первого Блага. Как растение, питаясь через корень, обращает свою жизнь к нему, так и вся сложность бытия питается и держится простотой Единого, которое, оставаясь в себе, сообщает существование, форму и ценность всему иному. Таким образом, внутренняя логика трактата ведёт от анализа относительного блага как осуществлённости природы – к необходимости абсолютного, самодостаточного принципа, который, будучи сверхдеятельным и сверхумным покоем, является условием возможности всякого стремления, всякой деятельности и, следовательно, всякого блага в мире.
2. О способе причастности иерархии сущего к Первому Благу.
Исследуя механизм связи всего сущего с Первым Благом, Плотин выстраивает строгую иерархическую цепь направленности. Неодушевлённые вещи обращены к душе, поскольку именно душа одаряет их порядком и жизненным началом. Душа же, в свою очередь, обращена к Первому не непосредственно, но посредством ума (νοῦς), который является для неё ближайшей и высшей инстанцией. Таким образом, всё сущее включено в нисходящий порядок эманации от Единого: Ум, Душа, телесный космос. Каждая вещь в этом порядке обладает некоторой мерой блага уже в силу самого факта своего существования, поскольку иметь бытие – значит быть причастным единству и, следовательно, в определённом смысле – благу. Всякое участие в форме (εἶδος) также есть косвенное участие в благе, однако здесь Плотин вводит важное уточнение: форма сама по себе есть лишь образ (εἴδωλον) истинно сущего и подлинного единства, то есть умопостигаемого принципа. Поэтому причастность форме даёт лишь «образ» блага, а не само благо.
Далее Плотин дифференцирует уровни причастности в зависимости от природы субъекта. Для души, особенно для высшей, мыслящей души, следующей непосредственно за умом, жизнь (ζωή) является её благом. Эта жизнь, поскольку она пронизана умом, ближе к истине и потому обладает благообразием (ἀγαθοειδές). Однако душа обретает само благо не автоматически, а лишь при условии своего обращения и взора (βλέποι) к тому, что выше её, – к уму и через него к Первому. Ум же, будучи ближайшей эманацией Единого, уже непосредственно следует за Благом и содержит его в себе как свой принцип. Следовательно, для любого существа его благо определяется его местом в иерархии: для того, чья сущность есть жизнь, благом будет сама жизнь; для того, кто причастен уму, благом будет ум. Наивысшее же состояние – жизнь, соединённая с умом, – обладает двойной связью с Первым Благом: и через свою жизненность (как эманацию), и через свою разумность (как обращённость к источнику). Таким образом, причастность благу оказывается не равной для всех, а градуированной: от простого обладания бытием как образом единства – через одушевлённость и разумность – до возможного прямого, хотя и опосредованного умом, устремления к самому Источнику.
3. О двойственности жизни и смерти как относительных благ и зол
Рассматривая тезис о жизни как благе, Плотин сталкивается с очевидным противоречием: если жизнь есть благо, то должно ли оно принадлежать всякому живому существу? Философ отвечает отрицательно, вводя критерий осуществлённости природной функции. Жизнь для порочного существа подобна больному глазу, который не может ясно видеть и потому не выполняет своего предназначения; такая жизнь «хромает» и ущербна. Таким образом, жизнь сама по себе ещё не гарантирует обладания благом – оно реализуется лишь в полноте и совершенстве природной деятельности.
Это приводит к сложному вопросу о смерти. Если наша смешанная со злом жизнь есть благо, то почему смерть считается злом? Плотин подвергает сомнению саму предпосылку, утверждая, что зло должно быть присуще какому-то субъекту. Мёртвое тело, утратившее жизнь, уже не есть субъект, а камень и вовсе лишён жизни, поэтому им нельзя приписать зло в собственном смысле. Если же после смерти сохраняется жизнь души, то это, напротив, становится для неё благом, поскольку душа получает возможность действовать свободно, без помех со стороны тела. Если душа воссоединяется с мировой душой, то для неё там вообще не существует зла. По аналогии с богами, для которых есть только благо и нет зла, так же обстоит дело и для чистой души, сохранившей свою сущность. Напротив, если душа не сохранила чистоты, то злом для неё будет не смерть, а именно порочная жизнь. Даже в Аиде, если душа подвергается наказаниям, зло проистекает не из жизни как таковой, а из её нечистоты, из того, что это «не жизнь сама по себе».
Плотин далее анализирует определения: если жизнь есть соединение души и тела, а смерть – их разъединение, то душа оказывается способной к обоим состояниям. Разрешение парадокса лежит в различении уровней. Жизнь в теле является благом не потому, что она есть соединение, а лишь постольку, поскольку через добродетель (ἀρετή) в этом соединении можно противостоять злу. В этом контексте смерть может оказаться большим благом, так как освобождает от тягот смешанного существования. Окончательный вывод формулируется радикально: сама по себе жизнь в теле содержит в себе начало зла, ибо подвержена страстям и заблуждениям. Однако благодаря добродетели душа способна, даже пребывая в теле, пребывать в благе. Это происходит не потому, что она живёт жизнью составного существа, а потому, что она уже здесь и теперь начинает отделять себя от тела, обращаясь к умопостигаемому. Таким образом, подлинное благо для души заключается не в физиологическом факте жизни, а в её интеллектуальной и нравственной активности, ведущей к обособлению от телесного и уподоблению божественному.
Восьмой трактат.
Πόθεν τὰ κακά.
О метафизических корнях зла: необходимость, природа и преодоление.
В восьмом трактате шестой Эннеады «О происхождении зол» Плотин предпринимает систематическое исследование одной из самых мучительных проблем философии: если мироздание происходит от абсолютно благого начала, каким образом в нём присутствует зло? Ответ требует не моральной проповеди, но строгого онтологического анализа, ведущего к парадоксальному выводу: зло существует как необходимое следствие самого совершенства блага, но существует не как сущность, а как её предельное отрицание.
Исходный методологический принцип гласит: познание зла возможно только через предварительное понимание блага. Благо есть абсолютное начало, самодостаточное, ни в чём не нуждающееся, служащее мерой и пределом всему. От него эманируют Ум, наполненный всеми интеллигибельными формами, и Душа, обращённая к нему. В этом умопостигаемом космосе царит чистая полнота, гармония и блаженство; зло здесь отсутствует абсолютно. Следовательно, его источник следует искать не в самом принципе блага, а на периферии бытия.
Так начинается движение мысли к онтологическим окраинам. Зло не может быть формой или эйдосом, ибо формы суть благи. Оно должно принадлежать сфере не-сущего. Однако «не-сущее» у Плотина – не абсолютное ничто, а нечто иное по отношению к истинному бытию, его слабый и искажённый образ. Этим образом является чувственный мир, мир становления. Но и здесь зло – не просто телесность. Тела злы вторично, поскольку они причастны материи. Сама же материя (ὕλη) и оказывается подлинным кандидатом на роль первичного зла.
Плотин проводит тонкое различение: материя не есть зло потому, что обладает каким-то дурным качеством. Напротив, её зло состоит в полном отсутствии качеств, в абсолютной лишённости (στέρησις). Она есть чистая потенциальность, бесформенность (ἀνείδεον), беспредельность (ἄπειρον), вечная нужда. Она – не активное начало разрушения, а пассивная, всепоглощающая бедность (πενία παντελής), «тьма», которая сама по себе не видима, но познаётся лишь как отсутствие света. Её «бытие» – лишь омоним бытия истинного; точнее её называть не-сущим. Таким образом, первичное зло (πρῶτον κακὸν) – это сама материя как абсолютная лишённость формы, предела и, следовательно, блага.
Эта концепция позволяет разрешить кажущиеся парадоксы. Если зло есть лишённость, то как оно может воздействовать? Ответ заключается в её особой «заразительной» природе. Формы, нисходя в материю, не остаются чистыми; они становятся «овеществлёнными логосами» (λόγοι ἔνυλοι), искажаются, «портятся» её бесформенностью. Материя, подобно ненасытному началу, подставляет себя под свет души или ума, но не может его удержать, а лишь затемняет и ослабляет, «крадёт» его, делая злым. Это и есть причина падения души (πτῶμα τῆς ψυχῆς) и её слабости (ἀσθένεια). Порок (κακία) – не само зло, а его вторичное проявление в душе, состояние смешения её с материей, когда часть её сил парализована присутствием иного.
Отсюда проистекает этический императив. Поскольку зло неуничтожимо в космосе (ибо материя необходима как предел эманации, условие множественности и становления), «бегство от зла» не может быть физическим. Это – внутреннее отделение (χωρίσας), осуществляемое через добродетель и обращение ума к самому себе. Спастись – значит, пребывая в теле, не быть в материи, то есть не позволять своему сознанию определяться ею. Познание зла также негативно: ум, чтобы «увидеть» материю, должен на время отречься от своего света, выйти в сферу иного – это познание через отсутствие, возможное лишь на фоне предварительного знания блага.
Философская мощь трактата – в последовательном проведении идеи, что зло есть не позитивная сила, а изнанка бытия, его необходимая тень. Оно не имеет самостоятельной субстанции, но существует как сбой, угасание, недостаток. Однако эта негативность не обесценивает мир. Плотин заключает, что зло, будучи охвачено прекрасными формами («золотыми узами»), скрыто от богов и служит людям напоминанием о благе через контраст. Таким образом, космос в целом остаётся благим, а зло, будучи метафизически необходимым, включено в гармонию целого как условие самого существования нисходящей лестницы совершенства и как вызов, пробуждающий душу к восхождению. Зло не побеждено, но ограничено и поставлено на службу высшему замыслу, в котором даже тьма, вопреки себе, указывает на свет.
1. О природе зла и его месте в бытии.
Проблема происхождения зла, согласно изложению, требует прежде всего прояснения его сущности, ибо без точного определения предмета невозможно установить ни его источник, ни сферу его присутствия, ни даже сам факт его существования среди сущего. Однако познание сущности зла сталкивается с фундаментальной гносеологической трудностью: познание, по своей природе, осуществляется через уподобление познающего познаваемому, то есть через некоторое сходство или общность в порядке бытия. Ум и душа, будучи сами формами и причастными формам, естественным образом тяготеют к познанию и стремлению к тому, что обладает определённостью и бытием. Зло же, по предварительному предположению, не является формой или эйдосом в собственном смысле; его невозможно представить как некий положительный образ, поскольку оно как бы проявляется в полном отсутствии блага. Это ставит под вопрос саму возможность его прямого умопостижения.
Отсюда возникает необходимость косвенного пути: если зло понимается как противоположность благу, а знание противоположностей едино, то познание зла должно быть производным от предварительного и более ясного познания блага. Такая методологическая установка основана на онтологическом приоритете: лучшее и первичное предшествует худшему и вторичному; сущностные формы (эйдосы) первичны по отношению к тому, что является их лишением. Таким образом, зло изначально мыслится не как самостоятельная сущность, а как нечто относящееся к порядку лишенности (στέρησις). Однако характер противоположности между благом и злом требует специального исследования: является ли она противоположностью по типу начала и конца сущего порядка или же по типу формы и её отсутствия. .Плотин оставляет этот вопрос для последующего анализа, подчеркивая, что сама постановка проблемы зла должна быть радикально переосмыслена через призму онтологии блага, а не через поиск некой самостоятельной «природы» зла.
2. О высшем благе как основе миропорядка.
Приступая к исследованию природы блага, Плотин определяет его как абсолютный принцип, к которому всё причастно и к которому всё сущее устремлено. Благо есть начало, само себя довлеющее, ни в чём не нуждающееся, служащее мерой и пределом для всего. От него происходят и им держатся высшие уровни бытия: ум (νοῦς), сущность (οὐσία), душа (ψυχή), жизнь (ζωή) и мыслительная деятельность (περὶ νοῦν ἐνέργεια). Всё, что проистекает из этого источника, прекрасно, ибо сам источник пребывает выше красоты, царствуя в умопостигаемой сфере (ἐν τῶι νοητῶι). Этот принцип – не просто абстрактная идея, но живое, порождающее единство.
Особое внимание уделяется природе ума, порождённого благом. Этот ум не следует представлять по аналогии с человеческим рассудком, который функционирует через дискурсивные суждения, логические умозаключения и последовательное движение от предпосылок к выводам. Такой рассудок изначально пуст и наполняется знанием извне. Ум же умопостигаемого космоса пребывает в состоянии вечной полноты: он есть всё и содержит в себе всё в совершенном единстве. В нём все интеллигибельные формы (εἴδη) существуют не раздельно и не смешано, но как целостное многообразие, где каждое есть целое, присутствующее повсюду, оставаясь при этом отличным. Причастность к этому уму возможна не сразу ко всему его содержанию, но лишь в меру способности причастника.
Этот ум представляет собой первую энергию и первую сущность, истекающую из неподвижного блага, которое пребывает в себе. Ум действует вокруг блага, как бы живёт им. Душа, обращаясь вовне, танцует вокруг ума, но, устремляя взор внутрь него, созерцает через ум самого бога – высшее начало. В этом чистом умопостигаемом мире царит безмятежная и блаженная жизнь; зло здесь абсолютно отсутствует. Если бы всё сущее остановилось на этом уровне, никакого зла не существовало бы вовсе.
Выстраивается иерархическая структура бытия: первое – само благо, второе – ум, третье – душа. Всё сущее располагается вокруг своего «царя» – блага, которое является причиной всего прекрасного. Вторые сущности – вокруг вторых принципов, третьи – вокруг третьих. Эта стройная эманационная лестница, где каждый низший уровень есть отражение и следствие высшего, сама по себе чиста и блага. Вопрос о зле, следовательно, не может быть решён на этом уровне; его источник следует искать не в самом принципе блага или в непосредственных его порождениях, а в чём-то ином, связанном с дальнейшим удалением от первоистока. Идея о том, что зло есть результат определённого рода удалённости, лишённости или неудачи в стремлении, уже проступает в этой картине совершенного и самодостаточного первоначала.
3. Онтологический статус зла как лишённости и не-сущего.
Исходя из установленной иерархии благого бытия, возникает неизбежный вывод: если всё сущее и то, что выше сущего (само благо), суть благие начала, то зло не может находиться среди них. Следовательно, если зло вообще существует, оно должно пребывать в сфере не-сущего (τοῖς μὴ οὖσιν), выступая как некий вид (εἶδός τι) не-сущего. Оно должно быть связано с тем, что причастно не-сущему – либо смешано с ним, либо каким-то иным образом с ним сообщается.
При этом «не-сущее» здесь понимается не как абсолютное ничто, но как иное (ἕτερον) по отношению к истинно сущему, умопостигаемому бытию. Это не то не-сущее, которое есть в бытии, как его аспект (например, движение или покой), но как его образ (εἰκὼν) или даже нечто ещё более лишённое бытия. Этой сферой является весь чувственный мир (τὸ αἰσθητὸν πᾶν) и всё, что с ним связано: его страдания, случайные свойства, его начала и составные части.
Сущность зла характеризуется через ряд пар противоположностей, которые одновременно являются описаниями самого этого принципа. Зло есть безмерное (ἀμετρία) по отношению к мере, беспредельное (ἄπειρον) по отношению к пределу, бесформенное (ἀνείδεον) по отношению к формообразующему началу, вечно нуждающееся (ἀεὶ ἐνδεές) по отношению к самодостаточному. Оно – нечто вечно неопределённое, нигде не пребывающее, подверженное всяческим страданиям, ненасытное, полная бедность (πενία παντελής). Важнейший тезис заключается в том, что эти характеристики не являются случайными свойствами (οὐ συμβεβηκότα) для зла; они составляют саму его суть (οἷον οὐσία αὐτοῦ). Где бы мы ни встретили его часть, она будет вся целиком обладать этими качествами. Другие же вещи становятся злыми (κακὰ μὲν γίνεσθαι), причастные ему или уподобившиеся ему, но не суть зло само по себе (οὐχ ὅπερ δὲ κακὰ εἶναι).
Таким образом, необходимо постулировать первичную гипостазис (ὑποστάσει) зла, отличную от тех вещей, которым зло случается. Подобно тому, как есть благо само по себе и благо как привходящее свойство, так и зло должно иметь свою собственную природу, даже если это не сущность в обычном смысле. Эта природа есть именно первичная безмерность, беспредельность, бесформенность сами по себе.
В конечном счёте, зло как таковое отождествляется с материей (ὕλη), понимаемой не как телесный субстрат, а как чистая потенциальность и лишённость. Материя есть то, что, будучи оформлено чуждыми ей формами, мерой и пределом (то есть причастно ἀλλοτρίωι κόσμωι), само по себе не имеет никакого блага, являясь лишь призрачным подобием (εἴδωλον) истинно сущего. Именно эта материя, как первичная и абсолютная бедность, неспособность и уклонение от блага, и признаётся первой и самосущей сущностью зла (κακοῦ οὐσίαν), если у зла вообще может быть «сущность». Зло, следовательно, есть не активное начало, а предельная пассивность и лишённость, необходимо возникающая на последней грани эманации, где иссякает сила формообразующего блага.
4. О причастности злу тел и душ.
Исследование зла последовательно переходит от его абсолютного источника к конкретным уровням его проявления. Природа телесных вещей, поскольку они причастны материи, не является злом первичным, но вторичным. Тела обладают некоторым подобием формы, лишены истинной жизни, взаимно разрушают друг друга, их движение беспорядочно, они препятствуют деятельности души и, будучи в постоянном потоке становления, уклоняются от сущности. Однако их зло – производное.
Душа же сама по себе не зла, и не всякая душа становится злой. Порочная душа возникает там, где происходит порабощение того начала в ней, которое по природе своей способно принимать зло. Речь идёт о неразумной части души, которая оказывается восприимчива к порокам вследствие отсутствия меры – через избыток или недостаток, что порождает невоздержанность, трусость и иные виды душевной испорченности. Эти состояния суть непроизвольные страдания, порождающие ложные мнения, заставляющие считать злом то, что следует избегать, и благом – то, чего следует желать.
Возникает вопрос о причине этого порока: что производит зло в душе и как возвести его к первоначалу и причине? Ответ состоит в том, что подобная душа не существует отдельно от материи и не пребывает в себе самой. Она оказывается смешанной с безмерностью и лишена формирующего, упорядочивающего и приводящего к мере эйдоса. Это смешение происходит через соединение с телом, которое содержит материю.
Далее, даже разумная часть души, если она повреждена, лишена способности зрить истину из-за страстей, затемнения материей, склонности к материальному и, в целом, из-за обращения своего взора не к сущему, а к становлению. Началом же становления служит природа материи, которая, будучи злой по своей сути, способна заразить злом даже то, что ещё не пребывает в ней, но лишь обратило на неё свой взор, наполняя его своим собственным злом. Материя, будучи полностью лишённой блага, чистой лишённостью и абсолютной недостаточностью, уподобляет себе всё, что к ней каким-либо образом прикасается.
Таким образом, совершенная душа, всегда обращённая к уму, остаётся чистой, отвращённой от материи, и не видит, не соприкасается со всем безграничным, безмерным и злым; пребывая чистой, она всецело определена умом. Та же душа, которая не сохранила это состояние, но выступила из себя, порождая своим несовершенным и не первичным актом некий призрак себя самой, – в той мере, в какой она уступила место неопределённости, наполняется тьмой, начинает видеть тьму и тем самым уже содержит в себе материю, ибо смотрит на то, что не должно видеть. Это подобно тому, как мы говорим, что видим темноту: зрение, направленное в пустоту лишённости, само становится причастным этой лишённости. Порок души, следовательно, есть её собственное нисхождение и обращение к не-сущему, что делает её способной воспринять от материи её хаотическую природу.
5. Об абсолютной лишённости как источнике зла и его производных формах.
Уточняя причину зла, аргумент ставит вопрос: если недостаток (ἔλλειψις) блага является причиной обращения души к тьме, то где именно пребывает зло – в самом этом недостатке или в самой тьме? Ответ уточняет онтологический ранг зла: первично оно для души, вторично – как тьма (материя). Однако природа зла оказывается не только в материи, но и до неё, поскольку недостаток как таковой может быть различной степени.
Не всякий недостаток есть зло. Сущность, лишь немного не достигающая блага, ещё не зла, ибо она может быть совершенна в соответствии со своей собственной природой. Подлинное, действительное зло (τὸ ὄντως κακὸν) есть лишь полная, абсолютная лишённость (ἡ παντελὴς ἔλλειψις), которая не содержит в себе никакой доли блага. Именно такова материя: она не обладает бытием в истинном смысле, чтобы через него причаствовать благу; её так называемое «бытие» – лишь омоним, и вернее называть её не-сущим. Таким образом, недостаток влечёт за собой лишь отсутствие блага, но полная лишённость и есть само зло. Большая же степень недостаточности делает возможным падение в зло или уже является злом.
Отсюда следует методологически важный вывод: зло как таковое (τὸ κακὸν) следует мыслить не как конкретные его проявления (τόδε τὸ κακόν), такие как несправедливость или иной порок, но как то первичное начало, которое, само ещё не будучи ничем из этого, служит их общей основой. Конкретные виды зла суть как бы эйдосы этого начала, обретшие определённую форму благодаря дополнительным условиям: например, порочность в душе и её виды, или зло, связанное с материей, или относящееся к частям души, к её способности суждения, влечения или страдания.
Если же рассматривать зло вне души, например, болезни, бедность или уродство, их также можно возвести к той же причине. Болезнь есть недостаток или избыток в телах, содержащих материю, которые не способны удержать порядок и меру. Безобразие (αἶσχος) есть материя, не подчинившаяся форме. Бедность – лишённость и нехватка необходимого, проистекающая из нашей связи с материальной природой, которая по сути своей есть нужда.
Из этого анализа вытекает антропологический и этический вывод: людей не следует считать самодостаточным началом зла, как если бы они были злы по своей собственной воле. Эти начала предшествуют нам. Пороки, которые овладевают людьми, овладевают ими не по их доброй воле. Избавление от зла в душе возможно для тех, кто способен к этому, но не для всех. Даже при наличии материи в чувственном мире зло (в смысле душевной порчи) отсутствует у богов, и оно не присуще всем людям. Лучшие из людей способны властвовать над ним – именно благодаря тому, что в них самих присутствует нечто не принадлежащее материи. Таким образом, борьба со злом возможна не через отрицание материи как таковой, а через утверждение в себе того начала, которое способно противостоять абсолютной лишённости, то есть через обращение к уму и, в конечном счёте, к благу.
6. О необходимости зла и его противоположности благу.
Рассмотрение зла завершается вопросом о его неуничтожимости и необходимости. Согласно излагаемой позиции, зло никогда не может быть уничтожено, оно существует по необходимости. Среди богов его нет, но оно вечно обитает вокруг смертной природы и этого низшего места (мира становления). Это утверждение не означает, что небо, движущееся в порядке и космической гармонии, лишённое несправедливости и иных пороков, является вместилищем зла. Зло локализовано в земной, смертной сфере, где господствуют беспорядок и несправедливость.
Однако «бегство» отсюда трактуется не как физический уход с земли, а как нравственно-интеллектуальное состояние: пребывая на земле, быть справедливым, святым и разумным. Бежать следует от порока (κακία), который и есть зло для человека, а также от всего, что проистекает из порока. Возражение о том, что зло можно было бы упразднить, убедив людей, опровергается тезисом о его необходимости, поскольку благу должно существовать нечто противоположное.
Это порождает ключевую философскую проблему: как человеческий порок может быть противоположностью высшему благу? Противоположностью добродетели является порок, но добродетель – это не само благо, а лишь благое начало, помогающее властвовать над материей. Высшее же благо, будучи простым и первичным, не может иметь противоположности в обычном смысле, так как оно не есть качество. Далее, даже если в некоторых областях возможно сосуществование противоположностей (например, здоровья и болезни), это не означает их необходимого взаимного полагания.
Ответ заключается в различении уровней противоположности. Для единичных сущностей (καθ᾽ ἕκαστα οὐσίαι) может не быть прямой противоположности, но для сущности как таковой (οὐσία καθόλου) и, тем более, для первых начал, противоположность возможна. Сущности как таковой противоположно не-сущее (μὴ οὐσία), а природе блага – природа зла как его начало. Таким образом, существуют два первоначала (ἀρχαὶ): начало благ и начало зол. Все вещи, принадлежащие к каждой из этих природ, противоположны. Следовательно, и целые сферы бытия противоположны друг другу, и даже в большей степени, чем отдельные противоположности внутри одного рода. Ибо вещи, совершенно разделённые, не имеющие ничего общего и максимально удалённые по своей природе, суть истинные противоположности.
Противоположность здесь понимается не как отношение качеств или видов в рамках общего рода, а как максимальное удаление и различие по самой сути. Так, предел (πέρας), мера (μέτρον) и всё присущее божественной природе противопоставлены беспредельному (ἀπειρία), безмерному (ἀμετρία) и прочим атрибутам злой природы. Целое благого космоса противоположно целому злого начала. Ложное, мнимое бытие материи противопоставлено истинному бытию сущего. Таким образом, ложное (ψεῦδος) противоположно истинному (ἀληθές), а не-сущее по сущности – сущему по сущности.
Из этого следует, что тезис об отсутствии противоположности у сущности как таковой не абсолютен. Если бы, например, огонь и вода были чистыми сущностями без общего материального субстрата, они были бы противоположными сущностями. Следовательно, начала, полностью разделённые, не имеющие ничего общего и обладающие максимальным различием по своей природе, являются подлинными противоположностями. Противоположность определяется не через принадлежность к какому-либо роду сущего, а через максимальное взаимное удаление и построенность из контрарных начал.
Таким образом, существование зла как абсолютного начала не-сущего, материи и порока признаётся необходимым следствием самого устройства вселенной, в которой высшее благо, чтобы быть полным и действенным, должно иметь свою предельную противоположность, служащую границей и фоном для его проявления. Эта необходимость, однако, не отменяет возможности и обязанности для разумной души осуществить «бегство» – не физическое, а духовное – через обращение к уму и утверждение в себе меры и предела божественного начала.
7. О космологической необходимости зла и пути освобождения.
Окончательное обоснование необходимости зла вытекает из анализа структуры вселенной и метафизического принципа эманации. Вопрос «почему зло необходимо, если есть благо?» находит ответ в устройстве целого (τὸ πᾶν). Этот чувственный космос по своей природе является смешанным (μεμιγμένη), составленным из Ума (божественного начала, νοῦς) и необходимости (ἀνάγκη). Всё, что приходит в него от бога, – благо; зло же проистекает из древней природы (ἀρχαία φύσις), под которой подразумевается первоматерия (ὕλη), ещё не упорядоченная божественным взором.
Таким образом, мир с необходимостью включает в себя материю как один из своих принципов. Мироздание состоит из противоположностей, и без материи, представляющей собой начало иного, не-сущего, оно не могло бы существовать в своей полноте и разнообразии. Чувственный космос есть смесь разума и необходимости, формы и бесформенного, предела и беспредельного. «Смертная природа» и «это место» указывают на всю сферу становления, подчинённую изменению и распаду, в отличие от вечного умопостигаемого мира богов.
Цитата, по-видимому отсылающая к платоновскому «Тимею» («Вы возникли, стало быть, вы не бессмертны, но вы не будете разрушены по моей воле»), подчёркивает обусловленную вечность зла в подлунной сфере: будучи причастными становлению, смертные существа не бессмертны, но и не уничтожатся полностью, пока существует сам космический порядок. Отсюда делается вывод о неуничтожимости зла как такового: оно не может исчезнуть из мироздания.
Однако это не означает фатализма для разумной души. Путь избавления (ἐκφεύξεται) заключается не в пространственном бегстве, а в нравственно-интеллектуальном преображении. Душа спасается, стяжав добродетель (ἀρετήν) и отделив себя (χωρίσας) от тела, а через это – и от материи. Пока душа соединена с телом и, следовательно, соприкасается с материей, она пребывает в сфере зла. «Отделение» здесь – это не физическая смерть, а внутреннее усилие по обращению ума к самому себе и к созерцанию вечного, то есть пребывание «в богах», то есть в умопостигаемой реальности (ἐν τοῖς νοητοῖς), которая бессмертна.
Таким образом, необходимость зла может быть выведена и из самого принципа эманации. Поскольку существует не только единое благо, то по необходимости должен существовать и процесс исхождения (ἐκβάσει) от него, или, иначе говоря, непрерывное нисхождение (ὑποβάσει) и удаление (ἀποστάσει). Этот процесс должен иметь свой предел, крайнюю точку (τὸ ἔσχατον), за которой уже не может возникнуть ничего способного к дальнейшему отражению блага. Этим пределом, абсолютной границей эманации, и является материя – то, что уже ничего не имеет от блага. Существование этого последнего звена в цепи бытия, чистой потенциальности и лишённости, есть метафизическая необходимость, следующая из самого факта существования абсолютно простого и самодостаточного Первоначала. В этом – окончательное обоснование необходимости зла в космосе: оно есть неизбежная тень, отбрасываемая светом блага на самой дальней грани творения.
8. О материи как подлинной причине зла и опровержение альтернативных взглядов.
Возникает возможное возражение: разве не формы, а не материя, делают нас злыми? Ведь такие проявления, как неведение или дурные влечения, не возникают непосредственно из материи. Если причина порочности – в телесном устройстве, то её создают именно формы-качества (εἶδος), например, тепло, холод, горечь, солёность, состояния наполнения или опустошения, и, что важнее, определённый вид этих наполнений. Именно эта качественная определённость, а не материя как таковая, формирует различие страстей и, если угодно, ошибочных мнений. Следовательно, форма, а не материя, есть причина зла.
Однако этот аргумент, несмотря на свою видимую убедительность, не отменяет первичной роли материи. Во-первых, качество (ποιότης), производящее эффект в телесном мире, действует не отдельно от материи, а только как воплощённое в ней. Подобно тому, как форма топора не может рубить без железа, так и любое качество действенно лишь будучи реализованным в материальном субстрате.
Во-вторых, и это главное, формы, присутствующие в материи (τὰ ἐν τῆι ὕληι εἴδη), не тождественны чистым, самосущим эйдосам. Это – «овеществлённые логосы» (λόγοι ἔνυλοι), уже искажённые и «испорченные» в материи, наполнившиеся её природой. Огонь сам по себе не жжёт, и ни одна из сущностей в их чистом виде не производит тех действий, которые приписываются им, когда они возникают в материи. Материя, получив в себя отпечаток формы (εἶδος), подчиняет его себе, искажает и губит, примешивая свою собственную, противоположную форму природу. Она действует не тем, что привносит противоположное качество (например, холод к теплу), а тем, что подставляет под форму свою собственную бесформенность (ἀνείδεον), свою безобразность (ἀμορφία) – под образ, свою безмерность (ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν) – под меру. В итоге материя делает форму своей, так что она перестаёт быть самой собой, подобно тому как пища, принятая животным, перестаёт быть хлебом или мясом, но становится кровью собаки или чем-то иным, свойственным принявшему её организму.
Таким образом, если тело и есть причина зол, то именно материя, входящая в его состав, является их подлинным источником через это искажающее действие. Возражение, что душа должна была бы властвовать (κρατεῖν) над этим, признаётся справедливым, но с оговоркой: способность к властвованию нечиста (οὐ καθαρὸν), если душа не обратилась вспять, не «бежала» к своему истоку. Сила влечений варьируется в зависимости от смешения (κράσει) телесных элементов, у одних они сильнее, у других слабее, так что властвующее начало в каждом не всегда способно удержать верх. Более того, способность суждения притупляется (ἀμβλύτεροι) и связывается (ἐμπεποδισμένοι) из-за «порчи» (κάκην), вызванной телами и охлаждения в них, тогда как противоположные состояния делают душу неустойчивой. Подтверждением служат временные состояния (πρὸς καιρὸν ἕξεις) людей: одни полны и влечениями, и мыслями, другие опустошены; наполнение разным содержанием производит разных людей.
Следовательно, устанавливается строгая иерархия зла. Первично (πρώτως) зло есть само безмерное (τὸ ἄμετρον), то есть материя как таковая. Вторично же (δευτέρως) злым является то, что оказалось в безмерности, уподобилось ей или причастно ей, так что зло стало его свойством. Аналогия со светом и тьмой ясна: первично – сама тьма (σκότος), вторично – затемнённое (τὸ ἐσκοτισμένον). Таким образом, порок (κακία), будучи неведением (ἄγνοια) и безмерностью в душе, является злом вторичным, а не самосущим злом (οὐκ αὐτοκακόν). Подобно тому как добродетель (ἀρετὴ) не есть первое благо, а лишь то, что уподобилось ему или причастно ему, так и порок есть лишь подобие и причастность первичному злу – материи. Окончательно утверждается, что материя как абсолютная лишённость формы, меры и бытия есть онтологический корень всяческого зла в мире становления.
9. О познании зла через призму лишённости.
Возникает закономерный эпистемологический вопрос: каким способом мы познаём зло, и прежде всего – порок? Добродетель (ἀρετὴ) познаётся умом (νῶι) и разумением (φρονήσει) непосредственно, ибо она сама себя являет и познаёт. Но как возможно познание её противоположности? Ответ проводится через аналогию с измерением: подобно тому как с помощью прямой линейки (κανόνι) мы распознаём прямое и непрямое, так и через соответствие или несоответствие (μὴ ἐναρμόζον) добродетели мы распознаём порок.
Однако возникает более глубокое затруднение: видим ли мы само зло или не видим? Абсолютную, полную порочность (τὴν παντελῆ κακίαν) мы не видим, ибо она беспредельна (ἄπειρον) и бесформенна. Мы познаём её не через прямое созерцание, а через отрицание (ἀφαιρέσει), через осознание её отсутствия там, где она могла бы быть. Неполную же порочность мы распознаём, замечая недостаток (τῶι ἐλλείπειν) добра. Мы видим какую-то присутствующую часть и мысленно полагаем отсутствующую часть, которая должна была бы быть в совершенном целом (εἴδει). Таким образом, мы говорим о пороке, оставляя в неопределённости (ἐν ἀορίστωι) то, что именно было лишено.
Этот метод особенно ясен в случае материи. Когда мы видим, например, безобразное лицо, мы воспринимаем его как безобразное из-за недостатка (ἐλλείψει) должной формы (λόγου), которая не смогла овладеть материалом и скрыть безобразие материи. Но что сказать о материи самой по себе, которая вовсе не получила формы (μηδαμῆι εἴδους τετύχηκε)? Её мы познаём через полное мысленное отвлечение (ἀφαιροῦντες) от всякой формы. Отнимая в уме всякий эйдос, мы приходим к представлению о том, что не имеет никаких этих определений, и называем это материей, безобразием (ἀμορφίαν). Это познание требует от нас самим принять в себя состояние бесформенности, чтобы «увидеть» её.
Этот акт познания предполагает особое, нетипичное состояние ума (νοῦς ἄλλος οὗτος, οὐ νοῦς). Это – дерзновение (τολμήσας) ума увидеть то, что ему не принадлежит, то, что противоположно его природе. Здесь проводится тонкая аналогия со зрением: чтобы увидеть тьму (σκότος), глаз должен отвратиться (ἀποστῆσαν) от света, оставить его, но при этом сам акт «видения» тьмы парадоксален – это видение невидения. Без предварительного знания света и без этого отвращения от него увидеть тьму как таковую было бы невозможно; мы просто ничего бы не видели. Но, имея память о свете и выйдя из его сферы, глаз получает возможность воспринять его противоположность.
Подобным же образом и ум, чтобы познать материю-зло, должен оставить внутри себя свой собственный свет (φῶς), выступить как бы вовне себя (ἔξω αὑτοῦ), войти в сферу не-своего (τὰ μὴ αὑτοῦ), не принося с собой своего света. В этом нисхождении он претерпевает нечто противоположное своей сути (τοὐναντίον ἤ ἐστιν), чтобы, наконец, увидеть свою противоположность. Познание зла, таким образом, есть не положительное усмотрение, а негативный акт, осуществляемый умом ценой временного отречения от своей собственной природы. Это – познание через лишённость, отсутствие и умаление, возможное лишь на фоне предшествующего знания блага и уподобления ему.
10. О нематериальности материи и её зле как чистой потенциальности.
Возникает кажущийся парадокс: если материя лишена качеств (ἄποιος), то каким образом она может быть злой, ибо зло, казалось бы, должно быть неким определённым, качественным состоянием? Разрешение этого парадокса раскрывает самую суть понимания материи. Она называется «лишённой качеств» не в смысле абсолютного небытия, а в смысле того, что сама по себе, в своей собственной природе, она не обладает теми качествами (ποιοτήτων), которые в ней могут возникнуть и пребывать в ней как в подлежащем (ὑποκειμένωι). Однако из этого не следует, что у неё нет никакой собственной природы (φύσιν).
Если у неё есть некая природа, то ничто не мешает этой природе быть злой. Но она зла не так, как зло есть качество. Качество (ποιόν) по определению есть то, благодаря чему нечто иное называется качественным. Качество есть всегда случайное свойство (συμβεβηκὸς), пребывающее в ином. Материя же есть не свойство в ином, а само подлежащее (τὸ ὑποκείμενον), и случайные свойства относятся к ней. Поскольку она не обретает природу качества (которая сама есть случайное свойство), она и именуется «лишённой качеств».
Если бы даже само качество (ποιοτης) было бескачественным, то как могла бы материя, не принявшая качества, называться качественной? Следовательно, правильно называть её и бескачественной, и злой. Её называют злой не потому, что она обладает каким-то качеством, а, наоборот, потому, что качества не имеет. Если бы она обладала качеством (эйдосом), она, возможно, не была бы зла, ибо была бы некой определённой формой. Но она зла именно как природа, противоположная эйдосу (ἐναντία τῶι εἴδει φύσις). Её зло – не в наличии дурного атрибута, а в самом её статусе чистой потенциальности, лишённости и готовности принять форму, оставаясь при этом всегда иной и противоположной ей. Зло материи – это её метафизическая бедность, её абсолютная неопределённость и, следовательно, её принципиальная неспособность удержать, сохранить и адекватно выразить свет формы. Она есть необходимое условие многообразия и становления в чувственном мире, но как таковая она есть вечный источник инаковости, нестабильности и ущербности, которые суть проявления зла на уровне космоса и души.
11. Критика теории зла как простого отсутствия блага в душе.
Рассматривается возражение, основанное на строгом определении лишённости (στέρησις). Если природа, противоположная всякому эйдосу, есть лишённость, а лишённость всегда существует в ином и не имеет самостоятельного бытия (οὐχ ὑπόστασις), то зло, понимаемое как лишённость, должно пребывать в чём-то лишённом формы. Следовательно, зло не будет существовать само по себе (καθ᾽ ἑαυτὸ). Если зло должно быть в душе, то именно лишённость в ней и будет злом, то есть пороком, и тогда не требуется искать никакой внешней причины.
Более того, некоторые философские учения (λόγοι) вообще стремятся упразднить материю, а иные отрицают, что она сама по себе зла. Из этого мог бы следовать вывод, что не нужно искать зло где-либо ещё, а достаточно признать его в душе как отсутствие блага (ἀπουσίαν ἀγαθοῦ).
Однако этот взгляд приводит к логическим трудностям. Если лишённость предполагает, что некоего эйдоса, должного присутствовать, нет, то отсутствие блага в душе, согласно этому рассуждению, делает её порочной. Но тогда душа, в которой отсутствует благо, не будет иметь в себе ничего благого. Но если душа не имеет в себе ничего благого, то, будучи душой, она не будет иметь и жизни (ζωήν), ибо жизнь есть благо. В таком случае душа окажется безжизненной (ἄψυχον), что абсурдно, ибо она по определению есть жизнь. Таким образом, душа, оставаясь душой, не может быть душой.
Следовательно, в силу самой своей логосной природы (τῶι ἑαυτῆς λόγωι) душа обладает жизнью. А значит, она не содержит в себе лишённости блага как своей собственной природы. Будучи благовидной (ἀγαθοειδές), она несёт в себе некий след (ἴχνος) ума, то есть благо, и не является злой по своему происхождению. Поэтому она не есть первичное зло (πρώτως κακὸν), и первичное зло не является её случайным свойством, ибо от неё не отсутствует всё благо целиком.
Это рассуждение показывает, что попытка локализовать зло исключительно в душе как простом отсутствии блага разрушает саму сущность души как живого, разумного и причастного благу начала. Подлинный источник зла должен быть иным, внешним по отношению к сущности души, хотя и способным воздействовать на неё. Это подкрепляет ранее обоснованный тезис о материи как о том внешнем и абсолютно ином начале, чья природа как чистой лишённости и является первичным злом, в то время как душевный порок есть лишь вторичное и производное явление, возникающее при нисхождении и обращении души к этому началу.
12. О невозможности смешанной природы первичного зла.
Из предыдущего рассуждения следует уточняющий вопрос: что если определить порок в душе не как полную лишённость блага, но как некоторую, частичную лишённость? В этом случае душа обладала бы чем-то благом и была бы лишена другого блага, то есть имела бы смешанное состояние (μικτὴν ἕξει τὴν διάθεσιν). Тогда зло в ней не было бы абсолютным (οὐκ ἄκρατον τὸ κακόν). Однако это рассмотрение сразу же выявляет свою недостаточность: оно не находит (οὔπω εὕρηται) первичного и абсолютного зла (τὸ πρῶτον καὶ ἄκρατον κακόν). В предложенной модели благо для души оказалось бы принадлежащим её сущности (ἐν οὐσίαι), а зло – лишь неким привходящим свойством (συμβεβηκὸς δέ τι).
Такой вывод возвращает к исходной проблеме: если зло есть лишь случайный недостаток в сущности, которая в основе своей блага, то откуда берётся сама возможность этого недостатка? Почему благая по сути душа вообще способна утратить часть блага? Частичная лишённость предполагает некий стандарт или норму полноты, от которого происходит уклонение. Но эта норма, это полнота блага, должны иметь своё основание в чём-то отличном от души, что задаёт меру её совершенства. Более того, сама способность к лишённости, к умалению, указывает на присутствие в порядке бытия некоего принципа, который не просто отсутствует, но активно противодействует полноте и мере. Простое отсутствие, как показано ранее, не может быть причиной активного искажения или ущерба.
Таким образом, признание зла в душе лишь как частичной лишённости не отменяет необходимости поиска абсолютного источника этой лишённости. Этот источник не может быть самой душой в её сущностном состоянии, ибо тогда она была бы самопротиворечива, одновременно благой и не-благой в самой своей основе. Следовательно, должен существовать некий принцип (ἀρχή), сам по себе являющийся чистой, абсолютной лишённостью и не-благом, который, будучи внешним по отношению к сущности души, оказывает на неё воздействие, вызывая в ней состояние частичной лишённости, то есть порок. Этим принципом, как было установлено, и является материя. Поэтому теория, сводящая зло к простому отсутствию блага в душе, оказывается неполной и метафизически недостаточной, так как оставляет без объяснения сам факт возможности этого отсутствия и его принудительный, «заразительный» характер, проявляющийся в страстях, заблуждениях и страданиях.
13. Порок как препятствие и восхождение к сущности зла.
Рассматривается альтернативное определение: быть может, зло для души есть то, что является для неё препятствием (ἐμπόδιον), подобно тому как болезнь глаза препятствует зрению. Однако и в этом случае порок (κακία) оказывается не самим злом, а лишь причиной зла (ποιητικὸν κακοῦ), производя его для души, причём само зло оказывается иным (ἑτέρου τοῦ κακοῦ). По аналогии, если добродетель (ἀρετὴ) не есть само благо, а лишь его соработник (συνεργόν), то и порок не есть само зло.
Добродетель не есть само прекрасное (αὐτὸ τὸ καλὸν) и не есть само-благо (αὐτοαγαθόν), ибо выше неё и за её пределами пребывают самосущее прекрасное и самосущее благо. Добродетель причастна им, участвует в них (μεταλήψει). Следовательно, и порок не есть само безобразное (αὐτὸ τὸ αἰσχρὸν) и не есть само-зло (αὐτοκακόν). Таким образом, порок и добродетель находятся на одном онтологическом уровне: они суть состояния души, производные от более первичных начал.
Отсюда вытекает метод познания зла: как восхождение (ἀναβαίνοντι) от добродетели приводит к созерцанию прекрасного и блага, так и нисхождение (καταβαίνοντι) от порока, начав с него, должно привести к созерцанию самого зла (τοῦ κακοῦ αὐτοῦ). Созерцание открывает его сущность, а причастность (ἡ μετάληψις) ему – это реальное погружение в него. Это погружение происходит всецело в область несходства (ἐν τῶι τῆς ἀνομοιότητος τόπωι), в место абсолютной инаковости по отношению к благому порядку. Нырнув в него, душа падает в тёмную грязь (βόρβορον σκοτεινόν).
Далее следует важное уточнение о пределе порочности: если бы душа всецело (παντελῶς) погрузилась в полную порочность (παντελῆ κακίαν), она уже не просто имела бы порок, но совершенно изменила бы свою природу на худшую (ἑτέραν φύσιν τὴν χείρω). Ибо человеческий порок всё же подразумевает смешение (μεμιγμένη) с неким противоположным началом (остатком блага или разумности). Абсолютная же порочность означала бы не просто испорченность, но смерть души как таковой (ὡς ψυχὴ ἂν θάνοι).
Такая смерть описывается как погружение в материю: душа, ещё пребывая в теле, оказывается погружённой (βεβαπτισμένη) в материю, ныряет в неё, наполняется ею. А покинув тело, она остаётся лежать там, пока не сумеет вырваться, подняться (ἀναδράμηι) и очистить своё зрение от скверны. Именно это состояние и есть символический смысл пребывания в Аиде – не наказание извне, а сон погружённой в материю души (ἐπικαταδαρθεῖν).
Таким образом, путь к пониманию зла лежит через анализ его проявлений в душе (порока), которые сами по себе не суть абсолютное зло, но указывают на него как на свою причину и конечную цель нисхождения. Само же зло как таковое – это уже не этическое понятие, а онтологическое: чистая, бесформенная материя, «тёмная грязь» не-бытия, в которую может погрузиться душа, утратившая свою сущностную связь с благом. Это погружение есть не активное злодейство, а пассивное угасание жизни души, её онтологическая деградация.
14. О причине слабости души и её связи с материей.
Исследование природы порока продолжается в связи с возможным определением его как слабости (ἀσθένεια) души. В самом деле, порочная душа легковозбудима (εὐπαθῆ), подвижна к дурному (εὐκίνητον), легко поддаётся влечениям, гневу, поспешным суждениям и подчиняется смутным представлениям, подобно хрупким предметам, легко разрушаемым ветром или солнцем. Однако необходимо спросить: что есть и откуда берётся эта слабость в душе?
Слабость души не тождественна слабости тела; это понятие используется по аналогии (ἀναλογίαι), подобно неспособности к действию и лёгкой подверженности воздействию. И здесь причину, возможно, следует искать в том же самом – в материи (ἡ ὕλη). Для прояснения этого нужно подойти ближе к рассуждению: что есть причина в так называемой слабой душе? Ясно, что не телесные состояния – плотность, разрежённость, худоба, тучность или болезнь, – делают душу слабой.
Такая слабость души должна принадлежать либо совершенно отделённым от материи душам (что невозможно, ибо они чисты, «окрылены», совершенны и их деятельность непрепятствуема), либо душам, соединённым с материей, либо тем и другим. Поскольку первые исключены, остаётся признать, что слабость присуща душам «павшим» (ταῖς πεσούσαις), нечистым и неочищенным. Их слабость – это не лишение чего-то, а присутствие иного (ἀλλοτρίου παρουσία), подобно присутствию флегмы или желчи в теле.
Причина же падения (πτώματος) души, если её уяснить должным образом, сделает ясным и искомую слабость души. В сущем существует материя, существует душа, и существует как бы единое место. Это место для души – не быть в материи (τὸ μὴ ἐν ὕληι), то есть не соединяться с ней, не становиться чем-то единым из неё и материи, не становиться в подлежащем материи. В этом – её отделённость (τὸ χωρὶς εἶναι).
Душа обладает множеством сил (Δυνάμεις), имеющих начало, середину и конец. Материя же, присутствуя, как бы выпрашивает (προσαιτεῖ), досаждает (ἐνοχλεῖ) и желает проникнуть внутрь. Всякое пространство священно (πᾶς δὲ ὁ χῶρος ἱερὸς) и ничто не лишено души. Материя подставляет себя, чтобы быть озарённой (Ἐλλάμπεται), но от того, что её озаряет (от души или ума), она не может ничего воспринять, ибо то начало не терпит её присутствия, хотя она и есть, – не терпит из-за её испорченности (διὰ κάκην). Однако материя затемняет (ἐσκότωσε) этот луч, этот свет, смешиваясь с ним, и делает его проявление слабым, сама предоставив причину и возможность для его прихода к ней – ведь он не пришёл бы к отсутствующему.
Это и есть падение души (πτῶμα τῆς ψυχῆς) – её приход таким образом в материю и её ослабление, потому что все её силы не могут прийти в актуальность, поскольку присутствующая материя препятствует этому, занимая место, которое должна была занять душа, и как бы сплетаясь с ней. То, что материя восприняла, она, словно украв, делает злом, пока душа не сможет вновь вознестись (ἀναδραμεῖν).
Таким образом, материя есть причина и слабости души, и её порока. Следовательно, материя первично зла (πρότερον ἄρα κακὴ αὐτὴ καὶ πρῶτον κακόν). Ибо даже если сама душа породила материю, претерпев нечто, или если она соединилась с ней и стала злой, материя была причиной, присутствуя. Ибо душа не стала бы злой, не получив своё становление от присутствия материи.
Этот финальный аргумент подводит итог всей трактации: метафизический корень зла – материя как абсолютная лишённость, тьма и слабость. Душевный порок, нравственная слабость и все прочие виды зла в мире становления суть производные и вторичные следствия вовлечённости разумного начала в эту сферу не-сущего. Путь к спасению – в обратном движении, в очищении и возвращении души к её собственной, нематериальной и благостной природе.
15. Необходимость существования зла как условия бытия блага и смысла стремления.
Если кто-либо отрицает существование материи, ему следует указать на доказательства её необходимости, представленные в других трактатах о материи. Если же кто-то утверждает, что зла вообще не существует среди сущего, то он вынужден отрицать и существование блага, а также отвергнуть всякое стремление (ὄρεξιν), всякое уклонение (ἔκκλισιν) и даже само мышление (νόησιν). Ибо стремление есть стремление к благу, уклонение – уклонение от зла, а мышление и разумение (φρόνησις) предполагают знание блага и зла и сами суть одно из благ.
Следовательно, должно существовать как благо, так и несмешанное, абсолютное благо. То же, что смешано (μεμιγμένον), уже состоит из зла и блага. Если в смешанном больше доли зла, оно уже само по себе служит злу в целом; если же меньше, то в той мере, в какой зло в нём умалено, оно причастно благу.
Что могло бы быть злом для самой души, если бы она не соприкоснулась с низшей природой (τῆς φύσεως τῆς χείρονος)? Ведь не было бы ни влечений, ни страданий, ни гнева, ни страхов. Страхи свойственны сложному существу, опасающемуся распада; страдания и боли возникают при его разрушении; влечения – от беспокойства, причиняемого чему-то в его составе, или от стремления предусмотреть исцеление, чтобы избежать беспокойства. Представление (φαντασία) есть удар, нанесённый извне неразумной части; воспринимает же она удар из-за своей нецелостности. Ложные мнения (δόξαι ψευδεῖς) рождаются от удаления от истинного сущего; удаление же происходит из-за нечистоты. Стремление же к уму (νόησιν) – иное; оно требует лишь пребывать в единении с ним, утвердившись в нём, а не склоняясь к худшему.
Но зло существует не просто как зло; оно обладает силой (διὰ δύναμιν) и природой блага. Поскольку оно явилось по необходимости, будучи охвачено прекрасными узами (δεσμοῖς καλοῖς), подобно тому как некоторые пленники покрыты золотом, оно скрывается ими, чтобы, будучи смешанным, не было видно богам, а люди могли бы не всегда созерцать зло, но когда и созерцают, то видели бы в нём образы (εἰδώλοις) прекрасного, ведущие к воспоминанию о нём.
Этот заключительный пассаз примиряет необходимость зла с благостью космического порядка. Зло, будучи метафизически необходимым как предел эманации и условие множественности, оказывается встроенным в гармонию целого и даже облечённым в формы, которые скрывают его уродство и позволяют ему служить, пусть и негативно, напоминанием о прекрасном. Тем самым, хотя зло и неустранимо из сферы становления, оно не торжествует, но подчинено высшему замыслу, позволяющему душе через страдание, борьбу и познание вернуться к своему источнику.
Девятый
трактат
. Περὶ τῆς ἐκ τοῦ βίου εὐλόγου ἐξαγωγῆς.
1. О разумном уходе из жизни.
В трактате, посвящённом разумному уходу из жизни, Плотин развивает строгую метафизическую аргументацию, исключающую произвольное самоуничтожение. Его позиция вытекает из фундаментального учения о природе души и её отношении к телу. Душа по своей сущности не находится в пространстве и не «покидает» тело в буквальном смысле, как некто покидает помещение. Процесс, называемый смертью, есть не движение души, а радикальное изменение состояния самого тела, которое перестает быть пригодным инструментом для её проявления. Тело удерживается и оживотворяется душой благодаря определённой гармонии его частей; когда эта гармония разрушается в силу естественных причин – болезни, старости, внешнего насилия, – связь прекращается. Душа, будучи нетленной и бестелесной, просто перестаёт быть связанной с этим конкретным, более не функционирующим, комплексом материи. Таким образом, естественная смерть предстаёт не как бегство души, а как её освобождение от обременения, ставшего бесполезным.
Исходя из этой онтологической модели, Плотин последовательно отвергает самоубийство как разумный акт. Ключевой довод заключается в том, что насильственное разлучение души с телом не является «деянием без страсти» (μηδὲν πράττειν). Оно всегда мотивировано аффектом – будь то гнев, отчаяние, боль или простое отвращение к жизни. Подобный поступок проистекает не из разумного суждения, а из страстной реакции на обстоятельства, что свидетельствует о внутреннем рабстве души у того, от чего она стремится избавиться. Следовательно, такой уход не ведёт к подлинному освобождению, ибо душа уносит с собой тот же самый беспорядок, который спровоцировал её поступок. Единственным возможным исключением, которое Плотин с крайней осторожностью допускает, могут быть ситуации абсолютной необходимости, вынуждающие к такому шагу, – но и они относятся к сфере «выбора по обстоятельствам», а не к категории безусловного блага.
Современное звучание этой аргументации раскрывается в её этическом радикализме. Плотин смещает фокус с внешнего акта прекращения жизни на внутреннее состояние субъекта, его мотивацию и степень духовной автономии. Вопрос ставится не о праве на смерть, а о качестве внутренней жизни, ведущей к такому решению. Жизнь, даже сопряжённая со страданием, понимается как незавершённая возможность для «успевания» (προκόπτειν) души, её очищения и восхождения. Насильственный уход прерывает этот процесс, закрепляя душевную слабость. Таким образом, позиция Плотина оказывается не просто запретом, а утверждением аскетического идеала: подлинная свобода от тела достигается не физическим устранением, а внутренним преображением, при котором тело и его страдания перестают быть значимыми для сосредоточенного на умопостигаемом ума. Допустимым оказывается лишь тот уход, который является не самоцелью, но следствием полного и бесстрастного выполнения долга разумного существа вплоть до естественного конца.
Эннеада II.
О небе, движении светил, материи, зрении, полемика с гностиками.
(Натурфилософская)
Первый трактат. О мире.
Гармония вечности: душа, материя и иерархия бытия в космологии Плотина.
В первом трактате второй «Эннеады», посвящённом вопросу о вечности и природе космоса, Плотин разворачивает многослойную аргументацию, цель которой – утвердить мир не как временное образование, а как вечное и божественное живое существо. Это утверждение сталкивается с очевидным противоречием: мир обладает телом, а всякая телесность, согласно античной физике, подвержена изменению и распаду. Разрешение этого противоречия становится для Плотина поводом для глубокого синтеза физики, космологии и метафизики, где ключевую роль играют понятия Души, формы и иерархии.
Исходный пункт рассуждения – отказ от упрощённого теологического объяснения. Утверждать, что мир вечен лишь потому, что такова воля Бога, значит не предоставлять разумного основания, оставляя неясным механизм этой вечности. Плотин сразу переводит вопрос в плоскость внутренней логики бытия: если божественная воля творит, то по какому принципу она распределяет модусы вечности? Почему земные существа пребывают лишь «по виду» (через постоянную смену индивидов при сохранении формы), а небесным, возможно, свойственно пребывание «по числу» (тождественное индивидуальное существование)? Этот вопрос приводит его к критике чисто физических аргументов о неразрушимости мира как «всего», которому некуда исчезнуть. Такой аргумент, замечает Плотин, применим лишь к целому, но не к его частям – солнцу, звёздам, стихиям. Их вечность нуждается в ином обосновании.
Логика Плотина движется к сердцевине проблемы: как текучее тело может оставаться численно тождественным? Здесь он проводит принципиальное различие между системами Аристотеля и Платона. Аристотель решает проблему введением пятого, нетленного элемента – эфира. Но для платоника, признающего единство материального субстрата, этот путь закрыт. Небесные тела состоят из тех же элементов, что и земные, но в ином состоянии. Следовательно, причина их устойчивости должна лежать за пределами чистой физики. Плотин находит её в душе. Всякое живое существо есть композит души и тела. Если тело само по себе разрушимо, то вечность целого может обеспечиваться только силой души, при условии, что материя способна воспринять эту силу и ей соответствовать.
Это соответствие достигается через принцип замкнутого внутреннего потока. Материя мира вечно движется, но не выходит за его пределы; она течёт внутри целого, не вызывая ни роста, ни убыли, ни старения. Космос предстаёт как закрытая, самодостаточная система, где циркуляция элементов поддерживает постоянство формы. Особое внимание Плотин уделяет огню – самой подвижной и «опасной» стихии. В небесных сферах огонь, помещённый в своё естественное место, лишается возможности беспорядочного движения: ему некуда стремиться ввысь, ибо выше – только пределы космоса, а вниз – несвойственно. Его природное стремление сублимируется во вращательное движение, «прекрасно движимое» волей Души. Таким образом, материя не подавляется, а гармонично направляется, становясь послушным инструментом высшего начала.
Однако подлинный залог вечности – не в устройстве материи, а в силе и природе одушевляющей её Души. Небесная Душа, непосредственно близкая к Уму и Единому, обладает несравненной мощью удержания. Её связь с телом не есть внешнее или насильственное соединение, которое может ослабнуть, но естественная и божественная гармония, не подлежащая расторжению. Поскольку мир, как учит Плотин, никогда не возникал во времени (ибо временность – атрибут самого космического процесса), у него нет и причины для прекращения. Вечность в прошлом логически влечёт вечность в будущем.
Это приводит к кульминационному вопросу: почему тогда земные существа не вечны? Ответ коренится в иерархии творения и качестве причастности. Небесное создано непосредственно высшим принципом и одушевлено чистейшей Душой, действующей в наиболее податливой материи. Земное же творится уже опосредованно, силами-«богами», которые суть отражения высшей Души. Нисходя в нижние сферы, творящая сила ослабевает, а материя становится более неподатливой, «не желающей пребывать». Земная душа может лишь подражать вечному образцу, но не способна навечно запечатлеть форму в сопротивляющемся субстрате. Так возникает цикл рождения и гибели – слабое, но единственно возможное для этого уровня подобие вечности.
Завершающим аккордом становится утончённое учение о составе небесных тел. Плотин, следуя за Платоном, отрицает, что они состоят из грубой смеси четырёх элементов. Вместо этого он предлагает концепцию участия через свойства. Небесные тела берут не землю как таковую, но принцип твёрдости; не огонь-пламя, но чистый свет. Их субстанция – это «истинно белое тело», светоносная и одушевлённая материя, в которой свойства элементов присутствуют в преображённом, сублимированном виде. Такой свет не нуждается в питании, не подвержен внешним воздействиям и не имеет внутренней склонности к падению. Его движение – вечное, самодостаточное вращение, выражающее совершенство его духовной причины.
Таким образом, космология Плотина оказывается не просто описанием устройства мира, но частью всеобъемлющей метафизики эманации. Вечность и устойчивость космоса гарантированы не статичностью его частей, а динамическим равновесием, поддерживаемым нисходящей от Единого силой Души. Иерархия бытия – от вечных небесных светил до преходящих земных существ – отражает градацию причастности к этому высшему началу. В этом учении снимается противоречие между вечностью и изменчивостью: сам временной поток и цикл становления оказываются способом, которым низшие уровни бытия причастны вечности, тогда как высшие пребывают в ней непосредственно. Космос Плотина – это живой, одушевлённый, иерархически упорядоченный организм, чья красота и устойчивость суть прямое следствие неиссякаемой мощи божественного источника.
1. О вечности космоса и божественной воле.
В начале трактата Плотин ставит фундаментальный вопрос о природе вечности космоса. Он принимает как данность, что мир «всегда был, есть и будет», обладая телесной природой, но подвергает анализу логические основания этого утверждения. Если возвести причину вечности к воле Бога, это, возможно, соответствует истине, но не приносит ясности, ибо остается непонятным механизм и принцип, согласно которому эта воля действует. Главное затруднение возникает при сопоставлении изменчивости земных существ, сохраняющих лишь свой вид, и предполагаемой неизменности небесных тел. Почему воля Бога должна обеспечивать вечность по числу (то есть тождественную индивидуальную субстанцию) одним частям космоса, а другим – лишь вечность по виду (сохранение формы при смене материального субстрата)?
Далее Плотин рассматривает альтернативное физическое объяснение неразрушимости мира: космос вечен, потому что он есть «всё», ему некуда исчезнуть и не существует внешней силы, способной его разрушить. Однако это рассуждение, по мысли философа, работает только для целого, но не для его частей. Солнце, звёзды, стихии – будучи частями – не получают от этого аргумента гарантии вечного индивидуального существования. Для них сохраняется возможность разрушения изнутри, через взаимное противодействие и уничтожение элементов, даже если целое как форма продолжает существовать. Плотин проводит аналогию с живыми видами: человек или лошадь существуют вечно как виды, но отдельные индивиды непрерывно сменяются. Так же может обстоять дело и с космосом: целое живо и вечно, но его материальные компоненты находятся в потоке становления, обеспечивая постоянство формы через изменение субстрата.
Это приводит Плотина к важному умозаключению: возможно, между небесным и земным нет онтологического разрыва в отношении вечности, а есть лишь различие во временнóм масштабе существования. Небесные тела долговечнее земных существ, но в принципе подчиняются той же логике – вечности по виду, а не по числу. Такой взгляд, по мнению философа, снимает многие затруднения, ибо проще допустить единый для всего космоса принцип сохранения через форму, осуществляемый божественной волей. Однако если настаивать, что некоторые части космоса (например, небесные светила) вечны и численно тождественны самим себе, то требуется особое доказательство. Почему божественная воля проводит такое различие? Каков критерий? Затруднение остаётся, и именно его Плотин намерен разрешить в последующих рассуждениях, углубляясь в природу Ума, Души и их отношения к телесному космосу.
Внутренняя логика рассуждения Плотина демонстрирует характерный для неоплатонизма метод: критику чисто физических или упрощённо-теологических объяснений с последующим восхождением к более высоким, умопостигаемым причинам. Современное звучание этого фрагмента связано с его глубоким экологическим и холистическим посылом: космос мыслится как живое, динамичное целое, где постоянство обеспечивается не статичностью материи, а устойчивостью организующих форм и разумных принципов, исходящих из Единого. Вопрос о соотношении вечного и временного, целого и части, формы и материи остаётся актуальным в контексте дискуссий о природе сложных систем, устойчивости жизни и поиске принципов единства в изменчивом мире.
2. О возможности численной вечности изменчивого тела.
Приняв в качестве рабочей гипотезы, что небесные тела вечны не только по виду, но и численно тождественны самим себе, Плотин сталкивается с центральной апорией: как телесная природа, по своей сути текучая и подверженная изменению, может сохранять индивидуальное и неизменное бытие через бесконечное время? Эта проблема, по его признанию, стояла не только перед другими философами-физиками, но и перед Платоном, который, несмотря на своё учение о вечных идеях, в «Тимее» описывает космос как видимое и потому неизбежно становящееся существо. Плотин напоминает о платоновском согласии с Гераклитовским принципом потока, выраженным в утверждении, что «и солнце всегда становится новым». Таким образом, сама видимость, принадлежность к чувственному миру, казалось бы, обрекает любое тело на непрерывное изменение.
Здесь Плотин проводит критическое различие между философскими системами. Для Аристотеля, постулировавшего существование пятого элемента – эфира, чьей сущностной характеристикой является круговое, неизменное и вечное движение, проблема решалась просто: небесные тела состоят из принципиально иной, нетленной материи. Однако для тех, кто, следуя платонической традиции (и, как подразумевается, для самого Плотина), считает небо составленным из тех же основных элементов, что и земные существа, пусть и в наиболее чистой и гармоничной пропорции, вопрос обретает всю свою остроту. Если материальный субстрат един, то каким образом одни его комбинации (небесные) обретают численную вечность, а другие (земные) – лишь видовую?
Ответ Плотин ищет в анализе состава живого существа, каковым является и космос в целом, и каждая его одушевлённая часть, подобная светилам. Всякое живое существо есть сложность души и телесной природы. Следовательно, вечность числом неба и его частей должна объясняться либо благодаря обоим компонентам сразу, либо благодаря одному из них – либо душе, либо телу. Первый путь – приписать нетленность самому телу небес – снимает необходимость в особом объяснении роли души для вечности, оставляя за душой лишь функцию вечного оживления и организации этого уже вечного тела. Но этот путь, как показывает Плотин, неприемлем для тех, кто отвергает аристотелевский эфир и признаёт общую природу материи.
Остаётся второй, более глубокий путь: тело само по себе разрушимо и текуче, но причину его вечного сохранения в тождественном числу состоянии следует искать в душе. Однако эта позиция налагает серьёзное требование на философа: необходимо показать, что состояние материального субстрата, его врождённая склонность к изменению и распаду, не является непреодолимым препятствием для вечного состава. Нужно доказать, что нет ничего несообразного в том, чтобы естественно составленное (то есть сложное) тело пребывало вечно, если того желает созидающий разум. Ключевым становится утверждение о соответствии материи воле создателя: материальный субстрат, при всей своей текучести, должен обладать потенциальной способностью к совершенному и устойчивому приятию формы, налагаемой высшим принципом. Таким образом, проблема вечности смещается с физического плана на метафизический и психологический: способна ли мировая Душа, как проводник божественной воли, настолько преобразить и удержать подчинённую ей материю, чтобы та, оставаясь сама собой, обрела свойства, казалось бы, ей противоположные?
В этом рассуждении прослеживается характерная для Плотина диалектика: отказ от простых физических решений, вскрытие скрытых предпосылок различных школ и восхождение к объяснению через силу высших начал – Души и Ума. Современное звучание этой проблематики связано с вопросами о возможности стабильности сложных динамических систем, о соотношении информации (формы, заданной «душой») и её материального носителя, а также о пределах управления хаотической, «текучей» средой посредством организующего разумного принципа.
3. О внутреннем потоке и устойчивости космического тела.
Переходя к конкретному механизму, посредством которого текучая материя может служить вечному существованию космоса, Плотин предлагает парадоксальный, но глубоко продуманный образ. Суть не в том, чтобы остановить поток, а в том, чтобы организовать его особым образом. Материя и тело мира вечно текучи, но они текут внутри него, не покидая его границ. Это ключевое условие. Если ничто не уходит вовне и ничто извне не прибавляется, целое не испытывает ни роста, ни убыли, а значит – избегает и процесса старения, который всегда связан с потерей или дисбалансом.
Для подтверждения этой мысли Плотин апеллирует к наблюдению за устойчивостью основных элементов в рамках целого. Земля, несмотря на внутренние изменения, сохраняет свою форму и объём извечно; воздух не иссякает, вода циклически преображается, не нарушая общей природы мироздания. Даже в смертных существах, чьи части постоянно обмениваются с внешней средой, индивидуальность сохраняется длительное время. Тем более в космосе, который есть всё, и для которого не существует «внешнего», уход вещества невозможен по определению. Таким образом, природа тела, лишённая этого дестабилизирующего фактора, уже не противодействует душе в её стремлении удержать живое существо мира вечно тождественным.
Особое внимание Плотин уделяет самому подвижному и, казалось бы, неуловимому элементу – огню. Его природа – стремительное движение, так же как природа земли – стремление вниз. Но, помещённый в своё естественное место в космосе (в высших сферах), огонь лишён возможности реализовать своё движение как беспорядочное бегство. Ввысь ему идти некуда – там нет ничего за пределами космоса; вниз – несвойственно по его природе. Он оказывается в состоянии идеального равновесия, где его естественное влечение не подавлено, а преобразовано. Огонь становится «легко ведомым» и по своему собственному влечению притягивается Душой к жизни, будучи «прекрасно движимым в своём месте». Страх, что огненные небесные тела могут упасть, несостоятелен: мировая Душа охватывает и удерживает своей властью всякое движение, задавая ему совершенную круговую форму. Если же у самого огня нет внутреннего стремления покинуть своё место, то он и не сопротивляется организующей силе Души.
Наконец, Плотин проводит важное различие между частью и целым. Части смертных существ, приняв форму, не могут удержать её сами и требуют постоянного пополнения извне (питания). Но для космоса как целого, замкнутого в себе, этот закон не действует. Если ничего не уходит вовне, то нет и нужды в питании извне. Даже если внутри идут процессы угасания и возгорания, замены одних частиц другими, это не затрагивает тождество целого живого существа. Его форма, его логос, его жизнь, управляемые Душой, остаются неизменными. Следовательно, вечность по числу обеспечивается не статичностью материальных частиц, а замкнутостью и само-достаточностью системы, в которой внутренний круговорот вещества служит поддержанию вечной и неизменной формы, налагаемой высшим началом.
Эта концепция обладает поразительным современным резонансом. Плотин, по сути, описывает космос как закрытую, саморегулирующуюся систему, чья устойчивость обеспечивается не неизменностью составляющих, а динамическим равновесием внутренних процессов, управляемых единым организующим принципом (Душой). Это перекликается с представлениями об устойчивых экосистемах, гомеостазе живого организма или даже с моделью Вселенной как конечной и замкнутой системы. Его ответ на вызов Гераклитова потока – не отрицание изменения, а его сублимация в вечное циклическое движение, служащее сохранению высшего порядка.
4. О причине нетленности небесной природы.
Рассмотрение вопроса о вечности космоса достигает своей кульминации в анализе главной причины, которая превосходит все физические условия. Плотин переходит от описания внутренней механики замкнутого потока к исследованию онтологического статуса небесных тел. Прежде всего, необходимо прояснить, происходит ли в высших сферах какая-либо утрата вещества, требующая, пусть и не в прямом смысле, некоего «питания», или же всё положенное туда по природе пребывает безо всяких потерь. Ответ склоняется ко второму: природа небесных тел такова, что они не истощаются. Их устойчивость поддерживается не просто замкнутостью системы, но прежде всего силой властвующего над ними начала – Души.
К этому фундаментальному доводу Плотин добавляет качественный аргумент: небесные тела состоят из материи в её чистейшей и наилучшей форме. Подобно тому как природа в любом живом существе отбирает лучшее для его главнейших органов (например, сердце или мозг), так и космическая Душа формирует небесные тела из наипревосходнейшего субстрата. Это позволяет им быть совершенными проводниками её разумной воли. Здесь Плотин находит неожиданную опору в критике Аристотелем обычного пламени как «кипения» и «буйствующего огня», возникающего от избытка. Небесный же огонь, согласно Плотину, иной – ровный, спокойный, созвучный разумной природе звёзд. Такое тело не сопротивляется форме, а охотно ей подчиняется.
Однако подлинное основание бессмертия – не в качестве тел, а в природе и силе самой Души. Душа, следующая за высшими принципами Ума, движима чудесной силой божественного происхождения. Разве может что-либо уйти из того, что раз и навсегда положено и удержано в её могущественной власти? Сомневаться в этом – значит проявлять неведение относительно самих причин, связующих всё сущее. Нелепо полагать, будто существуют узы крепче божественных, или что связь, которая держит нечто в течение какого-то времени, не может держать его вечно. Такое сомнение имело бы смысл, если бы связь души и тела была насильственной и внешней, а не естественной, соответствующей самой сущности правильно устроенного космоса. Равно нелепо предполагать существование некоей разрушительной силы, способной расторгнуть этот божественный состав и упразднить природу самой души – вечной и несущей в себе жизнь.
Далее Плотин вводит важный логический аргумент от вечности: мир, по его учению, никогда не имел начала во времени. Эта изначальная не-начатость (ибо начало мира во времени было бы абсурдно, как показано ранее) сама по себе даёт веру в его вечное будущее. Если нечто не возникало, то нет и причины для его прекращения. Почему должно наступить когда-то то, чего нет сейчас? Элементы, составляющие небесные тела, не изнашиваются, как дерево или прочее тленное вещество; они пребывают. А пока они пребывают, пребывает и всё, что из них состоит. Даже если на микроуровне идёт вечное изменение, макропорядок остаётся неизменным, ибо пребывает сама причина этого изменения – упорядочивающая душа.
Наконец, Плотин отвергает последнее возможное возражение: а вдруг душа сама передумает или устанет от управления? Это пустое предположение, ибо её управление не сопряжено с трудом или вредом для неё самой; это её естественная и блаженная деятельность. Даже если допустить теоретическую возможность гибели любого тела, для самой души это не будет существенной переменой или утратой, ибо её бытие не зависит от тела. Таким образом, вечность космоса оказывается гарантирована вечностью и всемогуществом его Души, а текучесть материи преобразована в вечный цикл, служащий поддержанию нетленного живого целого. В этом синтезе необходимости физического устройства и трансцендентной мощи психологического принципа раскрывается суть неоплатонического ответа на проблему вечности видимого мира.
5. О различии между небесной и земной причастностью вечности.
Заключительный раздел анализа обращается к причине фундаментального различия в модусе существования: почему части небесного целого пребывают вечно, тогда как земные элементы и живые существа подвержены возникновению и гибели? Плотин находит опору и развёртывает учение Платона из «Тимея». Высшее различие коренится в истоке творения: небесное (небо и звёзды) создано непосредственно высшим Богом, в то время как земные существа – творениями «богов», то есть божественных сил или душ, созданных Им. То, что создано непосредственно Первым Принципом, обладает неприкосновенностью и не может быть разрушено ничем иным, ибо несёт в себе печать абсолютной божественной воли. Это богословское утверждение Плотин переводит на язык метафизической иерархии: небесная Душа пребывает в непосредственной близости к Творцу, она чиста и полна его силой.
Далее следует ключевое различение. Наши, земные, души по своему происхождению также близки к высшему началу, ибо все души – одной природы. Однако земные живые существа созданы не непосредственно этой высшей Душой, а её отражением, её эманацией в нижние сферы. Это нисхождение в творчестве сопровождается ослаблением силы. Земная душа, подражая небесному образцу, пытается удержать и сформировать тела, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями: худшим качеством материи («нежелающих пребывать» элементов), неблагоприятным местом (подлунной сферой смешения и противоборства) и собственной ограниченной силой как отражения. Она не может удержать здешние существа в вечном тождестве так, как небесная Душа удерживает свои тела. Более того, земными телами правит уже иная, низшая душа – душа природы или мировая душа в её порождающем, но не вечно сохраняющем аспекте.
Плотин затем уточняет космическую топографию. Целое небо, чтобы пребывать вечно, должно пребывать во всех своих существенных частях – звёздах и планетным сферам. Они суть органические члены единого божественного живого существа. То, что ниже сферы Луны («поднебесное»), уже не является частью неба в строгом смысле; это иная область мироздания, где господствуют иные законы.
Наконец, философ даёт сжатое объяснение природы человека. Мы созданы душой, данной «богами» неба – то есть теми же божественными силами, которые формируют космос, – по их собственному образцу. Однако наше соединение с телами носит иной характер. Та душа, которой мы поистине есть (высшая, разумная душа), является для нас причиной блага, познания и стремления к умопостигаемому, но не причиной самого нашего телесного бытия как преходящих индивидов. Непосредственной причиной нашего телесного возникновения и поддержания служит иная, низшая жизненная сила («уже при возникновении тела она немного помогает ему быть по расчету»), которая действует согласно космическим расчётам и циклам, но не обладает силой даровать вечность.
Таким образом, различие между вечным и тленным оказывается не произвольным, а вытекающим из строгой иерархии причин: непосредственности божественного творения, чистоты и силы созидающей души, качества подчинённой ей материи и места в космическом порядке. Вечность небес – это свидетельство мощи высшей Души и чистоты её замысла, в то время как тленность земного – следствие неизбежного ослабления формы в процессе эманации и сопротивления неподатливой материи. Этот анализ подводит итог всей аргументации трактата, соединяя физическое рассмотрение с метафизическим и психологическим, и демонстрирует, как из единого принципа (божественной Воли и Души) закономерно происходят различные модусы существования в иерархически устроенном универсуме.
6. О составе небесных тел: огонь, земля и принцип смешения.
Плотин переходит к тонкому физическому анализу состава небесных тел, обращаясь к авторитету Платона, но подвергая его положения критической проверке разумом. В «Тимее» мир создан прежде всего из земли и огня – как гарантий телесности и видимости. Соответственно, и звёзды, будучи видимыми и кажущимися твёрдыми, созданы, по Платону, большей частью из огня, но не исключительно из него. Плотин отмечает, что Платон, возможно, добавлял элементы для «правдоподобия», согласуя умозрение с чувственным впечатлением. Действительно, для зрения и осязания звёзды кажутся целиком огненными. Однако рассудок ставит вопрос: возможна ли твёрдость без участия земли? Если нет, то и земля должна присутствовать.
Но зачем тогда в небесных телах вода и воздух? Их наличие на таких высотах кажется нелепым: вода в чистом огне немыслима, а воздух, оказавшись там, немедленно превратился бы в огонь. Платон, однако, вводил все четыре элемента, исходя из принципа, что два крайних (земля и огонь) нуждаются в двух средних (вода и воздух) для связи и пропорции. Плотин подвергает этот принцип сомнению: разве земля не может смешаться с водой непосредственно, без воздушной прослойки? Если же возразить, что в каждом элементе уже потенциально присутствуют все прочие, то это могло бы быть верно, но тогда теряется специфический довод о необходимости средних именно для связи.
Это приводит к фундаментальному вопросу о природе элементов вообще: существует ли какое-либо из них в чистом, самотождественном виде? Школьное учение гласит, что каждое тело есть смесь всех элементов, а имя получает по преобладающему. Например, утверждают, что земля без влаги (воды) не может состояться, ибо вода её склеивает. Плотин видит здесь логическую трудность: если ничто не стоит само по себе, а каждое есть лишь в связи с другим, то возникает регресс в ничто. Какова тогда природа или сущность земли, если нет ни малейшей частицы, которая была бы просто землёй? Что будет склеивать вода, если нет предварительно данной величины чистой земли, которую можно соединить? Если же такая первичная величина земли существует, то земля может быть и без воды. Аргумент о необходимости воды для связности теряет силу, ибо предполагает то, что пытается доказать.
Далее Плотин последовательно проверяет необходимость каждого элемента. Воздух не нужен земле, чтобы быть землёй, пока он сам не преобразится в нечто иное. Что касается огня, то его функция в космосе, по Платону, – обеспечивать видимость. Но Плотин предлагает более тонкое решение: для видимости достаточно света, а не обязательно огня как стихии. Тьма невидима, но это не значит, что для видимости требуется поместить в объект огонь; достаточно, чтобы он освещался. Снег и многие холодные тела блестят, не содержа в себе огня. Возражение, что огонь мог окрасить тело перед уходом, не отменяет возможности видимости без его постоянного присутствия.
Подобные же сомнения возникают относительно воды и воздуха в их чистом виде. Может ли хрупкий воздух содержать в себе тяжёлую землю? Нуждается ли огонь для своей непрерывности в чём-то от земли, если у него иное трёхмерное протяжение? Твёрдость, понимаемая не как геометрическая трёхмерность, а как сопротивление, может, по мысли Плотина, быть свойством иного природного тела, не только земли. Например, золото, считающееся по своей природе водным (влажным), уплотняется и твердеет без земли – от сжатия или замерзания. Почему же тогда огонь, находясь под управлением всемогущей души, не может обрести устойчивую форму и твёрдость непосредственно её силой? Ведь существуют же, по верованиям, огненные демоны – устойчивые существа из огненной субстанции.
В итоге Плотин склоняется к двум возможным решениям. Первое – всеобщее: всякое живое существо, даже небесное, состоит из всех элементов, но в особом, преображённом состоянии. Второе – более аристократичное: только земные существа состоят из полной смеси, тогда как поднимать грубую землю в высшие сферы противно природе и установленному порядку. Быстрое круговращение небес не понесло бы земляных тел, которые лишь помешали бы чистоте и блеску тамошнего огня. Таким образом, разум, критикуя догматические схемы, оставляет вопрос открытым, указывая, что окончательное решение должно опираться не только на физические аналогии, но и на понимание преображающей силы небесной Души.
7. О подлинной природе небесного света и элементарной гармонии.
Обращаясь к окончательному истолкованию платоновского учения, Плотин предлагает глубоко синтетическое понимание состава космоса, которое снимает буквальное противоречие между необходимостью элементов и чистотой небес. Согласно Платону, во всём мире должно присутствовать твёрдое, сопротивляющееся начало – земля, выполняющая роль опоры и центра. Земные существа нуждаются в этой твёрди, сама земля должна быть непрерывной, освещаемой огнём, содержать воду против иссушения, а воздух – облегчать её массы. Однако критически важно, что в состав самих звёзд, по Платону, земля не входит непосредственно. Это не противоречие, а указание на иной принцип смешения.
Платон, как его понимает Плотин, описывает не механическое соединение грубых элементов, а их взаимное участие через свойства в едином гармоничном целом. В мире, где всё возникло, огонь получил долю земли, а земля – долю огня, и каждое – от каждого. Но участвующее при этом не становится буквальной смесью из обоих; речь идёт об общности в мировом целом. Отдельное существо или часть космоса берёт не сам чужеродный элемент, но его свойство, его силу. Например, оно может взять не воздух как таковой, но его мягкость; не землю в её грубости, но её твёрдость в ином, просветлённом виде; не огонь-пламя, но его блеск и светоносность. Таким образом, смешение даёт не просто землю и огненную природу рядом, а нечто совокупное, где твёрдость и огненность преображены в новое качество.
Прямые указания Платона, по мнению Плотина, подтверждают это. Говоря, что Бог «зажёг свет во втором от земли круге» (о Солнце), и называя солнце «ярчайшим и белейшим», Платон отводит мысль о том, что оно есть обычный огонь-пламя. Это свет, который он именует иным, чем пламя, – умеренно тёплый, чистый. Этот свет сам есть тело особого рода, а его сияние, излучение, – это уже бестелесный свет, одноимённый, но производный, подобный цвету и блеску, исходящим от источника. Само же светящееся тело – «истинно белое тело», сущностно отличное от земного пламени.
Плотин указывает на распространённую ошибку интерпретации: мы, беря земные стихии как худший образец, понимаем под «землёй» лишь грубую, инертную материю, тогда как Платон имеет в виду принцип твёрдости и устойчивости, который может существовать в ином, одухотворённом виде. Так и огонь небес – это не огонь, который мы знаем. Пламя, буйствующее внизу, не может смешаться с высшим светом; поднимаясь с частицами земли, оно не идёт выше лунной сферы. Там оно гаснет, встречая более тонкую среду, а оставшееся смягчается, теряя кипение и лишь светясь отражённым светом высших областей.
Таким образом, небесный свет – разнообразный в звёздах по размерам и цветам – составляет сущность небесных тел. Само же небо в целом состоит из такого же светоносного тела, но оно невидимо из-за своей предельной тонкости и прозрачности, не оказывающей сопротивления взгляду, подобно чистейшему воздуху, а также из-за огромной удалённости. В этом заключении Плотин разрешает физическую дилемму: небесные тела вечны и твёрды не потому, что состоят из смеси грубых элементов, а потому, что их субстанция есть преображённая, одушевлённая материя, в которой свойства элементов присутствуют в своей чистейшей и наиболее сообразной божественному замыслу форме. Их твёрдость – это твёрдость света, удерживаемого волей Души; их видимость – это эманация сущностной чистоты, а не горение. Это утончённое учение утверждает онтологический примат формы и души над материей, показывая, как высшее начало способно творить из материи нечто радикально отличное от её земных проявлений.
8. О самодостаточности небесной природы и отсутствии внешних угроз.
Рассмотрев сущностную природу небесного света, Плотин завершает свою аргументацию, показывая, почему такая природа исключает саму возможность упадка или разрушения. Свет, пребывающий в чистейшем месте вселенной, не имеет никакой внутренней склонности устремляться вниз. Более того, в тех высотах нет ничего, что могло бы его толкнуть или принудить к нисходящему движению. Здесь вводится важнейший онтологический принцип: всякое тело, соединённое с душой, является иной, высшей реальностью по сравнению с одиноким, неодушевлённым телом. Небесные тела суть не просто физические объекты, но одушевлённые существа, и потому их природа радикально отлична.
Какой вред может причинить такому телу соседняя среда, будь то тончайший воздух или иной огонь? Воздух там разрежен до предела и не способен на механическое воздействие. Огонь же, даже если представить его рядом, несовместим для взаимодействия; он пройдёт мимо с великой стремительностью, не задев, и к тому же он слабее здешнего, низового пламени. Единственное возможное действие огня – нагревание. Но то, что должно нагреваться, изначально не должно быть тёплым само по себе. Небесные же тела, состоящие из чистого света, уже пребывают в состоянии совершенной тепловой гармонии. Более того, разрушение от огня предполагает предварительный нагрев и противоестественное изменение нагреваемого. Для небесного тела, чья природа тождественна свету и теплу, такой процесс немыслим.
Следовательно, миру в его высших частях не требуется никакое иное тело для поддержания своего пребывания, как не нужно оно и для его природного вращательного движения. Прямолинейное движение для него не является природным; природно ему либо покоиться (в смысле неизменности сущности), либо вращаться по совершенному кругу. Всё иное было бы насилием. Из этого вытекает окончательный ответ на вопрос о питании: небесное не нуждается в нём. Судить о нём по аналогии с земным – фундаментальная ошибка, ибо его держит не та же душа, не то место, не те причины.
На земле питание необходимо для поддержания текучих и неустойчивых смесей, а изменение тел происходит от борьбы элементов под управлением иной, низшей природы. Эта природа, в силу своей слабости, не может удержать земные существа в бытии, но лишь подражает высшему образцу в становлении, в бесконечном цикле рождений и гибелей. Напротив, небесное управляется душой чистой и могущественной, способной навечно запечатлеть форму в просветлённой материи. Тот факт, что не всё в космосе одинаково, подобно умопостигаемому миру абсолютного тождества, уже был установлен: иерархия есть необходимое следствие эманации. Но именно эта иерархия гарантирует, что высшие звенья цепи бытия, будучи ближе к Первопричине, обладают совершенством, самодостаточностью и вечностью, недоступными для низших, подражательных форм существования. Таким образом, вечность небесного космоса есть прямое следствие его метафизического статуса, чистоты его составляющих и абсолютной власти одушевляющей его Души.
Второй трактат.
О круговращении.
Космическая Литургия: Круговращение как онтологический принцип в философии Плотина.
Во втором трактате второй «Эннеады» Плотин предпринимает попытку не просто объяснить физическое явление кругового движения небес, но раскрыть его как фундаментальный метафизический закон, пронизывающий все уровни бытия. Этот анализ выходит далеко за рамки натурфилософии, превращаясь в стройное учение о способах причастности множественного и телесного мира к вечной и неподвижной полноте Единого. Круговращение предстает не случайной особенностью космоса, а необходимым и совершенным выражением самого принципа жизни, понимаемой как самообращенная активность.
Исходным пунктом рассуждения служит принцип подражания. Чувственный космос, будучи эманацией высших начал, стремится воспроизвести их совершенство в доступной для материи форме. Высший образец – Ум (Нус), чье бытие есть чистая мысль, вечно обращенная на саму себя. Это самосознание, будучи актом, есть движение, но движение, не знающее ни пространства, ни времени, ни перехода от незнания к знанию. Это – абсолютный покой в абсолютной деятельности. Чувственный мир не может воспроизвести этот умственный покой напрямую, ибо его природа – изменчивость. Однако он может явить его ближайший аналог в виде движения, которое, будучи непрерывным и вечным, также не знает цели вне себя и потому уподобляется покою. Таким аналогом и является круговращение: движение, возвращающееся в исходную точку, движение, чья траектория замкнута на самое себя.
Однако ключевая трудность, которую скрупулезно исследует Плотин, заключается в субъекте этого движения. Чему оно принадлежит по сути – душе или телу? Ответ строится на тонком различении. Сама по себе душа как бестелесная и неделимая сущность движется не пространственно, а жизненно и умственно; ее движение есть акт осознавания, мышления, вечное возвращение к своим истокам. Тело же, взятое в его грубой материальности, стремится к прямолинейному движению – к рассеянию, к выходу за свои пределы, к достижению внешней цели и последующей остановке. Круговращение же есть феномен составной, одушевленной природы – живого небесного существа. Оно рождается из драматического взаимодействия двух начал: устремленной вовне инерции тела и собирающей, удерживающей силы души. Душа, присутствуя в теле, «сдерживает» его прямолинейный порыв, «замыкая» его траекторию внутрь сферического предела самого тела. Результат – вечное движение, которое одновременно является и пребыванием в своем естественном месте. Это компромисс, в котором тело реализует свою потребность в движении (жизни), а душа утверждает свою власть, придавая этому движению форму разумного, самодостаточного цикла.
Эта логика позволяет Плотину разрешить парадокс небесных стихий: почему огонь в эфирных сферах движется не вверх, а по кругу? Достигнув «крайнего предела» отведенного ему космического слоя, простое тело, лишенное души, должно было бы остановиться. Но одушевленное тело не может остановиться, ибо остановка для живого – смерть. Поскольку двигаться дальше вовне невозможно (ибо за пределом сферы – уже иная природа), единственным выходом становится движение внутрь самого этого предела – вечное скольжение по собственной границе. Так пространственная необходимость преобразуется в онтологический принцип: круговращение есть способ бытия для завершенного, но живого телесного существа, способ обладать самим собой и своим местом целиком и непрерывно.
Центральным объяснительным образом становится метафора круга с центром и окружностью. Но Плотин наполняет ее глубоким иерархическим смыслом, различая два центра: пространственный центр тела и метафизический центр душевной природы – точку ее сопряжения с высшим благом, с Богом или Умом. Вращение окружности (тела) вокруг геометрического центра есть лишь видимое отражение, пространственная проекция невидимого обращения души вокруг своего божественного средоточия. Душа, не могущая полностью слиться с абсолютным Центром (сохраняя свою ипостась), объемлет его вечным кружением любви и познания. Следовательно, круговращение неба – это космическая литургия, непрестанное хваление, вызванное не внешним принуждением, а внутренней, «естественной необходимостью» и радостью причастности.
Этот универсальный принцип объясняет и дифференциацию в космосе. Почему не все движется по кругу? Потому что способность к такому движению определяется мерой внутренней цельности и ориентации души. Небесные тела суть «цельные» существа, чья душа полностью обращена к высшему, а тело – тонко и подвижно, не отягощено противоборствующими стремлениями. Земные же существа, включая человека, суть «частичные». Хотя человеческая душа по своей сущности также является целым и способна к внутреннему, умственному самообращению, ее земное тело «тяжело» – оно склонно к прямолинейным порывам вожделения, страха, алчности, к рассеянию вовне. Его шарообразная форма не может свободно вращаться в пространстве, будучи связана грузом материальных забот. Однако и в человеке, утверждает Плотин, возможно, существует внутреннее, невидимое круговращение «духа» (пневмы) вокруг ядра души, стремящейся к благу.
Антропологическая аналогия делает систему завершенной: как в человеке душевный порыв (радость, видение блага) вызывает непроизвольное телесное движение, так вечное ликование небесной души, непрестанно получающей и созерцающей благо, вызывает вечное, размеренное движение ее тела. Высшая, воспринимающая сила души, опираясь на низшую, жизненную силу, вечно обращается к ней, и это внутреннее колебание передается сфере, приводя ее в rotation.
Таким образом, в трактате «О круговращении» Плотин выстраивает грандиозную картину вселенной как иерархии самодостаточных движений. На вершине – покоящееся в деятельности мышление Ума. Ему подражает, на своем уровне, круговращение небес – движение, уподобляющееся покою через пространственную замкнутость и вечность. Этому, в свою очередь, стремится подражать (хотя и часто безуспешно) разумная душа человека через внутреннее собирание себя, через обращение ума к самому себе. Круговращение, таким образом, есть больше чем астрономический факт; это символ и условие космического порядка, гарантия сохранения и жизни вселенной, зримое выражение незримой любви души к породившему ее Благу. В этом вечном возвращении к себе, осуществляемом на разных уровнях, раскрывается основной закон бытия у Плотина: существовать полноценно – значит не уходить вовне, но, обретая себя, вращаться вокруг внутреннего божественного центра.
1. О круговращении: Логика вечного возвращения к себе.
Круговое движение у Плотина не есть простое физическое явление; оно является метафизическим принципом, выражающим высшую форму бытия и жизни. Его анализ начинается с вопроса о подражании Уму. Ум, как первая эманация Единого, пребывает в состоянии покоя, мыслит себя и является совершенным самотождеством. Круговое же движение есть подражание этому покою-в-движении, но на низшем уровне реальности. Возникает проблема: чьё это движение – души или тела? Если душа сама движется кругообразно, то это движение не может быть пространственным перемещением, ибо сущность души неделима и бестелесна. Её движение есть жизнь, мысль, обращённость на себя – движение внутрь себя, не ведущее вовне. Поэтому истинное круговращение души – это вечное самопостижение и самосохранение, форма активности, которая, будучи вечной, не имеет цели вне себя и не исчерпывается.
Однако наблюдаемое круговращение небесных тел есть движение одушевлённого живого существа, состоящего из души и тела. Тело по своей природе стремится к прямолинейному движению, к выходу за свои пределы, к рассеянию. Душа же, присутствуя в теле, удерживает его, сообщая ему иную форму стремления – стремление к самосохранению и целостности. Результатом этого взаимодействия и является круговое движение: тело, будучи удержано душой, не может двигаться прямолинейно, но, обладая собственной природой, не может и остановиться, ибо жизнь есть движение. Таким образом, круговращение становится компромиссом – вечным движением, которое одновременно является и пребыванием на месте. Это движение смешанно, оно принадлежит не душе как таковой и не телу как таковому, но составному живому существу.
Возникает вопрос: почему даже огонь, который в земных условиях движется прямолинейно, в небесной сфере движется кругообразно? Ответ Плотина раскрывает иерархический порядок вселенной. Прямолинейное движение есть движение к своему естественному месту, к завершению. Достигнув его, простая телесность, лишённая души, должна была бы остановиться. Но небесные тела, будучи одушевлёнными, не просто занимают место – они обладают жизнью. Следовательно, остановка для них означала бы утрату жизни, омертвение. Поэтому, достигнув своего естественного сферы (крайнего предела, доступного для их телесности), они не могут остановиться, но и не могут двигаться далее вовне, ибо вовне для них ничего нет. Единственно возможным становится движение внутрь своего собственного предела – скольжение по краю, возвращение к самому себе, то есть круговращение. Это движение становится для них способом обладания самими собой и своим местом. Оно есть их собственная природа, но природа, дарованная и поддерживаемая всеобщей Душой, то есть внутренний промысел.
Центральный метафорический образ – круг с неподвижным центром и вращающейся окружностью – раскрывает онтологическую структуру. Центр символизирует Ум или душу как принцип покоя и единства. Окружность – это тело, жизнь которого возможна только через вечное обращение к центру, через стремление к нему. Если бы окружность остановилась, она стала бы лишь расширенным центром, то есть утратила бы свою природу движения и жизни. Вращение есть способ, которым периферия участвует в неподвижности центра, не сливаясь с ним.
Наконец, разрешается кажущееся противоречие: как душа, будучи вездесущей и неделимой, может вызывать вечное движение, не утомляясь и не действуя насильственно? Ответ заключается в том, что душа не «тянет» тело извне. Она пребывает везде целостно. Если бы тело остановилось, оно воспринимало бы душу лишь в одной точке, тем самым ограничивая и омертвляя само себя. Но поскольку душа везде, тело, чтобы обладать ею полно, должно двигаться повсюду, не покидая своего естественного предела. Единственный путь для этого – вечное круговое движение. Таким образом, круговращение есть пространственное выражение того, что на уровне души есть вечное самодостижение. Душа вечно обращена к себе, и это её внутреннее движение жизни и мысли проецируется на одушевлённое тело как круговое движение в пространстве. Это не перемещение от точки к точке в поисках души, а реализация присутствия души во всех точках пути одновременно. В этом – внутренняя логика и современное звучание мысли Плотина: круговращение предстает как космический символ самодостаточности, саморефлексии и вечного возвращения к истоку, как принцип динамической стабильности, в котором движение не есть уход от себя, а способ пребывания в себе.
2. О соразмерности целого и части в круговращении.
Рассмотрение небесного круговращения неизбежно ставит вопрос о его отношении к остальным, «частичным» вещам, включая человека. Логика Плотина строится на принципиальном различении двух способов существования: цельного и частичного. Небо, или космос в его целокупности, представляет собой живое, одушевлённое целое. Это не тело в пустом пространстве, но само есть своё место и своё «всё»; ничто внешнее ему не препятствует, ибо для него нет «вне». Его круговое движение есть внешнее выражение его внутренней самодостаточности и всеохватности.
Человек же, как и любая земная сущность, существует в двойственном модусе. С одной стороны, как часть всеобщего порядка, он фрагментарен и ограничен конкретным местом, оторванным от целого. С другой стороны, в силу обладания разумной душой, он представляет собой «собственное целое», микрокосм, внутренне уподобленный макрокосму. Эта двойственность проецируется и на проблему движения. Если душа вездесуща и в любой точке обладает собой полностью, зачем ей вообще двигаться? Ответ заключается в том, что душа, пребывая везде целостно, не локализована нигде. Её вездесущность означает, что для её актуализации в составном существе недостаточно статичного присутствия в одной точке; требуется динамическое соответствие её безграничной природе. Круговое движение и есть это соответствие для небесного тела – способ быть везде в своём пределе, не утрачивая себя.
Далее Плотин вводит ключевое различение двух центров, разрешающее кажущийся парадокс. В телесной сфере существует пространственный, геометрический центр. В сфере душевной природы существует иной центр – метафизическое «средоточие», источник жизни и единства, точка соприкосновения с высшим началом, которое в контексте трактата именуется богом или Умом. Круговращение небесного тела вокруг своего пространственного центра есть символ и следствие обращения души этого тела вокруг её истинного средоточия – божественного принципа. Соответствие между этими двумя кругами («как там, так и здесь») обеспечивается всеобщей Душой, устанавливающей гармонию между метафизическим порядком и его физическим выражением. Таким образом, круговращение есть космическое таинство любви: душа, не могущая слиться с абсолютным Центром (ибо сохраняет собственную ипостась), объемлет его вечным движением, пребывая «вокруг него». Это движение не вынуждено, но есть радостная и естественная необходимость, проистекающая из самой природы одушевлённого бытия.
Это объясняет, почему не все души и не все тела участвуют в таком движении. Частные, земные души хотя и имеют ту же природу, но погружены в иную телесность. Их тела «тяжелы» не столько в физическом, сколько в онтологическом смысле: они склонны к прямолинейному движению «к другому», то есть к внешним объектам желания, к рассеянию, а не к собиранию в себе. Их шарообразная форма (намек на платоновского «круглоголового» человека) не способна к свободному вращению, ибо отягощена материальной инерцией и разнонаправленными страстями. В небесных же телах всё «тонко и подвижно», а их движение легко и непрерывно, ибо душа там не встречает сопротивления иного стремления.
Однако Плотин делает важную оговорку, указывающую на универсальность принципа. Даже в человеке «дух» (пневма), окружающий душу, возможно, совершает некое внутреннее, невидимое круговращение, поскольку бог присутствует во всём, и душа по природе стремится быть с ним. Это стремление не может быть локализовано, а потому принимает форму внутреннего обращения. Финальная ссылка на Платона («Тимей») не просто подтверждает авторитетом, но углубляет анализ. Приписывание Платоном звёздам не только общего переноса, но и собственного вращения подчёркивает, что каждое разумное существо, где бы оно ни находилось в иерархии бытия, обладает своим собственным отношением к божественному центру. Его радостное обращение есть не механический расчёт, а спонтанное проявление его сущностной природы – естественная необходимость, в которой свобода и закон тождественны. Таким образом, круговращение предстаёт как универсальный закон для всего одушевлённого: от внешнего движения небесных сфер до внутреннего устремления разумной души, всегда стремящейся, следуя своей лучшей части, к вечному средоточию бытия и мысли.
3. О диалектике душевных сил и причине круговращения.
Рассмотрение природы круговращения приводит Плотина к анализу внутренней структуры мировой Души, чья деятельность порождает это движение. Он различает в ней две основные силы или энергии, образующие иерархическое единство. Низшая сила души имеет характер распространяющейся вширь и вглубь субстрата жизненности; она исходит, образно говоря, от земли и пронизывает собой все уровни телесного космоса, обеспечивая связность и основу существования. Это сила устойчивости и протяжённости.
Другая, высшая сила души обращена не к низшему, а к высшему – к Уму. Она способна к ощущению, восприятию и, что важнее, к принятию внутрь себя умопостигаемых образцов (логосов), исходящих от разума. Эта сила держится в небесных сферах, но не витает отдельно: она опирается на первую, низшую силу, как на свой фундамент и носителя. От неё же высшая сила получает возможность действовать более живо и активно в области оформленного мира. Динамика рождения круговращения заключается во взаимодействии этих двух сил. Низшая, распространившаяся сила уже «объемлет кругом» сферическую область. Высшая сила, склоняясь к ней, обращается к ней и тем самым вовлекает в это обращение телесную сферу, в которой заключена эта сложная душевная структура. Это подобно цепи: тончайшее внутреннее движение душевной интенции, её обращённость на саму себя и на своё основание, неизбежно передаётся телу, потрясает его и вызывает его пространственное движение. Поскольку тело небесного существа однородно и лишено внешних препятствий, это движение становится равномерным и вечным вращением.
Для подтверждения универсальности этого принципа Плотин прибегает к антропологической аналогии. В человеческом теле, когда душа приходит в движение от внутренних состояний – будь то радость или внезапное видение блага, – это движение, будучи по сути своей не-пространственным, отражается и в теле: оно может вздрагивать, менять позу, жестикулировать. В небесном же теле, которое постоянно «пребывает в благе» и чья душа «становится более восприимчивой», это внутреннее устремление к благу является не эпизодическим, а перманентным состоянием. Соответственно, и вызванное им телесное «колебание» тоже постоянно. Ощущающая сила небесной души, непрерывно получая благо (умопостигаемый свет) свыше и наслаждаясь им, вечно устремляется к его источнику. А поскольку этот источник, Ум или благо, присутствует не локально, а вездесуще в смысле своей доступности для мысли, душа, чтобы следовать за ним, должна двигаться повсюду в пределах своего телесного облачения – то есть описывать круговую траекторию.
Финальное объяснение возводит частную причину к всеобщему архетипу. Сам Ум движется особым образом – он «пребывает в покое и движется, ибо вокруг себя». Его движение есть чистая актуальность мышления, вечный акт самопознания, который, будучи абсолютно внутренним и не связанным с переходом, есть высшая форма покоя-в-движении. Круговращение вселенной является пространственной и временной имитацией этого умственного цикла. Таким образом, вселенная движется по кругу, одновременно пребывая в покое, потому что её движение, во-первых, не имеет внешней цели и замкнуто на себя, а во-вторых, будучи вечным и неизменным по форме, является наилучшим возможным образом устойчивости для телесной природы. В этом синтезе движения и покоя, вызванном внутренней диалектикой душевных сил и их ориентацией на умопостигаемый образец, раскрывается космическая гармония и разумность мироустройства.
Третий трактат. О том, влияют ли звёзды.
Небесная грамматика и суверенитет души: Плотин о свободе в предуказанном космосе.
Трактат Плотина «О влиянии звёзд» представляет собой не просто полемику с вульгарным астрологическим фатализмом, а систематическое построение философской космологии, в которой решается фундаментальная проблема соотношения необходимости и свободы, части и целого, знака и причины. Его рассуждение, разворачиваясь как строгая диалектическая дедукция, движется от критики ложных мнений к утверждению положительного учения о вселенной как живом, разумном и иерархически устроенном организме.
Исходный пункт – решительное отрицание того, что звёзды являются действующими причинами человеческих судеб, нравственных выборов или земных событий. Плотин методично демонтирует антропоморфные и механистические модели, показывая их внутреннюю абсурдность. Приписывать божественным, самодостаточным светилам человеческие страсти (гнев, радость, зависть) – значит впадать в кощунственное упрощение. Их бытие есть чистое, блаженное созерцание высшего начала, а не озабоченное администрирование земными делами. Сведение же их влияния к простой физической причинности (тепло, холод) оказывается несостоятельным, ибо не может объяснить смысловое и качественное многообразие человеческой жизни – мастерство, социальные роли, нравственные коллизии. Даже промежуточная модель «вынужденного» влияния конфигураций терпит крах, приводя к логическим противоречиям, когда одно и то же светило должно было бы одновременно пребывать в несовместимых аффективных состояниях.
Критика, однако, служит лишь подготовкой почвы для положительного построения. Отвергнув звёзды как причины, Плотин утверждает их высочайший статус как знаков. Здесь вводится центральный принцип всеобщей симпатии (συμπάθεια). Вселенная понимается как единое живое существо, все части которого связаны невидимыми, но разумными узами взаимного соответствия. В таком организме, пронизанном единым дыханием Логоса, состояние одной части может служить указанием на состояние другой. Звёзды, находясь на высочайшем уровне телесного совершенства, являются наиболее ясными и прекрасными «буквами» в этой непрерывно пишущейся книге космоса. Их движения и аспекты – не команды, а грамматические конструкции, отражающие общую гармонию целого. Они указывают на будущее не потому, что его творят, а потому, что они и грядущие события суть со-следствия в единой причинной сети, восходящей к общему истоку – Уму и Единому.
Эта семиотическая функция разворачивается в контексте строгой онтологической иерархии. Мир эманирует из Единого через Ум к Мировой Душе. Звёзды – божественные тела одушевлённые высшей частью этой Души. Их истинная, умопостигаемая сущность пребывает в созерцании; их физическое же тело участвует в симпатической связи со всем телесным космосом. Именно на этом, низшем уровне их бытия и возможно «влияние» – не как преднамеренное действие, а как неизбежное следствие со-принадлежности к целому. Однако, достигая нашего мира смешения, это чистое влияние неизбежно ослабляется и искажается в материи, подобно яркому лучу, меркнущему в мутной воде. Поэтому зло, страдание, уродство – это не продукты воли звёзд, а результаты деградации и смешения благого начала с пассивной материей на самых нижних ступенях бытия.
Кульминацией трактата становится учение о двойственности человеческого существа, которое является микрокосмом, отражающим структуру макрокосма. Человек есть сложное единство:
1. Составное существо («соединение» души и тела), чья низшая, «демоническая» часть вовлечена в поток космической необходимости и страдания. Эта часть формируется при нисхождении души, получая от звёзд определённые склонности и «жребий» внешних обстоятельств (тело, родителей, место). Её жизнь действительно может «читать по звёздам», ибо она – часть всеобщего механизма симпатии.
2. Истинное «Я» – умопостигаемая, невоплощённая душа, чья сущность родственна высшему Уму. Это начало обладает властью над страстями (τὸ κύριον τῶν παθῶν) и является носителем независящей, «не подчинённой добродетели». Оно – источник свободы и ответственности.
Таким образом, астрологическое предсказание имеет силу лишь для первого, составного аспекта человека – для его внешней судьбы, телесных условий и страдательной части души. Но оно бессильно перед вторым, суверенным началом. Судьба (εἱμαρμένη) – это не внешний рок, а логическое и нравственное следствие того, как душа, обременённая своим «жребием», реализует свою внутреннюю склонность. Звёзды указывают на эту складывающуюся картину, но не диктуют её. Философский призыв Плотина – «бежать отсюда», то есть совершить работу отделения (χωρισμός) истинного «Я» от отождествления с составным существом. Тот, кто преуспевает в этом, более не живёт «по судьбе»; его жизнь направляется не указаниями светил, а созерцанием того самого Ума, которому подчинены и сами звёзды.
В заключительных разделах Плотин поднимается до космогонической перспективы, объясняя сам механизм творения как вечное и неизбежное излияние (πρόοδος) форм из Ума через Душу в материю. Мир полон и иерархичен, в нём необходимо присутствуют все степени совершенства, включая низшие, которые с частной точки зрения воспринимаются как зло. Но для целого они – необходимые контрапункты в великой симфонии бытия.
Итогом трактата является глубокая примиряющая концепция. Плотин не отвергает астрологию целиком, но радикально переосмысляет её, лишая фаталистического жала. Он предлагает видение упорядоченного, осмысленного и живого космоса, где всё взаимосвязано и потому познаваемо, но где высшая часть человеческой души сохраняет абсолютную свободу, будучи сопричастной самому источнику этого порядка. Звёзды – не тираны, а сограждане в разумном универсуме; их язык – не приказ, а указание на красоту и связность целого, приглашающее душу не к покорности, а к восхождению к той точке, откуда видна вся гармония, и где астрологические предсказания теряют всякую власть над тем, кто обрёл свою подлинную, умопостигаемую родину.
1. О природе небесных знаков и границах причинности: логика космического символизма в противовес фатализму.
В трактате, посвящённом вопросу о влиянии звёзд, Плотин подвергает критическому разбору распространённое в его эпоху астрологическое фаталистическое мировоззрение. Ключевой тезис, который он отстаивает, заключается в принципиальном различении между указанием и производством. Звёзды, согласно его аргументации, не являются действенной причиной земных событий, человеческих судеб, тем более – нравственных качеств и поступков. Их движение скорее выполняет функцию сложного знака, символа или грамматического элемента в языке вселенской симпатии, где всё взаимосвязано, но не всё причинно обусловлено механически.
Внутренняя логика Плотина строится на онтологической иерархии, центральной для неоплатонизма. Высшее начало – Единое-Благо, затем Ум (Нус), содержащий в себе вечные идеи-архетипы, и Мировая Душа, которая одушевляет и организует космос. Звёзды, будучи божественными и разумными телами, пребывают на уровне небесной, неиспорченной части Мировой Души. Их природа возвышенна и неизменна. Поэтому приписывать им изменчивые человеческие страсти – гнев, зависть, перемену мыслей в зависимости от конъюнкций – означает впадать в абсурдное антропоморфирование, недостойное их божественного статуса. Звезда не может «разгневаться» на человека; её бытие есть чистое и безмятежное интеллектуальное созерцание высших принципов.
Критика Плотина направлена на внутренние противоречия вульгарной астрологии. Если одни планеты считаются злыми, а другие добрыми, но при этом каждая может производить противоположные эффекты, то сама система лишается логического основания. Более того, идея о том, что их действие меняется от взаимного «взгляда» (аспекта), низводит эти божественные сущности до уровня пассивных объектов, чья сущность определяется внешним отношением, а не внутренним совершенством. Такой взгляд разрушает сам принцип самодостаточности и неизменности божественного. Смешение их влияний, уподобляемое смешению жидкостей, также проблематично, ибо предполагает, что результат есть нечто внешнее и механическое, а не следствие внутренней природы действующих причин.
Современное звучание этой критики очевидно: это спор о детерминизме и свободе, о природе научного (или псевдонаучного) предсказания. Плотин, по сути, отвергает редукционистский детерминизм, который сводит сложность человеческой жизни, особенно её этическое измерение, к комбинации безличных небесных сил. Его позиция – это защита автономии высших уровней бытия. Душа человека, будучи родственной Мировой Душе и происходя из сферы Ума, обладает собственной, присущей ей силой (δύναμις), которая не детерминирована телесным и космическим механизмом. Нравственный выбор, добродетель и порок принадлежат сфере самовластного решения души (τὸ ἐφ' ἡμῖν), а не являются продуктом звёздного принуждения.
Таким образом, функция звёзд заключается в том, чтобы быть прекрасными и разумными знаками, чьи конфигурации отражают общую симпатическую связь всех частей космоса. Они указывают на события не как их причина, а как со-следствие в единой гармоничной системе, где всё пребывает во взаимном соответствии. Как симптомы болезни указывают на неё, но не являются её причиной, так и положение светил может служить знамением событий, порождаемых сложным переплетением причин, главная из которых – свободная воля человеческой души и промысел высших принципов. Этот подход позволяет сохранить идею космического порядка и взаимосвязи, не жертвуя при этом самой сутью человеческого достоинства – способностью к самодетерминации и духовному восхождению к своему истинному, умопостигаемому истоку, находящемуся выше любого звёздного влияния.
2. О душе звёзд и природе их воздействия: между физическим механизмом и разумным промыслом.
Продолжая критический анализ, Плотин углубляется в вопрос о природе самих небесных тел, поскольку от её решения напрямую зависит характер их возможного влияния. Он выстраивает дилемму, последовательно исследуя оба предположения и демонстрируя их логические следствия. Если предположить, что звёзды суть неодушевлённые тела, то сфера их воздействия ограничивается чисто физическим, телесным уровнем. Их влияние можно было бы свести к различным комбинациям элементарных качеств – тепла, холода, сухости, влажности – передаваемых через излучение. Однако такой сугубо механистический и количественный подход оказывается несостоятельным для объяснения качественного многообразия и, главное, смыслового наполнения человеческой жизни.
Логика аргумента здесь переходит от общего к частному. Физическое воздействие, будучи однородным и смешивающимся в единую среду на уровне Земли, может объяснить лишь общие климатические изменения или базовые телесные состояния. Оно принципиально неспособно породить те уникальные и сложные феномены, которые составляют ткань человеческого существования: профессиональное мастерство (кифарист, оратор), социальные роли и отношения (брат, царь), удачу и чередование судьбы. Эти явления принадлежат к иному, смысловому и личностному порядку, который невыводим из простой механики тепла и холода. Таким образом, гипотеза о неодушевлённости звёзд приводит к абсурдному редукционизму, не охватывающему очевидную реальность.
Если же принять противоположную гипотезу и признать звёзды одушевлёнными, разумными и божественными существами, действующими по выбору и промыслу, возникает другая, этическая апория. Зачем существам, пребывающим в высшей, блаженной и самодостаточной области космоса, в месте божественном и чистом, сознательно причинять зло, ничтожество и порок живущим внизу? Для них, утверждает Плотин, не существует ни наших страданий, ни наших удовольствий в качестве значимых мотивов. Их бытие есть непрестанное и блаженное созерцание высшего, Ума и Единого. Представление о том, что они могут гневаться, завидовать или произвольно распределять земные блага и бедствия, есть грубое мифологическое заблуждение, проецирующее низменные человеческие страсти на совершенную природу.
Эта дилемма подводит к центральному выводу: звёзды не могут быть простыми физическими телами, ибо их «работа» в космосе указывает на участие в порядке, превосходящем физику; но они также не могут действовать как капризные антропоморфные божества, ибо это противоречит их совершенной и неизменной природе. Следовательно, необходимо иное, третье объяснение. Оно лежит в понимании звёзд как одушевлённых, божественных и разумных существ, чья деятельность тождественна их сущности и направлена вовне не волей к управлению частностями, а самим фактом их гармоничного существования в системе вселенной. Их движение – это выражение внутреннего разума и согласия с Логосом Мировой Души. Они «указывают» на события не как на причиняющие агенты и не как на планирующие администраторы, а как на живые символы в великой симфонии бытия, где каждая часть созвучна целому в силу всеобщей симпатии. Их души, будучи чистыми, не «заботятся» о наших злодеяниях, но их упорядоченное бытие служит знаком и отражением единого замысла, в рамках которого человеческая душа сохраняет свободу выбора и несёт ответственность за свою нравственную позицию.
3. О невозможности принуждения и противоречивости конфигурационной детерминации.
Аргументация Плотина переходит к критике промежуточной позиции, которая пытается избежать как грубого физикализма, так и антропоморфного волюнтаризма. Эта позиция предполагает, что звёзды действуют вынужденно, будучи пассивными проводниками влияния, детерминированными исключительно своим местоположением и взаимной конфигурацией. Однако при ближайшем логическом рассмотрении эта модель также рассыпается под весом внутренних противоречий.
Если влияние звёзд полностью определяется их положением, то идентичные астрономические ситуации должны порождать абсолютно тождественные результаты на Земле. Но эмпирическая действительность демонстрирует обратное: один и тот же участок зодиака, проходя над разными регионами или в разное время, производит различные эффекты. Это указывает на то, что сам по себе небесный «рисунок» не является единственной и достаточной причиной; его воздействие опосредовано иными факторами – спецификой места, природой воспринимающего субъекта, что уже выводит объяснение за рамки простой механической причинности.
Далее Плотин обнажает абсурдность, к которой приводит буквальное понимание астрологических аспектов (соединение, противостояние, восход и т.д.) как состояний, меняющих внутреннюю природу светила. Звезда не может становиться другой каждый миг, переживая череду метафизических трансформаций: радость в соединении, печаль в противостоянии, гнев на восходе. Такой взгляд предполагает полную утрату светилом своей субстанциальной тождественности и постоянства. Более того, с астрономической точки зрения, любая звезда в каждый момент времени одновременно находится в разных аспектуальных отношениях с множеством других светил: относительно одной она в соединении, относительно другой – в противостоянии. Следовательно, ей пришлось бы одновременно испытывать взаимоисключающие состояния – радость и печаль, гнев и умиротворение, что логически и онтологически невозможно для единого, цельного существа.
Этот логический reductio ad absurdum подводит к положительному утверждению о внутреннем состоянии божественных небесных тел. Их бытие характеризуется не изменчивыми аффектами, но постоянной и самодостаточной благой устремлённостью. Их жизнь сосредоточена на себе, а их благо – в собственной совершенной деятельности созерцания высших принципов. Они не обращены к нам как к цели; наша судьба не является предметом их заботы или расчёта. Любое «указание» с их стороны носит непреднамеренный, попутный характер, подобно тому как полёт птицы, используемый для гадания, не имеет своей целью предсказание. Таким образом, сама идея вынужденного воздействия, детерминированного конфигурациями, терпит крах, поскольку она либо не согласуется с наблюдаемыми фактами разнообразия эффектов, либо требует от звёзд невозможной внутренней противоречивости и аффективной нестабильности, несовместимой с их божественным статусом. Звёзды пребывают в состоянии вечной благосклонности, проистекающей из полноты их бытия, а не из отношения к миру становления.
4. Апории взаимодействия: о невозможности аффективной механики в божественной сфере.
Продолжая критику астрологического детерминизма, Плотин обращается к анализу предполагаемого механизма взаимодействия небесных тел между собой, который, согласно распространенным представлениям, определяет их влияние на подлунный мир. Этот анализ выявляет целый ряд логических несообразностей и антропоморфных проекций, несовместимых с понятием о божественных и разумных сущностях.
Основной объект критики – приписывание звёздам способности вступать в отношения, аналогичные человеческим: дружбы и вражды, радости при виде одного и досады при виде другого. Такая модель требует от этих существ наличия памяти, предпочтений, личных обид и привязанностей. Но что может быть причиной вражды между вечными, самодостаточными и блаженными телами? Их природа едина и гармонична; они пребывают в согласии, истекающем из единого Логоса Мировой Души. Любое представление о конфликте между ними разрушает саму идею космического порядка, который они призваны воплощать.
Далее подвергается сомнению сам принцип действия через «видение» (аспекты). Почему определённый геометрический угол (тригон, квадрат, оппозиция) должен вызывать у светила строго определённую и неизменную реакцию? И, что ещё более абсурдно, почему при переходе в соседний знак зодиака, будучи фактически ближе в пространстве, они могут «не видеть» друг друга? Это указывает на то, что система аспектов является не описанием реального физического или духовного взаимодействия, а условной символической схемой, искусственно наложенной на небесную механику. Звёзды не нуждаются в «взгляде» для взаимодействия; их взаимосвязь имманентна и основана на со-принадлежности единому живому организму космоса, а не на дискретных актах восприятия.
Ключевым является вопрос о механизме совместного влияния. Если эффект является результатом некоего «смешения» индивидуальных воздействий, то как это смешение происходит? Звёзды не договариваются между собой, не ведут переговоров, не борются за преобладание. Утверждение, что один может «радоваться», находясь в секторе другого, в то время как сам этот другой «огорчается», создает картину хаотического нагромождения субъективных состояний, лишённых какой-либо общей цели или разумного замысла. Это подобно утверждению, что двое одновременно любят и ненавидит друг друга, что есть логическое противоречие. Такая модель не только лишает небесный мир внутренней согласованности, но и делает его влияние на земные события иррациональным и произвольным сцеплением случайных психических импульсов, что неприемлемо для философского понимания космоса как воплощения Ума.
Таким образом, любая попытка объяснить влияние звёзд через аналогию с человеческими аффектами и межличностными отношениями приводит к неразрешимым апориям. Она требует от божественных существ невозможной аффективной нестабильности, предполагает бессмысленные конфликты в совершенной сфере и не может объяснить ни согласованность их совместного действия, ни сам механизм трансляции этих гипотетических состояний в конкретные земные события. Это заставляет искать иную, имперсональную и символическую модель связи между небом и землей, исключающую антропоморфные интерпретации.
5. Критика физикалистских аналогий и относительности восприятия.
Анализируя популярные астрологические объяснения, Плотин обращается к их физикалистским основаниям, в частности, к концепции теплых и холодных светил. Его критика демонстрирует, что попытки выстроить прямую причинно-следственную цепочку от элементарных качеств звёзд к сложным земным событиям приводят к логическим тупикам и противоречиям, связанным с относительностью наблюдателя и внутренней несогласованностью самой системы.
Если предположить, что благотворное или вредоносное влияние планеты зависит от её физической природы (например, холода), то возникают парадоксальные следствия. Удаляясь от Земли, холодное светило должно терять способность причинять вред, а следовательно, становиться благом. Однако в астрологической практике это не соответствует правилам о достоинствах планет в знаках или об их враждебности в оппозиции. Более того, когда «холодное» противостоит «горячему», логично было бы ожидать их нейтрализации, но астрология часто трактует такие конфигурации как напряжённые и опасные. Это указывает на то, что система не строится на последовательной физической модели, а является совокупностью условных и зачастую противоречивых символических правил.
Особенно ярко абсурдность физикалистского подхода проявляется в рассуждении о Луне. Аргумент строится на относительности восприятия: фаза Луны (полнолуние или ущерб) есть не свойство самого светила, а результат его положения относительно Солнца и земного наблюдателя. Сама Луна всегда наполовину освещена; для неё нет разницы. Если же считать, что её влияние зависит от количества получаемого и отражённого тепла/света, то возникает неразрешимая дилемма. В момент, когда для земного наблюдателя Луна ущербна (не освещена), для некоего гипотетического наблюдателя на другой линии она может быть полной. Следовательно, одно и то же физическое состояние должно было бы одновременно быть благом для одного и вредом для другого, что лишает понятия «благо» и «вред» объективного онтологического основания. Это, по сути, демонстрация того, что астрологические интерпретации приписывают абсолютное значение относительным и перспективным явлениям.
Плотин усматривает в этом лишь «признаки аналогии» (σημεῖα ὁμοιότητος). Фазы и аспекты являются знаками, указывающими на некие соответствия в единой живой системе космоса, но не действующими физическими причинами. Их символический смысл связан с более глубокими принципами гармонии, меры и подобия частей целому, а не с передачей элементарных качеств. Таким образом, физикалистская трактовка астрологии оказывается наивной и самоопровергающей, поскольку, будучи доведена до логического конца, показывает, что предполагаемые физические причины не могут однозначно и объективно определять те сложные следствия, которые им приписываются. Это подкрепляет основной тезис Плотина: звёзды служат знамениями в рамках всеобщей симпатии, а не детерминирующими агентами.
6. Онтологическая нелепость аморального детерминизма и отрицание единого принципа.
Заключительная часть аргументации Плотина поднимает критику на новый уровень, переходя от логических и физических апорий к этическим и, что самое главное, к онтологическим возражениям. Он рассматривает абсурдные следствия, к которым приводит фаталистическое понимание астрологии, если довести его до логического завершения.
Приписывание звёздам прямой ответственности за конкретные человеческие поступки, особенно аморальные (вроде прелюбодеяния), не только антропоморфирует их, но и низводит до уровня соучастников или даже подстрекателей человеческих страстей. Мысль о том, что божественные существа «насыщаются» человеческой распущенностью или что их взаимное созерцание порождает в них безграничное и слепое удовольствие, ведущее к разврату на Земле, представляется Плотину кощунственной. Это превращает космос в гигантский механизм порочного круговорота страстей, где высшие причины коррумпированы низшими следствиями, что полностью инвертирует неоплатоническую иерархию, в которой высшее может порождать только благое и упорядоченное.
Далее Плотин указывает на практическую невозможность такого управления. Если звёзды в деталях предопределяют судьбы «бесчисленных миллионов существ», вплоть до каждого конкретного действия, то их существование должно быть чудовищно сложной, изнурительной административной работой. Они должны были бы «ждать восхождения знаков», вести скрупулёзные хронометрические расчёты «на пальцах» для каждого индивида. Такая картина не просто нелепа; она разрушает само понятие о божественном как о вечном, блаженном и самодостаточном созерцании. Она заменяет его образом космических бюрократов, поглощённых бесконечными частными расчётами, что несовместимо с их возвышенной природой.
Однако наиболее весомым является онтологическое возражение. Подобный детерминизм, возводящий звёзды в ранг высших и фактически единственных причин, означает отрицание верховного принципа – Единого (или Ума), от которого всё исходит и которым всё упорядочивается. Это «лишает главенства в управлении единого». Мир превращается в совокупность частных воль или механических сил, лишённых высшей цели и общего замысла. Для Плотина такой взгляд равносилен разрушению понимания самой природы мира, который имеет начало и первопричину, «простирающуюся на всё». Звёзды в этой системе – не самодостаточные владыки, а совершенные части целого, действующие согласно своему порядку, согласованному с высшим Логосом. Их движение символически отражает этот всеобщий порядок, но не подменяет собой его трансцендентный источник. Таким образом, астрологический фатализм предстаёт не просто как ошибка в расчётах, но как глубокое метафизическое заблуждение, подрывающее основы разумного и иерархически устроенного космоса.
7. О всеобщей симпатии и семиотике космоса: звёзды как знаки в живом организме бытия.
После тотальной критики фаталистических и антропоморфных моделей Плотин предлагает положительное учение, раскрывающее его понимание истинной роли звёзд. Ключевая метафора, вокруг которой строится эта концепция, – Вселенная как единое, живое и разумное существо, пронизанное всеобщей симпатией (συμπάθεια). В таком организме всё взаимосвязано и взаимно обозначено; каждая часть несёт в себе информацию о других частях и о целом.
Действующей причиной событий, согласно этой логике, является не звёзды, а единый и согласованный порядок (λόγος), исходящий от высшего начала – Единого и Ума. Этот порядок пронизывает все уровни бытия, обуславливая закономерную последовательность событий. Именно эта закономерность, а не произвол светил, делает возможным предсказание. Звёзды, подобно буквам в непрерывно пишущейся книге или как черты лица, являются знаками (σημεῖα), позволяющими «прочесть» грядущее. Они не производят события, но своим движением и конфигурациями указывают на них, поскольку и они, и земные события суть со-следствия в единой причинной сети, восходящей к общему истоку.
Эта семиотическая функция не является исключительной привилегией звёзд. Таким же образом птицы, внутренности жертвенных животных или иные природные явления могут служить знамениями. Их способность быть знаками проистекает не из их отдельной воли, а из их со-принадлежности целому. Во вселенском живом существе части взаимодействуют, действуют и претерпевают воздействия согласно своей природе и положению, но все эти взаимодействия подчинены внутренней логике целого. Каждое событие вытекает из предыдущего не случайно, а «по природе», в рамках единого дыхания космоса.
Таким образом, звёзды – это не правители, а наиболее возвышенные и прекрасные «части», которые одновременно являются и «целыми» в силу своего божественного статуса. Их движение есть совершенное выражение их собственной природы и, одновременно, явное проявление общего Логоса. Мудрец – это тот, кто научился понимать этот язык аналогий и соответствий, читая в небесных конфигурациях отражение земных процессов, и наоборот, поскольку всё «полно знаков». Этот взгляд снимает противоречия фатализма: звёзды указывают на будущее, потому что они включены в тот же неразрывный порядок, что и мы, а не потому, что они его диктуют. Свобода человеческой души сохраняется, ибо её действия, будучи частью общего порядка, исходят из её собственной природы и разумного выбора, которые также находят своё символическое отражение в великой симфонии вселенной.
8. Душа, судьба и справедливость в упорядоченном космосе.
Завершая своё изложение, Плотин синтезирует метафизическую модель космической симпатии с учением о человеческой душе, её свободе и ответственности. Ключевым становится принцип сообразности частей целому и понимание судьбы как логического следствия внутреннего выбора души в рамках всеобщего порядка.
Душа, обладающая в себе началом разума (λόγος), является активным деятельным принципом. Её природное предназначение – исполнять своё дело, сообразуясь с разумным порядком вселенной. Пока она следует этому пути прямо, её действия гармонично вплетаются в общую ткань бытия, и происходящее с ней воспринимается как справедливое следствие её собственной природы. Однако душа обладает способностью отклоняться, «заблуждаться в множественности» чувственного мира, увлекаясь частным и внешним. Это отклонение само по себе уже является наказанием – состоянием внутреннего разлада и неведения. Последующая же «участь в худшей доле» – это не произвольная кара извне, а естественное и закономерное следствие её выбора, встроенное в механизм вселенской справедливости. Целое же, руководимое высшим началом, неизменно сохраняет свой порядок, включая в себя и последствия свободных действий душ как элементы общей гармонии.
Звёзды в этой системе окончательно находят своё точное место. Будучи «немалыми частями неба», они активно содействуют целому, выполняя своё божественное предназначение. Их явное дело – сиять и двигаться согласно разуму, тем самым поддерживая космический порядок. Одновременно, в силу всеобщей взаимосвязи, они служат знаками, «указывающими на всё в чувственном мире». Их конфигурации отражают состояние единого живого организма, частью которого являются и земные события, и судьбы душ.
Наконец, Плотин проводит чёткое разграничение между сферой внешних обстоятельств и сферой внутреннего, нравственного состояния. Богатство и бедность, здоровье и болезнь относятся к области «стечения внешних обстоятельств», то есть к тому, что сопутствует жизни в материальном мире и что указывается звёздными конфигурациями. Однако добродетели и пороки имеют иной источник. Добродетели проистекают из «изначальной природы души», из её согласованности с высшим разумом. Пороки же рождаются от её «встречи с внешним», от уклонения к материальной множественности и отождествления себя с нем. Таким образом, звёзды могут указывать на внешние условия, благоприятствующие или препятствующие проявлению добродетели или порока, но сами эти нравственные качества не производятся небесными телами. Они остаются областью свободы и ответственности самой души, которая, даже находясь в гущу космической симпатии и предуказанных обстоятельств, сохраняет свою суверенную способность к обращению к своему собственному, божественному истоку.
9. Антропология двойственности и путь освобождения от космической необходимости.
Завершая трактат, Плотин обращается к авторитетным платоновским образам – веретену Ананки (Необходимости) и Мойр, а также к учению «Тимея» о происхождении души – чтобы окончательно прояснить соотношение свободы и предопределения, человеческого и божественного. Эти образы служат ему не для оправдания фатализма, а для объяснения происхождения той самой «страдательной природы», с которой оказывается связана душа при нисхождении в тело.
Согласно этой реконструкции, высший бог даёт начало умопостигаемой сущности души, но движущиеся боги (звёзды и планеты) в процессе космогонии сообщают ей низшие, страстные способности – гнев, желание, удовольствие, страдание. Таким образом, нисходящая душа обретает двойственную природу: она получает от небесных богов «иной вид души», который подчиняется космической необходимости и определяет «нравы, поступки и страдания» согласно склонностям тела и страстной части. Именно эта связанная с телом и звёздами душа является объектом астрологического указания; она живёт «по судьбе», будучи частью механизма целого.
Однако, вопрошает Плотин, «что же остаётся нам?» И даёт ключевой ответ: то, чем мы являемся по истинной сути – наше высшее «я», умопостигаемая душа, которой природа дала «власть над страстями». Это и есть подлинный человек, не сводимый к своему астрологическому двойнику. Даже среди «зол», связанных с телом и космической необходимостью, бог даровал независящую, «не подчинённую добродетель». Её функция – не в безмятежном покое, а в активном противостоянии опасности порабощения злом. Таким образом, этический императив Плотина звучит как призыв к бегству «отсюда» – не из мира, а из отождествления себя с составным, страдательным существом.
Эта антропология двойственности проецируется и на весь космос. Каждое существо, включая звёзды, двойственно: оно есть, с одной стороны, сложное единство тела и связанной с ним души, а с другой – чистая, нетленная душа, лишь «пользующаяся» телом как инструментом и устремлённая к лучшему. Солнце и светила также имеют эту двойную природу: их истинная божественная душа пребывает в чистом созерцании, в то время как их одушевлённое тело участвует во вселенской симпатии и оказывает телесное влияние. Ключевой вывод: чистой душе человека звёзды «не дают ничего дурного»; их физическое воздействие адресовано телесной составной части человека и миру тел в целом.
Судьба, таким образом, есть удел того, кто отождествил себя со своим составным, «демоническим» началом, с «великим демоном» смешанной природы. Тот же, кто посредством добродетели и философского познания отделил свою истинную, «отделимую душу» от этой смеси, обретает иную участь: он пребывает с богом, и его жизнь более не определяется механическим следствием звёздных конфигураций, а становится свободным со-творчеством в лоне божественного Ума. Звёзды для него остаются лишь прекрасными указателями общего порядка, но не владыками его бытия.
10. Признание указаний, отрицание абсолютного детерминизма и природа нисхождения души.
В заключительном пассаже Плотин подводит итог своей сложной аргументации, предлагая сбалансированную и иерархически выстроенную позицию. Она предполагает признание знаковой функции звёзд при категорическом отрицании их всеобъемлющей причинной власти. Этот синтез требует чёткого разграничения сфер влияния: звёзды действуют не «полностью», но лишь в той мере, в какой это касается телесной и страдательной природы, как в целом космосе, так и в составном человеческом существе. Их влияние – это «остаточное» следствие, связанное с областью смешения, необходимости и страдания, но не с чистым умопостигаемым бытием.
Затем Плотин обращается к онтогенетическому аспекту: душа до своего воплощения уже несёт в себе определённую «склонность к страданию» (πρὸς τὸ παθεῖν ῥοπήν). Это не внешнее предопределение, а внутренняя предрасположенность, связанная с её выбором или уклонением от чистого созерцания. Именно эта склонность, это само движение души в сторону множественности, делает нисхождение в тело возможным и определяет характер её последующей земной участи. Таким образом, «судьбы приходят с ней», они являются не внешним произволом, а имманентным логическим и нравственным следствием её собственного состояния и ориентации. Душа активна в своём предопределении; она привносит зародыш своей будущей судьбы из высших сфер.
Наконец, общий космический контекст: движение небесных тел «содействует и дополняет» осуществление целого. Каждая часть мироздания, включая воплощённую душу со её склонностями, получает свой определённый порядок и место в общей симфонии. Звёзды, будучи совершенными частями, своим упорядоченным движением реализуют этот вселенский Логос. Поэтому их указания достоверны, поскольку они и мы включены в один гармоничный организм. Однако человек, пробудивший в себе истинную, умопостигаемую душу, способен трансцендировать тот уровень необходимости, на котором действуют звёзды, и войти в сопричастность с самим источником порядка, который выше любых указаний. Так достигается окончательное примирение космического детерминизма и духовной свободы.
11. Трансформация влияний: деградация идеи в материи и природа зла.
В этом фрагменте Плотин вводит ключевой для неоплатонической космологии принцип ослабления и искажения по мере нисхождения от высших причин к низшим следствиям. Этот принцип служит окончательным объяснением того, почему звёзды, будучи благими и разумными, могут указывать на зло и страдание в подлунном мире. Влияние, исходящее от божественных небесных тел, претерпевает существенную трансформацию в сфере материального и составного бытия.
Логика аргумента основана на аналогии: подобно тому как чистый огонь, достигая удалённого объекта, становится тусклым и слабым, так и высшие качества, достигая нашей сферы смешения, искажаются и вырождаются. Исходное «дружелюбное расположение», будучи божественным и чистым, в нашем мире, ослабев и смешавшись со страстями, порождает несовершенную и корыстную дружбу. Мужество, нисходя, может превратиться в безрассудную вспыльчивость или трусливую агрессию. Даже стремление к прекрасному (которое у звёзд есть созерцание умопостигаемой красоты), попадая в души, погружённые в чувственность, извращается в пошлое влечение к мнимым, телесным красотам. Наиболее показателен пример ума (νοῦς): его истечение, не будучи самим Умом, но лишь его слабым отблеском в области становления, стремится имитировать разумность, но, не достигая подлинной сути, вырождается в лукавство и изворотливость.
Таким образом, зло, наблюдаемое в нашем мире (пороки, страдания, конфликты), не имеет позитивного источника в высших сферах. Оно не производится звёздами, но возникает (γίνεται) в нас и в нашем мире как результат деградации, ослабления и смешения благых начал с пассивной, неопределённой материей и с взаимным противодействием множества телесных сил. «Там», в умопостигаемом мире и в чистой природе самих светил, этих зол нет. Пришедшее от них влияние «не остаётся таким, каким пришло», но, подобно чистому лучу, проходящему через мутную среду, преломляется и окрашивается свойствами самой среды.
Этот вывод имеет фундаментальное значение. Он снимает последнее возможное возражение: если звёзды благи, почему они указывают на зло? Ответ: они указывают не на зло как таковое, а на те ослабленные и искажённые состояния, в которые неизбежно приходит их чистое воздействие в низшей, материальной сфере. Предсказание таким образом относится не к сущностям, а к явлениям смешанного мира, где благое начало всегда уже затемнено. Это ещё раз подчёркивает, что задача мудреца – не стать пассивным объектом этих ослабленных влияний, а, распознав их природу, обратиться к их чистому, неискажённому источнику, который пребывает выше любых астрологических указаний.
12. О принципе со-действия и гармонии частей в живом космосе.
В этом заключительном синтезе Плотин окончательно проясняет механизм взаимодействия между общим космическим порядком и индивидуальными сущностями, устраняя последние следствия редукционистского понимания влияния звёзд. Его аргумент строится на принципе со-действия (συνεργεῖ) и иерархии причин.
Высшее начало (Логос, Ум) содержит в себе вечные формы (λόγοι) всех вещей. Индивидуальная сущность, будь то конь или человек, происходит прежде всего от своего собственного умопостигаемого архетипа («конь – от коня, человек – от логоса человека»). Это – первичная и определяющая причина. Звёзды же, и в частности Солнце, не создают эти сущности, но содействуют их формированию и проявлению в материи. Их роль вспомогательна и инструментальна: они предоставляют необходимые условия, энергию и «нечто» для осуществления формы, подобно тому как отец способствует развитию ребёнка, в основном к лучшему, но иногда, в силу обстоятельств, и к худшему. Однако это внешнее воздействие никогда не может вывести сущность за пределы её собственной природы («подлежащего»). Если же материя оказывается слишком упорной или неподатливой, форма может осуществиться не полностью – но это также следствие ограничений низшей сферы, а не воли светил.
Далее, через анализ Луны, Плотин ещё раз подчёркивает относительность и условность астрологических оценок. То, что кажется «вредным» или «полезным», зависит от конкретной перспективы и природы воспринимающего. Благость или вредоносность – не абсолютные свойства планет, а функциональные характеристики их действия в определённом контексте целого. Различия в их «температуре» (огонь, умеренный жар) объясняются их местоположением в космическом организме и их ролью в поддержании общего равновесия.
Наконец, Плотин обобщает свою модель, используя биологическую аналогию совершенного живого существа. Все части космоса, подобно органам тела, действуют так, «как полезно целому». Даже то, что на частном уровне кажется негативным или низменным (например, желчь, пробуждающая гнев), в масштабах целого выполняет необходимую регулирующую функцию – предотвращает застой, поддерживает динамику. Так и в космосе должно существовать разнообразие сил и склонностей, включая устремление к удовольствию и неразумную часть, чтобы всеобщая симпатия и гармония были полными. Звёзды, как важнейшие органы этого гигантского существа, действуют согласованно, их взаимные «дружба» или «вражда» суть метафорические выражения их функционального взаимодействия ради блага целого. Таким образом, их истинное предназначение – не управление частными судьбами, а поддержание жизни, единства и красоты вселенной, частью которой, обладая свободой восхождения, является и человеческая душа.
13. Иерархия действий и страданий в разумно управляемом космосе.
Завершая трактат, Плотин предлагает всеобъемлющую онтологическую схему, объясняющую место и функцию всех сущностей в мироздании – от божественных светил до материальных тел. Этот синтез подчинён центральному принципу: всё управляется Душой согласно Разуму (λόγος), подобно тому как в любом живом организме единое начало формирует и согласовывает части с целым.
Ключевым становится различение между тем, что происходит от космического движения (т.е. от общего порядка и взаимовлияния частей), и тем, что происходит от собственного, внутреннего начала сущности. Всё в космосе является частью великого целого, и в каждой части присутствует столько от целого, сколько позволяет её природа и место в иерархии. Внешние воздействия могут как противодействовать, так и способствовать реализации внутренней природы отдельного существа, но целое, будучи живым и разумным существом, всё упорядочивает, стремясь к полноте жизни.
Далее Плотин выстраивает иерархию способности к действию и склонности к страданию:
1. Орудия неодушевлённые: полностью пассивны, движимы извне.
2. Одушевлённые неразумные: подобны коням, движущимся неопределённо, пока их не направит возничий-разум (извне или изнутри). Их движение часто хаотично.
3. Одушевлённые разумные: несут «возничего» в себе. Если этот внутренний разум (знание) истинен, существо идёт прямым путём; если нет – блуждает. Однако даже их блуждание включено в порядок целого.
В масштабе космоса эта иерархия проявляется так:
– Наиболее значительные части (небесные тела): обладают величайшей способностью действовать и минимальной – страдать. Они творят великое и активно содействуют жизни целого.
– Наименее значительные части (низшие материальные образования): постоянно страдают, почти не имея собственной силы действия.
– Промежуточные части (воплощённые разумные существа, включая человека): и страдают от внешних воздействий, и многое совершают, имея в себе начало собственных действий.
Таким образом, целое представляет собой «полную жизнь», где каждая часть действует наилучшим образом соответственно своему месту. Менее совершенные части подчинены более совершенным, как воины – полководцу, и все вместе устремлены к умопостигаемой природе. Ни одна часть, даже самая великая, не может изменить изначальные логосы (архетипические формы), но она может вызывать изменения в их проявлении – к худшему или лучшему, не выводя, однако, сущность за пределы её собственной природы.
Причины отклонения к худшему коренятся не в злой воле высших начал, а в несовершенстве низшей сферы: в слабости тела, в душе, чрезмерно сострадательной и вовлечённой в низшее, или в дурно составленной материи, которая, подобно расстроенной лире, искажает гармонию формы. Звёзды, как наиболее совершенные части, действуют в полном согласии с логосом и способствуют гармонии целого; их указания отражают этот общий порядок, но не отменяют внутреннего принципа действий разумной души, которая, обладая своим «возничим», в конечном счёте ответственна за то, станет ли её жизнь музыкой, согласной с космосом, или диссонансом расстроенного инструмента.
14. О происхождении внешних благ: многосоставность причин и приоритет нравственного начала.
В этом разделе Плотин применяет разработанные им общие принципы к анализу конкретных земных явлений – богатства, славы, власти, браков и рождения детей. Его целью является демонстрация того, что эти события не являются простыми и однозначными следствиями звёздного влияния, но складываются из сложного переплетения различных причинных рядов, среди которых нравственный выбор и внутренние качества человека занимают центральное место.
Анализ строится по единой схеме, предполагающей поиск первичной причины для каждого случая. Богатство, полученное от родителей, указывает прежде всего на самих родителей как на причину; звёзды здесь лишь отражают (указывают) это обстоятельство. Если же богатство обретено благодаря доблести (ἀρετή), то главной причиной является сама эта доблесть. Телесная сила, которая могла помочь, имеет свои причины – родителей, природные условия, местность; звёзды могут участвовать в создании этих благоприятных телесных предпосылок, но они являются содействующими, а не определяющими факторами по отношению к самой доблести. Даже когда дары исходят от дурных людей, если они даны по праву, причина лежит в «лучшем» в них, то есть в остаточном присутствии разумного начала.
Крайне показателен случай порочного человека, приобретающего богатство. Здесь первичной причиной является сама порочность и то, что её вызвало (собственный выбор души, дурное воспитание и т.д.); внешние датели – лишь соучастники, предоставившие средства. Богатство от трудов (земледелие) причинно восходит к земледельцу; окружающая среда – помощник. Находка клада трактуется как «стечение обстоятельств из целого», то есть результат совпадения множества линий в едином живом организме космоса, что может быть указано, но не произведено звёздами.
Тот же метод применяется к славе и власти: они могут быть заслуженными или нет. В первом случае причина – в делах и лучшем начале в тех, кто воздаёт почести или избирает. Во втором – причина в несправедливости окружающих. Браки и рождение детей объясняются либо сознательным выбором, либо сложным стечением обстоятельств (температура, состояние тела, внешние условия), которые могут способствовать или препятствовать реализации внутреннего логоса (формы) потомства.
Таким образом, звёзды в этой системе не являются causa efficiens внешних благ. Они могут указывать на сложившиеся обстоятельства, создавать определённые физические предпосылки или отражать общий порядок, в рамках которого разворачиваются человеческие действия. Однако подлинной причиной, определяющей нравственную ценность события (добродетельное или порочное приобретение богатства, заслуженная или незаслуженная слава), всегда оказывается внутреннее состояние души – её доблесть или порочность, её разумный выбор или уклонение. Это утверждает примат этического начала над астрологическим фатумом и согласуется с общей концепцией человека как существа, чья истинная сущность и свобода коренятся в умопостигаемой душе.
15. О жребиях, демонах и суверенитете души: свобода в контексте космической драмы.
Обращаясь к платоновскому мифу из «Государства», Плотин использует его образы для окончательного прояснения соотношения свободы, судьбы и божественного промысла. Этот миф не служит у него подтверждением фатализма, но, напротив, становится основой для утверждения высшей степени ответственности души.
Платоновские «жребии» интерпретируются не как случайная лотерея, а как совокупность внешних обстоятельств, в которые душа вступает при нисхождении: конкретное тело, родители, место, время – всё то, что Плотин ранее относил к «стечению обстоятельств из целого». Это и есть материя для предстоящей жизни, заданный космический контекст. Далее душе предоставляется «выбор» – не выбор в абсолюте, но выбор способа жизни, нравственной ориентации внутри заданных условий. После этого мифическое «веретено» Ананки (Необходимости) и «демон» (личный гений) обеспечивают исполнение выбранного жизненного пути, то есть реализуют логическую и нравственную последовательность, вытекающую из первоначального выбора души и условий её воплощения.
Таким образом, судьба (удел, исполненное жизненное полотно) предстаёт как синтез двух факторов: 1) внешнего жребия (обстоятельств) и 2) внутреннего выбора души. Лахесис даёт условия, Атропос делает вытекающую из них и из выбора последовательность неотвратимой.
На этом основании Плотин выстраивает антропологическое различение. Одни люди полностью отождествляют себя с данными внешними условиями и влияниями, они «зачарованы целым»; их собственное «я» в этом почти не участвует. Другие же, и это суть философского пути, «властвуют над этим», отделяя свою истинную сущность от навязанного контекста. Они «возвышаются», сохраняя «лучшее души и древнюю сущность», то есть свою умопостигаемую природу.
За этим следует важнейшее метафизическое утверждение: душа не может быть лишённой собственной природы, пассивным следствием внешних воздействий. Будучи сущностью (οὐσία) и обладая логосом как началом, она по определению обладает собственными силами, стремлениями и устремлённостью к благу. Её бытие есть деятельность. Пока она соединена с телом, её действия носят смешанный характер. Однако ключевая способность души – отделиться (в акте познания и добродетели) от этого соединения и действовать «отдельно и самостоятельно». В этом состоянии она более не считает страдания и удовольствия тела своими, ибо ясно различает: «одно – одно, а другое – другое». Таким образом, конечный вывод трактата – это утверждение абсолютного суверенитета истинной, умопостигаемой души, которая, будучи вовлечена в космическую драму с её жребиями и веретеном необходимости, сохраняет способность к трансцендированию этой драмы через обращение к своему собственному, божественному источнику. Звёзды указывают на ход этой драмы, но не властны над тем, кто осознал себя её зрителем и автором своей подлинной судьбы.
16. О природе космического творчества: логосы, необходимость и относительность зла.
Плотин завершает трактат фундаментальными вопросами о механизме творения и присутствии зла в мире, управляемом разумной Душой. Он рассматривает несколько возможных моделей, чтобы определить, как именно мировая Душа, обладающая творческими логосами, относится к возникновению частных явлений, включая конфликты, страдания и гибель.
Первая модель – крайний трансцендентализм: Душа творит изначальные роды (человека, коня, стихии), а затем лишь пассивно наблюдает за их сплетением и взаимными воздействиями, ничего не добавляя. Эта модель неприемлема, так как она отделяет Душу от мира, делая её безучастным зрителем, что противоречит её природе как животворящего и управляющего начала.
Вторая модель – имманентный детерминизм: всё последующее с необходимостью вытекает из предшествующего в рамках причинной цепи, заложенной в изначальных логосах. В этом случае сами логосы производят всё, включая столкновения и зло. Однако это ставит проблему: если логосы подобны идеям в уме мастера, то как они могут содержать в себе ошибки, пороки или гибель? В искусствах логос (замысел) не содержит ошибок; ошибки возникают в материи.
Это приводит к уточнению третьей модели: логосы не производят события напрямую, но содержат знание всех возможных следствий. Душа, обладающая этими логосами, «предвидит или принимает» необходимость последующих звеньев цепи, которые вытекают из взаимодействия созданных ею форм с материей и друг с другом. Таким образом, ухудшение («люди прежде были одни, теперь другие») объясняется не порчей самих логосов, а тем, как материя, будучи приведена в движение первыми логосами, порождает вторичные, менее совершенные следствия («промежуточные логосы следуют страданиям материи»). Душа не безучастна: она, подобно заботливому земледельцу, постоянно поправляет и устраивает, чтобы целое пребывало в порядке.
Но если гибель и зло уже «заложены в логосах», не означает ли это, что Душа творит зло? Здесь Плотин предлагает ключевое для неоплатонизма решение: с точки зрения целого, ничего не является абсолютным злом или «против природы». Худшее и лучшее – необходимые противоположности, содействующие гармонии целого, как в живом организме. Поэтому в самих изначальных логосах худшее присутствует не актуально, но потенциально, как возможность. Актуально же оно возникает в результате движения материи, «от сотрясения предшествующих логосов». Душе не нужно заново «приводить в движение логосы» для создания зла; оно возникает как побочный продукт реализации лучшего в условиях сопротивления материи, которая, будучи побеждённой формой, всё же вторично порождает несовершенные следствия.
Таким образом, единая и благая Душа творит через логосы, которые суть совершенные замыслы. Многообразие мира, включая кажущееся зло и упадок, есть результат развёртывания этих замыслов в материи, которая, будучи вечно стремящейся к лучшему, но по своей природе неопределённой, неизбежно порождает иерархию форм и их взаимные ограничения. Это объясняет, почему из единого происходят разнообразные, а иногда и противоположные явления, оставаясь при этом частями разумно управляемого и живого целого.
17. О производящей силе души: от Ума к материи через иерархию эманации
В этом заключительном метафизическом пассаже Плотин проясняет механизм, посредством которого умопостигаемые формы (логосы) воплощаются в материальном мире. Он проводит чёткое различие между познавательной и производящей деятельностью души, утверждая примат бессознательной, но разумной творческой силы над дискурсивным мышлением.
Вопрос ставится так: являются ли логосы в душе просто мыслями? Если да, то как одно лишь мышление может производить физические вещи? Ответ Плотина отрицателен: производящее начало в природе – это не мысль или созерцание, а сила (δύναμις), которая непосредственно формирует материю. Эта сила действует не через знание или рассуждение, а подобно отпечатку, накладывающему форму на пассивный субстрат, или как семя, несущее в себе принцип роста. Она иррациональна в том смысле, что не требует рефлексии, но при этом разумна в своём истоке, поскольку исходит из логоса.
Таким образом, в душе необходимо различать две функции или уровни:
1. Правящая, высшая часть: она созерцает умопостигаемые формы, полученные от Ума (Нуса).
2. Порождающая, низшая часть («воплощённая и порождающая душа»): она является непосредственным агентом творения, получая от высшей части формообразующие импульсы (логосы) и передавая их материи.
Производство осуществляется не через рассуждение («обращаться прежде к другому»), а непосредственно, «по видам» (κατὰ εἴδη), то есть согласно вечным формам, которые душа содержит в себе благодаря причастности Уму. Весь процесс представляет собой нисходящую эманацию: Ум передаёт формы Мировой Душе; душа, следуя за Умом, «освещает» и направляет следующую за ней природную, производящую силу; эта сила, получив указание, уже непосредственно формирует чувственный мир.
Однако этот процесс не всегда протекает беспрепятственно. Материя может сопротивляться, и тогда воплощение формы происходит «хуже». Более того, производящая сила, будучи наполнена не первыми (умопостигаемыми), а уже производными логосами, может добавлять нечто «от себя», что также ведёт к несовершенству. Именно так возникают «менее совершенные» живые существа – дикие, трудные, недовольные, словно сделанные из «горькой подложки». Это не результат злого умысла, а неизбежное следствие удалённости от источника и взаимодействия с косной материей.
Таким образом, звёзды как божественные части мировой Души участвуют в этом великом процессе эманации и формообразования. Их указания – это отзвуки тех же логосов, которые, спускаясь вниз, порождают всё многообразие мира. Но само творение есть работа не рассуждающей, а производящей силы, и потому его результаты всегда несут на себе печать как совершенства высшего замысла, так и ограничений низшей сферы. Мудрость состоит в том, чтобы, читая знаки этого процесса, обратить взор к его чистому и беспрепятственному источнику в Уме.
18. О необходимости зла, полноте космоса и вечном творении как эманации.
Завершая свой трактат, Плотин поднимается до высшего синтеза, примиряющего присутствие несовершенства и зла с благом управляющего начала. Этот синтез основан на принципах необходимости, полноты и вечного излияния (эманации) блага из высшего источника.
Зло в мире необходимо по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, оно логически «следует за предшествующим»: будучи результатом ослабления блага в материи и побочным продуктом реализации форм, оно неизбежно в цепи нисхождения. Во-вторых, и это более глубокая причина, мир был бы неполон без него. Полнота космоса требует включения всех степеней бытия, от наивысших до низших. Даже то, что кажется безусловным злом (ядовитые существа, порочность), на уровне целого выполняет полезную функцию: стимулирует бдительность, пробуждает разум, становится материалом для искусства и побуждением к добродетели. Таким образом, относительное зло служит косвенной причиной большего блага и динамики совершенствования.
За этим следует величественная картина метафизической иерархии и вечного творения:
1. Ум-Демиург (Нус): Высшее после Единого, пребывающее в абсолютной неподвижности, источник всех форм (логосов).
2. Мировая Душа: Первично наполняемая Умом, вечно стремящаяся к нему. Наполняясь, она «переполняется», и это избыточное сияние порождает следующее.
3. Производящая природа (τὸ γεννῶν): «Последнее» истечение Души, обращённое вниз, к материи. Это та самая сила, которая непосредственно формирует чувственный мир. Она содержит в себе лишь «следы» умопостигаемых форм.
Эта триада пребывает в состоянии вечного динамического равновесия. Пока существуют Ум и Душа, логосы неизбежно и непрерывно изливаются в низшую душу, порождая чувственный космос, «как, пока есть солнце, изливаются. все его света». Таким образом, этот мир есть «вечно становящийся образ» вечно неподвижного первообраза.
В этой системе звёзды занимают своё окончательное место: будучи божественными и разумными телами, они принадлежат к высшим, управляющим проявлениям Мировой Души. Их движение и конфигурации суть наиболее чистые и прекрасные выражения вечного излияния логосов в космос. Они «указывают» на события, потому что сами являются живыми знаками этого непрекращающегося творческого процесса. Однако они не детерминируют нравственный выбор души, ибо этот выбор принадлежит к уровню, родственному самой Умопостигаемой Душе, которая способна, следуя своему стремлению к Уму, подняться выше даже самой прекрасной необходимости звёздного неба. В этом – окончательное утверждение свободы и достоинства человеческого духа в разумно устроенном и полном космосе.
Четвертый трактат: О двух видах материи.
Материя как метафизический предел: диалектика формы и не-сущего в философии Плотина.
Четвертый трактат Плотина представляет собой систематическое исследование природы материи, разворачивающееся как напряжённый диалектический поиск границ мыслимого. Центральным нервом этого исследования становится необходимость мыслить начало, по определению ускользающее от мысли, – субстрат, лишённый всех определённостей. Плотин не просто суммирует предшествующие учения, но подвергает их имманентной критике, демонстрируя, что ни сведение материи к телесности (досократики, стоики), ни её отождествление с актуальной смесью (Анаксагор), ни атомистическая дискретность не выдерживают проверки на последовательность. Все они оказываются пленниками чувственной картины мира, проецирующими характеристики оформленных тел на само условие оформления. Исходная интуиция Плотина иная: материя должна быть понята не из мира становления, а из структуры самого бытия, из отношения между Единым, Умом и Душой.
Это приводит к фундаментальному различению двух материй – умопостигаемой и чувственной. Логика этого различения не физическая, а трансцендентальная: если всякое бытие, включая умопостигаемое, предполагает определённость (форму), то должна существовать и соотносительная неопределённость (субстрат), без которой форма оставалась бы изолированной монадой, лишённой внутренней связи с иным. Умопостигаемая материя – это не тело, но принцип инобытия внутри самого Ума, позволяющий множеству эйдосов существовать как множеству в лоне единого интеллигибельного космоса. Она вечно актуализирована, всегда уже оформлена, и её «бесформенность» есть чистая восприимчивость, а не лишённость. Эта материя не противостоит бытию, а составляет с ним нераздельное целое, будучи «сущностью, помысленной вместе с наложенным на неё логосом».
Совершенно иной онтологический статус имеет материя чувственного мира. Она есть уже не условие единства во множестве, а условие становления и развёртывания во времени. Её анализ требует движения «снизу» – от феномена взаимопревращения элементов. Здесь Плотин применяет принцип, предвосхищающий закон сохранения: если нечто возникает не из ничего и не исчезает в ничто, то должен существовать устойчивый носитель изменений. Этот носитель не может быть ни одним из качеств, ни самим количеством, ибо все они преходящи. Он должен быть абсолютно бескачественным, бесколичественным и бестелесным – именно для того, чтобы быть способным принять любые качества и любую величину. Отсюда рождается парадоксальное определение: материя есть то, что обладает величиной, не будучи величиной; то, что является основой телесности, не будучи телом.
Гносеологическая апория материи становится для Плотина пробным камнем его метода. Познание, действующее по принципу подобия, бессильно перед абсолютно иным. Мысль, пытающаяся схватить материю, испытывает уникальное состояние «не-познания»: логос может дать отрицательное определение, но направленность мысли остаётся смутной, «незаконнорожденной». Душа, отбросив все формы, подобна глазу в полной тьме; она «видит» бесформенное, уподобляясь ему, но не терпит этого состояния, тотчас вновь набрасывая покров форм. Этот момент – ключевой. Он показывает, что материя не просто логический конструкт, а реальный предел опыта, граница, где мысль встречается с абсолютно иным, с не-сущим. Именно здесь материя раскрывается как лишённость (стерэсис) в строгом смысле – не как частное отсутствие, а как тотальное отрицание формы, бытия, блага.
Поэтому онтология материи у Плотина неизбежно переходит в этику. Чувственная материя, будучи чистой потенциальностью, лишённой даже тени акта, есть нужда, бедность, «сама бедность». Она не активное зло, а зло как лишённость – отсутствие порядка, красоты, разума. Она – необходимое условие космоса становления, но и источник его несовершенства, уклонения от умопостигаемого прообраза. Умопостигаемая материя, напротив, будучи вечно оформленной, несёт в себе свет логоса и потому принадлежит к сфере сущего. Диалектика двух материй thus становится отражением неопифагорейской диалектики предела и беспредельного: в Уме беспредельное (материя) всегда уже опосредовано пределом (формой), в чувственном мире беспредельное существует как «большее» – именно в силу своего бегства от бытия, своей абсолютной неопределённости.
Таким образом, плотиновская концепция материи выполняет двоякую функцию. С одной стороны, она замыкает систему, обеспечивая полную деривацию всех уровней реальности из Единого: от сверхсущего Первоначала происходит Ум (бытие-форма) со своим внутренним субстратом (умопостигаемая материя), а от Ума – Душа, которая, обращаясь к не-сущему (чувственной материи), порождает космос становления. С другой стороны, эта концепция служит философским обоснованием аскезы и экстаза: путь души к Единому лежит через последовательное отрешение от материального, понимаемого как многослойное затемнение формы, вплоть до полного преодоления самой дихотомии формы и материи в экстатическом слиянии с началом, которое есть чистое сверх-формальное единство.
В современном контексте эта доктрина резонирует с попытками мыслить условия возможности изменения и множественности. Когда физика ищет «тёмную материю» или квантовый вакуум как носитель потенциальных состояний, а философия сознания обсуждает «трудную проблему» качественного опыта, требующего нередуцируемого субстрата, – они, каждый на своём языке, сталкиваются с проблемой, которую Плотин формулировал как проблему материи: как помыслить то, что, не будучи ничем определённым, делает возможным всё определённое. Ответ Плотина остаётся радикальным: такое начало можно помыслить только негативно, как абсолютное иное, как предел самого мышления, указывающий на необходимость выхода за пределы дискурсивного разума к сверхумному единству.
1. О природе материального и умопостигаемого субстрата
В основе дискуссии о материи лежит общепризнанный постулат: материя есть субстрат и восприемница форм. Однако единство взглядов распадается при попытке определить сущность этого субстрата, механизмы восприятия им форм и область его применения. Одни мыслители, сводящие все сущее к телесному, утверждают единство материи, полагая ее основой элементов и отождествляя с самой сущностью. В этой системе элементы и все производные явления суть лишь состояния или модусы этой единой материальной субстанции. Данная логика приводит к радикальному пантеистическому выводу: божественное начало также отождествляется с оформленной материей. Сторонники этого взгляда наделяют материю телесностью, трактуя ее как «бескачественное тело», обладающее величиной, но лишенное конкретных свойств.
Другая философская позиция, напротив, настаивает на бестелесной природе материи. Более того, ее представители проводят фундаментальное различение между двумя видами субстрата. Первый вид соответствует описанной выше материи тел – пассивной основе чувственного мира. Второй же, высший вид материи полагается в умопостигаемой сфере. Эта умопостигаемая материя не является телесной, но служит субстратом для чистых форм, эйдосов и бестелесных сущностей. Таким образом, материя не едина, а дуальна: она существует на разных онтологических уровнях, выполняя функцию восприемницы как для чувственных качеств, так и для интеллигибельных принципов.
Внутренняя логика этого различения вытекает из иерархической картины бытия. Если всякая реальность, включая умопостигаемую, предполагает некоторое соотношение оформляющего начала и воспринимающего основания, то и в сфере Ума должна существовать своя, соответствующая его природе, «материя». Это не физический, но метафизический субстрат – чистая потенциальность для принятия интеллектуальных форм. Такая реконструкция проблематизирует упрощенное отождествление материи с телесностью и выводит дискуссию в плоскость соотношения возможности и действительности на всех уровнях мироздания.
Современное звучание этой концепции прослеживается в философии сознания и теоретической физике. Вопрос о «субстрате» переформулируется как проблема носителя информации или базового уровня реальности, будь то физический вакуум в космологии или нейробиологический субстрат психики. Различение же типов «материи» созвучно современным дискуссиям о соотношении разных уровней описания реальности – например, физического и ментального, где каждый уровень может требовать своего специфического концептуального основания. Таким образом, античный спор раскрывает не исторический курьез, а первичную структуру одной из центральных метафизических проблем: как возможно существование чего-либо, способного к устойчивому принятию и удержанию определенности.
2. Об умопостигаемой материи как метафизической необходимости.
Аргументация против существования материи в умопостигаемой сфере строится на кажущейся несовместимости определений. Если материя по своей сути есть начало неопределенное и бесформенное, а мир Ума характеризуется совершенной определённостью и оформленностью, то, казалось бы, места для материи там нет. Более того, каждое умопостигаемое сущее – эйдос – мыслится как нечто простое и самотождественное. Материя же вводится как необходимый компонент сложных образований, возникающих в результате соединения формы и субстрата. Поскольку умопостигаемые сущности вечны и не возникают во времени, в них не усматривается потребность в материи как основе становления. Такова логика, объясняющая материю чувственного мира: она есть условие для возникновения и изменения, для перехода возможности в действительность в потоке «иного из иного».
Однако, если последовательно отрицать умопостигаемую материю, возникает ряд апорий относительно происхождения материи чувственной. Если она возникла, то из чего и благодаря чему? Её возникновение потребовало бы некоего высшего творческого начала, действующего на некий предшествующий субстрат, что возвращает нас к идее некоего первичного восприемника. Если же она вечна, то она оказывается самостоятельным, независимым первоначалом наряду с Умом и Единым, и их соединение с ней выглядело бы случайным событием, что подрывает принцип разумного устроения космоса. Более того, сам статус умопостигаемых сущностей требует пересмотра. Если они абсолютно просты и бессубстратны, то как они могут служить образцами для сложных телесных вещей? И если умопостигаемое включает в себя многообразие форм, не означает ли это некоторую внутреннюю сложность, которая также требует принципа, позволяющего это многообразие удерживать и объединять?
Ключевой контраргумент, направленный против введения умопостигаемой материи, гласит: соединение любой материи с формой порождает тело. Следовательно, признание материи в сфере Ума автоматически делает умопостигаемое телесным, что разрушает само понятие о чистой, бестелесной интеллигибельности. Этот довод основывается на отождествлении понятия «тело» с любым составным образованием, что является недопустимым упрощением. Телесность предполагает не просто составность, но составность, направленную на пространственное протяжение и чувственную воспринимаемость. Состав же умопостигаемого иной природы: это единство смыслового содержания (эйдоса) и его внутреннего носителя – того, что делает его не просто мыслью о чём-то, а самостоятельной умной сущностью. Это не тело, а идеальная структура, чья сложность является условием её смысловой полноты и активности. Таким образом, необходимость в умопостигаемом субстрате возникает не из потребностей физического становления, а из метафизической потребности в принципе потенциальности внутри самого актуального, вечного бытия. Этот субстрат есть чистая возможность бытия, ограниченная и определённая формой, но в самом Уме эта возможность вечно актуализирована. Без этого принципа само умопостигаемое многообразие лишилось бы внутреннего единства и онтологической устойчивости, оказавшись набором абсолютно независимых и ни к чему не причастных сущностей.
3. О статусе неопределённого и природе умопостигаемого состава.
Преодоление апории требует пересмотра аксиоматического отождествления неопределённого с несовершенным. Не всякое неопределённое начало достойно презрения; его ценность определяется функциональным отношением к высшему. Душа, изначально неупорядоченная в своих низших потенциях, обретает форму и строй через причастность уму и логосу, и именно эта способность к восприятию лучшего определяет её природу. По аналогии, бесформенность умопостигаемой материи не есть недостаток, но её сущностное свойство как чистого восприемника эйдосов, предназначенного служить предшествующему и превосходному началу – самому Уму. Таким образом, неопределённость здесь – не лишённость, а чистая потенциальность, всегда актуализированная в вечном союзе с формой.
Ключ к пониманию – в различении типов сложности. Чувственное сложение (синтез материи и формы) порождает тело – нечто протяжённое и делимое. Умопостигаемое сложение иное: это единство смысла и его внутреннего основания. Даже логосы, принципы упорядочивания, сами по себе сложны, и любая умная деятельность предполагает сложность действующей природы, которая не упраздняется, а, напротив, совершенствуется, приводясь к оформленному состоянию. Если же материя соотносится с иным (формой) и происходит от иного (высшего начала), то её природа как связующего звена в составе только подтверждается. Различие между материей чувственного и умопостигаемого миров лежит в модусе их существования во времени. Материя становящегося мира по необходимости изменчива: она принимает последовательно сменяющие друг друга формы, и ни одна из них не удерживается навсегда; одно вытесняется другим, что исключает постоянное тождество. Материя же вечного умопостигаемого мира всегда тождественна, ибо формы, которые она приемлет, даны ей не в последовательности, а в целокупности и одновременности. Там всё есть раз и навсегда, нет перехода в иное, поскольку всё уже наличествует в актуальной полноте.
Следовательно, утверждение, будто умопостигаемая материя «бесформенна», нуждается в уточнении. Она не бесформенна в смысле лишённости, как готовая принять, но ещё не принявшая форму чувственная материя. Она бесформенна как чистое начало восприимчивости, которое, однако, в сфере Ума никогда не существует отдельно от формы. Её «бесформенность» – это вечно актуализированная способность быть основой для вечных же форм. Поэтому вопрос о её возникновении или вечности теряет свой механистический характер. Он прояснится не через поиск временной причины, а через постижение её сущности как необходимого метафизического условия самого умопостигаемого многообразия. Она не «возникла» во времени, ибо время – свойство низшего мира; она со-вечна Уму как его внутренний момент, как принцип инобытия внутри самого бытия, делающий возможным различение и отношение внутри вечного. Современный резонанс этой идеи виден в дискуссиях о природе математических объектов или фундаментальных физических полей, которые, будучи бестелесными и вечными в своём статусе законов, также предполагают некий «субстрат» для своей реализации – будь то пространство конфигураций или абстрактное множество, – который никогда не существует в «чистом» виде, а только как оформленный структурными отношениями.
4. О материи как принципе множественности и различия внутри умопостигаемого единства.
Исходным пунктом рассуждения должно служить признание самостоятельного бытия множества форм – эйдосов. Если они существуют как множество, то в их природе необходимо присутствует двойственность: с одной стороны, нечто общее, что позволяет им принадлежать единому умопостигаемому полю, с другой – собственное, частное начало, благодаря которому они различаются между собой. Это собственное, индивидуализирующее начало и есть конкретная форма как таковая. Однако само наличие различия предполагает различаемое, то есть некий субъект, относительно которого форма выступает как определение. Таким субъектом, восприемником и носителем различия, не может быть сама форма; требуется иной принцип – начало чистой восприимчивости, выступающее субстратом для оформления. Этим субстратом и является умопостигаемая материя.
Данный вывод подтверждается через принцип подобия миров. Если чувственный космос есть образ и подражание умопостигаемому, а чувственный мир сложен из материи и формы, то и его первообраз должен обладать аналогичной двуприродностью. Иначе умопостигаемый космос не мог бы именоваться космосом, то есть упорядоченным целым, ибо порядок предполагает оформленность, а оформленность – то, что оформляется. Простое тождество формы самой себе не порождает космического строя, но лишь изолированную монаду.
Главное затруднение заключается в том, чтобы помыслить совмещение единства и множественности в сверхчувственной реальности. Умопостигаемый космос един и неразделим в своей целокупности, но при этом внутри себя содержит множество. Это множество не пространственно разделено, но существует как смысловое различение в лоне единого. Именно материя и выступает здесь принципом этой внутренней, не разрушающей единство, делимости. Если бы в основе не лежало материальное начало как начало потенциальной множественности, то множество форм оказалось бы абсолютно разделённым, что невозможно для вечного Ума. Если же множество пребывает нераздельно в едином, то само это единое должно обладать внутренней ёмкостью, способностью быть вместилищем и основой для многообразия форм. Это единое, мыслимое до присвоения ему многообразия, до оформления его эйдосами, логосами и мыслями, и есть бесформенное и неопределённое начало. Оно не существует отдельно, но логически предшествует оформлению как его необходимое условие. Его «бесформенность» – это не нищета, а чистая восприимчивость, делающая возможным вечное свершение акта оформления. Таким образом, умопостигаемая материя есть метафизический принцип инобытия внутри самого бытия, позволяющий тождественному быть различным, а единому – содержательным. Эта концепция находит отзвук в современных философских системах, исследующих условия возможности множественности в единстве, будь то проблема дифференциации в абсолютном духе у Гегеля или вопрос о «хаосе» как неразличённом потенциале перед актом космогенеза в некоторых физико-философских моделях.
5. О материи как «глубине» сущего и различии онтологических уровней.
Возражение, что умопостигаемое всегда пребывает цельным и единым, а потому не нуждается в материи как отдельном начале, несостоятельно, ибо по той же логике следовало бы отрицать и материю в чувственных телах, которые также никогда не являются чистой бесформенностью, но всегда существуют как оформленные единства. Однако материя в них признаётся. Различие между актуальным оформлением и лежащим в его основе субстратом – это различие логического, а не временного порядка. Аналогично, анализ деятельности самого Ума обнаруживает внутреннюю двойственность. Ум, осуществляя познание, производит разделение и различение, стремясь дойти до простых, неразложимых начал. Однако сам этот процесс раскрывает, что в основе всякого сложного, даже умопостигаемого, лежит некая «глубина», некий предел анализа, который уже не может быть разложен на форму и иную форму. Эта предельная «глубина» каждого сущего и есть его материя – начало восприимчивости, отличное от оформляющего логоса.
Материя, таким образом, мыслится как «тёмное» начало – не в смысле зла или небытия, а в смысле не-светоносности, непроницаемости для акта прямого умственного видения. Свет – это логос, сам Ум есть логос и свет. Когда Ум созерцает логос вещи, он обнаруживает под ним это тёмное, материальное основание, подобно тому, как глаз, обладая световидной природой, устремляясь к цвету (который есть не что иное как свет, определённым образом оформленный), воспринимает лежащую под цветом поверхность как нечто тёмное и скрытое. Однако «тьма» умопостигаемой материи и материи чувственной радикально различна, ибо природа материи целиком определяется уровнем форм, которые она приемлет. Божественная, умопостигаемая материя, воспринимая определение, обретает тем самым ограниченную, но полную и умную жизнь, становясь частью вечно живой и мыслящей реальности. Материя же чувственного мира, получая форму, становится лишь ограниченным телом – мёртвым, лишённым собственной жизни и мысли, хотя и упорядоченным. Её форма есть лишь подобие истинной формы, и потому сам её субстрат также есть лишь подобие – подобие истинной умопостигаемой материи.
Следовательно, утверждение некоторых философов, что материя есть сущность, получает оправдание, если подразумевать под этим не чувственный субстрат, а умопостигаемый. В сфере Ума субстрат действительно сущностен, ибо он, будучи вечно озарён и пронизан логосом, неотделим от сущностного бытия. Он есть сущность, помысленная вместе с наложенным на неё оформляющим принципом; его бытие целиком актуализировано в этом союзе. Таким образом, доктрина о двух материях позволяет дать строгую онтологическую градацию: от истинной сущности (умопостигаемая материя-в-единстве-с-формой) через истинную форму (эйдос) к подобию формы (чувственная определённость) и, наконец, к подобию субстрата (чувственная материя). Это учение резонирует с современными поисками «глубинных структур» в лингвистике, психологии (бессознательное как «тёмный» субстрат сознания) или физике (квантовый вакуум как потенциальное основание частиц), где также предполагается неявный, неочевидный уровень реальности, обусловливающий явленные феномены и раскрывающийся лишь через анализ и проникновение в «глубину».
6. Обоснование материи как субстрата телесных превращений.
Необходимость признания особого субстрата для тел доказывается анализом процесса взаимного превращения элементов. Если бы уничтожение тела означало его полное исчезновение в небытие, то сущность обратилась бы в не-сущее, что невозможно, ибо небытие не может быть ни целью, ни результатом процесса. Подобным образом, возникновение не может происходить из абсолютного небытия. Следовательно, наблюдаемые превращения (например, воды в пар, земли в металл) суть не абсолютное возникновение и уничтожение, а изменение формы. Нечто постоянное должно сохраняться, принимая новую форму и отбрасывая старую. Это сохраняющееся начало, отличное от всех сменяющих друг друга определённостей, и есть материя.
Эта логика подтверждается анализом самого понятия уничтожения. Уничтожение всегда относится к сложному образованию, то есть к чему-то состоящему из частей. Если тело подвержено уничтожению, оно, по определению, должно быть сложным. Эмпирическая индукция от отдельных случаев превращения (например, чаши в слиток золота, золота в жидкий сплав) и последовательный анализ, доводящий мысль до предела, приводят к одному выводу: в основе любого превращения лежит некий устойчивый носитель изменений. Рассмотрение элементов (огонь, воздух, вода, земля) как первичных тел приводит к тройственной дилемме. Элементы не могут быть чистой формой, ибо форма сама по себе не обладает величиной, телесностью и протяжённостью; им необходим субстрат, который бы нёс эти количественные характеристики. Но они не могут быть и первичной материей, ибо материя, по определению, есть бескачественный и неопределённый субстрат, тогда как элементы обладают качественной определённостью (теплотой, холодом, влажностью, сухостью) и, что существенно, они способны «уничтожаться», то есть терять свою специфическую форму в процессе взаимопревращения.
Таким образом, единственный последовательный вывод гласит: элементы суть составные сущности. Они состоят из материи и формы. Форма в данном контексте есть качественная и видовая определённость, сообщающая элементу его отличительные свойства (быть огнём, водой и т.д.). Материя же есть неопределённый субстрат, лишённый собственных качеств, но выступающий как необходимое условие для обладания величиной, для делимости и, главное, для способности терять одну форму и приобретать другую. Она есть само начало потенциальности в чувственном мире, чистая восприимчивость, благодаря которой возможен космос как мир непрерывного становления. Это рассуждение, предвосхищающее закон сохранения массы/энергии в физике, подчёркивает, что ничто в природе не возникает из ничего и не исчезает в ничто, но лишь перераспределяется между формами, подразумевая константный субстрат всех физических превращений.
7. Критика доктрин материи у досократиков и атомистов.
Критический анализ предшествующих учений о материи выявляет их внутренние противоречия и неспособность последовательно объяснить единство и упорядоченность космоса. Эмпедокл, полагая четыре корня (элементы) вечными и неизменными, фактически отождествляет их с материей, что ведёт к логическому тупику: если элементы суть материя, а материя есть субстрат изменений, то сами элементы не должны были бы уничтожаться в своих взаимных превращениях. Однако эмпирический факт таких превращений, признаваемый самим Эмпедоклом, разрушает его конструкцию, ибо показывает, что элементы не являются первичным субстратом, а сами должны состоять из некоего более фундаментального начала.
Система Анаксагора, постулирующая изначальную «смесь» частиц всех вещей, избегает проблемы возникновения качеств из бескачественного, но ценой отказа от объяснения самого принципа оформления. Его смесь – это не потенциальная, а актуальная бесконечность; в ней уже всё есть. Ум, вводимый как движущее начало, лишается своей творящей и оформляющей функции, сводясь лишь к роли механического сепаратора, который не столько творит формы, сколько вычленяет уже готовые из бесконечного хаоса. Более того, если ум – начало высшее и творящее, он должен предшествовать материи логически и онтологически, а не сосуществовать с ней как равноправное начало. Если же смесь причастна бытию, то само бытие должно быть первичным по отношению к ней. Но главное возражение методологического характера: зачем ум должен был совершать бесконечную работу по разделению, если мог сразу сообщить форму бескачественной материи? Гипотеза же о том, что «всё во всём», порождает неразрешимые апории относительно тождества и различия вещей.
Аргумент против концепции беспредельного как субстанциального начала строится на анализе самого понятия беспредельности. Если беспредельное мыслится как самостоятельная сущность (само-беспредельное), то каждая его часть также должна быть беспредельной, что абсурдно. Если же оно есть акциденция, свойство иной природы (например, тела), то эта природа сама по себе не может быть беспредельной ни в каком смысле – ни материя (которая есть лишь возможность), ни простое начало беспредельностью обладать не могут.
Атомистическое учение Левкиппа и Демокрита, заменяющее единый субстрат на множество неделимых телесных единиц, также неприемлемо. Во-первых, атомы как таковые невозможны, ибо любое тело, обладающее величиной, по своей природе делимо, пусть даже мысленно. Во-вторых, атомизм не в состоянии объяснить феномены непрерывности, текучести, жизни, сознания и целесообразности, которые невозможно вывести из механического соударения мёртвых частиц. Наконец, атомы как чисто материальные, лишённые внутреннего логоса и взаимного тяготения начала, представляют собой несвязную, лишённую единства пыль, из которой ни один разумный творец не мог бы создать упорядоченный и живой космос. Таким образом, все эти доктрины терпят неудачу в попытке понять материю именно потому, что ищут её либо в актуально данных телах или частицах, либо в хаотической смеси, упуская из виду её истинную природу как чистого, бескачественного, но единого потенциального начала, способного стать всем благодаря воздействию высшего, умного оформляющего принципа.
8. О бескачественности, простоте и величине первичной материи.
Сущность первичной материи должна быть определена через последовательное отрицание всех чувственных и мыслимых определённостей. Поскольку она мыслится как единый субстрат всего чувственного космоса, а не как частная материя для отдельных ремёсел (как глина для горшка), ей не могут быть приписаны никакие акцидентальные или существенные свойства, наблюдаемые в оформленных вещах. Она лишена не только вторичных качеств (цвет, тепло, холод), но и первичных, таких как плотность, разрежённость, лёгкость или тяжесть. Более того, она лишена и формы как таковой. Из этого следует важный вывод: она лишена и величины в актуальном смысле. Здесь проводится тонкое различение: быть величиной и обладать величиной – не одно и то же. Величина как таковая (количество, протяжённость) есть уже некий вид формы, определённость. Обладать же величиной – значит быть субстратом, который эту определённость принимает. Материя относится ко второй категории: она не есть величина, но способна получить величину от оформляющего начала.
Следовательно, природа материи должна быть простой и единой. Любая сложность предполагала бы наличие в ней неких различий или частей, что уже было бы формой. Её абсолютная лишённость всего – не недостаток, но условие её универсальной восприимчивости. Именно потому, что она ничто актуально, она может стать всем потенциально. Возражение, что материя может уже обладать собственной, предзаданной величиной, которая ограничит творящее начало, отвергается. Если творящее начало (Ум, Логос) подлинно первично и суверенно, то материя как производное от него начало будет всецело податлива его воле, включая и способность принять ту или иную количественную определённость. Если бы материя изначально обладала величиной, она тем самым уже обладала бы и формой (ибо величина есть вид формы) и стала бы сложной и неподатливой, что противоречит её сущности как чистого субстрата.
Форма приходит к материи целостно, неся с собой весь комплекс определённостей, включая и величину. Конкретное количество (сколько) определяется тем же логосом, что и качество (какое). Это видно на примере природных родов: величина человека, птицы, именно такой птицы задана вместе с её видовой формой. Нет ничего более удивительного в том, что творящий логос привносит в материю количество, чем в том, что он привносит качество. И то, и другое суть аспекты логоса: качество есть смысловая определённость, количество же – её мера и число, также принадлежащие к сфере умопостигаемого. Таким образом, величина не предсуществует в материи как нечто независимое, но возникает вместе с оформлением как одно из его необходимых измерений. Материя же есть чистая возможность принять эту меру, будучи сама по себе безмерной и бесконечной лишь в смысле лишённости границ, а не в смысле актуальной беспредельности. Этот подход снимает противоречие между единством субстрата и бесконечным разнообразием его проявлений, указывая на то, что разнообразие коренится не в материи, а в богатстве творящих логосов.
9. О бесколичественной природе материи и происхождении величины.
Возможность помыслить сущее, лишённое величины, вытекает из фундаментального онтологического различия между сущим как таковым и количеством как одним из его модусов. Сущее и количество не тождественны; многое в реальности отлично от количественной определённости. Всякая бестелесная природа по своей сути бесколичественна, ибо количество есть атрибут телесной, протяжённой данности. Поскольку материя признана бестелесной, она также должна быть лишена актуального количества. Более того, само понятие количественности (то, что делает нечто обладающим величиной) отлично от конкретного количества, подобно тому, как белизна как принцип отлична от белого предмета. Количественность, таким образом, также есть форма, а именно – форма количества. Это логос, делающий нечто протяжённым и измеримым.
Аналогия с качеством проясняет этот механизм. Присутствие белизны делает предмет белым, но сама белизна не есть белый цвет как таковой, а есть его принцип. Подобно этому, логос, создающий пёстрые цвета в живом существе, не сам является пёстрым цветом, но представляет собой пёстрый логос – умопостигаемую схему цветового разнообразия. Точно так же начало, создающее определённую величину, не есть сама величина, но количественный логос, принцип меры и числа. Он привносит величину в материю, которая до этого акта лишена её актуально.
Ошибочно было бы представлять этот процесс как развёртывание некой предсуществующей в материи сжатой величины. Материя не содержит величину в потенции как нечто, что лишь нужно растянуть или расширить; она есть чистая восприимчивость, лишённая любых пространственных параметров. Величина возникает ex nihilo в том смысле, что до акта оформления её просто не было как актуальной определённости; она привносится оформляющим логосом так же, как и качество. Таким образом, материя получает величину не из собственных недр, но извне, от логоса, который несёт в себе одновременно и качественную, и количественную определённость как неразрывные аспекты единой умопостигаемой структуры. Это снимает кажущийся парадокс: как нечто протяжённое может возникнуть из непротяжённого. Ответ заключается в том, что материя как чистая потенция не есть «непротяжённое тело», но начало, трансцендентное категории протяжённости, способное, однако, стать её носителем под действием высшего принципа.
10. О гносеологическом статусе материи и познании через отрицание.
Познание материи ставит уникальную гносеологическую проблему: как возможно умственное представление о чём-то, что по определению лишено всех определённостей, включая количество и качество? Поскольку познание действует по принципу подобия (подобное познаётся подобным), а материя есть совершенная неопределённость, то и познавательный акт, направленный на неё, должен быть неопределённым. О материи можно дать определённый словесный логос, описывающий её через отрицания, но само направление мысли к ней лишено чёткости и ясности. Если обычное познание есть союз логоса и мысли, то здесь логос выполняет свою работу, высказывая отрицательные суждения, а мысль, стремящаяся стать познанием, оказывается не-познанием, своего рода «неразумием». Образ, возникающий в душе, – незаконнорожденный, ибо составлен из истинного логоса и неистинного, пустого содержания. Именно эту трудность, вероятно, имел в виду Платон, назвав материю «постижимой неистинным расчётом».
Неопределённость, которую испытывает душа при мысли о материи, – это не просто отсутствие знания, но особое состояние, некое утверждение неопределённого. Аналогия со зрением в темноте проясняет этот парадокс: как глаз в полной тьме видит не отсутствие цвета, а саму материю всего невидимого цвета – тёмный фон, так и душа, методически отбрасывая все формы, качества и величины чувственного мира (как бы погашая свет форм), остаётся лицом к лицу с неопределённым остатком. Она не видит ничего положительного, но уподобляется этому не-видению, становясь как бы тем, что созерцает. Она «видит» бесформенное, бесцветное, лишённое света и величины; если бы она приписала ему какую-либо из этих характеристик, она уже наложила бы форму. Это состояние отличается от простого не-мышления, ибо в случае материи душа испытывает впечатление от бесформенного, тогда как при полном отсутствии мысли она не испытывает ничего.
В обычном познании сложных вещей душа мыслит их как соединение качества (например, окрашенности) и субстрата. Однако её познание ясно относительно наложенной формы и смутно относительно самого субстрата, ибо субстрат не есть форма. Стремясь постичь субстрат в чистоте, душа пытается отделить и отбросить все формы, но то, что остаётся, ускользает от ясного умозрения. Она мыслит его смутно – как смутное, темно – как тёмное, и в этом акте она «мыслит, не мысля». Поскольку в реальности материя никогда не существует в абсолютно бесформенном состоянии, душа, от природы стремящаяся к определённости и сущему, не терпит долгого пребывания в этом неопределённом состоянии, сравниваемом со страхом оказаться вне бытия. Она тотчас вновь набрасывает на этот тёмный субстрат знакомые формы вещей, возвращаясь в область ясного и оформленного. Таким образом, познание материи всегда остаётся апорией, граничным опытом души, который раскрывает не столько положительную сущность материи, сколько пределы самой способности мыслить, указывая на абсолютно иное по отношению к миру форм.
11. О «призраке объёма» и способности материи к протяжённости.
Ключевой вопрос заключается в следующем: если для составления тел достаточно величины и качеств, зачем нужен дополнительный принцип – материя? И если она нужна как всеприемлющее начало, то не предполагает ли её функция уже наличие объёма? Однако если материя бесколичественна, то непонятно, как и где она может принять протяжённость. Кажется, что сама протяжённость и величина приходят в тела от материи, но это – иллюзия. Существуют же в бытии действия, творения, времена и движения, которые не имеют в себе материи, но существуют как акциденции сущего. Почему же первичные тела не могут быть целостными сущностями, сложенными непосредственно из множества форм, без особого субстрата? Но такое рассуждение делает понятие материи пустым.
Ответ состоит в том, что восприемнику формы вовсе не необходимо быть актуальным объёмом до принятия формы. Душа, принимая умопостигаемые формы, не обладает для этого особой величиной; она имеет их все сразу в своём бестелесном единстве. Если бы она имела величину, каждое содержание располагалось бы в ней пространственно. Материя же принимает формы в протяжённости, ибо её особая способность – становиться субстратом именно для протяжённого. Это подобно тому, как животное или растение, увеличиваясь или уменьшаясь, получает или теряет соответствующее качественное состояние, но само качество при этом не «растягивается» механически – оно следует за изменяющимся субстратом. Если возразить, что в таких конкретных субстратах уже есть величина, то это будет верно лишь для оформленной материи, для материи «этого вот» тела. Но первичная материя как таковая должна получать и саму величину от другого – от оформляющего логоса.
Следовательно, восприемник не есть объём изначально, но, становясь им в момент оформления, принимает и все сопутствующие качества. Однако в нём есть некая «первая готовность» к протяжённости, которую можно назвать призраком объёма. Это не актуальная протяжённость, а чистая способность к её принятию, пустая от всякого конкретного размера. Именно поэтому некоторые философы отождествляли материю с пустотой. Этот «призрак объёма» познаётся душой особым образом: когда душа, отбросив все формы, обращается к материи, её мысль изливается в неопределённость, не будучи в состоянии ни ограничить её, ни свести к точке (ибо это уже было бы определением). Поэтому о материи нельзя сказать, что она велика или мала сама по себе; скорее, она есть одновременно и то, и другое – она есть «объём и бесколичественна». Она есть материя объёма, способная «пробегать» все степени величины, сжимаясь от большого к малому и наоборот. Её неопределённость и есть эта ёмкость, эта способность принять любую величину.
В воображении же этот процесс предстаёт иначе. Другие бесколичественные сущности, такие как чистые формы, сами по себе определённы и устойчивы. У них нет «понятия объёма». Материя же, будучи неопределённой, не имея собственной остановки, устремляется ко всякой форме, «туда и сюда», и, будучи предельно податливой, становится многим от этого приведения ко всему. Именно в этом акте становления, в этом движении к оформлению, она и обретает природу объёма. Таким образом, материя не предзадаёт величину, но сама конституируется как протяжённое в самом процессе оформления, оставаясь в своём собственном бытии чистой, лишённой границ потенциальностью.
12. О необходимости материи как субстрата телесности.
Материя вносит решающий вклад в конституирование тел, поскольку формы, составляющие тела, могут существовать только в величинах, в чём-то протяжённом. Без величины они не могли бы осуществиться, но требовали бы носителя, обладающего величиной. Если бы эти формы относились непосредственно к самой величине, а не к материи, то они были бы либо бесколичественными и несубстанциальными, либо оставались бы лишь логосами в душе, и тогда телесного мира не существовало бы вовсе. Сущность тела требует, чтобы многое (множество качеств и видовых определений) собиралось вокруг некоего единого центра, и это единое должно быть чем-то, обладающим величиной, но при этом отличным от абстрактной величины как таковой. Этим единым и является материя как субстрат.
Возражение, что смешивающиеся тела приносят свою материю каждое и потому не нуждаются в едином восприемнике, поверхностно. Для их смешения всё равно требуется нечто единое, подобное сосуду или месту, которое их объединяет. Однако место и пространство логически и онтологически позднее материи и тел; сами тела прежде нуждаются в материи как в своём внутреннем принципе единства и протяжённости. То, что действия и творения бестелесны, не отменяет сложности тел. Действия просты и не имеют внутреннего субстрата, тогда как тела по природе составны. Материя предоставляет действующим телам субстрат, оставаясь в них основой, но не превращаясь в само действие; действующие силы ищут не материю как таковую, а оформление в действии. Действия не переходят друг в друга, поэтому им не нужен общий субстрат; но действующий субъект, переходя от одного действия к другому, сам выступает как материя для своих действий. Таким образом, материя необходима не только для качества (как его носитель), но и для количества (как основание протяжённости), а следовательно, и для тел как синтеза того и другого.
Поэтому имя «материя» не пусто; оно обозначает реальный, хотя и невидимый и бесколичественный, субстрат. Иначе по той же логике пришлось бы объявить пустыми именами сами качества и количество, ибо каждое из них, взятое в отдельности и абстракции, есть ничто актуальное вне конкретного сущего. Но если качества и количества признаются реальными, хотя и смутно постигаемыми в своей изолированности, то тем более должна быть признана реальность материи, даже если её постижение неясно. Эта неясность проистекает из её трансцендентности чувственному восприятию: она невидима, ибо бесцветна; не слышима, ибо не звук; не воспринимаема вкусом, обонянием или осязанием, ибо лишена плотности, температуры, влажности и всех прочих тактильных определений. Будучи не-телом, она недоступна и осязанию, которое схватывает лишь телесные свойства. Её постигает лишь особый «расчёт» (логисмос), но не ясный умственный взор (нус), а смутное, «пустое» умозаключение, почему оно и названо «незаконнорожденным». Сама телесность не принадлежит материи: если телесность есть определённый логос, то он отличен от неё; если же материя уже каким-то образом оформлена и «смешана», то она уже является телом, а не чистой материей. Таким образом, материя есть необходимое условие возможности телесного мира, его сокровенная основа, ускользающая от прямого познания, но логически неизбежная для объяснения самого факта существования сложных, протяжённых и изменчивых сущностей.
13. О невозможности сведения материи к качеству и её природе как чистого «иного».
Гипотеза, согласно которой субстратом элементов является некое общее для них всех качество, приводит к ряду неразрешимых затруднений. Во-первых, необходимо указать, какое именно это качество. Во-вторых, само понятие качества исключает его функцию субстрата: качество всегда есть определение чего-то иного, акциденция или форма, но не основа, на которой они держатся. Как можно помыслить качество в бесколичественном, лишённом материи и величины? Если это качество определено, то оно само требует носителя и не может быть материей. Если же оно неопределённо, то это уже не качество, а именно искомый неопределённый субстрат – материя.
Более тонкий аргумент пытается спасти положение, утверждая, что бескачественность материи сама есть её собственное, отличное от прочих, качество – качество лишённости. Подобно тому, как слепота есть качество (состояние) живого существа, так и лишённость всех форм может рассматриваться как особое качество материи. Однако эта аналогия ошибочна. Лишённость (стерэсис) не есть качество в собственном смысле; она есть отсутствие качества, отрицание, а не положительное состояние. Слепота есть качество не как простая лишённость зрения, а как определённое состояние органа или способности, которое может быть описано положительно (например, повреждение). Материя же есть абсолютная лишённость, чистое отсутствие каких-либо определений. Если трактовать эту лишённость как качество, то всё сущее сведётся к качествам: и количество, и сущность окажутся качествами, что ведёт к абсурду. Приписывать же тому, что по определению не-качественно, не-качественное качество – логически несостоятельно.
Суть материи заключается именно в её абсолютной инаковости по отношению ко всему определённому. Если сказать, что она есть «иное», то это «иное» не должно пониматься как некая форма инаковости, которая сама была бы определённостью. Качество, будучи «иным» по отношению к количеству, само не является «качественным» вторично. Так и материя, будучи «иным» по отношению ко всем формам, не обладает прибавленной к ней определённостью «инаковости». Её своеобразие – не что иное, как её бытие в чистом виде, и это бытие познаётся не через положительную характеристику, а только через отношение к иному. Она есть само начало инаковости, чистая потенция быть не-чем-то-определённым. Поэтому её правильнее называть не единичным «иным» (что предполагало бы противопоставление чему-то конкретному), а неопределённым «иным» во множественном числе – как принцип отличия от всего, что есть форма, определение, акт. Её природа – быть абсолютно податливым не-сущим, которое, однако, не есть ничто, но возможность всего. Таким образом, материя не может быть сведена к качеству или какому-либо иному роду сущего; она занимает уникальное место в онтологии как необходимое условие множественности и изменчивости, само бытие которого удостоверяется лишь через отрицательный расчёт и отношение ко всему, чем она не является.
14. О соотношении материи и лишённости.
Необходимо тщательно исследовать отношение между материей и лишённостью (стерэсисом): тождественны ли они по сути, или же лишённость есть нечто присущее материи? Те, кто утверждает, что материя и лишённость суть «одно в субстрате, но два в логосе», обязаны дать отчёт о том, какой именно логос соответствует каждому из этих понятий. Должен существовать логос материи, определяющий её саму по себе, без обязательного привнесения идеи лишённости, и логос лишённости как таковой, взятый отдельно. Возможны следующие логические варианты их связи: 1) ни одно понятие не входит в логос другого; 2) оба входят в логос друг друга; 3) одно входит в логос другого. Если они могут быть определены отдельно и не требуют друг друга в самом своём понятии, то они – два различных начала, и материя отлична от лишённости, хотя лишённость ей и присуща акцидентально. При этом в логосе одного не должно даже потенциально подразумеваться другое.
Аналогии проясняют трудность. Если взять отношение как «курносый нос» и «курносость», то и здесь очевидна двойственность: нос (субстрат) и его определённая форма (курносость). Если же взять отношение как «огонь» и «теплота», то здесь теплота содержится в понятии огня как его неотъемлемое свойство, но в понятии теплоты огонь не подразумевается. Если применить эту аналогию, то материя была бы носителем лишённости, как огонь – носитель теплоты. Но тогда лишённость выступала бы как бы формой материи, а материя – как отличный от неё субстрат, и они не были бы едины. Следовательно, они признаются едиными в субстрате, но различными в логосе, причём лишённость означает не присутствие чего-либо, а отсутствие, подобное отрицанию сущего. Это подобно тому, как говорящий «не-сущее» не прибавляет новой определённости, а лишь отрицает бытие. Так и лишённость есть своего рода «не-сущее». Однако если под «не-сущим» понимать не абсолютное ничто, а нечто иное, чем сущее (то есть материю), то возникают два различных логоса: один описывает сам этот субстрат (материю как таковую), другой фиксирует его отношение лишённости, его отрицательное отношение к сущему-форме.
Возможно, оба логоса материи – и как субстрата, и как иного – отсылают к её отношению, а логос лишённости, указывая на её неопределённость, касается её собственной природы. Но в любом случае в реальности они нераздельны: лишённость не существует сама по себе, а только как атрибут материи, и материя не может быть познана иначе как через её лишённость. Таким образом, они едины в субстрате, но мыслятся раздельно. Однако если неопределённость, беспредельность и бескачественность суть синонимы, выражающие одну и ту же природу материи, то как логосы могут быть двумя? Видимо, различие здесь лежит не в объекте, а в точке зрения рассмотрения: один логос фиксирует её как чистое субъективное начало (что она есть), другой – как отрицательное отношение ко всему определённому (чем она не является). Но это различие мысли, а не бытия. В самой реальности материя есть именно это абсолютно неопределённое начало, чья сущность исчерпывается быть не-всем-тем, что есть форма, и в этом смысле она и есть сама лишённость, воплощённая в субстрате. Разделение же на два логоса есть необходимое следствие ограниченности человеческого мышления, которое не может схватить простую негативность иначе как через сопоставление с позитивным и отрицание его.
15. О беспредельности как сущности материи.
Требуется вновь исследовать статус беспредельного и неопределённого в материи: является ли оно привходящим свойством (акциденцией) для некой иной природы, и если да, то как оно привходит, равно как и является ли сама лишённость акцидентальной. Если числа и логосы, будучи пределами и принципами порядка, по своей природе трансцендентны беспредельности, и если упорядоченное получает порядок от них, то объект упорядочивания не может быть ни самим порядком, ни уже упорядоченным – он должен быть чем-то иным, чем упорядочивающее начало. Следовательно, необходимо, чтобы то, что подлежит упорядочению и определению, было по своей природе беспредельным. Этим объектом и является материя, а также всё, что причастно ей или содержит в себе её логос. Отсюда следует, что материя и есть беспредельное. Однако это не означает, что беспредельность привходит в неё как случайное свойство, и не означает, что беспредельное ей лишь присуще.
Во-первых, привходящее свойство должно быть неким логосом, определённостью; но беспредельное как таковое не есть логос. Во-вторых, привходящее свойство требует для своего бытия некоего сущего субъекта. Но каков был бы этот субъект для беспредельности? Им могло бы быть лишь нечто предельное и ограниченное. Однако материя не является ни ограниченной, ни пределом. Более того, если бы беспредельное как акциденция привходило в материю, оно уничтожило бы её предполагаемую природу (которая, как считается, лишена определений), навязывая ей чуждую определённость «быть носителем беспредельности». Следовательно, беспредельность не привходит в материю; материя сама по своей сущности есть беспредельное.
Это верно и для умопостигаемой материи, которая, вероятно, происходит из беспредельности Единого или его силы, или вечности, хотя в самом Едином нет беспредельности – оно её порождает. Возникает вопрос: как беспредельное присутствует «там» (в умопостигаемом) и «здесь» (в чувственном)? Беспредельное двояко, и различие между его видами соответствует отношению первообраза и образа. Является ли чувственное беспредельное меньшим? Напротив, оно больше в своём бегстве от бытия и истины. Ибо степень беспредельности возрастает пропорционально удалению от определённости и блага: чем менее нечто причастно бытию, тем оно более беспредельно. В умопостигаемом беспредельное существует как образ, но ещё укоренённый в бытии; в чувственном же оно существует в большей степени, ибо более уклоняется от бытия и истины, низвергаясь в природу простого образа, и по этой причине оно поистине беспредельно.
Означает ли это, что «быть беспредельным» и «беспредельное» суть одно и то же? Там, где логос и материя различаются (как в умопостигаемом), их можно мыслить раздельно. Но там, где есть только чистая материя (в её абсолютизированном понятии), следует сказать, что они тождественны, или, вернее, что здесь нет отдельного логоса «быть беспредельным», ибо такой логос вновь вводил бы форму в бесформенное. Беспредельное в материи следует понимать как её собственное, сущностное свойство, прямо противостоящее логосу. Подобно тому, как логос, не будучи ничем иным, есть именно логос, так и материю, противостоящую логосу в своей беспредельности и не будучи ничем иным, следует называть беспредельной по самой своей сути. Таким образом, беспредельность не атрибут, а субстанциальное определение материи, выражающее её природу как чистой неопределённости и безграничной потенциальности.
16. О материи как инаковости, лишённости и зле.
Тождественна ли материя инаковости как таковой? Нет, она не есть вся инаковость, но лишь её часть – та часть, которая противостоит истинно сущему, каковым являются логосы и эйдосы. Поэтому она есть «не-сущее» в этом строгом смысле и тождественна лишённости, если под лишённостью понимать не просто отсутствие, а противоположность сущему в порядке логоса. Возникает вопрос: уничтожается ли лишённость с приходом того, чего она была лишена? Нет, ибо способность принять некое свойство – это не само свойство, а именно лишённость, потенциальность. Лишённость как таковая не есть предел или ограниченное, но беспредельное. Следовательно, приход предела (формы) не уничтожает природу беспредельного, если беспредельность не есть акциденция, а сущность материи. Если бы материя была беспредельна количественно (то есть актуально бесконечной по величине), то предел уничтожил бы её; но её беспредельность качественна – это беспредельность как чистая потенция. Предел не уничтожает её, а, напротив, приводит к действительности и завершённости, сохраняя её в бытии. Подобно тому, как незасеянная земля, будучи засеяна, не гибнет, но осуществляет свою природу пашни, или как женское начало в соединении с мужским не гибнет, но становится в полной мере тем, чем оно является – восприемником и питательной средой.
Однако эта чистая потенциальность, эта абсолютная нужда в оформлении, ставит вопрос о морально-онтологическом статусе материи. Становится ли материя злом, причащаясь блага (формы)? Да, в определённом смысле, именно потому, что она нуждалась, ибо ничего не имела. То, что нуждается в чём-то, но уже что-то имеет, может быть средним между благом и злом. Но то, что абсолютно ничего не имеет, будучи не просто в бедности, а самой бедностью, по необходимости есть зло. Это не бедность в богатстве или силе, а бедность в разуме, добродетели, красоте, силе, виде, форме, качестве. Как же ей не быть безобразной? Как не быть всецело безобразной? Как не быть всецело злом? В этом строгом онтологическом смысле материя чувственного мира есть принцип зла, ибо она – чистое лишение блага, не-сущее, противостоящее сущему.
Умопостигаемая материя занимает иное положение. Она также есть «иное», но иное по отношению к тому, что выше сущего – к Единому. Поэтому она сама оказывается сущим, частью умопостигаемого космоса. Чувственная же материя есть иное по отношению к сущему (умопостигаемому миру), а потому она сама – не-сущее, «иное сущего», пребывающее рядом с прекрасным сущего как его тёмная и бесформенная противоположность. Таким образом, зло материи не есть активное начало разрушения, но пассивное начало сопротивления форме, инертность, уклонение от блага, коренящееся в самой её природе как чистой, неоформленной потенциальности. Это концепция зла как лишённости, которая находит своё предельное выражение в абсолютной бедности материи.
Пятый трактат.
Περὶ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείαι.
Пределы бытия: материя как инаковость и необходимость в метафизике Плотина.
Рассуждение, представленное в пятом трактате шестой «Эннеады» Плотина, посвященном потенциальному и актуальному бытию, достигает своей кульминации и предельной парадоксальности в анализе материи (ὕλη). Этот анализ не является побочным, но служит необходимым завершением всей онтологической конструкции, выстраивая иерархию бытия от абсолютной актуальности Ума до абсолютной потенциальности материи. Вся логика трактата ведет к неизбежному выводу: подлинная реальность тождественна чистой энергии (ἐνέργεια), вечному акту, лишенному малейшей примеси возможности. Умопостигаемый космос – это сфера совершенной жизни, где всё пребывает в тотальной и самодостаточной осуществленности. Однако этот светлый полюс бытия требует своей противоположности – темного, негативного полюса, который делает возможным само становление и множественность чувственного мира. Этим полюсом и выступает материя, чей метафизический статус Плотин определяет с безжалостной последовательностью.
Материя – это всё в потенции. Но эта формулировка имеет и обратную сторону: быть всем в возможности значит не быть ничем в действительности. Все, что существует в возможности, всегда обладает некоторой актуальной основой. Медь актуально есть медь, даже будучи статуей в возможности. Материя же лишена какой-либо собственной формы (ἀνείδεον) и, следовательно, какой-либо актуальной природы. Её «бытие» – это чистая отнесенность к иному, вечное обещание (ἐπαγγελλόμενον) стать чем-то, которое никогда не исполняется для неё самой. Её сущность – в откладывании, в анабасисе к тому, чем она никогда не станет. Таким образом, она не просто не-сущее (μὴ ὄν), а «не-сущее в большей степени» (πλειόνως μὴ ὄν), ибо избегает не только природы истинно сущего, но и статуса даже ложных подобий, которые всё же суть образы логоса.
Здесь Плотин совершает решающий ход: он присваивает материи особый вид актуальности. Её актуальность – это актуальность лжи (ἐνεργείαι ψεῦδος), «истинной лжи», которая и есть подлинное не-бытие (ὄντως μὴ ὄν). Она не движется, не изменяется, но вечно пребывает выброшенной (ἐκριφεῖσα) и отделенной, будучи захваченной и оформленной то одним, то другим, оставаясь при этом совершенно непричастной их природе. Она – вечный пассивный свидетель, зеркало без амальгамы, отражающее всё, но не имеющее собственного изображения. Это позволяет разрешить парадокс: чтобы материя вечно выполняла свою функцию – быть субстратом становления, – она должна быть неразрушимой. Но её неразрушимость обеспечивается не прочностью, а абсолютной бедностью. Её сохраняют как материю именно тогда, когда отрицают за ней всякую актуальную сущность. Ввести в неё актуальность (ἐνέργειαν εἰσαγαγών) – значит уничтожить её как материю, ибо её причина и сущность – в чистой потенциальности. Следовательно, её «бытие» – это «бытие в возможности» как онтологический модус, отличный от небытия, но радикально противоположный актуальному бытию.
Современное звучание этой концепции многогранно. Во-первых, это прообраз любой философии, пытающейся помыслить условие возможности явлений как радикально отличное от самих явлений – будь то кантовская вещь в себе, понимаемая как негативный предел познания, или «реальное» Лакана как несимволизируемый остаток. Материя у Плотина – это необходимое инаковое, которое делает возможной дифференциацию и становление, само оставаясь недифференцированным и неизменным. Во-вторых, в её описании как «истинной лжи» угадывается критика любого наивного реализма: чувственный мир, покоящийся на материи, несет в самом своем основании принцип неистинности, миражности, будучи лишь отражением подлинных образцов. Наконец, в её вечной пассивности и непричастности видится этический мотив: душа, погружаясь в материю и отождествляясь с ней, обретает ложное бытие и подпадает под власть иллюзии; её освобождение – это обратное движение к чистой актуальности Ума, где нет ничего потенциального, а значит, ничего не завершенного или страдающего.
Таким образом, трактат Плотина выстраивает целостную онтологическую драму с двумя главными действующими лицами: Умом как актуальностью par excellence и материей как потенциальностью par excellence. Между ними разворачивается вся панорама космоса – от вечных идей до преходящих тел. И если Ум есть свет и жизнь, то материя – это не тьма как некая сущность, а само отсутствие света; не смерть, а отсутствие жизни. Её необходимость – это необходимость предела, без которого невозможна никакая форма, но который сам по себе есть лишь голое, актуальное ничто. В этом бескомпромиссном дуализме, смягчаемом лишь иерархией эманации, заключена вся сила и вся трагедия неоплатонического мировоззрения, где красота и порядок мира рождаются из вечного соседства с безобразной и неустранимой инаковостью.
1. О потенциальном и актуальном бытии.
В пятом трактате шестой «Эннеады» Плотин обращается к фундаментальной для всей античной и последующей философии дихотомии: различию между бытием в возможности (δυνάμει) и бытием в действительности (ἐνεργείαι). Однако он не просто воспроизводит аристотелевскую терминологию, а подвергает ее тонкому анализу, стремясь прояснить внутреннюю логику этих понятий и их применимость к различным уровням реальности, особенно к сфере умопостигаемого.
Первичный вопрос, который ставит Плотин, – это соотношение самого состояния «бытия в действительности» (ἐνεργείαι ὄν) и «действительности» или «энергии» (ἐνέργεια). Являются ли они тождественными? Его рассуждение подводит к выводу, что это не одно и то же. Сущее, пребывающее в актуальности, – это некое завершенное состояние, в то время как «энергия» скорее означает сам акт, процесс осуществления или внутреннюю деятельность, благодаря которой это состояние поддерживается. Это различение становится критически важным для понимания высших начал: Единое и Ум (Нус) существуют в абсолютной актуальности, но способ их бытия – это вечная, неизменная энергия, самотождественная деятельность мышления.
Далее Плотин тщательно исследует понятие «потенциального». Он отвергает возможность говорить о чистой, ни к чему не отнесенной потенции. Потенциальное бытие всегда есть бытие чего-то в возможности стать иным. Классический пример – медная глыба, которая есть статуя в возможности. Ключевой критерий, выделяемый философом, – это способность принять иную форму или стать иным, оставаясь при этом некоторым субстратом. Эта способность может реализоваться двояко: либо субстрат сохраняется, приобретая новое качество (медь становится статуей), либо он уничтожается, давая начало чему-то другому (вода, испаряясь, становится воздухом). Таким образом, потенциальное – это всегда нечто лежащее в основе (ὑποκείμενον), предназначенное природой к восприятию определенных страданий, образов, видов. Плотин замечает, что это стремление к изменению может быть направлено как к лучшему, так и к худшему, к собственной порче, что подчеркивает динамичный и неоднозначный характер материального мира.
Отсюда вытекает важнейший тезис о сфере умопостигаемого. Если в чувственном мире мы наблюдаем взаимопревращение потенциального и актуального, то в мире Ума, по Плотину, царит чистая актуальность. Ум есть вечная ἐνέργεια, полная и совершенная действительность, в которой нет места неосуществленной возможности. Если бы в умопостигаемом мире существовало нечто только в возможности, оно так навсегда и осталось бы потенциальным, никогда не переходя в акт, ибо в вечности нет временной последовательности «сперва – потом». Следовательно, Ум и все его идеи (эйдосы) существуют в состоянии непрерывного и самодостаточного энергийного свершения. Этот момент имеет глубокое современное звучание: он противопоставляет два модуса существования – временный, становящийся, всегда незавершенный (материальный космос) и вневременной, цельный и самореализованный (мир истинного бытия и мысли). В контексте современной философии сознания или космологии это может быть прочитано как различение между процессуальным, эволюционирующим бытием и бытием как тотальной и моментальной презентацией всех возможных содержаний.
Наконец, Плотин уточняет терминологию, связывая «потенциальное» (δυνάμει) прежде всего с состоянием по отношению к актуальности (ἐνεργείαι), а «силу» или «способность» (δύναμις) – с отношением к деятельности (ἐνέργεια). Это позволяет провести более четкую границу между пассивной возможностью-потенциалом субстрата и активной силой как началом действия или изменения. Итоговая картина, выстраиваемая Плотином, представляет собой иерархию: на низшем уровне – материя как чистая потенция (почти не-бытие), выше – чувственные вещи, смешанные из потенции и актуальности, и на вершине – чистый, лишенный всякой потенциальности Актуальный Ум, чья сущность и есть его вечная энергия-мышление. Эта онтологическая схема не только систематизирует аристотелевское наследие, но и радикализирует его, утверждая примат абсолютной актуальности над становлением как основу подлинной реальности.
2. О материи как чистой потенции.
Развивая анализ потенциального и актуального, Плотин обращается к наиболее проблемному случаю – материи (ὕλη). Вопрос формулируется радикально: является ли материя чем-то иным в актуальности, что лишь потенциально относится к формам, которые ее оформляют, или же она есть ничто в актуальности? Его рассуждение ведет к утверждению последнего: материя есть чистая потенция, лишенная какой-либо собственной актуальной определённости. Это не субстрат, обладающий актуальными свойствами, которые меняются, а абсолютная возможность принять любую форму, само лишённое формы начало.
Чтобы прояснить эту мысль, Плотин возвращается к примеру со статуей, но делает более тонкое различение. Когда говорят «медь есть статуя в возможности», а затем «статуя есть в действительности», возникает кажущееся противоречие. Медь как таковая не становится статуей в действительности. Скорее, из медного субстрата, который был в возможности, возникает нечто новое в действительности – составное целое (συναμφότερον), то есть оформленная статуя. Актуальность здесь принадлежит не меди, а форме, привнесенной в нее. В случаях коренного превращения (например, вода в пар) это еще очевиднее: прежний субстрат исчезает, и потенциальное оказывается совершенно иным, чем актуальное.
Однако Плотин намеренно сталкивает этот пример с другим типом перехода – приобретением нематериального качества, такого как знание. Человек, будучи грамотным в возможности, становится грамотным в действительности, и при этом сам субъект (например, Сократ) остается тождественным себе. Как это согласуется с тезисом, что потенциальное и актуальное – разное? Философ разрешает это, вводя различение по привходящему свойству (κατὰ συμβεβηκός). Незнающий человек не есть знающий в возможности поскольку он незнающий. Его невежество – привходящее состояние. Потенциальным знающим он является в силу своей души, которая по своей природе восприимчива к знанию. Таким образом, основанием потенции здесь служит не материальный субстрат, меняющий сущность, а внутренняя способность (ἐπιτηδειότης) сущности, которая может актуализироваться, не уничтожая субъекта.
Это приводит к важному уточнению онтологического статуса формы. Если потенциальное – это подлежащее (ὑποκείμενον), а актуальное – составное целое, то как назвать саму форму, пребывающую на меди? Плотин предлагает понимать ее как определенный вид энергии (ἐνέργεια), а именно как ту деятельность или актуальность, благодаря которой нечто существует в действительности, а не только в возможности. Это не энергия в абсолютном смысле (как вечная деятельность Ума), а «энергия вот этого» – конкретный акт оформления данного субстрата. Противопоставляется она не просто потенции, а особого рода силе (δύναμις), которая способна порождать эту энергию из себя. Иллюстрация – добродетель мужества (ἀνδρία) как укорененная сила (ἕξις) и конкретный мужественный поступок (ἀνδρίζεσθαι) как ее энергия. Форма, следовательно, есть актуализирующая энергия для материи, в то время как сила (способность) – это внутреннее начало такой актуализации в сущем, уже обладающем определенной природой.
Таким образом, анализ Плотина выстраивает иерархию отношений потенции и акта. На низшем уровне – материя как чистая, бескачественная потенция, принимающая энергию-форму извне. На уровне сложных тел актуально составное целое, а потенциально – их материальный субстрат. На уровне души и качеств потенция становится внутренней силой (δύναμις), которая может самостоятельно развертываться в соответствующую энергию-деятельность, не разрушая сущность носителя. Это различение имеет глубокое современное звучание, указывая на фундаментальную разницу между пассивной восприимчивостью внешнего материала и активной, имманентной потенциальностью развитых систем (как в человеке или живом организме), где возможность уже содержит в себе программу собственной актуализации. Материя же остается вечным, неистребимым принципом инертности и возможности инаковости в самом сердце мироздания.
3. Чистая актуальность умопостигаемого мира.
Конечной целью проведенного различения потенциального и актуального является разрешение ключевого для неоплатонизма вопроса: каков модус бытия в сфере умопостигаемого (τὰ νοητά)? Предыдущий анализ подводит к строгому выводу: в умопостигаемом мире не может быть места бытию в возможности (τὸ δυνάμει). Этот мир вечен (αἰών), а не временен (χρόνος), в нём нет материи как субстрата для изменений, ничто не «должно стать» тем, чем оно еще не является, ничто не переходит в иное состояние и не порождает другое, выходя из себя. Следовательно, там нет и потенциальности как таковой. Даже если бы кто-то, вслед за некоторыми толкователями Платона, допускал наличие некой «умопостигаемой материи», она не могла бы быть потенциальной в привычном смысле. Ведь в умопостигаемом всё есть форма и эйдос. То, что в другом контексте можно было бы считать «материей» (например, душа по отношению к Уму), на самом деле само есть эйдос, вечный и неотделимый от своей сущности. Его «двоичность» (например, мышление и мыслимое) есть единство одной природы, подобно тому как Аристотель называл эфирное тело бестелесным. Это не потенциальность, а нераздельная полнота.
Возникающее возражение рассматривается на примере души: разве душа не есть животное в возможности, когда его еще нет, но оно должно появиться? И разве музыкальные способности не существуют в человеке потенциально до обучения? Не означает ли это, что потенциальность проникает и в умопостигаемое? Ответ Плотина категоричен: нет. В таких случаях речь идет не о потенциальном бытии (δυνάμει), а о силе или способности (δύναμις). Душа – это активная сила для жизни и мышления, а не пассивный субстрат, ожидающий оформления. Её переход к деятельности – это не становление из небытия в бытие, а развертывание имманентно присущей ей энергии.
Итак, как же тогда существует актуальное в умопостигаемом? Не по аналогии с составной статуей, чья актуальность обусловлена наличием формы. Каждый эйдос в Уме есть актуальность постольку, поскольку он есть совершенная, завершенная и самотождественная форма. Ум (Νοῦς) не переходит от возможности мыслить к акту мышления, ибо для такого перехода потребовалась бы еще более первичная причина, уже пребывающая в акте. Напротив, Ум изначально и вечно содержит в себе всё своё содержание в состоянии полной осуществленности. Бытие в возможности всегда требует действия внешнего начала для своего перехода в акт. То же, что от самого себя и всегда пребывает в одном и том же совершенном состоянии, и есть истинная энергия (ἐνέργεια). Следовательно, все первичные сущности – чистая энергия. Они обладают всем, чем должны обладать, обладают этим от самих себя и вечно.
Таким образом, весь умопостигаемый космос есть мир тотальной актуальности и энергии. Он не просто «в действительности», он есть сама Действительность. Все его элементы – это одновременно и актуальные сущности (ἐνεργείαι), и энергии (ἐνέργειαι). Это жизнь в её наивысшем и наилучшем проявлении, непрерывное бодрствование и излияние бытия. Умопостигаемый мир – это место и сфера самой жизни (τόπος ζωῆς), изначальный источник и родник (πηγή), из которого проистекают истинная душа и сам разум. В этом утверждении звучит центральный метафизический пафос Плотина: подлинная реальность есть вечно длящийся, самодостаточный акт, лишенный всякой нехватки, становления и потенциальности, которые характеризуют наш изменчивый мир. Его современное звучание можно услышать в поисках абсолютных оснований, в идее сознания как чистой присутственности или в попытках помыслить реальность вне категорий времени и возможности, как вечное настоящее, где всё уже есть.
4. Апории материи: не-бытие как чистая потенция.
Проведя разграничение между потенциальным и актуальным, а также утвердив чистую актуальность умопостигаемого мира, Плотин обращается к наиболее парадоксальному пределу своего анализа – к материи (ὕλη). Все, что существует в возможности, имеет и некоторое актуальное бытие, на основе которого оно может быть отнесено к чему-то иному как к потенциальному. Но материя определяется как то, что есть «все вещи в возможности». Как же тогда можно сказать, что она есть что-то актуальное из сущих? Если она сама по себе не есть ни одна из актуальных вещей, которые возникают на её основе, то выходит, что она не есть сущее (οὐδ᾽ ὄν). Каким же образом не-сущее может быть актуально чем-то? Рассуждение приводит к радикальному заключению: материя не принадлежит к числу сущих.
Однако возникает возражение: быть может, она не есть ни одно из тех сущих, которые возникают на ней, но это не мешает ей быть чем-то иным? Нет, отвечает Плотин, ибо коль скоро не все сущие пребывают на материи (существуют и умопостигаемые, бестелесные сущности), то материя, будучи лишенной всех тех определений, которые суть сущие, сама оказывается не-сущим (μὴ ὄν). Она мыслится как нечто бесформенное (ἀνείδεον), а значит, не может быть эйдосом. Следовательно, её нельзя причислить и к умопостигаемым сущим. Таким образом, с обеих сторон – и со стороны чувственных форм, и со стороны умопостигаемых идей – материя есть не-сущее. Это делает её «не-сущим в большей степени» (πλειόνως μὴ ὄν), абсолютным лишением.
Далее Плотин доводит логику до предела. Материя не только избегает природы истинно сущего, но не может достичь даже статуса ложно именуемых сущих (как, например, образы или отражения), поскольку она не есть даже призрак логоса (ἴνδαλμα λόγου), каковыми являются чувственные вещи. В каком же модусе бытия её можно уловить? Если она не укладывается ни в один модус бытия, то какая актуальность (ἐνεργείαι) может ей соответствовать? Ответ подразумевается: никакая. Материя есть абсолютная потенциальность, лишенная какого-либо актуального определения, чистая возможность, граничащая с небытием. Её «бытие» – это бытие иноприсутствия, восприимчивость, лишенная собственной природы. В этом заключена её метафизическая трагедия и необходимость: будучи необходимым условием становления и множественности чувственного мира, она сама обречена на вечное отсутствие, на статус призрачного субстрата, который никогда не становится собой, ибо у него нет «себя». Это глубоко современная мысль, предвосхищающая понятия чистой различимости, абсолютного Другого или материального условия возможности, которое само никогда не является позитивным элементом системы. Материя у Плотина – это не субстанция, а радикальная инаковость, необходимое ничто, позволяющее быть всему иному.
5. Логика небытия: материя как актуальное ничто.
Если материя есть не-сущее, то каким образом мы вообще можем о ней говорить и утверждать, что она есть нечто среди сущих? Плотин отвечает: мы говорим о ней как о потенциальном (δυνάμει). Но означает ли это, что, будучи уже потенциально, она уже в каком-то смысле есть, поскольку «должна стать»? Нет, её бытие как таковое постоянно откладывается (ἀναβάλλεται) на то, чем она станет. Её удел – никогда не быть собой, а всегда быть возможностью другого. Следовательно, её бытие в возможности – это не бытие чего-то определённого, а бытие всем в возможности. Поскольку она ничто сама по себе, а есть лишь постольку, поскольку она материя, то у неё нет и актуального бытия. Если бы она когда-либо стала чем-то актуальным, то этим актуальным было бы именно это «что-то», а не материя как таковая. Она перестала бы быть всецело материей, уподобившись меди, которая, становясь статуей, сохраняет некоторую актуальную природу.
Таким образом, материя есть не-сущее (μὴ ὄν), но не в том относительном смысле, в каком не-сущим является, например, движение, которое всё же принадлежит сущему, проистекает из него и пребывает в нём. Материя же – словно выброшенная и полностью отторгнутая (ἐκριφεῖσα), абсолютно отделённая и неспособная изменить самое себя. Она остаётся тем, чем была изначально, – не-сущим, и так пребывает вечно. Она никогда не была актуально чем-либо, отрешившись ото всех сущих, и никогда не стала чем-либо. То, во что она желала облечься (формы), не смогло её окрасить или изменить. Она остаётся, будучи в возможности по отношению к последующему, в то время как актуальные сущие, которые на ней являлись, уже прекратились. Она является, будучи захваченной (καταληφθεῖσα) тем, что возникает после неё, и оказывается последней и низшей даже среди них. Захваченная с обеих сторон – и со стороны умопостигаемых образцов, и со стороны чувственных подобий, – она не становится актуально ни тем, ни другим. Ей оставлено быть лишь в возможности – слабым и смутным призраком (εἴδωλον), неспособным обрести форму.
Следовательно, её актуальность (ἐνεργείαι) – это актуальность призрака. А значит, её актуальность – это актуальность лжи (ψεῦδος). И эта ложь тождественна «истинной лжи», а это и есть подлинное не-сущее (ὄντως μὴ ὄν). Если она актуально есть не-сущее, то она – в большей степени не-сущее и, следовательно, поистине не-сущее. Таким образом, далеко от того, чтобы иметь актуальность какого-либо сущего, она по самой своей истине пребывает в не-сущем. Если ей должно быть, то ей должно быть актуально не-бытие, чтобы, отступив от истинного бытия, она обрела своё бытие в не-бытии. Ведь у ложно сущих, если отнять их ложь, отнимается та видимость сущности, которой они обладали. А у тех, чьё бытие и сущность – в возможности, введение актуальности уничтожает причину их существования, поскольку их бытие было именно в потенциальности.
Следовательно, если необходимо сохранить материю неразрушимой, нужно сохранить её именно как материю. А для этого, по-видимому, следует говорить, что она существует только в возможности, – дабы она была тем, что она есть. Иной вывод означал бы разрушение самой её природы. В этом заключена жесткая логика её метафизического статуса: её вечность и необходимость как принципа инаковости и восприимчивости гарантированы лишь её абсолютной бедностью, её актуальным ничто. Её бытие – это бытие-в-возможности, которое никогда не переходит в акт, ибо её акт есть чистая лишённость, «истинная ложь» чувственного мира. В современном прочтении это можно понять как утверждение о том, что условие возможности любого позитивного содержания (материя) само должно быть радикально пустым, лишённым всех позитивных определений, чтобы не влиять на то, что его заполняет. Это прообраз понятия чистого различия или абсолютной негативности, которая, не будучи ничем, делает возможным всё.
Шестой
трактат
. Περὶ ποιότητος καὶ εἴδους.
Качество как метафизическая граница: между сущностью и явлением.
Размышления Плотина о качестве во второй Эннеаде представляют собой не просто схоластический анализ одной из категорий Аристотеля, но глубокую онтологическую медитацию о самой структуре реальности. Трактат раскрывает качество не как данность, а как проблему – симптом фундаментального разлома между миром подлинного бытия и миром производного становления. Это исследование есть попытка проследить судьбу единства в сфере множественности, обнаруживая в, казалось бы, простых признаках вещей следы высших принципов и знаки их неизбежного угасания.
В основе системы лежит строгое различение двух онтологических порядков. В умопостигаемом мире Ума (νoῦς) царит тождество сущности и её проявлений. Здесь «качества» суть не внешние атрибуты, а внутренние дифференциации (διαφοραί) самой сущности, моменты её саморазличения. Они со-полагают сущность, будучи неотделимыми от неё, как теплота от огня в его архетипе. Это мир «семени», где всё пребывает в нераздельной целостности, мир энергий (ἐνέργειαι), в которых сущность непосредственно являет себя без остатка. Подлинное качество здесь – это синоним индивидуальности сущности, её уникального логоса.
Нисхождение в сферу чувственного ознаменовано разрывом этой непосредственности. То, что в Уме было нераздельным единством деятельности и бытия, здесь расщепляется. Логос, сущностная форма (εἶδος), нисходит в материю, но воплощается не полностью, а лишь отчасти, оставляя после себя «след» или «тень». Именно этот след, этот поверхностный и отчуждённый образ внутренней энергии, и становится тем, что мы называем качеством в привычном смысле. Белизна на коже – не сущностная энергия, а её бледное отражение; теплота, воспринятая рукой от огня, – не форма огня, а её отделённый эффект. Таким образом, качество в чувственном мире – всегда знак отсутствия, указание на сущность, которая здесь сама не присутствует. Оно есть «излишек» (περιττὸν) после установления основы, состояние (διάθεσις), привходящее к уже готовой, но именно поэтому неполной и «обеднённой» сущности.
Отсюда проистекает ключевая для Плотина двойственность. Одно и то же явление – например, теплота – может рассматриваться в двух статусах. В своём исконном контексте, как имманентная деятельность огня, она есть εἶδος, форма, момент сущности. Будучи же абстрагирована, воспринята отдельно от своего носителя, она становится ποιόν, качеством – преходящим, изменчивым и акцидентальным. Это не логическая ошибка, а онтологический факт, отражающий сам способ существования чувственного: это царство «как бы» сущностей, где вещи суть скорее «какие», нежели «что». Человеческое познание, по Плотину, закономерно «соскальзывает» с вопроса о сути (τί ἐστι) к вопросу о свойствах (ποιόν), ибо оно погружено в мир, где сущности как таковые ускользают, оставляя после себя лишь пучок качеств.
Поэтому подлинная философская работа состоит в обратном движении – от качества к его источнику. Увидеть в изменчивой белизне не случайный признак, но указание на деятельность некоего логоса; различить в мимолётном состоянии – отблеск вечной энергии. Качество, будучи метафизической границей, оказывается и пограничным знаком: оно одновременно маскирует сущность, подменяя её внешними признаками, и, будучи правильно истолковано, отсылает к ней. Оно – симптом падения от единства, но и потенциальная точка возврата.
В современном звучании эта плотиновская аналитика выходит далеко за рамки античной физики. Она предлагает инструмент для критики любого наивного реализма, принимающего поверхностные свойства за суть вещей. В мире, насыщенном образами и симулякрами, где «качества» часто конструируются и манипулируются, различение между сущностной энергией (творческим принципом, идентичностью) и акцидентальным качеством (имиджем, воспринимаемым атрибутом) становится вопросом интеллектуальной и экзистенциальной честности. Плотин напоминает, что за хаосом впечатлений и меняющихся состояний стоит вопрос о том, что есть подлинное «что» любого явления – его нередуцируемый логос, – и что наше восприятие слишком часто довольствуется «каким», забывая искать основу, которая одна только и может придать миру и жизни устойчивость и смысл. Качество, таким образом, оказывается не просто категорией, но испытанием для мысли: соблазном остановиться на видимом и вызовом – прозреть в нём след умопостигаемого.
1. О сущности и качестве: от Платоновских элементов к онтологической градации.
В центре рассуждения Плотина лежит фундаментальный вопрос о соотношении бытия и сущности, а также о природе качества. Исходный платоновский тезис из «Софиста» о пяти высших родах – бытии, движении, покое, тождестве и ином – служит отправной точкой для более тонкого различения. Если бытие мыслится как нечто абстрагированное от прочих определений, то сущность предстает как бытие, уже обогащенное этими определениями: движение, покой, тождество и различие выступают как её внутренние элементы или структурные моменты. Таким образом, сущность есть целое, синтез этих начал, тогда как каждое из них в отдельности – лишь аспект этого целого. Возникает вопрос о статусе движения: является ли оно бытием лишь по совпадению, акцидентально? Или же оно, наряду с другими элементами, constitutive, то есть со-полагающим саму сущность? Плотин склоняется к последнему: в сфере умопостигаемого, в Уме, всё сущее есть сущность, ибо там царит абсолютное единство, где все элементы пребывают нераздельно, подобно семени, содержащему в себе целостный залог будущего развития. В чувственном же мире, напротив, мы имеем дело с разъединенными образами, «идолами», лишенными подлинности и целостности. Это ключевой онтологический дуализм, определяющий дальнейший анализ.
Исходя из этого, проблема качества получает двойное измерение. В умопостигаемом мире качества суть не что иное, как различия самой сущности, её внутренние дифференции, которые и конституируют различные сущности, делая одну отличной от другой. Однако в чувственном мире ситуация сложнее. Здесь одни качества действительно выступают как различия сущностей (как, например, «двуногость» или «четвероногость» у живых существ), участвуя в оформлении их природы. Другие же считаются качествами в собственном, вторичном смысле – они не составляют сущность, но merely привходят в уже готовую, сформированную сущность как её внешнее состояние или свойство. Пример с белизной иллюстрирует эту дистинкцию: в лебеде белизна не является сущностной, ибо лебедь мог бы существовать и не будучи белым; в меле же или в снеге белизна, напротив, constitutive, она со-полагает саму сущность этих вещей. Аналогично, теплота для огня – не случайное свойство, а сущностное выражение его «огненности».
Эта двойственность ставит логическую трудность: как одна и та же по природе белизна может в одном случае быть сущностной, а в другом – акцидентальной? Разрешение Плотина заключается в различении между умопостигаемым логосом (формообразующим принципом) и его чувственным воплощением. Логосы, пребывающие в Уме, суть целиком сущностны; но их эманации, «следы» в материи, являются уже не «чем» (τί), а «каким» (ποιόν). Человеческое познание постоянно совершает ошибку, «соскальзывая» в восприятии чувственных вещей с вопроса о сути («что это?») к вопросу о качестве («какое это?»). Это закономерно, ибо ни одна чувственная вещь не есть подлинная сущность; все они – лишь состояния, «патэ», или модусы истинной сущности. Поэтому сложное тело, составленное из элементов, не может быть названо сущностью в строгом смысле, ибо оно есть нечто производное и вторичное.
Таким образом, онтологическая иерархия выстраивается следующим образом. Высшая, «более собственная» сущность пребывает в умопостигаемом мире, где бытие есть в чистоте и без примеси. Эта сущность есть актуальность и полнота. Когда же мы называем сущностью нечто в низшем мире, мы добавляем к понятию бытия нечто иное – сложность, множественность, что на деле означает удаление от простоты и мощи подлинного бытия. Сущность чувственных вещностей оказывается «более недостаточной» именно в силу этой добавки, которая есть признак удаления от первоисточника. Качество, таким образом, в своем высшем смысле есть внутренний момент сущности, её дифференциация, а в низшем – внешний признак, указующий на онтологическую ущербность и вторичность чувственного существования. Этот анализ сохраняет свою философскую остроту, предлагая метафизический инструментарий для критики реификации случайных свойств и напоминая о примате целостной, внутренне дифференцированной сущности над фрагментарными эмпирическими качествами.
2. Природа качества: между сущностной формой и акцидентальным состоянием.
Продолжая исследование природы качества, необходимо определить его сущностные границы, что позволит разрешить предшествующие затруднения. Первый вопрос заключается в том, допустимо ли считать одно и то же явление в одном контексте просто качеством, а в другом – со-полагающим сущность. Следует, однако, преодолеть интуитивное сопротивление и допустить, что качество может быть сущностным, но не для сущности как таковой, а для качественной сущности. Это различение требует онтологического приоритета: для качественной сущности (например, огня) должна существовать сущность до её квалификации, некое «что есть» (τί ἐστι), предшествующее её бытию «каким» (ποιόν).
Что же тогда представляет собой сущность огня до его качественной определённости? Если предположить, что это тело как таковое, то род «тело» будет сущностью, а «огонь» окажется лишь телом, обладающим теплотой, – то есть целое не будет сущностью в строгом смысле. В таком случае теплота в огне будет подобна курносости в человеке – акцидентальным признаком. Если мысленно удалить все воспринимаемые качества огня – теплоту, свет, лёгкость, сопротивляемость – останется лишь трёхмерно протяжённое и материя, которую можно было бы назвать сущностью. Однако это противоречит интуиции, ибо сущностью считается скорее форма (εἶδος), а не материя. Но тогда возникает новая трудность: не является ли сама форма качеством? Плотин проводит решающее разграничение: форма – это не качество, а логос (λόγος), принцип организации и смысловая структура. Чувственно воспринимаемые же проявления – горение, нагревание, побеление – суть деятельности (ἐνέργειαι), проистекающие из этого логоса и присущих ему сущностных сил. Если считать все эти деятельности качествами, то само понятие качества становится всеобъемлющим и теряет специфику.
Следовательно, необходим строгий критерий. Нельзя называть качествами те определения, которые сущностно со-полагают вещь, поскольку они суть имманентные энергии, вытекающие из логоса. Качествами в собственном смысле слова следует именовать только те характеристики, которые находятся вне всякой сущности, являются излишком (περιττὸν) после её установления. К ним относятся, например, добродетели и пороки, безобразие и красота, здоровье, определённые геометрические очертания (не сама треугольность как понятие, но факт «бытия огранённым в треугольник»), искусства и навыки. Таким образом, качество определяется как некое состояние (διάθεσις), привходящее к уже существующим сущностям – будь то приобретённое извне или сопутствующее изначально, – такое, что при его отсутствии сущность не утрачивает своего бытия. Это состояние характеризуется изменчивостью: оно может быть легко подвижным или устойчивым. Отсюда проистекает важное заключение о двойственности вида (εἶδος): один вид – устойчивый и постоянный (сама сущностная форма-логос), другой – изменчивый и подвижный (собственно качество как состояние). Эта дистинкция не только проясняет онтологический статус качества, отделяя акцидентальные, преходящие модусы от конститутивных принципов бытия, но и задаёт основу для понимания изменчивости феноменального мира при сохранении устойчивости умопостигаемых оснований.
3. Качество как отблеск деятельности: различение сущностной энергии и акцидентального признака.
Исходя из установленного различия, белизна, обнаруживаемая, например, на коже человека, не должна рассматриваться как качество в собственном смысле, но как деятельность (ἐνέργεια), проистекающая из способности белить, присущей некоему сущностному началу. Этот подход можно распространить на все так называемые качества в умопостигаемой сфере: там они суть имманентные деятельности, приобретающие характер «качества» лишь в силу нашего мнения (δόξα), поскольку каждая из них выступает как особое свойство (ἰδιότης), отграничивающее одну сущность от другой и сообщающее ей уникальный характер. Тогда в чём же состоит различие между качеством «здесь» и «там»? И там, и здесь мы имеем дело с деятельностями. Однако ключевое отличие в том, что деятельности чувственного мира не раскрывают подлинной «каковости» (οἷόν τί ἐστι) вещей, не выражают их внутреннего преобразования и не несут устойчивого характера; они лишь представляют собой то, что именуется качеством, будучи в действительности деятельностью в её ослабленном, отчуждённом виде. Таким образом, когда свойство неотделимо от сущности, оно, очевидно, не есть качество. Но когда логос, не отнимая этого свойства от его источника, мысленно выделяет и обособляет его, порождая нечто иное, он порождает качество. Он берёт как бы поверхностный, явленный аспект сущности и делает его самостоятельным объектом рассмотрения.
Из этого следует, что нет противоречия в том, чтобы считать теплоту, имманентно присущую огню, формой (εἶδος) и деятельностью огня, а не его качеством. Однако та же теплота, взятая в ином контексте – например, воспринятая другим телом, – уже не является формообразующим принципом сущности, но лишь её следом, тенью или образом, оставляющим позади саму сущность, чьей деятельностью она была. В этом отделённом состоянии она и становится качеством. Следовательно, качествами надлежит считать всё то, что привходит акцидентально (συμβέβηκε), не будучи внутренней деятельностью и не предоставляя форм для сущностей. Таковы, например, приобретённые состояния (ἕξεις) и иные расположения (διαθέσεις) субъектов. Их же архетипы, в которых они пребывают первично и сущностно, суть деятельности этих первоначал.
Таким образом, одно и то же не может быть одновременно качеством и не-качеством. Различение проводится по онтологическому статусу: то, что абстрагировано от сущности и рассматривается отдельно, есть качество; то, что пребывает в единстве с сущностью, есть сама сущность, её форма или имманентная деятельность. Ничто не может быть тождественным самому себе, будучи в одном случае формой и деятельностью, а в другом – лишь выпавшим из этой целостности отблеском. То же, что никогда не является формой чего-либо иного, но всегда выступает как чистое привходящее свойство, есть качество в собственном и исключительном смысле. Это различение устанавливает иерархию: от полноты сущностной деятельности – через её ослабленные проявления – к чисто акцидентальным и внешним определениям, которые и составляют область собственно качеств в мире становления.
Седьмой
трактат
. Περὶ τῆς δι᾽ ὅλων κράσεως.
Онтология смешения и природа телесности в седьмом трактате второй «Эннеады» Плотина.
В центре седьмого трактата лежит проблема, которая кажется сугубо физической: как возможно полное взаимопроникновение тел (δι’ ὅλων κρᾶσις)? Однако под пристальным взглядом Плотина этот вопрос раскрывается как тончайший инструмент для рассечения самых основ онтологии. Спор между сторонниками механического соположения частиц и адептами качественного смешения – это не просто спор античных физиков, но фундаментальный выбор между двумя способами мыслить реальность: как совокупность изолированных субстанций или как поле взаимопроникающих сил.
Апории, выдвигаемые противниками смешения, основаны на аксиомах здравого смысла, укорененных в представлении о пространстве как о вместилище непроницаемых объемов. Если два тела смешиваются, рассуждают они, то либо их объемы должны складываться, либо одно должно физически раздробить другое. Наблюдаемое же уменьшение объема смеси они объясняют ad hoc гипотезами вроде вытеснения воздуха. Их модель мира – это мир атомов, пустот и механических столкновений. Но Плотин видит слабость этой позиции не в эмпирических нестыковках, а в её онтологической бедности. Она ошибочно принимает количественную меру (объем) за сущностное свойство вещи, а качественное единство – за побочный эффект.
Ответ Плотина строится как восхождение от феноменологии к метафизике. Наблюдение за тем, как вода пропитывает шерсть, не разрывая её, указывает на возможность иного типа взаимодействия – не разрушительного, а трансформирующего. Ключевой ход мысли заключается в различении логики качеств и логики количеств. Качества (ποιότητες) при подлинном смешении ведут себя иначе, чем объёмы. Тепло и холод, соединяясь, не дают «суммы», но порождают новое, единое состояние – тепловатость, в котором исходные качества присутствуют не актуально, но потенциально, «приглушённо». Почему же с объёмом должно быть иначе? Плотин допускает революционную мысль: возможно, и протяжённость в смеси является не суммой, а новым, emergent-ным величием (ἄλλο μέγεθος), рождающимся из самого акта синтеза. Таким образом, смесь – это не механический агрегат, а новое бытие, чьи свойства несводимы к свойствам компонентов.
Однако этот ответ порождает более глубокий вопрос: если качества могут так взаимодействовать, то что же такое само тело, носитель этих качеств? Здесь анализ достигает своей кульминации в вопросе о телесности (σωματότης). Является ли тело простой суммой «материи плюс качества»? Нет, утверждает Плотин. Такая сумма была бы бесформенной грудой, а не целостным сущим. Телесность есть не результат, а принцип, форма (εἶδος), организующий логос (λόγος). Этот логос – не описательное понятие, а производящая, оформляющая сила (λόγος ποιῶν πρᾶγμα), которая, приходя в материю, конституирует тело как определённое, целостное нечто.
Это различение позволяет переформулировать проблему смешения на истинно онтологическом уровне. Вопрос «могут ли два тела занимать одно место?» теряет смысл, ибо «тела» как первичные данности не существуют. Есть материя – чистая потенциальность, пассивный субстрат (ὕλη), и есть активные, оформляющие её логосы. Проблема смешения становится тогда проблемой совместимости логосов: могут ли два forming-принципа совместно определить один и тот же участок материи, породив третий, сложный логос? Твёрдость или непроницаемость – это не абсолютные свойства материи, а модусы проявления конкретного логоса, способ утверждения им своей формы. Таким образом, возможность κρᾶσις зависит от внутренней диалогичности или синтетической способности самих логосов.
За этим имманентным логосом тела Плотин, делая характерный для него метафизический жест, усматривает логос трансцендентный – вечную идею в Уме (νοῦς). Имманентная форма есть лишь отблеск этой высшей, чистой умопостигаемой структуры. Таким образом, даже в самом низшем, материальном взаимодействии просвечивает игра высших принципов: смешение становится чувственным отражением интеллигибельного синтеза идей.
Современное звучание этой древней дискуссии поразительно. Во-первых, плотиновский холизм предвосхищает critique редукционизма в современной науке. Его настойчивое требование видеть в целом не сумму частей, а новое качество, находит прямое продолжение в теориях эмерджентности, системном мышлении и холистической биологии. Клетка – не просто мешок с молекулами, сознание – не просто набор нейронных импульсов; в каждом случае целое обладает свойствами, невыводимыми из свойств частей, что требует признания своего рода «имманентного логоса» системы.
Во-вторых, переосмысление материи как чистой потенциальности, определяемой исключительно формальными принципами, удивительно созвучно полевым концепциям в физике XX-XXI веков. Частицы в современной теории – это не твёрдые корпускулы, а возбуждения квантовых полей, чьи свойства (масса, заряд, спин) задаются законами симметрии и взаимодействий – то есть своего рода математическими «логосами». Пространственно-временная метрика сама может искривляться, что делает понятие фиксированного «объёма» относительным, а не абсолютным, что перекликается с идеей Плотина о возникновении «иного величия» в смеси.
В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, трактат предлагает глубокую метафизическую основу для понимания взаимосвязи и взаимопроникновения во всех сферах бытия. В экологии, где виды и среды не просто сосуществуют, но ко-эволюционируют, образуя новые, целостные системы. В социальной философии, где культура и индивид взаимопроникают, порождая идентичность, не сводимую ни к биологии, ни к абстрактным нормам. В философии сознания, где ментальное и физическое не могут быть просто «сложены» в духе психофизического параллелизма, но требуют концепции интеграции, возможно, подобной плотиновскому синтезу логосов.
Таким образом, седьмой трактат Второй Эннеады – это не архаичный спор о смешении жидкостей. Это прорыв к онтологии отношений, где бытие понимается не как статичная субстанция, а как динамический процесс оформления, взаимодействия и синтеза. Плотин показывает, что подлинная реальность взаимодействия лежит не в плоскости столкновения объектов, а в плоскости диалога форм, взаимной трансформации смыслов. В этом – его непреходящее значение: проблема смешения становится парадигмой для мышления о единстве множественного, о творческом рождении нового и о той незримой силе логоса, что связывает воедино чувственный мир и делает его не хаосом частиц, а космосом – упорядоченным и прекрасным целым.
1. О полном взаимопроникновении тел.
Исследование проблемы смешения, понимаемого как взаимопроникновение целых тел, требует критического осмысления двух противоположных позиций, существовавших в античной физике. С одной стороны, стоят те, кто отрицает возможность полного взаимопроникновения (δι᾽ ὅλων κρᾶσις), объясняя видимое смешивание веществ, таких как вино и вода, простым соположением мельчайших частиц. С другой стороны, находятся сторонники реального взаимопроникновения, утверждающие, что при подлинном смешении любая, даже самая малая часть результата состоит из обоих исходных веществ, которые сохраняют свои качества, но объединены в новую, гомогенную сущность.
Критики полного взаимопроникновения выдвигают ряд логических и физических возражений, составляющих ядро апорий. Во-первых, если одно тело целиком проникает через другое, то, казалось бы, их общий объем должен оставаться равным сумме исходных объемов. Однако опыт показывает, что смесь зачастую занимает меньший объем. Сторонники теории соположения объясняют это выходом частиц воздуха или иными пустотами. Во-вторых, возникает вопрос о сохранении свойств тел: если все частицы реально пронизывают друг друга, не означает ли это их взаимного уничтожения? В-третьих, как малое количество одного вещества может, растянувшись, равномерно распределиться по всему большому объему другого, не утратив своей природы? Эти аргументы ставят под сомнение саму возможность взаимопроникновения без разрушительного разделения тел на части.
Сторонники полного смешения, напротив, отстаивают его реальность, опираясь на феноменологические наблюдения. Они указывают на такие явления, как просачивание пота или жидкости через тонкие, но сплошные ткани. Данные примеры демонстрируют, что проникновение может происходить без механического рассечения тела на части, то есть субстанция способна проходить сквозь другую, сохраняя целостность обеих. Ключевой ответ на возражение об объеме заключается в тонком переосмыслении природы смеси. В подлинном смешении, утверждают они, возникает не просто сумма двух количеств, но новое, единое качественное состояние. Подобно тому, как качества (например, тепло и холод) при смешении порождают новое, промежуточное качество (тепловатость), так и сами объемы могут образовывать не арифметическую сумму, но новое, единое протяжение. Это новое протяжение есть нечто иное, чем простое сложение двух отдельных величин; это иное величие, порожденное самим актом смешения. Таким образом, прирост или уменьшение объема в смеси не служит решающим аргументом против взаимопроникновения, ибо результат смешения есть целостная новая реальность, в которой первоначальные компоненты существуют не как отдельные механические части, а как полностью трансформированные, но не уничтоженные, потенции.
Внутренняя логика рассуждения Плотина, реконструируемая из этого текста, движется от апорий материалистической физики к утверждению идеалистического принципа качественного единства. Полемика против атомистической и стоической моделей смешения служит основой для более глубокого тезиса: истинная реальность смешения лежит не в механическом движении корпускул, а в сфере взаимодействия качеств и сил. Тела взаимодействуют не как инертные массы, занимающие место, а как носители определенных логосов и энергий, способных к полному взаимному оформлению в новом синтезе. Этот синтез обеспечивает сохранение сущностных начал смешиваемых тел на уровне их активных качеств, а не пассивной материальной субстрации. Таким образом, концепция δι᾽ ὅλων κρᾶσις становится у Плотина моделью для понимания любого взаимодействия в чувственном мире, которое всегда есть нечто большее, чем сумма частей, и указывает на способность форм (εἴδη) пронизывать материю, не уничтожаясь, но создавая новые единства.
Современное звучание этой дискуссии прослеживается в нескольких аспектах. Во-первых, это методологический спор между редукционизмом и холизмом. Критики смешения представляют редукционистский подход, стремящийся объяснить целое через поведение неизменных элементарных частиц. Плотин же защищает холистический взгляд, где целое (смесь) обладает emergent-свойствами, несводимыми к простому сложению свойств частей. Этот спор актуален в контексте современных дискуссий в философии сознания, биологии и системной теории. Во-вторых, спор о природе пространства и объема предвосхищает вопросы о неаддитивности свойств в квантовой механике или конденсированных средах, где состояние системы не является простой суперпозицией состояний ее компонентов. Наконец, идея полного взаимопроникновения без разрушения целостности находит отзвук в экологической мысли, подчеркивающей взаимосвязь и взаимопроникновение всех элементов экосистемы, где воздействие на одну часть трансформирует всю систему в целом, создавая новое качественное состояние. Таким образом, трактат Плотина выходит за рамки узкой физической проблемы, предлагая метафизическую модель для понимания единства, взаимодействия и творческого синтеза в изменчивом мире.
2. О парадоксе объема и природы качества.
Развивая исследование проблемы полного смешения, необходимо обратиться к анализу более фундаментального парадокса, связанного с изменением агрегатного состояния, например, превращения воды в воздух, где объем очевидно возрастает. Этот частный случай ставит под сомнение простые модели аддитивности и заставляет искать иные принципы понимания материальных взаимодействий. Прежде чем предлагать окончательное решение, следует критически рассмотреть наблюдаемые явления, такие как просачивание воды через шерсть или пергамент. Если вода проникает через всё волокно, не разрывая его, то каким образом это возможно? Логически, если материя одного тела (воды) присутствует в каждом участке другого тела (пергамента), то они должны каким-то образом совместно занимать одно и то же место. Однако традиционное мышление настаивает на том, что две материальные субстанции не могут одновременно занимать один и тот же объем. Один из выходов – предположить, что смешиваются не сами тела, а лишь их качества, в то время как материальные субстраты остаются раздельными. Но это приводит к абсурду: если качество воды присутствует повсюду в пергаменте, а его материя нигде, то что, собственно, является носителем этого качества? Где тогда само «водное» бытие? Возникает искушение объяснить набухание пергамента простым добавлением объема воды к его собственному объему. Но это означает, что объем воды не был поглощен, а механически присоединен, и тогда материи двух тел по-прежнему разделены, что противоречит идее их полного взаимопроникновения.
Более глубокий анализ указывает на необходимость различать логику качеств и логику количеств. Когда два качества, такие как тепло и холод, смешиваются, они не просто складываются, а порождают нечто третье, новое, в котором их первоначальные чистые формы затемняются, но не исчезают полностью. Их взаимодействие трансформирует их сущность. Однако с величиной, с объемом, дело обстоит иначе. Объем, будучи количественной мерой, при соединении с другим объемом, казалось бы, должен подчиняться арифметике. Но если смешение есть подлинное взаимопроникновение, то арифметическая модель неприменима. Возможно, подобно качествам, объемы также вступают в особого рода синтез, порождая не сумму, а новое, единое протяжение, специфичное для данной смеси. Этот синтез был бы проявлением того, как материя, оформляемая различными логосами, может давать иные количественные проявления.
Далее, критикуется ключевой аргумент противников смешения – утверждение, что тело, проходя через другое тело, неизбежно должно его рассекать, то есть разрушать. Это возражение основано на грубой механистической аналогии. Однако сами же критики признают, что качества (например, тепло) могут проникать через тело, не разрезая его, что объясняется их бестелесной природой. Но если признать, что и материя (ὕλη) в своей основе также есть нечто бестелесное, чистая потенция, а качества – это лишь формы, её оформляющие, то почему же тогда материя в сочетании с качествами не может проникать подобным образом? Препятствием, возможно, является не сама материя, а конкретный характер качеств, формирующих данное тело. Так, плотность или твердость – это не просто количественные скопления качеств, а особые виды качеств (наподобие «телесности»), которые определяют сопротивляемость проникновению. Таким образом, способность или неспособность к взаимопроникновению определяется не материей как таковой и не фактом обладания качествами вообще, а специфической природой наличных качеств. Материя же, будучи индифферентным субстратом, может смешиваться, но лишь постольку, поскольку она уже оформлена такими-то качествами. Более того, если само пространственное протяжение (μέγεθος) не является неотъемлемым свойством материи, а возникает как следствие её оформления определенным качеством, то в новом оформленном состоянии (смеси) может возникнуть и новое, иное протяжение.
Внутренняя логика рассуждения Плотина, реконструируемая здесь, ведет к радикальному пересмотру категорий телесного. Проблема смешения оказывается не проблемой механики корпускул, а проблемой онтологического статуса качеств и их отношения к материи. Материя представляется не как плотный, непроницаемый субстрат, а как пассивная, лишенная собственных определений возможность, которая полностью управляется привходящими формами-качествами. Поэтому вопрос о том, могут ли два тела занимать одно место, трансформируется в вопрос о том, могут ли два комплекса качеств (или, точнее, два оформляющих логоса) одновременно определять один и тот же участок материи. Ответ, намекаемый текстом, заключается в том, что это возможно, если результатом становится не их механическое сложение, а порождение нового, единого комплекса, где исходные качества пребывают не в чистом виде, а в состоянии взаимного ограничения и гармонизации. Это и есть подлинная κρᾶσις – творческий акт рождения новой качественной определенности из взаимопроникновения сущностных сил.
Современное звучание этой дискуссии поразительно актуально. Во-первых, это предвосхищение проблем философии науки о природе физических величин. Различение между аддитивными (как масса) и неаддитивными (как температура в термодинамическом смысле) величинами находит свой прообраз в противопоставлении механического сложения объемов и качественного синтеза. Во-вторых, рассуждение о бестелесности материи и определяющей роли качеств (форм) перекликается с полевой концепцией материи в современной физике, где частицы суть возбуждения фундаментальных полей, а их свойства (заряд, спин) являются определяющими, а не производными от некоего корпускулярного субстрата. Наконец, идея о том, что препятствием к проникновению является специфическое качество (например, «твердость»), а не материя как таковая, находит отражение в понимании химических связей и фазовых переходов, где изменение макроскопических свойств (проницаемости, объема) обусловлено перестройкой конфигурации взаимодействий (качеств) на микроуровне, а не простым механическим перемещением инертных тел. Таким образом, Плотин через апории смешения выводит мысль к необходимости холистической и динамической онтологии, где взаимодействие сущностей понимается как взаимная трансформация их определяющих принципов, а не как столкновение готовых, самодостаточных объектов.
3. О понятии телесности.
Переход к вопросу о сущности телесности (σωματότης) логически вытекает из предыдущего анализа, где качество плотности или твердости указывалось как возможное препятствие для смешения. Чтобы понять природу такого препятствия, необходимо определить, что именно конституирует тело как таковое. Таким образом, возникает центральный вопрос: является ли телесность просто совокупным результатом соединения всех качеств с материей, или же она представляет собой особую форму (εἶδος), определенный логос (λόγος), который, соединяясь с материей, и производит тело? Если принять первое, редукционистское объяснение, то телесность оказывается не более чем именем для комплекса свойств (тяжести, плотности, цвета и т.д.), наложенных на индифферентный субстрат. В этом случае тело есть не что иное, как материя плюс акциденции. Однако такой взгляд сталкивается с трудностью: он не объясняет единство и целостность тела, которая отлична от простой суммы частей. Груда кирпичей обладает теми же материальными и качественными составляющими, что и дом, но не является телом в том же интегрированном смысле.
Следовательно, более убедительной представляется вторая позиция, к которой склоняется мысль Плотина. Телесность есть именно логос, формирующий принцип. Этот логос не есть просто описательное определение (ὁρισμὸς δηλωτικὸς), но активная, производящая причина (λόγος ποιῶν πρᾶγμα). Он предсуществует своему воплощению как идеальная структура, содержащая в себе все те качества, которые должны проявиться в теле, но содержащая их не как актуальные свойства, а как некие смысловые модусы, потенции. Этот логос не включает в себя материю, но является формой относительно материи (περὶ ὕλην λόγος). Привходя в материю, он осуществляет, завершает (ἀποτελεῖν) тело, делая материю оформленным, конкретным сущим. Таким образом, тело как таковое есть сложная сущность (σύνθετον), состоящее из материи и внутрь привнесенного логоса. Сам же этот логос, взятый в чистом виде, есть форма без материи (εἶδος ὄν ἄνευ ὕλης), умопостигаемая структура, которую можно рассматривать отдельно, даже если в реальном теле она неотделима от своего материального воплощения.
Важное различие проводится далее между двумя статусами логоса. Один – имманентный логос, воплощенный в теле, неотделимый от него (ἀχώριστος), являющийся его организующим внутренним принципом. Другой – логос отделимый (χωριστὸς), существующий в Уме (ἐν νῶι) как вечная идея. Последний есть чистая мысль, и более того, сам является интеллигибельной сущностью, частью Ума. Исследование этой высшей, трансцендентной природы логоса выходит за рамки текущего физического рассуждения и относится к метафизике, но сам намек на это различение указывает на иерархическую онтологию: конкретное тело укоренено в имманентной форме, которая, в свою очередь, является отражением или эманацией вечной идеи в Уме.
Внутренняя логика этого отрывка служит ключом к разрешению апорий смешения. Если тело есть не материя с акциденциями, а материя, информированная определенным логосом, то проблема взаимодействия двух тел становится проблемой взаимодействия двух логосов в одной материи. Взаимопроникновение возможно не тогда, когда сталкиваются два куска материи, а когда два формирующих принципа способны совместно определить один и тот же субстрат, породив новый, сложный логос смеси. Качество «твердости», препятствующее проникновению, таким образом, не является просто одним из многих равноправных свойств; оно есть модус проявления конкретного логоса, его способ утверждать свою форму в материи, исключая другие. Следовательно, смешение зависит от совместимости или способности к синтезу самих логосов, а не от механических свойств их материальных носителей.
Современное звучание этого анализа телесности глубоко резонирует с рядом концепций. Во-первых, это прямая параллель с аристотелевской гилеморфизмом и его развитием в философии науки, где различаются структурная организация (форма) и субстрат. Во-вторых, идея имманентного организующего принципа предвосхищает понятие информации, генетического кода или организационного поля в биологии, которое не сводимо к химическому составу, но определяет форму и функцию организма. В-третьих, различение имманентного и трансцендентного логоса находит отклик в дискуссиях о статусе законов природы: являются ли они лишь описаниями наблюдаемых регулярностей (имманентный порядок) или отражают независимые, идеальные математические структуры (трансцендентный логос). Наконец, подход Плотина предлагает нередукционистскую онтологию для современных споров о природе сложных систем, где системные свойства (аналог телесности как целого) невыводимы из свойств элементов, но определяются организационным принципом, «эмерджентным логосом» системы. Таким образом, вопрос «что есть тело?» перестает быть вопросом физики в узком смысле и становится вопросом о природе порядка, формы и индивидуации в чувственном мире.
Восьмой
трактат
. Πῶς τὰ πόρρω ὁρώμενα μικρὰ φαίνεται.
За пределами угла зрения: Плотин и феноменология удаленности.
Восьмой трактат второй «Эннеады» Плотина, посвященный тому, «почему удаленные предметы кажутся малыми», на первый взгляд, может показаться частным исследованием в области античной оптики. Однако его истинный масштаб раскрывается тогда, когда мы перестаем видеть в нем лишь ответ на узкий научный вопрос и обнаруживаем в нем глубокое философское высказывание о природе восприятия, познания и отношения души к миру. Плотин совершает здесь радикальный поворот: от физики зрения – к метафизике зримого, от объяснения иллюзии – к пониманию истины, скрытой в самой этой иллюзии. Его анализ выстраивается как последовательное восхождение от поверхностных мнений к сущностному принципу, раскрывающему, как конечное сознание взаимодействует с бесконечной протяженностью бытия.
Начав с обыденного наблюдения, Плотин сразу же отбрасывает очевидные, но недостаточные объяснения, связанные с ослаблением света или чисто механическим взаимодействием. Его главный удар направлен против господствующей геометрической модели – теории зрительных углов. Этой критике он посвящает особую остроту мысли, превращая абстрактную схему в феноменологический тест. Что происходит, когда объект – например, гора или небесный свод – полностью заполняет или даже превышает наше поле зрения? Согласно геометрии, угол максимален, но объект всё равно кажется уменьшенным и удаленным. Этот мысленный эксперимент не просто опровергает конкретную теорию; он подрывает сам подход, сводящий восприятие к пассивной проекции внешних данных на внутренний экран. Небо, пишет Плотин, «во много раз» больше, чем его видимый образ, и никакой угол этого не объяснит. Значит, иллюзия не является ошибкой вычисления, она коренится в ином, более фундаментальном слое опыта.
Здесь и раскрывается сердцевина учения Плотина. Восприятие – это не регистрация материальных тел, а встреча души с эйдосом, умопостигаемой формой вещи. Удаленность – это не просто метрическое расстояние, а онтологический разрыв, ослабляющий и «обособляющий» (μεμονωμένον) передачу формы. Чем дальше предмет, тем более сжатым, лишенным деталей и качественной полноты приходит его эйдос. Зрение первично схватывает цвет и качество, а величина воспринимается «по привходящему обстоятельству» (κατὰ συμβεβηκὸς). Следовательно, когда ослабевает цвет (становясь ἀμυδρόν), пропорционально «сжимается» и воспринимаемое с ним пространственное наполнение. Это не физический, а смысловой процесс: душа получает неполный логос вещи и на его основе вынуждена реконструировать целое, что неизбежно приводит к редукции.
Далее Плотин вводит ключевое различие между восприятием сложного, расчлененного объекта и объекта однородного. Гора с постройками и деревьями дает душе множество дискретных форм-маркеров. Каждая видимая деталь (εἶδος καθ᾽ ἕκαστον) служит точкой отсчета, позволяя измерить целое через сумму частей. Удаление же «крадет» (κλαπῆι) эти частные формы, оставляя душу перед нерасчлененным пятном, лишенным внутренних ориентиров для измерения. Даже вблизи рассеянный взгляд, не ухвативший всех деталей, обречен на ошибку. И напротив, однородная стена обманывает нас даже вблизи, ибо взгляду не за что «зацепиться», негде «остановиться» (ἵστασθαι) из-за отсутствия различий (διαφορά). Таким образом, точность восприятия величины оказывается прямым следствием богатства и ясности воспринятых смыслов, а не просто остроты зрения.
Этот анализ имеет далеко идущие последствия. Во-первых, Плотин переворачивает обыденное представление: мы видим не потому, что свет падает на глаз, а потому, что душа, как активное начало, выходит вовне в акте «преследования» формы. Иллюзия удаленности – это свидетельство конечности и воплощенности этой способности души. Она не может мгновенно и полностью преодолеть пространственный разрыв, чтобы схватить сущность вещи в ее подлинном масштабе. Во-вторых, пространство само по себе, пустое или лишенное различий (воздух, пустыня), оказывается для души наиболее трудным для восприятия – оно «сжимается» (συναιρεῖται), потому что в нем нечего познавать, не на что направить интеллектуальное усилие. Пространство познается не само по себе, а через формы, его наполняющие.
В современном звучании трактат Плотина читается как раннее феноменологическое исследование, предвосхищающее идеи Гуссерля и Мерло-Понти о том, что восприятие никогда не бывает сырым ощущением, но всегда есть акт осмысления, «вкладывания» значения в чувственные данные. Мы не видим «пятна цвета», а сразу видим «далекую гору». Иллюзия – не сбой системы, а условие ее работы, способ, каким сознание организует мир в условиях ограниченности ресурсов внимания и телесной локализации. В эпоху цифровых образов, бесконечно сжатых, передаваемых и теряющих детализацию, анализ Плотина обретает новую актуальность. Он напоминает нам, что любая репрезентация – от картины до пиксельного изображения – неизбежно передает не сам объект, а его сокращенный эйдос, и наша душа, встречая его, достраивает целое, рискуя впасть в иллюзию понимания. Плотин призывает не доверять первому впечатлению, но, осознав механизм работы восприятия, стремиться к тому, чтобы наполнять мир ясными, отчетливыми и разнообразными формами – как внешними, так и внутренними. Ибо только в богатстве различий и в ясности смыслов открывается возможность истинной меры – не только видимых предметов, но и самого нашего места в безмерности мироздания.
1. О восприятии удаленности: почему отдаленное кажется меньшим.
Восьмой трактат второй «Эннеады» Плотина, озаглавленный «Почему удаленные предметы кажутся малыми», представляет собой глубокий анализ проблемы восприятия пространства и размера, выходящий за рамки простой оптики и затрагивающий фундаментальные вопросы взаимодействия души, формы и материи. Плотин выстраивает свою аргументацию, последовательно критикуя и углубляя обыденные и физикалистские объяснения, стремясь обнаружить более глубокий, метафизический принцип, лежащий в основе зрительного опыта.
Обыденное наблюдение констатирует, что удаленные объекты выглядят меньше, а расстояния между ними – короче. Поверхностное объяснение могло бы апеллировать к чисто физическим причинам, например, к ослаблению светового потока, достигающего глаза. Однако Плотин сразу же отодвигает такие причины на второй план, стремясь к сущностному пониманию. Его ключевой тезис заключается в том, что зрение воспринимает прежде всего не материальные тела как таковые, а их эйдос – умопостигаемую форму, или логос. Чем дальше предмет, тем более «обособленно» и ослабленно этот эйдос достигает воспринимающей способности души. Зрение получает не полноту качественной определенности предмета, включая его точный размер (ποσόν), а лишь его сокращенный, сжатый образ. Таким образом, иллюзия уменьшения – это не ошибка зрения, а прямое следствие способа, каким форма передается на расстояние и схватывается душой.
Плотин развивает эту мысль через тонкое различение первичного и вторичного в восприятии. Первичным объектом зрения он считает цвет (χρῶμα), тогда как величина воспринимается как бы попутно, «по привходящему обстоятельству» (κατὰ συμβεβηκὸς). Вблизи мы ясно различаем и цвет, и протяженность, которую он заполняет, что позволяет точно судить о размере. На расстоянии же и цвет становится бледным (ἀμυδρόν), и, соответственно, сопутствующее ему восприятие величины уменьшается пропорционально. Здесь проводится важная аналогия со слухом: громкость звука на расстоянии также падает. Однако Плотин уточняет, что слух воспринимает не количественную величину звука как таковую, а его интенсивность (σφόδρα), которая и ослабевает с удалением. Общим для обоих чувств является принцип ослабления (ἧττον) первичной качественной данности, что влечет за собой и искажение количественной оценки.
Далее анализ усложняется. Плотин показывает, что способность точно оценивать размер зависит от сложности и расчлененности воспринимаемого объекта. Перед нами горный массив со множеством построек и деревьев. Если мы ясно видим каждую деталь (εἶδος καθ᾽ ἕκαστον), то наше зрение, суммируя эти дискретные единицы, может правильно измерить целое. Удаление же лишает нас доступа к этим частным формам – они «не доходят» до зрения. В результате душа лишается точек опоры для измерения и вынуждена судить о целом по сокращенному и нерасчлененному образу. Это справедливо даже для близких объектов: если мы смотрим на сложную композицию рассеянно, не выхватывая все ее элементы, она также покажется нам меньше, так как часть ее «форм» будет украдена (κλαπῆι) нашим невнимательным взглядом.
Напротив, объекты однородные и одноцветные (ὁμοειδῆ ὁμοιόχροα) обманывают зрение даже на близком расстоянии. Глазу не за что «зацепиться», ему не хватает четких различий (διαφορά), чтобы остановиться и измерить каждую часть. Взгляд скользит по поверхности, не будучи в состоянии произвести точный подсчет протяженности. Это наблюдение подчеркивает активную, поисковую природу восприятия у Плотина: душа не пассивно регистрирует данные, а стремится к отчетливому схватыванию формы, и неудача в этом приводит к ошибке в оценке количества.
Наконец, тот же принцип объясняет и иллюзию сокращения расстояния. Пространство между объектами, будучи лишенным собственных отчетливых форм-маркеров, также «сжимается» для восприятия. Душа, не могущая пройти и изучить (διεξοδεύουσα) все промежуточные точки, не в состоянии корректно оценить истинную протяженность пустого или неразличимого интервала.
В современном звучании трактат Плотина предстает не просто античным трактатом по психологии восприятия, а феноменологическим исследованием до своей эпохи. Он смещает фокус с физиологии на структуру сознания, показывая, как наше восприятие конструирует мир, опираясь на доступные ему «интенциональные» единицы – эйдосы. Иллюзия удаленности раскрывается как фундаментальное свойство воплощенного сознания, конечного в своих средствах схватывания бесконечного многообразия реальности. В условиях современного визуального перенасыщения, когда образ часто доходит до нас в уже «сжатом», лишенном деталей виде (как на экране или в рекламе), анализ Плотина обретает новую актуальность, предупреждая о том, как потеря качественной определенности и расчлененности формы ведет к искажению нашего понимания масштабов – как физических, так и, метафорически, социальных и экзистенциальных. Точность восприятия величины оказывается производной от богатства и ясности воспринятых смыслов.
2. Критика геометрического объяснения: пределы теории зрительных углов.
В этом разделе трактата Плотин обращается к, возможно, наиболее распространенному в античной оптике объяснению кажущегося уменьшения удаленных предметов – теории зрительных углов, согласно которой размер образа на сетчатке (или, в античных терминах, в зрительном «конусе») определяется углом, под которым лучи от объекта попадают в глаз. Чем дальше предмет, тем острее этот угол и, следовательно, тем меньше его воспринимаемый размер. Плотин подвергает эту модель радикальной и остроумной критике, демонстрируя ее внутреннюю логическую несостоятельность и несоответствие феноменальному опыту.
Его аргумент строится как мысленный эксперимент, доводящий геометрическую модель до абсурда. Предположим, говорит Плотин, что удаленная гора кажется малой именно потому, что она проецируется на глаз под малым углом, оставляя остальную часть зрительного поля свободной для восприятия чего-то иного, например, окружающего воздуха. Но что если мы оказываемся в ситуации, когда объект не просто вписывается в поле зрения, а полностью его заполняет или даже превосходит его? Вообразим, что гора настолько велика, что ее изображение точно «подгоняется» к границам нашего зрительного поля (συναρμόσαντος), не оставляя места для ничего иного. Или, более того, что она простирается за его пределы (ὑπερτείνηι), так что наше зрение, направленное на нее, не может охватить ее целиком одной фиксацией. Согласно теории углов, в этих случаях зрение должно было бы использовать весь доступный ему «угловой ресурс». Однако объект при этом всё равно кажется намного меньшим, чем он есть на самом деле. Гора, полностью заполняющая горизонт, воспринимается не как стометровая скала в двух шагах от нас, а именно как далекая и потому уменьшенная гора. Теория углов не может объяснить этот феномен, ибо ее механизм – пропорциональное уменьшение угла – здесь как будто не работает: угол максимален (или даже превышает возможности зрения), а иллюзия уменьшения сохраняется.
Кульминацией аргументации становится обращение к небесному своду – классическому примеру, ставящему под сомнение любые упрощенные модели восприятия. Полусфера неба, простирающаяся над нами, несомненно, обладает колоссальными реальными размерами. Если бы наше зрение действительно «растекалось» (χυθῆναι) и простиралось (ἐκτεινομένη) до его физических границ, образуя некий гигантский зрительный конус, то, согласно геометрической теории, мы должны были бы видеть его истинные, необъятные масштабы. Но даже если, в уступку оппоненту (εἴ τις βούλεται, δεδόσθω), допустить, что глаз каким-то образом «охватывает» (περιέλαβε) все небо целиком, факт остается неоспоримым: мы видим его как сравнительно неглубокий, близко нависающий купол, а не как бескрайнюю сферу. Его воспринимаемый размер (τὸ φαινόμενον) несоизмеримо, «во много раз» (πολλαπλάσιον) меньше его предполагаемого реального размера. Каким же образом теория зрительных углов, которая должна объяснять уменьшение через сокращение угла, может быть причиной (αἰτιῶιτο) этой иллюзии, если объект и так занимает все поле зрения?
Таким образом, Плотин показывает, что геометрическая модель неадекватна, поскольку она рассматривает восприятие как чисто физический процесс проекции, игнорируя активную роль души в интерпретации чувственных данных. Иллюзия не в том, что образ на «внутреннем экране» мал, а в том, что сама душа, получая этот образ, судит о его удаленности и, соответственно, переинтерпретирует его видимую величину в контексте этого суждения. Критика Плотина предвосхищает позднейшие философские и психологические открытия, подчеркивая, что восприятие пространства – это не простое считывание геометрических параметров, а сложный акт осмысления, в котором задействованы память, опыт и когнитивные схемы. В современном контексте это можно сравнить с критикой наивного репрезентационизма в философии сознания: образ в глазу (или в мозге) – это еще не перцептивный опыт, который всегда уже наделен значением и помещен в структурный контекст «жизненного мира».
Девятый
трактат
. Πρὸς τοὺς κακὸν τὸν δημιουργὸν τοῦ κόσμου καὶ τὸν κόσμον κακὸν εἶναι λέγοντας.
Защита космоса как необходимое условие подлинной духовности.
Критика, которую Плотин разворачивает в девятом трактате второй «Эннеады», – это не просто полемика с гностическими оппонентами. Это фундаментальный акт философской самозащиты и утверждения онтологического оптимизма. Плотин защищает не просто «этот мир», но сам принцип мироздания, его внутреннюю логику, красоту и нравственную ценность. Его аргументация выстраивается в многоуровневую систему, где метафизика, этика и эстетика неразрывно связаны, образуя целостное мировоззрение, противопоставленное дуализму и пессимизму.
I. Онтологический минимализм как основа гармонии
В основе всей полемики лежит плотиновский принцип онтологической экономии. Мир возникает не из произвольного решения или падения, а с необходимостью, как вечное истечение (πρόοδος) из сверхизбыточного совершенства Единого. Эта трёхчленная иерархия – Единое, Ум, Душа – есть исчерпывающая и достаточная структура реальности. Любое умножение сущностей, как это делают гностики, вводя бесчисленные эманации, «поселения» и «отпечатки», является не просто излишним – оно разрушает внутреннюю связность бытия. Логика Плотина здесь строга: из абсолютной простоты Первоначала может следовать только стройная и минималистичная иерархия. Избыточность же свидетельствует не о глубине познания, а о путанице в уме, неспособном уловить единство в многообразии. Этот принцип предвосхищает позднейшую «бритву Оккама», но у Плотина он имеет не методологический, а онтологический характер: простота есть признак совершенства и истинности.
II. Космос как совершенный образ (εἰκών)
Главный объект защиты – чувственный космос. Для гностиков он – творение падшего Демиурга, воплощение зла и заблуждения. Для Плотина – прекрасный и необходимый образ умопостигаемого мира. Ключевой аргумент: совершенный оригинал не может производить несовершенную копию по своей сущности. Если умопостигаемый мир прекрасен, то и его отражение в материи несёт в себе максимум возможной в этом плане красоты и порядка. Космос не равен образцу, но он – наилучшее из возможных подобий. Плотин призывает взглянуть на него непредвзято: вечный круговорот светил, математическая точность их движений, изобилие жизни, соразмерность частей. Это не хаос, а воплощённый Логос. Отрицать его красоту – значит либо слепы, либо требовать от копии тождества с оригиналом, что логически абсурдно.
III. Этическая опасность космического нигилизма
Плотин проницательно видит прямую связь между метафизикой и этикой. Отрицание ценности космоса ведёт к разрушению основы добродетели. Если мир – тюрьма, а тело – темница души, то теряет смысл всякое упорядочивающее усилие внутри этого мира: справедливость, умеренность, гражданские законы. Остаётся лишь два пути: либо гедонистическое погружение в «освобождённые» страсти (ибо внешнее не имеет значения), либо горделивое самоизолирование «избранных». Плотин показывает, что гностики, презирая мир, фактически упраздняют добродетель как таковую, оставляя лишь пустые ритуалы и магические заклинания. Истинная же духовность, по Плотину, рождается не из презрения, а из благоговения (σέβας) перед иерархией бытия и из упражнения в добродетели именно внутри мира, который служит гимнасией для души.
IV. Эстетика как путь к умопостигаемому
Один из самых мощных аргументов Плотина – эстетический. Он реабилитирует чувственную красоту как необходимую ступень восхождения. Музыкант, слыша гармонию звуков, вспоминает умопостигаемую гармонию; геометр, видя пропорции, прикасается к вечным математическим истинам. Точно так же созерцание порядка космоса – не соблазн, а метод. Красота мира – это не обман, а приглашение. Презреть её – значит отказаться от одного из главных инструментов познания Блага. Таким образом, гностический аскетизм, отвергающий красоту, оказывается не духовным подвигом, а духовной слепотой, отсекающей себя от одного из каналов божественного света.
V. Полемика как защита философского разума
Весь трактат – это также защита определённого типа мышления: ясного, последовательного, ответственного. Гностицизм для Плотина – пример спекулятивного мифотворчества, которое подменяет логику аллегорией, а строгость рассуждения – произволом воображения. Он разбирает гностические мифы как тексты, показывая их внутреннюю противоречивость, немотивированность переходов, нарушение причинно-следственных связей. Философия же, в его понимании, – это дисциплина ума, ведущая к созерцанию истины через очищение понятий. Произвол в метафизике так же опасен, как и произвол в этике, ибо это две стороны одного процесса – уклонения от Логоса.
Космос как школа души.
Итог полемики можно сформулировать так: космос не место ссылки души, а её школа. Он создан не по ошибке, а по необходимости, как завершение творческой полноты Блага. Его законы – не оковы, а уроки порядка; его красота – не соблазн, а намёк; его страдания – не наказание, а испытания в рамках общего замысла. Отвергнуть космос – значит отвергнуть саму лестницу восхождения. Подлинное спасение, по Плотину, заключается не в бегстве из мира, а в преобразовании собственного видения: научиться видеть в море – отражение бездны Ума, в сиянии звезды – мысль божественной Души, в справедливости человеческого закона – эхо мировой Гармонии. Защищая космос, Плотин защищает саму возможность духовного пути, укоренённого в разуме, любви к красоте и благодарном приятии дара бытия.
Таким образом, девятый трактат – это манифест холистической духовности, где трансцендентное не отрицает имманентное, а просвечивает через него. Это ответ всем формам мировоззренческого пессимизма: мир достоин не хулы, но преображённого взгляда, который способен увидеть в нём вечный и прекрасный символ абсолютного Блага.
1. О природе Первоначала и структуре умопостигаемого мира в полемике с гностиками.
Критический пафос Плотина в данном трактате направлен против гностических учений, которые, по его мнению, вводят излишние сущности и неоправданно усложняют картину реальности, приписывая творцу и миру злую природу. В ответ на это Плотин предлагает строгую и экономную метафизическую конструкцию, основанную на принципе онтологического минимализма и внутренней необходимости. Исходным пунктом служит утверждение о простоте и абсолютной первичности Единого, или Блага. Эта природа не является составной, не зависит ни от чего иного и не имеет в себе никакого различия или множественности. Слова «Единое» и «Благо» суть лишь различные имена, пытающиеся указать на одну и ту же невыразимую реальность, которая предшествует всякому определению и категоризации. Её аутентичность и самодостаточность проистекают именно из этой простоты: она не из чего не состоит, ни в чём не нуждается и ни на что не опирается. Логическим следствием такой абсолютной простоты является невозможность предположить что-либо превыше неё.
Из этой предельной простоты с необходимостью разворачивается дальнейшая иерархия бытия, строго ограниченная тремя основными уровнями. Сразу после Единого помещается Ум (Нус) как первое и совершенное мышление, а за ним следует Душа (Психе). Эта триада – Единое, Ум, Душа – исчерпывает собой сферу умопостигаемого (ноэтона). Любая попытка умножить число этих начал представляется Плотину философски несостоятельной. Он последовательно опровергает возможные основания для введения дополнительных сущностей. Например, разделение на потенциальное и актуальное в отношении вечно актуальных и бестелесных сущностей лишено смысла. Не имеет основания и гипотеза о двух умах – пребывающем в покое и движущемся, – поскольку сам Ум вечно пребывает в тождественной себе актуальности, а движение и речь (логос) суть уже проявления Души, обращённой к Уму. Таким образом, между Умом и Душой нет места для некой промежуточной природы.
Особенно подробно Плотин анализирует и отвергает попытку создать множественность из актов самого мышления. Недопустимо разделять мыслящий Ум и Ум, сознающий, что он мыслит. Подобное разделение привело бы к абсурдному бесконечному регрессу (сознание того, что сознаёшь мысль, и т.д.) и разрушило бы саму природу истинного Ума. В истинном Уме мыслящее и мыслимое тождественны, а его мышление есть одновременно полное и непосредственное самосознание. Это не два разных акта, а единый, самотождественный акт бытия-мышления. Поэтому говорить о разных сущностях на основании различия мысленных фокусов – значит впадать в иллюзию, порождённую рефлексией, не имеющей места в сфере чистого ноэтического бытия. Подобным образом, гипотеза о некоем отдельном «логосе» как посреднике между Умом и Душой лишает Душу подлинного причастности к уму, оставляя ей лишь его бледное подобие.
Таким образом, внутренняя логика аргументации Плотина выстраивается от принципа абсолютной простоты Первоначала через отрицание любых необязательных сложностей к утверждению стройной, минималистичной и внутренне согласованной онтологической структуры. Эта структура не только опровергает гностический дуализм и пессимизм, но и утверждает рациональную ясность и совершенство мироздания, исходящего из Блага. В современном контексте этот подход может быть рассмотрен как фундаментальный метафизический принцип, отвергающий произвольное умножение сущностей (своего рода «бритва Оккама» в античном варианте) и настаивающий на том, что объяснение высших уровней реальности должно исходить из принципов максимального единства и имманентной самодостаточности.
2. О подражании Ума и тройственной природе Души.
Исходя из установленной простоты высших начал, Плотин развивает концепцию их внутренней устойчивости и иерархического нисхождения. Ум, будучи первым порождением Единого, пребывает в состоянии неизменного и единообразного совершенства, лишённого какого-либо отклонения или непостоянства. Его бытие есть вечное подражание (мимесис) Отцу, насколько это возможно для производной сущности. Это подражание выражается не в действии, а в самотождественном и полном обладании своим умопостигаемым содержанием. Таким образом, Ум выступает как стабильный и совершенный посредник между абсолютной простотой Первоначала и возникающим многообразием.
В отличие от неизменного Ума, человеческая душа обладает сложной, тройственной природой, определяемой её ориентацией и причастностью к разным уровням бытия. Поскольку душа есть единая природа, наделённая множеством сил, её состояние не является фиксированным. Одна её часть всегда пребывает в высших сферах, укоренённая в Уме. Другая часть обращена к телесному и чувственному миру. Между ними находится средняя часть, которая может быть вовлечена в ту или иную сторону. Страдание и падение души возникают тогда, когда она не остаётся в своём лучшем состоянии, а её худшая часть, увлекаемая вниз, тянет за собой и среднюю. Однако высшая часть души никогда не может быть полностью низвергнута, ибо её связь с Умом непреложна.
Этот анализ позволяет Плотину разграничить всеобщую Душу (мировую Душу) и индивидуальную человеческую душу. Всеобщая Душа, пребывая в созерцании того, что выше неё (т.е. Ума), управляет космосом не через расчётливое планирование или исправление несовершенств, а силой своего созерцания. Эта сила, проистекающая из её непрерывного обращения к высшему, есть чудесная упорядочивающая энергия, которая, будучи сама прекрасной и могущественной, дарует бытие и порядок последующему – телесному космосу. Она действует как свет, который, излучаясь, сам остаётся светлым. Таким образом, космос не управляется через хлопотливый труд или исправление извне, но организуется изнутри, благодаря причастности души к вечному источнику красоты и порядка. В этой модели звучит современный мотив имманентной самоорганизации сложных систем, проистекающей не из внешнего вмешательства, а из внутреннего принципа, укоренённого в высшем законе.
3. О необходимости вечного излучения и природе бытия.
Развивая метафору света, Плотин выстраивает онтологический принцип необходимости и щедрости. Реальность мыслится как непрерывная, динамичная иерархия, где каждое высшее начало по самой своей природе изливается вовне, передавая бытие последующему. Мировая Душа, будучи вечно озарённой светом Ума, сама становится источником нисходящего излучения, которое питает, поддерживает и оживотворяет всё нижележащее, в меру способности каждого к восприятию. Этот процесс не случаен и не прерывен; он есть необходимое следствие внутреннего избытка и совершенства высших начал. Подобно тому как огонь по необходимости согревает всё вокруг себя в пределах досягаемости, так и подлинное Благо, Ум и Душа не могут не сообщать от себя иного. Если бы Благо не сообщалось, оно не было бы благом; если бы Ум не излучал, он не был бы умом; если бы Душа не давала жизнь, она не была бы душой. Бытие, по самой своей сущности, есть деятельность, и эта деятельность необходимо распространяется вовне.
Из этого следует важнейший тезис об упорядоченной и вечной последовательности всего сущего. Все вещи связаны между собой непрерывной цепью, где каждое последующее существует благодаря причастности предыдущему. Поэтому мир не был создан однажды во времени, но пребывает в состоянии вечного становления (генезиса). То, что мы называем возникающим и преходящим, на самом деле непрестанно получает бытие от вечных начал. Подлинное уничтожение также невозможно для того, что имеет источник своего бытия вовне и не обладает им самодостаточно; такое существо не «умирает» в абсолютном смысле, но лишь перестаёт получать текущую форму, возвращаясь к материи. Сам же вопрос о возникновении или уничтожении материи лишён смысла в этой системе, ибо материя есть вечное необходимое условие для принятия форм, последний предел ослабления излучения.
Это приводит к решительному отрицанию гностического дуализма и изоляционизма божественного. Если бы божественные начала были полностью отъединены от мира, замкнуты в некоем отдельном месте, то мир был бы лишён порядка, красоты и жизни. Но поскольку это невозможно (ибо противоречит самой природе блага как изливающегося), то мир по необходимости озарён божественным светом. Современное звучание этого аргумента заключается в утверждении имманентной взаимосвязи всех уровней реальности: высшее не отчуждено от низшего, но присутствует в нём как его основание и организующий принцип, исключая тем самым как радикальный трансцендентизм, так и механистический материализм. Космос предстаёт не как творение, отличное от творца, а как вечное и необходимое сияние его сверхизбыточной полноты.
4. О нелепости идеи падения и совершенстве космоса как образа.
Плотин подвергает систематической критике гностическую идею о падении души как причине творения мира. Эта критика строится на анализе внутренних противоречий такой доктрины. Если душа мира согрешила и «потеряла крылья», то возникает ряд неразрешимых вопросов. Когда именно произошло это падение? Если оно вечно, то душа пребывает в заблуждении изначально, и её природа оказывается испорченной, что противоречит её божественному статусу. Если же оно началось во времени, то что было причиной такого внезапного изменения в вечной и неизменной сущности? Плотин отрицает сам акт «склонения» (невсис) как сознательное отпадение. Для него причина нисхождения души не в грехе или забвении, а, скорее, в её силе и избытке, который необходимо изливается, оставаясь при этом укоренённым в высшем.
Гипотеза о творении как следствии забвения высшего мира ведёт к абсурду. Если душа забыла умопостигаемые образцы, то из какого источника она черпает формы для творения? Если же она их помнит, то как можно говорить о полном забвении и падении? Логика Плотина подчёркивает, что творческий акт возможен лишь при сохранении причастности к образцу. Более того, идея, что душа создала мир ради почестей или славы, подобно ремесленнику, смехотворна и является грубым антропоморфизмом, проецирующим человеческие мотивы на божественную природу. Творение для души – не результат расчёта или волевого решения, а естественное и необходимое проявление её сущностной силы (фюсис).
Далее Плотин разбирает следствия гностического пессимизма. Если творение было ошибкой, то почему душа не раскаялась и не уничтожила мир немедленно? Если она ждёт спасения всех индивидуальных душ, то, учитывая испытанное ими зло, они должны были бы раз и навсегда отказаться от воплощения, и мир давно опустел бы. Однако этого не происходит, что свидетельствует против теории раскаяния.
Кульминацией аргументации является защита совершенства чувственного космоса как прекрасного и неизбежного образа (эйдолон, эйкон) умопостигаемого мира. Отрицать его красоту и порядок – значит требовать от копии, чтобы она была равна оригиналу, что логически невозможно. Каждый элемент этого мира – огонь, земля, небесная сфера, солнце – является наилучшим возможным отражением своей вечной идеи в сфере становления. Небесные движения демонстрируют точность и достоинство, а сам космос есть живое, одушевлённое и разумное подобие высшего мира. Таким образом, признавать существование зла и несовершенства в мире – не значит объявлять сам мир злым творением. Напротив, это значит подтверждать его статус как вторичного, но необходимого и прекрасного в своей мере отражения абсолютного Блага. Этот тезис имеет современное звучание как утверждение ценности имманентного мира и отрицание радикального эскапизма: совершенство следует искать не в бегстве от реальности, а в понимании её иерархической структуры и причастности к вечному источнику.
5. Критика антропоморфизма и защита божественности космоса.
Плотин обрушивается на гностическое мировоззрение, разоблачая его внутреннюю непоследовательность и антропоморфное высокомерие. Он указывает на парадокс: гностики, сами будучи людьми, обременёнными телом, страстями, гневом и страданием, дерзают презирать совершенные и вечные небесные тела. Они утверждают, что могут прикоснуться к умопостигаемому, но при этом отказывают в разуме и превосходном устроении солнцу и звёздам, которые пребывают в неизменном порядке и не подвержены пагубным изменениям, свойственным смертной природе. Это, по мысли Плотина, абсурдно: как существа, лишь недавно рождённые и запутанные обманчивыми впечатлениями, могут обладать бо́льшей мудростью, чем вечные небесные сущности, чьё бытие есть чистое и упорядоченное выражение разума?
Далее он вскрывает логическое противоречие в гностической антропологии. Они объявляют душу даже самого порочного человека бессмертной и божественной, но при этом отрицают причастность к бессмертию всего неба и светил, которые по своей природе несравненно прекраснее и чище. Они видят порядок, благолепие и стройность на небесах, но винят в беспорядке земную область, словно бессмертная душа намеренно избрала худшее место, уступив лучшее – смертной душе, стремящейся ввысь. Эта картина, по мнению Плотина, совершенно нелепа.
Особое внимание он уделяет критике гностического учения о «другой душе», которую они конструируют из смешения материальных стихий. Такое объяснение несостоятельно: смесь горячего, холодного, сухого и влажного может произвести лишь определённые физические качества, но не жизнь, сознание, волю или мысль. Как из позднейшего соединения этих четырёх элементов может возникнуть сила, связующая их? Приписывание такому конгломерату восприятия, рассудка и прочих высших способностей лишено всякого основания.
Наконец, Плотин разбирает гностический миф о «новой земле» – особом мире-логосе, созданном как убежище для спасённых душ. Эта идея порождает новые вопросы. Зачем понадобился этот новый мир, если есть совершенный умопостигаемый образец, который они же ненавидят в его земном отражении? Откуда взялся сам этот образец, если его создатель, по их же словам, уже склонился к здешним делам? Если этот мир был создан до нашего космоса как предосторожность для душ, то он явно не сработал, ибо души всё равно пали. Если же он создан после, путём извлечения формы из нашего мира, то одного знакомства с нашим миром должно было быть достаточно для предостережения. Если же они считают, что души сами носят в себе образ этого мира, то в чём тогда новизна их «логоса»? Таким образом, гностическая конструкция предстаёт как произвольное и внутренне противоречивое мифотворчество, не выдерживающее проверки рациональной последовательностью. Этот аргумент звучит современно как критика любых идеологических систем, которые, претендуя на духовное превосходство, строят картину мира на логических несообразностях и презрении к физической реальности.
6. О плагиате и искажении истинной философии.
Плотин переходит к финальному и весьма резкому обвинению гностиков: в интеллектуальном плагиате, искажении учения Платона и введении произвольных, лишённых основания сущностей. Он анализирует такие их концепты, как «поселения» (пароикэсис), «отпечатки» (антитипос) и «раскаяния» (метанойа). Если они трактуют их как состояния или переживания души (патэ) – например, раскаяние или восприятие образов вместо истинных сущностей – то это лишь новая терминология для описания уже известных философских процессов. Гностики лишь переиначивают на свой лад ясные и безыскусные образы Платона, такие как восхождение из пещеры к всё более истинному созерцанию. По сути, всё ценное в их системе заимствовано у Платона, а всё, что они изобретают для создания собственной «оригинальной» философии, оказывается за пределами истины.
Далее Плотин указывает на прямое заимствование: учение о судах, реках Аида и перевоплощениях – всё это из платоновской традиции. Стремление умножить число умопостигаемых сущностей – Бытие, Ум, Демиург, Душа – также восходит к словам Платона в «Тимее». Однако гностики не поняли глубины платоновской мысли. Они раздробили единое целое: приняли одно начало как покоящееся в себе, другое – как ум, созерцающий его, а третье – как «размышляющий» ум или душу-демиурга. Этим они утратили понимание истинной природы творящего начала. Более того, они искажают сам способ творения и опорочивают мнение Платона, будто сами постигли умопостигаемую природу, а он и другие блаженные мужи – нет.
Их метод, по Плотину, порочен: умножая умопостигаемые сущности, они лишь приближают божественное к чувственному и множественному, тогда как истинная задача – стремиться там к максимальной малочисленности. После Первоначала всё уже дано в Уме, который есть и первое мышление, и сущность, и все прочие прекрасные вещи. Третьим видом является Душа. Искать же различия душ в их страстях или низшей природе – значит бесчестить божественных мужей.
В заключение Плотин призывает к интеллектуальной честности. Нет никакой зависти в том, чтобы с ними не соглашаться. Но их метод – поносить эллинов и хвастаться своими учениями перед слушателями – неприемлем. Им следовало бы мирно и по-философски излагать свои собственные мнения, противопоставляя их старым учениям справедливо, глядя на истину, а не ища славы через осуждение мужей, издревле признанных добрыми не среди дурных людей. Ибо сказанное древними об умопостигаемом гораздо лучше и образованнее. Всё, что есть у гностиков ценного, взято у них, но приправлено неуместными добавлениями: введением полных возникновений и уничтожений, хулой на это вселенную, обвинением души в общении с телом, поношением Управителя всем этим, отождествлением Демиурга с душой и приписыванием ему тех же страстей, что и частичным душам. Это и есть итог их философского творчества – искажение великой традиции в угоду гордыне и созданию ложной оригинальности. Этот пассаж звучит как вневременное предостережение против сектантского высокомерия, догматизма и интеллектуальной недобросовестности, подменяющей поиск истины конструированием эзотерических систем.
7. О вечности космоса и различной природе души.
Утвердив вечность космоса как необходимое следствие вечности высших начал, Плотин переходит к тонкому различению между причастностью души к телу в человеке и в космосе. Он предостерегает от ошибочной аналогии: переносить опыт нашей, человеческой души, страдающей от связи с телом, на отношение мировой Души к космическому телу – всё равно что, наблюдая за судьбой горшечников или медников в благоустроенном городе, судить по ним обо всём граде. Управление целым принципиально иное, и оно не связано узами зависимости.
Ключевое различие заключается в положении и власти. Наша душа уже заключена в тело, подчинена возникшему телесному устроению. В космосе же, напротив, природа тела связана изначально силой мировой Души, которая сама не подчинена тому, что ею же упорядочено. Поэтому Душа космоса остаётся бесстрастной по отношению к нему. Напротив, мы не властны над нашим телом. Часть нашей души, обращённая к божественному, остаётся нетронутой и незатронутой, тогда как часть, дарующая жизнь телу, ничего от тела не получает. Поясняя это, Плотин приводит ряд ярких метафор: подобно привитому черенку, который, даже засыхая, позволяет растению-подвою жить своей жизнью; или подобно тому, как погашение твоего внутреннего огня не угашает всего огня во вселенной. Даже если бы всё космическое тело разрушилось, это не затронуло бы высшую Душу, ибо её бытие не зависит от конкретной материальной конфигурации.
Более того, сам способ организации различен. В живых существах душа с трудом удерживает ускользающие части в порядке, связывая их «вторыми узами». В космосе же телам некуда бежать из предустановленного порядка. Поэтому мировой Душе не нужно насильственно удерживать их внутри или вталкивать извне; они пребывают там, где их изначально определила природа. Зло и страдание возникают не из-за дурного устроения целого, а из-за неспособности отдельных частей вынести его совершенный порядок. Как в великом хоре, движущемся в слаженном порядке, черепаха, случайно попавшая на его путь, будет растоптана не потому, что хор плох, а потому, что она не может ни избежать его, ни встроиться в его ритм. Если бы она смогла встать в строй, она не пострадала бы. Так и в космосе: страдают лишь те части, которые не в силах выдержать или соответствовать совершенному порядку целого. Этот аргумент не только защищает провиденциальное управление, но и перекладывает ответственность за частное зло на несоответствие части гармонии целого, а не на злую волю творца.
8. О вечной причине творения и доказательствах совершенства космоса.
Вопрос «почему Демиург создал мир?» для Плотина лишён смысла, поскольку предполагает временное начало и изменение воли. Это равносильно вопросу «почему существует душа?» или «почему существует сам Демиург?». Искажение возникает, когда представляют творящее начало обратившимся от чего-то к чему-то и изменившимся. Подлинная причина творения лежит не в решении или повороте, а в самой природе высших сущностей. Их бытие есть вечная деятельность, и нисхождение – необходимое следствие их избытка. Поэтому нужно понять эту природу, чтобы прекратить необоснованные поношения достойного.
Плотин приглашает к созерцанию величия мирового управления, являющего мощь умопостигаемой природы. Вселенная живёт не фрагментарной жизнью, как малые существа в ней, рождающиеся и умирающие, но обладает непрерывной, явной, повсеместной и изобилующей жизнью, являющей непостижимую мудрость. Как же не назвать её прекрасным и очевидным изваянием умопостигаемых богов? Если же упрекнуть её в несовершенном подражании, то следует понять, что она подражает настолько, насколько это возможно для природного образа, и ничего не упущено из того, что могло быть в прекрасном естественном подобии. Ибо подражание это не результат расчёта или искусства; умопостигаемое не может быть последним, у него необходимо есть двойная энергия: одна пребывает в нём самом, другая обращена к иному. Должно быть нечто после него, ибо только у Единого нет ничего ниже, что было бы признаком абсолютного совершенства, а не бессилия. Божественная сила там столь чудесна, что она и производит. Если бы мог быть мир лучше этого, то какой? Но если мир необходимо должен существовать, а другого нет, то этот мир и есть тот, что сохраняет подобие высшему.
Далее Плотин перечисляет доказательства совершенства космоса: земля полна разнообразных живых существ, всё вплоть до неба исполнено жизни, звёзды и светила движутся в порядке и круговращаются в космосе. Почему же они не должны обладать добродетелью? Им не мешают те вещи, что делают дурными людей: страсти, телесные немощи, нужда. Напротив, они вечно пребывают в досуге, мыслят и воспринимают Бога и других умопостигаемых богов. Как же наша мудрость может быть лучше их?
Наконец, он обращается к судьбе человеческих душ. Если они пришли в мир по принуждению мировой Души, то как принуждённые могут быть лучше той, что принудила? Ибо в душах правящее начало выше. Если же они пришли по собственной воле, то в чём упрёк миру, который даёт и возможность уйти, если он не нравится? Более того, если этот космос таков, что в нём возможно обрести мудрость и жить, находясь здесь, согласно тем высшим принципам, то разве это не свидетельствует о его прямой зависимости от них? Космос, таким образом, есть не тюрьма, а школа и храм, где через созерцание его порядка душа может восходить к своему источнику. Этот аргумент направлен против всякого мировоззренческого пессимизма и утверждает имманентную ценность упорядоченного природного целого как пути к трансцендентному.
9. Об оправдании неравенства, божественном промысле и гностической гордыне.
Плотин переходит к ответу на конкретные моральные возражения против устройства мира, такие как неравенство в богатстве и бедности. Он утверждает, что подлинно достойный человек не ищет равенства в этих внешних вещах и не считает обладателей многого превосходящими себя. Его стремление иное, и он оставляет подобную погоню другим. Жизнь здесь двояка: для достойных она устремлена к высшему, для большинства людей – более человечна и тоже делится на тех, кто помнит о добродетели, и дурную толпу, служащую по необходимости более порядочным. Преступления, слабости и страсти в мире столь же естественны, как ошибки у детей, ещё не достигших зрелости души. Сам мир можно уподобить гимнасию, где есть победители и побеждённые, и в этом также есть свой порядок. Для бессмертной души даже несправедливость или убийство со стороны другого не есть конечное зло; более того, закон позволяет покинуть общество, если оно не нравится.
Важно, признаёт Плотин, что в мире есть суды и наказания. Как же можно порицать град, который каждому воздаёт по заслугам? Здесь добродетель почитается, а порок получает должное бесчестие. Боги не только присутствуют в виде изваяний, но и сами взирают свыше, легко, как говорит Платон, избегая ответственности перед людьми, ибо они ведут всё от начала к концу в порядке, даруя каждому подобающий жребий согласно воздаянию за предшествующие жизни. Кто этого не понимает, тот невежественно дерзок в божественных делах.
Затем Плотин излагает позитивную программу: следует стремиться стать наилучшим самому, но не думать, что лишь ты один способен на это. Надо верить, что и другие люди могут быть лучшими, а также добрые демоны, и тем более боги – как пребывающие здесь, взирающие туда, и в первую всем – Владыка всего этого мира, блаженнейшая Душа. Затем надлежит воспевать умопостигаемых богов, а над всеми – великого Царя тамошнего, являющего своё величие именно в множестве богов. Ибо сила Бога познаётся не в сведении к одному, а в указании на обширность божественного, насколько он сам её явил, оставаясь тем, кто он есть, он производит многих, всех зависящих от него, через него и от него сущих.
И этот космос существует через Него и взирает на Него. Каждый бог пророчествует людям и использует то, что им любезно. Если же они не суть то, что есть Он, – такова их природа.
Далее следует суровая критика гностической гордыни. Если же ты, человек, желаешь смотреть свысока и важничать, считая себя не худшим, то знай: чем кто лучше, тем он благосклоннее ко всем, в том числе к людям. Достоинство должно быть в меру, без грубости, восходя лишь настолько, насколько позволяет наша природа, признавая, что и другим есть место у Бога, а не одному тебе рядом с Ним. Иначе, возомнив себя единственным избранным, ты лишь воспаришь в сновидениях, лишив себя возможности стать насколько может душа человека подобной Богу. А может она настолько, насколько ведёт её ум; что же выше ума – уже вне ума.
Неразумные люди легко поддаются таким речам, внезапно слыша, что станешь лучше всех не только людей, но и богов (ибо в людях велика самонадеянность). И человек, прежде скромный и простой, услышав: «Ты – сын Бога, а другие, кого ты чтил, – не сыны, и почтенные ими отцы – ничто, а ты сильнее и неба, ничего для того не сделав», – поддаётся, особенно когда другие подхватывают это. Это подобно тому, как если бы среди не знающих счёта человек, не знающий, что такое тысяча локтей, лишь воображал бы, что тысяча – большое число, и считал бы себя тысячелоктевым, а других – пятилоктевыми.
И наконец, Плотин задаёт убийственный риторический вопрос: если, как утверждают гностики, Бог печётся о вас, то почему же Он небрежёт всем космосом, в котором и вы пребываете? Если Ему недосуг или неприлично взирать вниз, то, взирая на вас, разве Он не взирает вовне? А если не взирает вовне, чтобы не видеть космос, то и вас не видит. Но вы в Нём не нуждаетесь? Однако космос нуждается и знает Его порядок, и знают те, кто в нём, как в нём пребывать и как – там. И мужей, что дружны с Богом, кротко переносящих то, что нисходит на них от космоса по необходимости от движения всего (ибо надлежит взирать не на прихоть каждого, а на целое), чтящих каждого по достоинству и всегда стремящихся туда, куда стремятся все способные к тому. Многое там стремится, и достигшие блаженны, а прочие имеют подобающий им удел, насколько возможно. Но они не присваивают себе единолично эту способность, ибо то, что они заявляют как обладание, на деле – не обладание. Многие, зная, что не имеют, говорят, что имеют, и думают, что имеют, не имея, и что лишь они обладают тем, чем они одни не обладают.
10. О методе полемики и высшей нелепости гностического мифа.
Завершая трактат, Плотин указывает, что при желании можно было бы привести ещё множество, а точнее, бесчисленные доводы в защиту каждого положения, демонстрируя, как всё обстоит на деле. Однако его удерживает некое чувство стыда перед некоторыми друзьями, которые, познакомившись с этим гностическим учением раньше, чем сблизились с ним, остаются, он не знает почему, приверженцами его. При этом сами гностики не стесняются – желая, чтобы их мнения считались истинными и заслуживающими доверия, или же искренне веря в их истинность – говорить то, что говорят. Но Плотин пишет не для них (ибо нет пользы в том, чтобы их переубеждать), а для своих знакомых, чтобы те не терпели беспокойства от их притязаний, основанных не на доказательствах (ибо откуда им взяться?), а на голом упрямстве.
Плотин отмечает, что существует иной способ полемики, которым можно было бы защищать древних и божественных мужей от поношения тех, кто дерзает хулить их правильно и в согласии с истиной сказанные слова. Такой способ исследования следует оставить. Ибо тем, кто точно поймёт сказанное здесь, будет ясно и обо всём остальном, как оно обстоит. Но одно следует сказать в заключение, и это превосходит всякую меру нелепости, если только это можно назвать нелепостью.
Воспроизводя гностический миф, Плотин доводит его абсурдность до предела: утверждая, что душа склонилась вниз и что некая «Премудрость» (София) – будь то сама душа, начавшая это, или причина такой премудрости, или же они тождественны – они говорят, что все прочие души сошли вместе с ней и являются членами этой премудрости. Эти-то души, по их словам, и облеклись в тела, например, человеческие. А та самая, ради которой и они сошли, – её, говорят они, опять-таки не сошла, то есть не склонилась, но лишь озарила тьму, и от неё затем возникло отображение в материи. Потом, вылепив из этого отображения ещё одно отображение уже здесь, из материи или материальности (или как они это ни назови), говоря то одно, то другое и нагромождая множество имён для затемнения смысла, они порождают так называемого у них Демиурга и, оторвав его от матери, заставив создать мир, низводят его до последних пределов отображений, – так что сильно поносит того, кто это написал.
Этим саркастическим резюме гностического мифотворчества Плотин подводит итог: учение это не только противоречиво и заимствовано, но и достигает вершины бессмысленности в своей собственной мифологической структуре, порождая бесконечные и ненужные сущности (эйдола эйдолон) и затем хуля собственное же порождение. Это есть окончательный приговор со стороны философского разума, требующего ясности, простоты и внутренней согласованности, против произвольного и затемнённого мифологизма, прикрывающегося претензией на высшее знание.
11. Разбор внутренних противоречий гностического мифа.
Начиная заключительную критику, Плотин детально разбирает гностический миф о Софии и её «излучении», выявляя его внутреннюю несостоятельность на каждом шагу. Первый вопрос: если она не сошла, а лишь озарила тьму, то как можно говорить, что она «склонилась»? Если от неё что-то истекло, подобно свету, это ещё не значит, что она сама склонилась. Разве что если что-то уже лежало внизу, а она приблизилась к нему пространственно и, став близко, озарила. Но если она, оставаясь на своём месте, озарила, не приложив к этому усилий, то почему озарила только она, а не более могущественные, чем она, сущности? Если же она смогла озарить благодаря тому, что замыслила мир, то почему, озарив, она не создала мир сразу, а остановилась на порождении призраков?
Далее, и сам этот замысел мира, их так называемая «чужая земля», созданная высшими силами, по их же словам, не привёл к склонению тех, кто её создал. Затем: как материя, будучи озарённой, производит душевные призраки, а не природу тел? Призрак души вообще не нуждался бы во тьме или материи, а, возникнув, следовал бы за своим творцом и был бы с ним связан.
Затем вопрос: это призрак – сущность или, как они говорят, мысленный образ? Если сущность, то чем она отличается от своего источника? Если же это иной вид души, и если та была разумной, то, возможно, эта – растительная и порождающая. Но если так, то как она ещё может творить ради почёта, а тем более – из дерзости и наглости? И вообще, всякое творение через фантазию, а тем более через расчёт, исключается. Да и к чему было ещё создавать творца из материи и призрака? Если же это мысленный образ, то, во-первых, надо указать источник этого термина; во-вторых, как он существует, если не наделить сам мысленный образ способностью творить? Но при таком вымысле – как возможно творение? Сначала это, потом то – словно они говорят с полной произвольностью.
И наконец, самый простой и разоблачительный вопрос: почему первым был создан огонь? Этот внезапный и наивный вопрос обрывает сложные спекуляции, возвращая к элементарной необоснованности их космогонической схемы. Вся конструкция оказывается произвольным нагромождением сущностей, лишённым внутренней необходимости и логической связности, что и демонстрирует её философскую несостоятельность. Этот метод критики, разбирающий теорию на составные части и показывающий их нестыковку, остаётся классическим образцом рациональной полемики против догматического мифотворчества.
12. О невозможности творения по памяти и истинных причинах космоса.
Плотин продолжает критику, сосредотачиваясь на нелепости творческого акта гностического Демиурга. Согласно их мифу, этот только что возникший призрак (эйдолон) принимается за творение по памяти (мнэмэ) того, что он видел. Но, возражает Плотин, в принципе не существовало ни его самого, ни его «матери» (Софии), чтобы им было что видеть! Если же допустить это, то возникает вопиющее противоречие: сами гностики признают, что их собственные, подлинные души, пришедшие в этот мир, – не призраки, а истинные души, – лишь с трудом и едва ли одна-две из них могут оторваться от мира и с великим трудом восстановить в памяти то, что когда-то видели. Как же тогда этот материальный призрак, только что возникший, и к тому же, как они говорят, смутный, может не только вспомнить те вещи или свою мать, но и получить понятие о том мире и даже понять, из чего следует творить? Откуда, например, взялась мысль создать первым именно огонь? Разве он решил, что это нужно? Но почему не что-то иное? Если он мог создать огонь, просто подумав о нему, то почему, подумав о мире (а сначала надо было подумать именно о целом), он не создал мир весь сразу, одним махом? Ведь и огонь, и всё прочее уже содержалось в этой мысли.
Плотин противопоставляет этому искусственный, ремесленный образ творения естественному, природному. Гностический Демиург действует как ремесленник, последовательно собирающий части, подобно ремесленнику или художнику, как если бы он был изобретателем, скажем, цитры, которой ранее не существовало. Такие искусства (технэ) вторичны по отношению к природе и космосу. В природе же всё происходит иначе: когда образуются живые существа, не возникает сначала огонь, потом каждый элемент, потом их смешение. Нет, происходит облечение и очертание, накладывающее отпечаток на менструальной крови, сразу формирующее всё живое целое. Почему же там материя не была сразу обведена отпечатком мира, в котором были бы уже и земля, и огонь, и всё остальное? Возможно, они скажут, что сами бы так создали мир, пользуясь более истинной душой, а тот Демиург так создать не умел. Но это абсурдно: предусмотреть величину неба, точнее, его именно такую величину, наклон зодиака, движение планет, устроение земли так, чтобы можно было указать причины, почему всё так, – это не дело призрака, а явно результат силы, исходящей от наилучшего. Что, кстати, они и сами невольно признают.
Далее Плотин возвращается к ключевому моменту – «озарению тьмы». Если озарение необходимо, то оно либо согласно природе, либо вопреки природе. Если согласно природе, то так было всегда (и космос вечен). Если же вопреки природе, то противоестественное уже существует «там», в умопостигаемом, и зло предшествует этому миру; и не космос причина зол, а тамошние вещи – ему; и душа приносит зло не отсюда, а от себя самой. И рассуждение неизбежно возведёт космос к первым причинам. То же и с материей: откуда она явилась? Ибо душа, склонившись, уже увидела, как они говорят, существующую тьму и озарила её. Но откуда же сама тьма? Если же они скажут, что она сама произвела её, склонившись, то, значит, не было того, куда бы она склонилась, и не тьма была причиной склонения, а сама природа души. Но это то же самое, что и предыдущие необходимости. Следовательно, причина опять-таки в первоначалах.
Таким образом, все попытки гностиков вывести зло и несовершенство из некоего промежуточного падения или заблуждения ведут к логическому тупику, заставляя в конечном счёте искать причину либо в вечной природе высших начал (что ведёт к признанию необходимости и вечности космоса), либо в них же как источнике зла (что разрушает их же концепцию блага). Плотин последовательно показывает, что его стройная и экономная система, восходящая от совершенного космоса к простому Единому, логически неизбежна и не оставляет места для произвольных и противоречивых мифологем.
13. О невежестве хулящих космос и природе зла.
Тот, кто порицает природу космоса, не ведает, что творит, и не понимает, куда заводит его эта дерзость. Невежество это проистекает из незнания порядка последовательных начал: первых, вторых, третьих и так вплоть до последних. Не должно поносить худшее из-за лучшего, но следует кротко согласиться с природой всего, самому устремляясь к первому и оставив трагедию мнимых ужасов в сферах космоса, которые, в сущности, творят для них всё благостным. Ибо что страшного в них, чтобы пугать неискушённых в рассуждениях, не слышавших образованного и гармоничного знания? Не потому ли, что тела их огненны? Но страшиться надо соразмерно целому и с оглядкой на землю, а взирать следует на их души, коим и они, несомненно, желают быть почтенными. Да и тела их, превосходящие величиной и красотой, содействуют и помогают происходящему по природе, чему никогда не быть, пока есть первые начала, и они дополняют целое, будучи великими частями вселенной. Если человек имеет некое достоинство перед прочими животными, то тем более эти светила, пребывающие во всём не ради тирании, а ради того, чтобы давать миру порядок и строй.
А то, что говорят о происходящем от них, следует считать знамениями грядущего. Происходящее же бывает различным и зависит от случайностей (ибо невозможно, чтобы с каждым случалось одно и то же), от сроков рождений, от мест, весьма удалённых друг от друга, и от состояний душ. Не должно вновь требовать, чтобы все были хороши, и, поскольку это невозможно, не спешить порицать, словно эти вещи ничем не отличаются от тех. И зло не должно считать чем-то иным, кроме как недостаточным в отношении разумения и меньшим благом, всегда движущимся к меньшему. Как если бы кто называл природу злом, потому что она не есть ощущение, а ощущающее – потому что оно не есть разум. Иначе они будут вынуждены признать, что и там есть зло: ибо и там душа хуже ума, а ум – меньше иного.
Этим финальным рассуждением Плотин не только защищает космос, но и даёт онтологическое определение зла. Зло – не положительная сущность, а недостаток, лишённость, ослабление блага, необходимо возникающее при удалении от Первоначала. Оно не врывается в мир извне через злую волю, а проистекает из самой структуры бытия как его последний и наименее совершенный предел. Поэтому порицать мир за наличие зла – значит не понимать самой природы иерархической реальности. Истинная задача – не хулить низшее, а устремляться к высшему, преодолевая в себе то самое «движение к меньшему», которое и есть корень всякого несовершенства. В этом заключён глубокий этический императив: вместо того чтобы проецировать своё недовольство на мироздание, следует заняться самосовершенствованием, признавая космос необходимым и прекрасным отражением высшего Блага.
14. О магических практиках и истинной философской простоте.
Особое негодование Плотина вызывает магический и теургический аспект гностического учения, который, по его мнению, особенно ярко демонстрирует его несостоятельность и профанацию высшего. Он обличает практику заклинаний (эпаойда), которые гностики адресуют не только душам, но и высшим сущностям. Что они делают, как не колдовство, чары и попытки убедить и подчинить разумом эти сущности, чтобы те повиновались словам? Они полагают, что тот, кто искуснее в произнесении определённых заклинаний, звуков, напевов, выдохов и шипений, может магически воздействовать на умопостигаемое. Но если они не хотят признавать это колдовством, то как могут бестелесные сущности подчиняться голосам? Таким образом, те, кто стремится придать своим речам больше величия, сами того не замечая, лишают величия те самые сущности, к которым взывают.
Переходя к медицинским претензиям, Плотин разбирает утверждения об изгнании болезней как демонов. Если бы они говорили об очищении через воздержание и умеренный образ жизни, как учат философы, это было бы правильно. Но они, предполагая, что болезни суть демоны, и утверждая, что могут изгонять их заклинаниями, кажутся более внушительными в глазах толпы, восхищающейся силой магов, но не убеждают здравомыслящих. Ибо причины болезненны очевидны: усталость, пресыщение, недостаток, разложение, вообще изменения, берущие начало извне или изнутри. Об этом свидетельствуют и методы лечения: когда желудок очищается или даётся лекарство, болезнь выходит наружу; кровопускание или голод также исцеляют. Что же тогда происходит с демоном? Если он проголодался от лекарства или растворился, или вышел целиком, или остался внутри? Если остался, то почему при его присутствии болезнь прекращается? Если вышел, то почему? Разве что потому, что он питался болезнью. Значит, болезнь была отлична от демона. Далее: если демон входит без причины, почему мы не болеем всегда? Если же для входа нужна причина, то зачем нужен демон для самой болезни? Причина лихорадки сама по себе достаточна, чтобы её произвести. Смешно предполагать, что одновременно с причиной тут же как бы подставляется готовый демон.
Плотин подчёркивает, что цель его критики ясна: именно ради этого он и упомянул об этих демонических теориях. Остальное он оставляет читателям для самостоятельного изучения и наблюдения, с одним ключевым критерием: вид философии, который исповедует он сам, наряду со всеми прочими благами являет простоту нрава вместе с чистым мышлением, стремится к достоинству, а не наглости, к разумной отваге с большой осмотрительностью, осторожностью и величайшей осмотрительностью. Всё же прочее должно быть сопоставлено с этим образцом. Учение же их, напротив, устроено совершенно противоположным образом во всём. Ибо больше нечего сказать; так следует нам говорить о них.
Этим заключением Плотин не просто критикует конкретные практики, а устанавливает фундаментальный водораздел между подлинной философией, ищущей внутреннего преображения через понимание и этическую практику, и гностическим синкретизмом, замещающим это понимание внешним ритуалом, магией и горделивыми спекуляциями. Истинная мудрость сопряжена со скромностью, осторожностью и чистотой ума, тогда как ложное знание ведёт к самонадеянности и профанации священного. Этот пассаж звучит как вневременное предостережение против подмены духовного роста оккультными техниками и интеллектуальной гордыней.
15. О нравственных последствиях гностического учения.
Завершая трактат, Плотин ставит ключевой вопрос о нравственном и психологическом воздействии гностических доктрин на души слушателей, убеждённых презирать космос и всё в нём сущее. Это воздействие он рассматривает в контексте двух основных жизненных ориентаций (аирэсэис): одна полагает целью телесное удовольствие, другая избирает прекрасное и добродетель, влечение к которым укоренено в Боге и ведёт к Богу. Эпикур, упразднив промысел, призывает преследовать удовольствие и наслаждение как единственное оставшееся. Гностическое же учение, по мнению Плотина, действует ещё более пагубно и дерзко: понося самого Владыку промысла и сам промысел, бесчестя все здешние законы и добродетель, открытую за всё течение времени, а также относя к смеху само воздержание (сопросинэ), оно добивается того, чтобы здесь не усматривалось никакое благо. Тем самым оно упраздняет и воздержание, и врождённую в нравах справедливость, совершенствуемую разумом и упражнением, и вообще всё, благодаря чему человек мог бы стать достойным.
Таким образом, последователям этого учения остаётся лишь удовольствие, забота лишь о себе, отказ от общности с другими людьми и погоня за одной лишь полезностью – если только кто-то своей природой не окажется сильнее этих речей. Ибо в этой системе для них нет ничего прекрасного, но есть нечто иное, что они когда-нибудь станут преследовать. Хотя им следовало бы, уже познав это отсюда, стремиться туда, а стремясь, сначала достигнуть праведности здесь, ибо они пришли от божественной природы. От той природы, что внемлет прекрасному и презирает телесное удовольствие. Тем же, кто не причастен добродетели, вовсе не двинуться к тем высотам.
Показательно и то, что они не создали никакого учения о добродетели, полностью пренебрегли рассуждением о ней: не говорят, что она такое, сколько её видов, не рассматривают множество прекрасных вещей, открытых в речах древних, не указывают, из чего она состоит и как обретается, как врачуется и очищается душа. Ведь сказать «взирай на Бога» не приносит пользы, если не учит, как именно взирать. Ибо что мешает, скажет кто-нибудь, взирать и при этом не воздерживаться ни от каких удовольствий или быть необузданным в гневе, помня лишь имя Бога, но будучи охваченным всеми страстями и не пытаясь ни одну из них изгнать? Добродетель же, восходя к цели и вселившись в душу вместе с рассудительностью, являет Бога. Без же подлинной добродетели Бог есть лишь имя.
Этим финальным аккордом Плотин обнажает главную опасность гностицизма: его разрушительное воздействие на этику. Отрицая ценность космоса, его законов и традиционной добродетели, учение это подрывает саму основу нравственного совершенствования, оставляя человека во власти страстей под прикрытием ложной духовности. Истинный путь к божественному лежит не через презрение к творению, а через воспитание в себе справедливости, воздержания и разумения внутри этого мира, который сам есть образ высшего Блага. Таким образом, трактат завершается утверждением неразрывной связи космологии, этики и теологии: познание Бога невозможно без нравственного очищения, а нравственное очищение невозможно без признания благости и порядка мироздания.
16. О нечестии презрения к миру и его богам.
Плотин завершает трактат всесторонним обличением нечестия, заключённого в гностическом презрении к космосу и его богам. Он утверждает, что само это презрение не только не способствует становлению благим, но является признаком и причиной порочности. Всякий дурной человек и прежде того готов презирать богов; и не каждый, прежде чем стать дурным, презирает их, но сам факт презрения уже делает его таковым. Более того, даже их предполагаемое почитание умопостигаемых богов становится бесчувственным и лицемерным. Ибо тот, кто имеет любовь и родство к чему бы то ни было, с любовью принимает и детей того, кого любит как отца. А всякая душа – дитя того Отца. Души же, пребывающие в этих светилах, – разумны, благи и гораздо более сопряжены с умопостигаемым, чем наши. Ибо как мог бы этот космос быть отрезанным от него? И как – боги в нём?
Возвращаясь к теме промысла, Плотин вскрывает очередное противоречие. Утверждать, что промысел не простирается на здешние вещи или на что-либо, – как это благочестиво? И как это согласуется с их же словами, что Он печётся только о них? Печётся ли о них, когда они там, или и когда они здесь? Если там, то как они сюда пришли? Если здесь, то как они ещё здесь? И как Он Сам не присутствует здесь? Ибо откуда Он узнает, что они здесь? И как узнает, что они, будучи здесь, не забыли Его и не стали дурными? Если же Он знает тех, кто не стал дурным, то знает и тех, кто стал, чтобы отличить их от первых. Следовательно, Он присутствует всем и будет в этом космосе, каким бы ни был Его способ присутствия. А значит, и космос будет причастен Ему. Если же Он отсутствует для космоса, то отсутствует и для вас, и вы не могли бы говорить ни о Нём, ни о последующих сущностях.
Но если к вам приходит некий промысел оттуда, или что вы там ни хотите, то и космос имеет оттуда же и не оставлен, и не будет оставлен. Ибо промысел и причастность к целому гораздо больше, чем к частям, и тем более от той Души. Об этом свидетельствует само бытие космоса и его разумное устроение. Кто из высокомерно неразумных столь упорядочен и разумен, как целое? Сопоставлять – и смешно, и весьма нелепо, и тот, кто сопоставляет не ради рассуждения, не избегнет нечестия. Да и исследовать это – дело не разумного, а слепого, совершенно лишённого и чувства, и ума и далёкого от того, чтобы видеть умопостигаемый космос, который не видит этот.
Плотин завершает величественным эстетическим и духовным аргументом. Какой музыкант, увидев гармонию в умопостигаемом, не придёт в движение, услышав её в чувственных звуках? Или какой знаток геометрии и чисел, увидев соразмерность, пропорцию и порядок зримо, не возрадуется? Ведь не одинаково видят одно и то же даже на картинах те, кто видит взором искусства, но, узнавая в чувственном подражание тому, что пребывает в мысли, они как бы взволнованно приходят в воспоминание об истинном; от этого-то переживания и рождаются влюблённости. Но если видящий красоту, хорошо переданную в лице, устремляется туда, то настолько ли вял будет умом и ни к чему иному не подвигнется тот, кто, видя все красоты в чувственном, всю соразмерность, этот великий порядок и являющийся в звёздах образ, хотя и далёких, – не размышляет отсюда и не объят благоговением, помышляя, сколь великое от сколь великих? Значит, он не постиг ни эти вещи, ни те не видел.
Этим финальным пассажем Плотин утверждает космос как необходимую и прекрасную школу души, путь к божественному через созерцание его порядка и красоты. Истинный философ, подобно музыканту или геометру, видит в чувственном мире отблеск умопостигаемых истин и, восхищаясь им, восходит к их источнику. Презрение же к миру есть признак глухоты и слепоты души, неспособной ни к истинному восприятию, ни к подлинному знанию. Так трактат замыкает круг: защита космоса оказывается не просто полемикой с оппонентами, но утверждением самого метода философского познания, основанного на любви, благоговении и способности видеть единство всего сущего в его иерархической гармонии.
17. О созерцании умопостигаемой сферы и природе красоты.
Плотин обращается к возможному источнику гностической неприязни к телесной природе – платоновской критике тела как помехи для души. Но, утверждает он, даже если они, услышав от Платона много порицаний в адрес тела, почувствовали к нему ненависть, им следовало бы мысленно отбросить эту телесность и увидеть остающееся: умопостигаемую сферу, заключающую в себе форму, лежащую в основе космоса, души в порядке, которые без тел дают величие, приводя умопостигаемое к протяжённости, так чтобы величием возникшего бесплотное уподобилось в возможности образцу. Ибо то, что там велико в возможности, здесь – в объёме.
И хотят ли они мыслить эту сферу движущейся, вращаемой божественной силой, имеющей начало, середину и конец всего, или же пребывающей в покое как ещё не управляющей чем-то иным, – хорошо было бы прийти к понятию души, управляющей этим всем. Затем, уже присоединив к ней тело, – так что она не пострадает, но даст иному, ибо не должно быть зависти у богов, – иметь так, чтобы каждое получало, что может, и так им мыслить согласно космосу, давая душе космоса столько силы, насколько она, сделав не прекрасную по себе телесную природу, насколько возможно для неё прекрасной, причастной красоте. Это и самих божественных душ приводит в движение.
Разве что они сами скажут, что не приводятся в движение и не видят различно безобразные и прекрасные тела. Но так они не видят различно и безобразные и прекрасные занятия, ни прекрасные науки, а значит, и не видят созерцаний, а значит, и Бога. Ибо через эти первые [прекрасные вещи] – те. Если же не эти, то и не те; после тех – эти прекрасны.
Когда же они говорят, что презирают здешнюю красоту, хорошо бы им было презирать красоту в детях и женщинах, чтобы не быть побеждёнными невоздержанностью. Но следует знать, что они не гордились бы, если бы презирали безобразное, а гордятся, сказав сначала, что оно прекрасно. И как они при этом расположены? Затем, что не одно и то же красота в части и в целом, во всех и во всём. Затем, что есть такие красоты и в чувственном, и в частичном, какие принадлежат демонам, так что приходится удивляться создавшему и верить, что это оттуда, и отсюда невозможно выразить ту красоту, не удерживаясь за эти [образы], но идя от них к тем, не понося эти. И если внутреннее тоже прекрасно, говорить, что они согласны друг с другом; если же внутреннее дурно, что они уступают лучшим. Но, возможно, не бывает так, чтобы нечто было по-настоящему прекрасным снаружи, будучи безобразным внутри. Ибо у кого внешнее все прекрасно, то это от того, что внутреннее им владеет. А те, кого называют прекрасными снаружи, будучи безобразными внутри, – ложны, и внешнюю красоту имеют ложную. Если же кто скажет, что видел поистине прекрасных снаружи, но безобразных внутри, я думаю, он не видел, а считает прекрасными других. Если же и так, то безобразие для них приобретённое, по природе же они прекрасны; ибо много здесь препятствий для достижения совершенства. Но целому, будучи прекрасным, что мешало быть прекрасным и внутренне? Да и тем, кому природа с самого начала не дала совершенства, тем, возможно, и не суждено достичь конца, так что они могут стать и дурными; но целое никогда не было дитятей, чтобы быть несовершенным, и не присоединялось к нему нечто приходящее и добавляющееся к телу. Ибо откуда? Оно всё уже имело. Да и к душе никто не мог бы что-то прилепить. Но если бы и уступили им это, то всё равно не зло.
Этим сложным рассуждением Плотин возвращает дискуссию в русло подлинно платоновской эстетики и онтологии. Красота чувственного мира – не обман и не ловушка, а необходимый отблеск высшей красоты, который должен не презираться, а служить ступенью для восхождения. Полнота и совершенство космоса как целого гарантированы его вечным происхождением от совершенного образца; его «внутреннее» (его душа и умопостигаемая форма) прекрасно, и потому его «внешнее» (телесное проявление) не может быть по-настоящему безобразным. Таким образом, этический императив заключается не в отвержении мира, а в правильном созерцании его красоты как пути к абсолютному Благу. Гностическое же презрение оказывается следствием непонимания этой иерархии и неспособности к подлинному созерцанию, которое одно только и открывает божественное как в малом, так и в великом.
18. О правильном отношении к космосу и его обитателям.
На возможное возражение, что их (гностиков) речи побуждают бежать от тела издалека, ненавидя его, а его (Плотина) речи удерживают душу при нём, Плотин отвечает яркой аналогией. Это подобно двум жителям одного прекрасного дома: один порицает его устроение и строителя, но остаётся в нём не меньше другого; другой же не порицает, а говорит, что строитель создал его весьма искусно, ожидая времени, когда уйдёт туда, где больше не будет нуждаться в доме. Первый же считает себя мудрее и готовее уйти, потому что знает, как говорить, что стены сложены из бездушных камней и брёвен и далеки от истинного жилища, не понимая, что разница лишь в том, как переносить необходимое, если даже и не делать вид, что тяготишься, спокойно любуясь красотой камней. Но следует пребывать в домах, имея тело, устроенные душой-сестрой, доброй, имеющей великую силу творить без труда.
Или же они считают должным называть братьями даже самых дурных, а солнце и небесные светила отказываются называть братьями, и душу космоса – безумными устами? С дурными, конечно, не подобает вступать в родство, но с теми, кто стал благим, и кто не есть тела, но души в телах, и так могущими обитать в них, чтобы быть как можно ближе к обитанию души всего в теле-целом. Это и значит – не разбиваться и не поддаваться внешним воздействиям, приятным или зримым, и даже если что-то жёсткое, не смущаться. Та [душа космоса] не поражается, ибо не имеет от чего; мы же, будучи здесь, добродетелью могли бы отталкивать удары уже величием мысли – одни меньшие, другие же и не поражающие, ставшие таковыми из-за силы. Приблизившись же к неподверженному ударам, мы подражали бы душе всего и звёзд, а придя в близость подобия, стремились бы к тому же, и то же было бы для нас в созерцании, поскольку и мы подготовлены прекрасными природами и заботами; им же это присуще изначально.
Не потому, что одни они говорят, будто могут созерцать, они будут созерцать больше, и не потому, что им, как они говорят, дано уйти, умерев, а тем – нет, ведь они вечно украшают небо. Ибо по неведению они говорят о том, что вне, что бы это ни было, и о том, каким образом душа всего заботится о бездушном.
Итак, возможно и не быть привязанным к телу, и становиться чистыми, и презирать смерть, и знать лучшее, и стремиться к тому, и не завидять другим, способным стремиться и всегда стремящимся, будто они не стремятся, и не страдать тем же, что и те, кто думает, что звёзды не божественны, ибо чувство говорит им, что они неподвижны. По этой же причине и сами они не думают, что видят природу звёзд вне, ибо не видят их душу, пребывающую извне.
Этим завершающим аргументом Плотин окончательно разводит подлинный философский аскетизм с гностическим отрицанием мира. Истинное освобождение – не в ненависти к дому-космосу и его Строителю, а в спокойном признании его красоты и искусности, в духовном упражнении, которое позволяет, находясь в нём, не быть им порабощённым. Нравственный и духовный прогресс заключается не в презрении к светилам как к «бездушным камням», а в распознавании в них одушевлённых братьев, в подражании их бесстрастному и упорядоченному бытию, и, в конечном счёте, в восхождении через созерцание космической гармонии к её умопостигаемому источнику. Гностическое высокомерие, таким образом, оказывается не признаком духовного превосходства, а симптомом глубокого невежества, неспособности увидеть душу в том, что кажется лишь материей.
Эннеада
III.
О судьбе, провидении, любви, вечности и времени, созерцании. (Космологическая)
Первый трактат. О судьбе. Начало:
«Все происходящее…».
Судьба и Логос: диалектика необходимости и свободы в философии Плотина.
Трактат Плотина «О судьбе» представляет собой не просто полемику с современными ему детерминистическими учениями, но глубокий метафизический синтез, стремящийся разрешить фундаментальную апорию человеческого существования: как совместить универсальный космический порядок с реальностью индивидуальной свободы и моральной ответственности. Это разрешение осуществляется через построение иерархической онтологии причинности, где понятие судьбы радикально переосмысляется, а подлинная свобода обретает своё место не вопреки необходимости, но поверх неё.
Критический пафос Плотина направлен против всех форм редукционизма, стремящихся свести сложность бытия к единому, тотализирующему принципу, будь то атомарный хаос, безличный фатум или астрологический механизм. Его главный аргумент против материализма и стоического пантеизма заключается в их неспособности объяснить феномен сознательного, разумного действия, а главное – феномен нравственного выбора. Если всё, включая наши мысли, есть лишь пассивное следствие ударов атомов или предустановленных движений мирового Логоса, то исчезает само понятие «я» как ответственного субъекта. Этическая жизнь становится иллюзией, а порок и добродетель – лишь эпифеноменами слепых процессов. Плотин показывает, что такая «строгость необходимости» логически упраздняет саму себя, уничтожая различие между причиной и следствием, действием и страданием, превращая космос в монолитное единство без внутреннего многообразия.
Ответ Плотина – это не отрицание причинности, а её усложнение через введение принципа ипостасности. Он утверждает дуализм порядков причинности. С одной стороны, существует имманентный порядок природы и судьбы (еймармене), царство внешних, переплетённых причин. Это сфера необходимости, где всё, включая телесное существование человека, его страсти, обусловленные средой склонности и социальные обстоятельства, подчинено закономерной цепи событий. Здесь действуют и влияние светил, и наследственность, и давление обстоятельств. Этот порядок познаваем и, следовательно, допускает предсказания, которые Плотин интерпретирует не как чтение приказов, а как герменевтику космических символов – «чтение букв», начертанных божественным разумом на небесном своде.
Но над этим порядком, и принципиально отличной от него, возвышается сфера души как самодвижного, творящего начала (архэ кинесеос). Индивидуальная душа для Плотина – не часть мирового организма, а самостоятельная ипостась, сущность которой есть мышление и самопричинная активность. В своём чистом, умопостигаемом состоянии она абсолютно свободна и «вне мировых причин». Воплощаясь, она вплетается в сеть внешней необходимости, но не растворяется в ней. Здесь разворачивается драма человеческой свободы, которая понимается не как свобода произвола, а как способность к самоопределению согласно своей высшей природе.
Ключевым становится различение между действиями, которые душа претерпевает под натиском страстей и внешних влияний (это и есть область господства «судьбы»), и действиями, которые она совершает из себя самой, руководимая чистым разумом (нус). Первые – невольны и по существу являются страданием; вторые – единственно добровольны и составляют подлинно «наше дело». Таким образом, судьба управляет внешним человеком, «составным существом», но внутренний человек, наша глубинная умопостигаемая сущность, свободна. Степень нашей реальной свободы в мире зависит от экзистенциального выбора: уступить ли хаосу телесных смешений и внешних воздействий, став марионеткой судьбы, или же, усилиями самопознания и добродетели, «очистить» свой внутренний логос, позволив ему направлять жизнь.
В этом контексте астрология, генетика, социология – все науки о внешней детерминации – описывают материал, данный душе для её деятельности. Но форма, смысл и этическая ценность жизни определяются тем, как душа этот материал использует, преобразует или превозмогает. Добродетельный человек, по Плотину, даже в тисках неблагоприятной судьбы не становится злым, ибо его суждение и внутренняя позиция остаются независимыми. Его свобода – это не свобода изменить расположение звёзд или родиться в ином теле, а свобода дать этим обстоятельствам иную, осмысленную оценку, действуя в них согласно разуму.
Таким образом, современное звучание философии Плотина заключается в мощном утверждении нередуцируемости человеческого духа. В мире, где нейронауки, генетика и социология всё детальнее описывают механизмы нашего поведения, плотиновский вопрос «почему при одних и тех же обстоятельствах один совершает кражу, а другой – нет?» сохраняет свою остроту. Его ответ – это призыв к трансцендированию имманентной причинности через обращение к внутреннему логосу. Свобода оказывается не фактом природы, а достижением духа; не даром, а задачей, требующей постоянного усилия по восхождению к своему собственному умопостигаемому началу. Судьба властвует над всем, что в нас есть от мира, но над тем, что в нас – от Ума и Единого, она не имеет власти. В этом диалектическом единстве несвободной судьбы и сверхприродной свободы Плотин находит окончательное оправдание и космического порядка, и человеческого достоинства.
1. об основании и причинности: от необходимости к свободе.
В центре рассуждения лежит фундаментальный вопрос о причинной обусловленности всего сущего. Плотин начинает с исчерпывающего логического перебора всех мыслимых комбинаций причинности и беспричинности для событий и сущностей. Этот метод позволяет утвердить первый принцип: ничто не возникает беспричинно, и понятие «пустого отклонения» или спонтанного, абсолютно немотивированного действия является внутренне противоречивым и неприемлемым для рациональной картины мира. Даже кажущиеся внезапными движения души, при ближайшем рассмотрении, оказываются вызванными предшествующими состояниями, представлениями или влечениями. Беспричинный акт означал бы, что душа не принадлежит самой себе, будучи увлекаема слепым порывом, что отрицает её природу как разумного начала. Таким образом, универсальный закон причинности распространяется на все сферы: от физических процессов до человеческих поступков.
Однако Плотин сразу вводит crucialное различение уровней причинности, что составляет внутренний нерв его аргумента. Для вечных, неизменных сущностей – первых начал – вопрос о внешней причине бессмысленен. Их бытие и деятельность тождественны; они суть самодостаточные причины себя, и всё производное получает от них своё существование и форму. В этом проявляется неоплатонический принцип эманации: высшее не действует на низшее внешним образом, но низшее существует постольку, поскольку причастно высшему. Напротив, в мире становления, где вещи не всегда производят одну и ту же деятельность, мы имеем дело с цепью последовательных причин. Здесь можно проследить ближайшие причины любого события: выход на рынок обусловлен мыслью или потребностью, выздоровление – искусством врача, богатство – трудом или случаем.