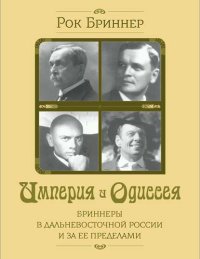
Читать онлайн Империя и одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за ее пределами бесплатно
- Все книги автора: Рок Бриннер
Посвящается множеству моих друзей во Владивостоке, так тепло меня принявших.
Владивосток возлюбленный мой второй дом.
© Рок Бриннер, 2006, 2015
© М. Немцов, перевод на русский язык, 2015
© «Фантом Пресс», 2017
* * *
Жюль (Юлий Иванович) 1849–1920
Борис (Борис Юльевич) 1899–1948
Юл (Юлий Борисович) 1820–1985
Рок (Юлий Юльевич) 1946-
Благодарности
Первым во Владивосток меня пригласил Александр Долуда, и если бы не его упорство, эта история так и осталась бы нерассказанной; ему я обязан вечной благодарностью. То же относится и ко Льву Рухину. В равной же мере консул по связям с общественностью Тара Ругл из Консульства США во Владивостоке приложила особые старания к тому, чтобы привезти меня на российский Дальний Восток по Лекторской программе Государственного департамента, и вместе с генеральным консулом всеми силами стремилась сделать мой первый визит как можно ценнее.
В. В. Видер, королевский адвокат Королевского колледжа, Университет Лондона, много лет изучал жизнь Бориса Бринера и историю рудников в Тетюхе. Его щедрость в предоставлении исследовательских данных и консультаций бесценна, равно как и помощь Сони Мельниковой. Белла Пак и ее отец, профессор Борис Пак, уважаемые специалисты по истории русско-корейских отношений, предоставили два уникальных документа, касающихся дел Жюля Бринера в Корее, – их они обнаружили в Государственном архиве в Москве. Биргитта Ингемансон, преподающая русскую культуру в Университете штата Вашингтон, снабдила меня ценными результатами своих изысканий по истории первых лет существования Владивостока и, не жалея времени, отредактировала мою рукопись. То же сделал выдающийся специалист по российскому Дальнему Востоку профессор Джон Дж. Стивен, перед которым я в глубоком долгу.
На русском языке мои работы сильно выиграли от скрупулезного и тонкого перевода, выполненного Максимом Немцовым. В Санкт-Петербурге мне помогали многие сотрудники Смольного колледжа Санкт-Петербургского университета, начиная с профессора Геннадия Шкляревского, также работающего в Колледже Бард, и директора Валерия Монахова. Ольга Воронина, в то время сотрудница Консульства США, тоже тепло принимала меня и помогала в координации лекций в библиотеке Маяковского. Жанна Полярная, директор музея Санкт-Петербургского горного института, посодействовала в отыскании выпускных документов моего деда.
Пол Родзянко оказал мне огромную помощь. Несколько моих лекционных турне спонсировал Владивостокский международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» при любезном содействии Ларисы Белобровой и ее супруга Сергея Дарькина, в то время – губернатора Приморского края. Музей Арсеньева во Владивостоке располагает самыми обширными архивами фотографий Бринеров; его директор Наталья Панкратьева и научный сотрудник Ираида Клименко помогли мне чрезвычайно. Объединение «Дальполиметалл» позволило мне посетить рудники Бринера в Тетюхе. Елена Резниченко щедро уделила время поиску историков и переводу документов. Владивостокские историки Мария Лебедько и Нелли Мизь также внесли ценный вклад в эту работу.
Помощь Кэтрин Бринер, дочери Бориса, живущей в Австралии, была особенно полезна – Кэтрин предоставила мне живые свидетельства жизни, которую они с ее матерью вели с моим дедом Борисом.
В Соединенных Штатах мои добрые друзья Пегги Трупин и Кэрол Эншуэц обеспечивали живой и тщательный перевод цитируемых здесь основных документов на английский. Моя сестра Виктория Бриннер Салливан не жалела времени и сил на репродуцирование многих фотографий. Я благодарен ей за разрешения воспроизвести их здесь; в отдельных случаях идентифицировать фотографа мне не удалось. Особая благодарность – Чипу Флейшеру из издательства «Стирфорт Пресс».
Наконец я должен поблагодарить Елену Сергееву (Уссурийск и Владивосток), ставшую ведущим специалистом по истории всего семейства Бриннеров, не только тех его членов, о ком речь идет в этой книге. Ее обширные труды можно найти здесь: http://www.bryners.ru.
О правописании
«Жюль Бринер» и «Юл Бриннер» – одно имя, написанное по-разному. По-русски так: Юлий Бринер. Полное имя моего прадеда-швейцарца – Юлиус. На письме они транслитерируются по-разному, сначала – кириллицей (с немецко-швейцарского на русский), затем обратно в латиницу.
Рассказывая о Жюле и Борисе, их фамилию я пишу «Бринер», как это делали они сами; говоря о Юле и себе – Бриннер. Когда речь заходит о семье в целом, как в названии этой книги, я употребляю написание «Бриннеры»: нынешнее включает в себя прошлое, не наоборот. Мой отец такое правописание уж точно сделал более привычным, да и я от рождения ношу именно эту фамилию.
Датировка соответствует обычному западному календарю, кроме случаев, отмеченных особо.
- Мы не оставим исканий,
- И поиски кончатся там,
- Где начали их; оглянемся,
- Как будто здесь мы впервые.
Предисловие
…историю нельзя рассматривать ни как бесформенную субстанцию, зависящую исключительно от достижений… ни как… произведение высшей силы, сиречь судьбы, случая, удачи, Бога. Этим подходам, материалистическому и трансцендентальному, Вико предпочитает третий – рациональный. Личное – это конкретизация всеобщего, и каждое личностное действие одновременно надличностно.
Сэмюэл Бекетт, «Данте…Бруно. Вико…Джойс» (1929)[2]
Эта работа началась с приглашения, которое я получил в июне 2003 года у себя дома – на холме, в глубинке штата Нью-Йорк: меня звали приехать во Владивосток, на Дальний Восток России. Послание заканчивалось следующими словами: «По-русски ваше имя “Рок” означает “судьба”, поэтому вам судьба приехать во Владивосток».
Меня это письмо, конечно, заинтриговало, поскольку мой отец Юл и дед Борис родились во Владивостоке. Прадед мой, Жюль Бринер, помогал строить этот город, а на закате Российской империи он основал на Дальнем Востоке собственную империю. С самого детства я считал, что Владивосток не увижу никогда: как и у большинства потомков русской диаспоры, визиты на родину за железным занавесом даже не обсуждались. Кроме того, рассказывали нам, после Сталина делать это и незачем: души российских городов уничтожены тоталитарным террором, а затем вычеркнуты из истории, сами же города стерты с карт либо переименованы. Для многих эмигрантов «Родина» была вовсе не местом, а давно ушедшей эпохой, остававшейся жить лишь в памяти.
Поначалу я не ответил на это приглашение. Я преподавал историю и не понимал, как мне совместить расписание своих лекций с планами поездки. Но затем пришло другое приглашение, за ним еще одно, пока я наконец не ответил единственным словом, которого хватило, чтобы началось приключение, приведшее меня в итоге к этой книге, – «Да».
После чего меня подхватили события, преобразившие всю мою жизнь и восстановившие мне душу. С тех пор, как я ответил «да», меня, похоже, обуревают силы, которым я и названия-то не могу дать, – они доброжелательно и щедро влекут меня в потоке истории моей семьи. Я постепенно начал понимать, что это – силы истории, а воздействие их – и обыденное явление, и в то же время духовное переживание; иными словами, место ему – в царстве человеческого духа. Распутать эти исторические силы можно единственным способом – написать эту книгу. Так вышло, что я историк и писатель, опыт для такой работы у меня есть.
Как историк, я отрицаю понятие Судьбы, ибо оно предполагает, будто все вопросы выбора, встающие перед нами, уже предрешены, а личности – беспомощные пешки, которым предначертано играть свои роли по уже написанному сценарию в некой громадной и непостижимой шахматной партии. Ни секунды не верю я и в то, что судьба – генетика. Человеческая история, на мой взгляд, по крайней мере – отчасти, – есть результат индивидуальной и коллективной свободы воли, и, хотя на нее могут влиять идеологии, амбиции и модные веяния, сами события отнюдь не предрешены, поскольку будущее пока не написано. Тем не менее я ощущал чуть ли не тягу поехать на Дальний Восток России – тягу не Судьбы, а собственного любопытства. И едва я оказался там, как тут же почувствовал и свое крепкое сродство с Владивостоком; но это, быть может, еще и оттого, что меня так тепло там приняли, – любой на моем месте почувствовал бы то же самое.
Я – сын американки и русского, детство мое, похоже, олицетворяло собой всю холодную войну: то место, где родился отец, было смертельным врагом того места, откуда родом я сам. И я никак не мог в этом разобраться. Не столько сам с собой воевал (хотя, если вдуматься, – воевал, но битвы эти шли на других фронтах), сколько с самого раннего возраста отчетливо осознавал разницу между Россией и Союзом Советских Социалистических Республик. К шести годам я уже знал, что русская культура великолепна и душевна: меня завораживали «Петя и волк» Прокофьева, а затем и «Первый концерт» Чайковского. Кроме того, в школе я понимал, что советские власти – бездушные тоталитарные чудовища, истребляющие своих граждан в трудовых лагерях точно так же, как это делали пособники Гитлера, хоть и иными средствами, да и мундиры на них другие. Поэтому я рос, любя тех многих русских, с которыми был знаком, и презирая Советский Союз, как и множество других американских детей в 1950-е годы. Но в последующее десятилетие реальность Взаимно-Гарантированного Уничтожения придала такому шовинизму некую пустоту и пагубность. Кто, в конечном итоге, победитель, если после войны выжившие будут завидовать мертвым?
Почти всю свою взрослую жизнь я хранил свое русское происхождение как бы на чердаке: оно попросту никак не отражалось на моей повседневной жизни или в моих профессиональных интересах. Только после того, как советскому режиму в 1991 году пришел конец, появилась возможность приезжать в эту страну, а я тогда был занят – писал докторскую по истории в Университете Коламбиа. Сегодня, после пятнадцати визитов во Владивосток и обширных изысканий, Россия вошла не только в мою повседневную жизнь, но и в профессиональную работу, а русский и американец во мне наконец примирились.
Всемирный эпос Бриннеров составлен из четырех жизней, одна за другой, и они складываются в единую историю: темы и лейтмотивы ее дают хронику времен и тем самым очерчивают современную российскую историю, с которой тесно переплетены. Каждый из этих людей, включая меня, при рождении получил одно и то же имя (хотя, если точнее, у моего деда таким было отчество – Юльевич).
Разумеется, для миллионов поклонников моего отца навсегда останется лишь один Юл Бриннер. Его неотразимое присутствие на сцене и киноэкране, его звездный свет естественно затмевали всех остальных членов семьи, включая его собственного отца, пережившего Русскую революцию, и деда, создавшего рабочие места для сотен тысяч трудящихся, хотя большинство его достижений коммунистический режим предал забвению. Однако главный вклад Юла в мировую культуру состоял в том, что он превратился в самую экзотическую звезду в истории кино, и происхождение ее невозможно было ни подтвердить, ни опровергнуть. Такая личина помогла ему вывести на передний план новый стиль актерской игры – родившийся в России, как и сам Юл.
В сравнении с заслугами моих предков мои собственные достижения кажутся скудными, несмотря на эклектичное разнообразие приключений, выпавших на мою долю. Однако многие их успехи остались бы неизвестны, не развей я в себе навыков, необходимых для того, чтобы воссоздать их жизнь в исторических контекстах. Даже самая добродетельная работа Юла – в Организации Объединенных Наций – осталась, в общем, не замеченной. Я не унаследовал ни промышленной широты взглядов Жюля, ни мужества Бориса перед лицом тоталитарной диктатуры, ни ослепительного шарма и героической силы Юла. В наследство от них мне достались, очевидно, лишь пылкое любопытство, а также страсть отхватывать от жизни большие ломти так, чтобы сок стекал по подбородку.
На мою долю досталось завершить нашу семейную одиссею, вернувшись во Владивосток. Город, чье население в период расцвета достигало почти миллиона человек, основала горстка людей, в которую входил и мой прадед, чья фамилия значится у меня в швейцарском паспорте. Кроме того, мне выпало проводить изыскания для нашей коллективной саги: лишь из-за моей родословной мне удалось получить документы и фотографии, которые не под силу было раскопать другим историкам. Именно поэтому я ощущал обязательство написать хронику достижений моей семьи в России и за ее пределами – чтобы история не осталась нерассказанной.
Приезд на родину моего отца почти через двадцать лет после его кончины и впрямь казался некоторым возвращением, а также бальзамом на старые раны – и для меня самого, и для других: эта реконструкция империи и одиссеи Бринеров оказалась важна для многих моих друзей в России, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Некоторые по многу часов помогали мне отыскивать документы и факты – просто по доброте сердечной. Но кроме того, не один десяток лет они жили с нуждой воссоздать досоветскую культуру своего региона, им нужно было гордиться тем, что память в их семьях жива – под спудом, хотя Сталин изо всех сил постарался отсечь Россию от ее истории. Передавая мне эту культуру, они выполняли свое невысказанное обязательство перед собственными предками.
Очень символично, что я начинаю писать этот семейный эпос здесь, в отеле «Версаль» на Светланской во Владивостоке, где в данный момент живу. В 1921 году, вскоре после рождения Юла недалеко от этого здания, за углом, «Версаль» служил штаб-квартирой жуткому казацкому вожаку, атаману Семенову, последнему из самопровозглашенных «верховных правителей России» в последние годы жестокого сопротивления коммунистическому владычеству.
Читателя этой книги я хочу попросить об одной услуге: придержите свои суждения о личностях, с которыми скоро познакомитесь. По моему собственному опыту, начиная судить людей, мы перестаем их понимать. Лишь щедрые духом способны видеть мир глазами других. Я сам постараюсь следовать этому совету и показывать ясноглазую правду об этих четырех жизнях и множестве тех, что с ними соприкасались. Обозревая галактики собранных мной фактов, я предоставлю читателю соединять линиями эти точки света и самому различать образуемые ими созвездия.
Сказав это, начну с того места, где началась и эта одиссея – со Швейцарии…
Часть первая
Жюль Бринер
…Могу сказать по совести, что редко встречал человека более наблюдательного и, если можно так выразиться, практически любознательного.
Официальный агент Министерства финансов Д. Д. Покотилов директору Общей канцелярии Министерства финансов Российской империи П. М. Романову (1896)
• 1 •
Юлиус Йозеф Бринер родился в 1849 году в деревне Ла-Рош-сюр-Форон, в 50 километрах к юго-востоку от Женевы, Швейцария. Он был четвертым ребенком Йоханнеса Бринера, профессионального прядильщика и ткача, и его 25-летней супруги, в девичестве – Мари Хюбер фон Виндиш. Хотя под Женевой Бринеры прожили уже некоторое время, они оставались гражданами Мёрикен-Вильдегга, деревни к северо-западу от Цюриха, куда вскорости и вернулись. По вере Бринеры, как и большинство семейств в кантоне Аргау, были протестантами, хотя учение, которое они исповедовали, вероятно, бо́льшим было обязано немцу Мартину Лютеру, нежели их соотечественникам – швейцарцам Жану Кальвину или Ульриху Цвингли. Дом Бринеров в Мёрикен-Вильдегге представлял собой просторную двухэтажную ферму, крытую соломой, но места в нем для восьми потомков Йоханнеса едва хватало: за «Жюлем», как его на французский манер всю жизнь называли в семье, последовало еще четверо детей[3].
Жюль родился в первый год существования современной нации Швейцарии, когда Новое федеральное государство объединило 22 прежде независимых кантона. Страну издавна раздирали противоречия между ее либеральными протестантскими и консервативными католическими районами, но в конце Зондербундской войны на основании конституции до того прогрессивной, что она помогла заронить революционные искры в Вене, Венеции, Берлине, Милане и, в итоге, во Франции, было основано Федеральное государство.
В год рождения Жюля Его императорское величество царь Николай I, верховный самодержец Всея Руси, готовился покорить Оттоманскую империю и взять в свои руки власть над константинопольским проливом Босфор и бухтой Золотой Рог – водным путем, который предоставил бы России выход в Средиземное море впервые за всю ее восьмисотлетнюю историю; тем самым влияние России на всю Европу и остальной мир упрочилось бы и усилилось. Когда Россию разгромили в Крымской войне, а Николая I на троне Романовых сменил царь Александр II, для неугомонного и агрессивного империализма России остался единственный выход – на восток, где велась схватка за колониальное владычество над Дальним Востоком. Китай в ту пору был беспомощным жалким исполином, чьи владения по кускам отрезали Британия (Сингапур и Гонконг), Франция (Лаос, Камбоджа и Индокитай) и Япония (Маньчжурия и Корея). Вскоре и Россия, заключив с Китаем договор, обеспечила себе новую военно-морскую базу на Тихом океане, далеко к югу от замерзающих портов Камчатки и Сахалина. Само имя, данное этой базе, говорило о русской силе – Владивосток, Владетель Востока.
В четырнадцать лет Жюль покинул Мёрикен-Вильдегг и отправился осваивать мир. Ничего особо удивительного в этом поступке нет. Ученичество предоставило бы мальчику его возраста возможность освоить какую-либо профессию или ремесло, а семья бы освободилась от лишнего рта. Но по тем решениям, которые Жюль принимал и в последующие годы, и всю оставшуюся жизнь, также видно, что он не только был прилежен, но и располагал авантюрным складом ума. Он быстро схватывал новые навыки – особенно ему удавались языки – и быстро приспосабливался к незнакомым обстоятельствам, которые выискивала его любознательная натура.
Жюль рос в 1850-х годах и потому знал, что один из знаменитейших людей на свете, Йоханн Зуттер, происходил из городка совсем неподалеку от Мёрикен-Вильдегга, а как раз в год рождения Жюля «Дробилки Саттера» в далекой Калифорнии стали центром величайшей золотой лихорадки в истории – туда потянулись честолюбивые золотоискатели со всего мира. Вдохновила Жюля история Саттера или нет, но он не мог не знать о приключениях своего соотечественника на золотых приисках – и уж вне всяких сомнений понимал, что такова награда тем, кто осмелится эти приключения искать. Не знал Жюль, вероятно, одного: что Саттер на этом своем приключении потерял все, что заработал.
Подростком Жюль учился ремеслу в цюрихской компании Данзаса[4] – пароходном агентстве, где работал его дядя Мориц Бринер. Через это агентство он узнал, какие возможности открываются в морях перед молодыми людьми, вроде него. Когда Жюлю исполнилось шестнадцать, он уже зарабатывал на жизнь камбузным юнгой на капере, отплывшем из Средиземного моря курсом на Дальний Восток[5].
Суда, ходившие по торговым маршрутам в 1860-е годы, были по-прежнему парусными – двух-трехмачтовыми бригантинами и хорошо вооруженными шхунами, шлюпами и корветами, у которых в трюмах стояли пушки. Вскоре на них начали устанавливать паровые гребные колеса, приводившие парусные суда в движение, когда стихали ветра, но большая часть морской торговли, осуществлявшейся в те времена по всему миру, по-прежнему шла под парусом, мало чем отличавшимся от того натянутого холста, каким пользовались греки три тысячи лет назад. На борту капера Жюль открыл в себе страсть к морю, которая не покидала его всю оставшуюся жизнь. Швейцария, само собой, выходов к морю не имеет; когда Жюль осознал, сколь сильно тянут его к себе заливы и океаны мира, а также стиль жизни, который диктует человеку море, он, должно быть, сообразил, что никогда больше не станет жить под сенью Альп.
Следующие несколько месяцев, пока ветра влекли судно на восток, Жюля неоднократно запирали на камбузе – «ради его собственной безопасности», как говорили ему другие члены экипажа. В таких случаях, когда его судно приближалось к другим кораблям и швартовалось у их бортов, с палубы до него доносились звуки жестоких потасовок и крики, иногда звучавшие не один час. Команда его корабля, все – опытные пираты, пасшиеся на морских дорогах, – перемещаясь на восток, собирала с моря всю какую ни есть добычу: брать встреченные суда на абордаж и грабить их было легко. Шелк, красное дерево, чай, опий, а порой даже золото и драгоценности – вот какие сокровища доставались этим морским грабителям. Лишь немногие торговцы опием имели в своем распоряжении быстрые клиперы, вооруженные тринадцатидюймовыми орудиями.
Когда до Жюля дошло, что и он сам – разбойник, если кормит экипаж пиратского судна, которое насильственно захватывает чужой груз, подросток также сообразил, что товарищи по плаванию заклеймят его предателем, если он дезертирует с судна без предупреждения и без плана. Ему придется сходить на берег в крупном порту, где отыщутся работа и защита.
С 1840-х годов Шанхай существовал под юрисдикцией британской короны, которой в этих местах требовался глубоководный торговый порт. Поэтому ежегодно через этот порт переваливалось около сотни тысяч фунтов чая, а также 50 тысяч тюков шелка и 30 тысяч ящиков опия, свозившихся со всех соседних гор и складывавшихся в трюмах судов, пришвартованных к Бунду – набережной в самом сердце города. Когда на ней установили газовые фонари, неутомимый деловой район ожил – рикши носились по нему круглосуточно, шум не смолкал. Поскольку на севере Шанхай был единственным глубоководным портом, практически всей китайско-европейской морской торговле приходилось осуществляться на Бунде, где грузы перемещались с речных джонок на трехмачтовые шхуны. По реке Янцзы неподалеку уже начали ходить и первые пароходы – торговлю ожидал небывалый всплеск.
Когда в середине 1860-х годов семнадцатилетний Жюль Бринер сошел на берег в Шанхае, Тайпинское восстание уже подавили, и после массового исхода китайских беженцев остались тысячи рабочих мест и домов для жилья. Жюль уже немного выучил мандарин и быстро нашел себе работу в конторе торговца шелком, покупавшего у местных жителей шелк-сырец и продававшего его за границу. За следующие несколько лет швейцарский юноша уже хорошо разобрался в шелке – быть может, еще и потому, что отец его работал прядильщиком и ткачом, – а также в местной торговле вообще. Выполняя разные поручения, он стал довольно бегло изъясняться на нескольких местных диалектах, а вскоре после научился и управлять компанией. Безынициативной рутинной работе он добавил результативности, начал обращать внимание на детали, что сделалось чертой его предпринимательского стиля на все последующие годы. Но самое главное – он мог вести дела с английскими, французскими и немецкими клиентами китайской компании, в которой работал.
Для британцев, составлявших большинство трехтысячного иностранного населения города, где проживало 400 тысяч человек, Шанхай был кусочком Англии, воссозданным здесь с причудливым колониальным колоритом. Говорили, что где бы ни оказался англичанин, он берет с собой свою церковь и свой скаковой круг: к 1860-м годам в городе было уже пять христианских церквей и три ипподрома. Кроме того, здесь учредили Королевское азиатское общество, открылись библиотеки, любительские театральные кружки, масонская ложа и, разумеется, превосходный новоотстроенный Шанхайский клуб. В последующие десятилетия Шанхай стал известен как «Дальневосточный Париж» – первый из азиатских городов, претендовавших на этот титул, и единственный, его поистине заслуживавший. Но когда здесь работал Жюль, шанхайская культура еще представляла собой преимущественно «британское колониальное владычество», как в Индии, только вместо карри – чау-мейн. Ничего удивительного, что китайское население все больше озлоблялось на этих захватчиков-англосаксов – и на алчных хищников, и на тех, кто был исполнен самых благих намерений. В 1869 году принц Гун объявил в Пекине британскому консулу сэру Разерфорду Олкоку: «Уберите опий и миссионеров – тогда добро пожаловать»[6].
Вот в такой космополитической атмосфере Жюль упражнялся в деловом руководстве, набирался привычек и манер международного homme d’affaires[7] и среди британских колонистов учился вести себя в приличном обществе и выглядеть заинтересованным в крикете. А между тем – сосредоточенно изучал предприятия и компании Дальнего Востока и то, как они могут сотрудничать, чтобы регион этот развивался.
По поручению своего нанимателя он также занялся местными политическими махинациями англичан касаемо двух вопросов, которые могли бы непосредственно улучшить местное судоходство: дноуглубительными работами в устье Янцзы и строительством первой железнодорожной линии в Китае – из Шанхая в Вусун. Для осуществления обоих проектов группа иностранных предпринимателей, преимущественно англичан и американцев, основала отдельную компанию. Плану строительства железной дороги общественность и власти весьма препятствовали, но предпринимателям разрешили построить трамвайную линию; они проложили рельсы под локомотивы, с широкой колеей, и поставили китайцев перед fait accompli[8]. Все это Жюль мотал на ус.
К началу 1870-х годов между китайским населением и обитателями иностранного сеттльмента в Шанхае возникли трения. В грядущие бурные годы под иностранной пятой беспокойные китайцы начали устраивать бунты; их череда завершилась Боксерским восстанием 1900 года с его недвусмысленным лозунгом: «Сохранить династию, изничтожить чужеземцев».
Китайские работодатели Жюля часто командировали его в Нагасаки, Япония, чтобы он общался с клиентами непосредственно. Шанхай покамест отказывался от какой бы то ни было телеграфной связи – из широко распространенного опасения, что телеграфные столбы нарушат фэншуй всей местности. В одной такой командировке в Нагасаки, где шелк-сырец из Шанхая окрашивали и реэкспортировали, Жюль познакомился с пожилым английским джентльменом, единолично управлявшим судоходным агентством, которое работало по всему Тихоокеанскому региону, и тот вскоре пригласил Жюля к себе в помощники и протеже. Быть может, от недостатка возможности сделать карьеру в китайской компании, а отчасти из-за возраставшей угрозы для иностранцев, Жюль оставил Шанхай и по шелковому пути перебрался в Нагасаки, крупнейший порт Японии.
Менее чем двадцатью годами ранее на берег под Ёкохамой сошел коммодор Мэттью Перри – с письмом президента Соединенных Штатов Милларда Филлмора новому микадо Муцухито (1852–1912), где высказывалось требование, чтобы Япония вступила в международную торговлю. После этого Перри на год уехал – дабы любезно предоставить микадо время на обдумывание вариантов ответа. В 1854 году Перри вернулся, и Япония подписала Канагавский договор, впервые открывший двери для международной коммерции.
Десяток лет спустя в Нагасаки поселился Жюль, оказавшийся под крылом у английского судоходного агента. Ему было чуть за двадцать. До приезда сюда он изучал японский, и вскоре швейцарского парнишку, который умел вести переговоры на французском, немецком, английском, мандарине и японском, причем все это – в одно утро, – назначили распоряжаться всеми деловыми встречами и корреспонденцией агентства.
Само судоходное агентство судами не владело: оно лишь арендовало места на них согласно самым выгодным предложениям по эффективной перевозке грузов. Договориться о перемещении крупногабаритного груза из одного места в другое было довольно легко, гораздо хитрее – сделать эту операцию выгодной, особенно с учетом того, что вдоль побережья рыскали каперы. Жюль это понимал более чем отчетливо.
Став признанным молодым предпринимателем, Жюль уже был хорошо знаком с основными игроками региона и подходил к ним с отвлеченной эмпирической сосредоточенностью, отчего у него выработалась репутация человека, способного решить любую проблему. Он предлагал новые творческие решения для старых досадных задач в судоходстве: как максимизировать вместимость, усовершенствовать погрузку и выгрузку, выгодно перевозить товар сушей и справляться с беспредельной коррупцией среди портовых властей. Через несколько месяцев после переезда в Японию Жюль влюбился в молодую женщину, с которой его познакомили, и еще через год у них родилась дочь, а немного погодя – и вторая. В наши дни японские потомки Жюля живут под Ёкохамой, где его внук Это Наоасукэ после Второй мировой войны стал преуспевающим производителем бумаги.
В 1870-х английский патрон Жюля скончался, и текущие деловые контракты – которые и составляли само предприятие вместе с некоторыми активами – перешли к его швейцарскому помощнику. Жюлю еще не исполнилось тридцати, а он уже владел процветающим судоходным агентством.
Почему именно тогда Жюль предпочел покинуть семью в Нагасаки и переместить штаб-квартиру своего судоходного предприятия в русскую приграничную деревню, – вопрос до сих пор открытый, но для бизнеса его в этом имелось несколько преимуществ. Он уже стал свидетелем становления современных Шанхая и Нагасаки, и русский порт Владивосток за Японским морем в нескольких сотнях километров от Нагасаки предоставлял ему возможность помочь в развитии еще одного современного города. Это значило – железные дороги, телеграф, строительство зданий, а у Жюля к тому времени сложились крепкие связи в банках. Кроме того, у перемещения штаб-квартиры во Владивосток имелись и значительные налоговые преимущества. Но самой крупной выгодой могло оказаться вот что: Россия все же была европейской державой, непрерывно растянувшейся на многие тысячи верст до столицы империи Санкт-Петербурга на западе. А с распространением по всему миру железных дорог – особенно на западе США и в Канаде – Жюль наверняка прикидывал, что настанет день, когда он сможет из нового русского порта доехать до Европы.
• 2 •
Владивосток породило море.
Новый военно-морской форпост установили при благом правлении Александра II примерно в то же время, когда в 1861 году он освободил по всей России миллионы крепостных. Царь и его министры намеревались переселить часть россиян на восток, за Сибирь, в уссурийские и амурские приморья – отчасти для того, чтобы продемонстрировать другим дальневосточным державам, что Россия всерьез намерена развивать этот регион. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев (впоследствии граф Амурский) сам исследовал акваторию залива Петра Великого на борту построенного в США корвета «Америка» – быстрого трехмачтового колесного парохода. Подписав с Китаем Айгунский и Пекинский договоры, Муравьев обеспечил России контроль над приморским регионом, так и названным – Приморье.
Первые русские моряки и офицеры прибыли сюда на транспортном барке «Маньчжур» и расположились на южной оконечности узкого пальцеобразного полуострова длиной сорок километров между Амурским и Уссурийским заливами: с большой землей их соединяла лишь коровья тропа. Моряки обнаружили здесь врезанную в полуостров естественную гавань – широкую бухту, которую назвали Золотым Рогом в честь акватории в Константинополе, который избежал царской оккупации в Крымской войне пятью годами ранее. Послужило ли это имя данью имперской амбиции или же насмешкой над ее несостоятельностью, неясно до сих пор: акватория эта настолько мала, что название ее представляется намеренной гиперболой.
По берегам этих бухт еще обитали маленькие группы местных жителей – племена низкорослых и смуглых охотников-собирателей, которые, по мнению этнографов, восходят к палеоазиатам и тунгус-маньчжурам, процветавшим здесь задолго до строительства египетских пирамид. Удэхейцы, нанайцы (гольды), орочи и племена помельче были почти полностью уничтожены шестью сотнями лет раньше разрушительным натиском Чингисхана и его монгольских племен, однако остатки этих культур по-прежнему существовали в общинах, ютившихся на побережье, производивших красивые предметы и носивших одежду из прокопченных рыбьих кож.
Темучин – вот какое имя дали мальчику, когда он родился в Забайкальских горах Монголии в 1162 году, а «Чингисхан» – «повелитель бескрайнего» – стало его титулом, который он принял в сорок два года. Он создал первую империю, объединившую Дальний Восток с Европой – гораздо крупнее, чем римляне могли и мечтать, – и она поглотила большую часть Китая и южной России. Обильное и неуклонное насилие его орд над женщинами привело к зарождению народа, названного бурятами – традиционно их называют «потомками Чингисхана». До недавнего времени эту идею отметали как миф, пока генетик и антрополог Спенсер Уэллз посредством составления генетических карт не подтвердил, что такая версия истории по сути верна. Сам Чингисхан содержал гарем из пяти сотен женщин, собранных со всех покоренных им земель; он сам и его подчиненные, многие – его собственные сыновья, – намеренно зачали тысячи детей на территориях от Восточной Европы до Тихого океана. Многие из этих потомков стали править и Дальним Востоком – включая его внука Хубилая (Кублай-хана), первого императора китайской династии Юань.
Ныне же тайгой правила нация тигров: амурский тигр, бесспорный чемпион пищевой цепи – крупнейшее животное семейства кошачьих на земле, в длину он достигает тринадцати футов. Каждый такой зверь потребляет еженощно сотню фунтов мяса. Тысячи амурских тигров бродили по густым лесам вокруг Амурского залива, с наступлением темноты забредали и к матросским баракам в поисках поживы, и утаскивали домашний скот. Ночи на военно-морском посте не проходило без выстрелов, и каждое утро встревоженные обитатели подсчитывали хищников, виденных или слышанных при спуске с сопки, которую назвали Тигровой.
Русский гость базы так описывал этот унылый пейзаж в первый год существования поста:
…когда мы входили на клипере в бухту, почти против самого входа, на северном берегу стоял офицерский флигель. Далее от него к востоку, саженях в 40, деревянная казарма на 48 человек солдат, составлявших команду поста. Позади казармы, в нескольких саженях от нее в сторону – кухня; возле нее загорожен скотный двор на крутом берегу оврага. По низу его бежит едва заметный ручей, впрочем, чистой и приятной воды. В 200 саженях к востоку от казармы только что была заложена церковь… Между солдатами развито было в сильной степени пьянство и кормчество… Большая часть из них была переведена из армейских полков за штрафы…[9]
Первый гражданский житель поста Яков Семенов поселился здесь на следующий год, когда командир поста выделил ему землю для строительства дома и устройства выгона для скота. В тридцать лет Семенов был купцом третьей гильдии – низшим торговым чином по государственной иерархии – и торговал морской капустой, изобиловавшей в Амурском и Уссурийском заливах. Семенова, этого крупного, дородного и важного человека с вандейковской бородкой, сюда, должно быть, заманил указ, прошедший через министерства и финансов, и иностранных дел, – они оба в редкий миг единодушия объявили Владивосток порто-франко, беспошлинным портом: компаниям, основанным здесь, дозволялось вести торговлю, не платя никаких налогов. Довольно скоро предприятие Семенова добилось успеха. Как первый почетный гражданин города, следующие полвека он оставался фигурой уважаемой и дослужился до звания купца первой гильдии.
Все ранние городские постройки здесь были деревянные – просто-напросто причалы, лодочные сараи, бревенчатые хижины; моряки постепенно рыли колодцы и расчищали землю для посадок с помощью прибившихся к ним корейцев и китайцев, и мужчин, и женщин, строивших себе фанзы-мазанки. Немного погодя возник лазарет, а в 1863 году во Владивостоке родился первый ребенок. Вскоре первую деревенскую улицу назвали Американской – в честь пароходо-корвета из эскадры Муравьева. Еще через некоторое время экипаж шхуны «Алеут» расчистил дорогу, перпендикулярную Американской, и новую дорогу назвали Алеутской.
В последующие несколько лет на восток по наспех проложенным дорогам и мерзлой тайге к более терпимому климату сибирского приморья, где холод смягчен океаном, потянулся первый ручеек переселенцев из переполненных городов и деревень западной России. Владивосток, однако, тепловодным портом не был, как на это рассчитывало имперское правительство: зимой он частью замерзал, ему для навигации требовались ледоколы. В то же время постановлением Императорского суда с Дона стали переселяться казаки и основывать на Дальнем Востоке свои станицы.
В 1864 году, когда строящемуся городку угрожало китайское вторжение, сюда прибыли два щеголеватых немецких предпринимателя. Густав Кунст и Густав Альберс познакомились в Китае[10], хотя оба были из Гамбурга; они приехали в этот форпост, чтобы совместно открыть здесь крупный торговый дом. Перед отъездом из Европы и тот, и другой заключили протяженные кредитные договоры с различными компаниями, поддержавшими их предприятие, «Дёйчебанк» предоставил им капитал. Со временем «Кунст и Альберс» стал, как это ныне называется, универсальным магазином – здесь продавался широкий ассортимент товаров из Азии и Европы. Поначалу торговый дом располагался в небольшом деревянном домике, но последующий рост их оборотов отражал возраставшее благополучие всего региона.
Сюда прибывало все больше моряков и рыбаков, а также корейцев и китайцев – дешевой рабочей силы, – и постепенно стало появляться уже нечто вроде городка. К 1867 году географ Николай Пржевальский, навестивший эти места, писал:
Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля, механического заведения, различных складов провианта и других запасов, в нем считается около пятидесяти казенных и частных домов да десятка два китайских фанз. Число жителей, кроме китайцев, но вместе с войсками, простирается до пятисот человек. Частные дома принадлежат по большей части отставным, навсегда здесь поселившимся солдатам и четырем иностранным купцам, которые имеют лавки, но преимущественно занимаются торговлей морской капустой…[11]
Первый городской совет был сформирован в 1869 году и старостой своим избрал Якова Семенова, торговца морской капустой. Под его водительством и при энергичной поддержке и европейских связях немецких купцов удалось убедить датскую компанию «Большой северный телеграф» соединить Владивосток кабелем с Шанхаем, а подводным кабелем – с Нагасаки. Это нововведение, вероятно, и убедило императорский флот переместить свое тихоокеанское командование из Николаевска во Владивосток. Кроме того, благодаря ему увеличились объемы торговли «Кунста и Альберса» с торговцами шелка, чьи заказы поступали через судоходное агентство в Нагасаки, которым управлял другой немецкоговорящий европеец – Жюль Бринер.
Впервые Жюль приехал во Владивосток в середине 1870-х годов – энергичным и самоуверенным 25-летним молодым человеком. Хорошо сложенный невысокий мужчина – не выше пяти с половиной футов – носил прямые темные волосы, аккуратно разделенные пробором, и пышные усы. Во всем соблюдал тщание – и в манерах, и в одежде, и в планировании: швейцарский перфекционист по всем статьям, а подстегивала его при этом авантюрная любознательность. Куда бы ни кинул он взгляд, везде ему открывались новые возможности для развития, а там, где видел потенциал, – не боялся рисковать. Жюль был предприимчив в лучшем значении этого слова, а честолюбие его хорошо подстраивалось под общественные нужды, которые он замечал вокруг. То ли черту эту он вывез с собой из Швейцарии, то ли приобрел, уже занимаясь предпринимательством, но Жюль всегда выбирал себе деятельность, способную что-то принести тому сообществу, которому он помогал образоваться. Здесь же ему было ясно с самого начала: чтобы помочь в создании современного города в этой глуши, он должен сам основать деловую империю.
Взгляду опытного швейцарского путешественника открылась кучка деревянных домишек у сонной гавани, куда заходило всего два десятка судов в год. По-русски он еще не говорил, но в особенности региона его быстро посвятили Густав Альберс (Кунст к тому времени вернулся в Германию – управлять экспортной частью их процветающего предприятия) и его другой партнер – Адольф Даттан. Жюль немедленно понял: процветающая новая община станет идеальным портом для его судоходной компании и предоставит ему возможность применить на деле все, что он знал о городском развитии. Статус порто-франко освободит его от значительных тарифов в Японии: тем самым у него окажется значительное преимущества перед конкурентами, но для этого ему придется перенести во Владивосток штаб-квартиру – и переехать самому. Однако городок на пограничье – не место для его родившихся в Японии дочерей. И Жюль оставляет семью в Нагасаки. Поначалу в Японию он ездил часто, а позднее продолжал поддерживать свою тамошнюю семью – еще долго после того, как переселился в новый русский порт.
Горстка замечательных и решительных европейцев, уже обосновавшихся во Владивостоке, а также их внушительные деловые и финансовые связи помогли убедить Жюля, что здесь и следует открывать собственное пароходство. Первый городской голова М. К. Федоров был избран в 1875 году 165 членами городского совета, и на последующих своих заседаниях все единогласно одобряли главное устремление: выстроить здесь целиком и полностью европейский город.
Не случайно это совпадало и с намерением имперского правительства. Довод в пользу русской гегемонии на востоке лучше всего изложил князь Ухтомский, пылко писавший, что нам нечего здесь покорять: все эти народы разных рас и так к нам тяготеют, а великий и непостижимый восток готов стать нашим[12]. Может статься, неуклонно неверное прочтение имперским правительством азиатской геополитики в корнях своих имело чересчур оптимистические ее трактовки князем Ухтомским.
Московские министры все еще рассчитывали населить регион русскими, несмотря на едва проезжие дороги из Европы. Полгода считались тогда быстрым путешествием – ввиду отсутствия деревень почти по всему пути; на восток тогда шли немногие освобожденные крепостные-переселенцы. Северная Корея – всего в нескольких сотнях километров южнее Владивостока – испытывала суровые экономические трудности, равно как и восточный Китай в двухстах километрах к западу; в результате, в 1877 году бо́льшую часть городского населения составляли новоприбывшие, бежавшие из Кореи или Китая. Для того чтобы превратить Владивосток в культурный европейский город, явно требовались немалые сознательные усилия.
В середине 1870-х годов в Санкт-Петербурге начали всерьез говорить о возможности прокладки железной дороги, которая пересекала бы всю Россию. Первые попытки оценить технические трудности и стоимость проекта оказались настолько устрашающи, что даже самые рьяные его сторонники примолкли на много лет. Однако, глядя на неумолимое развитие железных дорог в Африке, Соединенных Штатах и Канаде, равно как и на усиление государственной мощи во Владивостоке, Жюль и прочие отцы города наверняка считали, что железнодорожная магистраль, непосредственно связывающая Дальний Восток с Европой, рано или поздно будет проложена.
В 1875 году Жюль впервые вернулся в Швейцарию – он рассчитывал установить крепкие деловые связи с европейскими банками в Цюрихе (где учился ремеслу в пароходном агентстве), дабы расширить собственное пароходство. Поездка его оказалась триумфальной: он поселился в самой дорогой гостинице города «Baur au Lac», преподнес подарок властям Аргау, подписанный «От Жюля Бринера из общин Мёрикен и Японии»[13]. Мальчик, в четырнадцать лет уехавший из дома, в двадцать шесть стал весьма зажиточным предпринимателем.
К тому, чтобы разнообразить деловые интересы, Жюля побуждала необходимость заполнять пустые пространства на судах, которые он арендовал. Растущее владивостокское общество, к примеру, для своего выживания было вынуждено постоянно импортировать предметы потребления и промышленные материалы; а поскольку Владивосток не экспортировал ничего, кроме морской капусты, суда Жюля покидали бухту Золотой Рог пустыми, тем самым увеличивая стоимость импорта вдвое. Поэтому причин создавать новые предприятия, которые наполняли бы трюмы его судов, уходивших в Нагасаки, Шанхай и Гонконг, у него было более чем достаточно.
Официально транспортно-грузовая компания Жюля «Бринер, Кузнецов и Ко.» была основана во Владивостоке в 1880 году – как судовладелец, через много десятков лет влившийся в Дальневосточное морское пароходство. Посоветовавшись с Кунстом и Альберсом, Жюль выбрал известного русского архитектора Бабинцева – проектировать барочное трехэтажное здание из камня посреди некрашеных деревянных построек. Жюль уже договорился с долгосрочными арендаторами, которые делили бы с ним это выгодное местоположение, среди них – «Сибирский торговый банк», да и сам Жюль некоторое время жил там в квартире. Здание располагалось в самом центре города на перекрестке Алеутской и Светланской (бывшей Американской). От этого перекрестка городскими кварталами уже прокладывались все остальные улицы.
Два года спустя «Торговый дом Кунста и Альберса» переехал в громадное новое строение чуть дальше по улице от дома Жюля. Его построил немецкий архитектор по фамилии Юнгхендель, и его большое трехэтажное творение могло бы поспорить своими габаритами с «Хэрродзом» в Лондоне, знаменитым уже тогда. «Кунст и Альберс» был (и остается) зданием ар-нуво с барочным декором, напоминающим Дрезден эпохи Баха. Вотан, валькирии и прочие герои германских легенд охраняют его фасад. «То был энциклопедический магазин, – писал гость города в 1889 году, – где можно было купить все, от иголок до живого тигра»[14]. Нигде больше в России не существовало ничего подобного «Кунсту и Альберсу», и репутацию торгового дома его местоположение лишь укрепляло. «Продавцы говорили на нескольких языках, – писал историк Джон Дж. Стивен, – и предлагали швейцарские часы, немецкие специи, бордосские вина, парижские домашние халаты и костюмы с Сэвил-Роу»[15].
В 1883 году русский «Добровольный флот» начал доставлять сюда переселенцев – в основном бывших крепостных, садившихся на суда в черноморской Одессе, – и с ними численность населения Дальнего Востока стала возрастать. Вскоре во Владивостоке уже насчитывалось семьдесят казенных зданий и пять сотен жилых домов, в которых обитало около пяти тысяч европейцев (в соотношении пятеро мужчин на одну женщину), а также образовательные, лечебные и благотворительные заведения.
Жюль близко сдружился еще с одним замечательным европейцем – искателем приключений и личностью известной у дальневосточной интеллигенции. Польский дворянин Михаил Иванович Янковский был фигурой выдающейся, он коренным образом преобразовал жизнь Жюля Бринера. После Польского восстания 1863 года Янковского обвинили в измене, приговорили к каторжным работам и отправили в ссылку на Дальний Восток, но пять лет спустя помиловали по общей амнистии. Янковский в партнерстве с финским капитаном-китобоем по имени Фридольф Гек занял полуостров площадью восемь тысяч акров, лежащий на другой стороне Амурского залива в полудне хода от Владивостока; назывался он Сидеми (или Сидими). Там на своих угодьях он начал выращивать пятнистых оленей, чьи панты высоко ценятся в китайской медицине как средство от импотенции, и вскоре очень разбогател.
Высокий могучий мужчина, обаятельный, но серьезный, с пышными усами, Янковский затем вывел собственную породу дальневосточных лошадей – крупнее и сильнее монгольских или корейских. В 1900 году он добился правительственного контракта на снабжение лошадьми русской армии во Владивостоке, а для этого отправил старшего сына Юрия в Калифорнию изучать коневодство. Кроме того, у него была успешная плантация женьшеня – ценного растения, культивировать которое в те времена еще не умели. Позднее он основал норковую ферму, а затем занялся еще и перевозкой песка баржами на городские пляжи.
Помимо других своих занятий, Янковский не один десяток лет изучал флору и фауну – открыл и описал более ста видов и подвидов бабочек, из которых семнадцать до сих пор носят его имя, а также дальневосточный подвид американского лебедя (Cygnus columbianus jankowskyi) и еще два вида птиц. Кроме того, он был рьяным защитником природы – страстно протестовал против разграбления природных ресурсов и ратовал за охрану множества видов животных и растений; для XIX века он определенно заглядывал очень далеко в будущее.
Но Сидеми окружали недруги. Вокруг домов, выстроенных польским шляхтичем и финским шкипером, вместе с амурскими тиграми бродили дальневосточные леопарды (амурские барсы), хотя ни те, ни другие особой опасности для людей не представляли. Да и стаи монгольских волков тоже, хоть они и наводили на жителей ужас: что ни ночь, резали бы по десятку оленей Янковского (или коз, овец, коров, даже лошадей), если бы хозяин усадьбы не строил изгородей и сторожевых башен, на которых выставлялись караулы. Но и они, однако, не гарантировали безопасности деревни, выстроенной Янковским для возросшей рабочей силы своего имения, где особому риску подвергались дети и домашний скот, хотя от нападений хищников не был застрахован никто.
Самыми опасными же врагами были банды китайских разбойников, известными под именем хунхузов – «рыжебородых», осколков бандитской армии, разбросанных по всей тайге. В 1878 году, вскоре после приобретения имения в Сидеми, Янковский и Гек однажды вместе вернулись из Владивостока и обнаружили, что хунхузы жестоко убили жену и домочадцев Гека, а ребенка похитили. Вне себя от горя шкипер Гек переселился на свое китобойное судно.
Жюль Бринер познакомился с Янковским и часто проводил выходные в огромной каменной крепости, которую польский шляхтич выстроил в Сидеми. Его уже заворожил этот полуостров, и поскольку Гек ни в какую не желал продавать свою землю на нем, он подписал с хозяином договор аренды на 50 гектаров земли, а после смерти шкипера в 1904 году Жюль выкупил участок у его дочери. То было место поразительной красоты – с хорошим пирсом и островком, идеальным для строительства на нем маяка: с ним добираться в тумане от Владивостока было сохраннее.
Стараясь обеспечить безопасность своих владений, Жюль и Янковский совместно объявили бандитам личную войну. Как писал один историк: «Работая вместе, Янковский, Бринер и Шевелев [еще один сосед] нанимали больше людей для охраны участков и присмотра за стадами – этих людей стали называть “людьми Янковского”. Своих “людей” Янковский превратил в частную армию, набирал в нее исключительно корейцев – только им, по его мнению, можно было доверять, – и отправлял выслеживать и уничтожать рыжебородых»[16]. В итоге им удалось приструнить всех бандитских вожаков, «извести их», как сообщалось в одном отчете. Последующие пять лет Янковский и его милиция продолжали выезжать ночами на патрулирование, и вскоре хунхузы перестали угрожать непосредственной округе.
На Жюля большое впечатление производила вся эта семья, включая русскую жену Янковского Ольгу; но сердце его покорила Ольгина младшая двоюродная сестра Наталья Куркутова. Представительная молодая брюнетка, упрямая и независимая в суждениях, она выросла в Иркутске, у озера Байкал на границе Бурятии, в двух тысячах километров к востоку. Внучке сибирского купца, наполовину бурята, исполнилось тринадцать лет, когда ее отец умер от чахотки, в долгах и опозоренным. Следующие три года ее воспитывала двоюродная сестра Ольга и ее муж, польский шляхтич.
Жюль Бринер, по вероисповеданию лютеранин, женился на Наталье Иосифовне Куркутовой 1 ноября 1882 года в Успенском православном соборе Владивостока[17]. Ему было тридцать три года; Наталья в свои шестнадцать была для него сущим ребенком. Из своей городской квартиры они на катере перебрались в летнюю резиденцию Бринера в Сидеми, где в каменном «коттедже новобрачных», который Жюль сам спроектировал на утесе над Амурским заливом, и провели вместе свою первую ночь.
За год до свадьбы Жюля и Натальи совершили покушение на царя Александра II. В Александре III убийство отца укрепило веру в то, что любое участие народа в управлении Российской империей – катастрофа. Россией может править лишь абсолютное самодержавие, а за границей ее мощь следует крепить лишь демонстрацией силы.
Николаю же, чувствительному тринадцатилетнему цесаревичу, был преподан наглядный урок: царей могут калечить и убивать их же подданные.
К 1884 году, когда у Жюля и его жены Натальи родился первый ребенок, пара обосновалась в собственном доме на Светланской, напоминающем швейцарское шале. Теперь они входили в городскую элиту. Город уже насчитывал восемь тысяч жителей, из которых половину составляли флотские. Всего за двадцать лет неразвитый военно-морской форпост стал примечательно космополитичным городком: здесь жили североамериканцы, французы, шведы, турки, итальянцы, сербы, немцы, датчане, швейцарцы и англичане, а также множество представителей соседних наций – японцев, корейцев и китайцев. Но «Доброфлот» теперь регулярно доставлял сюда переселенцев из западной России, и они постепенно расселялись по всем Амурской и Приморской областям. По суше сюда добиралось множество казаков – умелых наездников, назначенных имперской властью поддерживать закон и порядок почти по всей территории России. Казацкое население насчитывало два с половиной миллиона душ, и на Дальнем Востоке их войска составляли бо́льшую часть населения – они наводили порядок среди крестьян-переселенцев и всех, кто им попадался.
Жюль неуклонно стремился к результативности. Его совет, передававшийся в семье три поколения, звучал так: «Из-за стола всегда нужно вставать чуточку голодным». Такая воздержанность во всем, естественная для делового швейцарца, подразумевает и взвешенный подход к жизни в целом.
Чтобы поддерживать двусторонний грузопоток между Владивостоком и Японией, Шанхаем и Европой, Жюль вкладывал капиталы в предприятия, чья продукция могла заполнить трюмы уходящих из Владивостока судов, а вскоре принялся основывать и собственные. Оглядывая регион, он видел то же, что и другие: тайгу, бескрайние леса – лиственница, ель, сосна, клен, ясень, дуб и береза. Всего за несколько месяцев ему удалось запустить успешное лесозаготовительное и перерабатывающее предприятие: так не только заполнялись трюмы, но и создавались новые рабочие места – ему теперь требовались лесорубы, тележники и колесники, фрезеровщики, канатчики, счетоводы и многие другие. Впоследствии он вошел в долю золотых приисков и начал знакомиться с горной добычей. Пароходство его выполняло крупные промышленные и государственные заказы, а также перевозило лес и уголь других предприятий Жюля. После стольких лет, прожитых на Дальнем Востоке, он получил право на российское гражданство, а приняв его, не потерял и швейцарского, хотя российские чиновники отныне относились к нему только как к русскому.
В это время ему присваивают звание купца первой гильдии – титул был показателем стоимости его активов, – и почти все последующие сорок лет его статус оставался неизменным (хотя состояние могло уменьшаться после особо крупных капиталовложений). К первой гильдии относились купцы с капиталом, превышающим десять тысяч рублей, имевшие от пяти до десяти тысяч относились ко второй гильдии, а те, у кого была всего тысяча рублей, принадлежали к третьей. Купцы первой и второй гильдии имели право владеть промышленными предприятиями и крупными поместьями, а также не подвергались телесным наказаниям.
Население и объемы промышленности Владивостока возрастали, а с ними росла и изысканность города. На другой стороне Светланской, прямо напротив конторы Жюля, застройщик Иван Галецкий возвел двухэтажную гостиницу «Центральная»; затем, в 1885 году пристроил к ней европейский театр на 350 мест – единственный на тысячи километров окрест, его называли «Театром мадам Галецкой». Городские улицы бо́льшую часть года по-прежнему представляли собой опасные топи, но после того, как город в 1907 году установил у себя телефонную сеть, необходимость слать посыльных через весь город с каким-либо сообщением отпала. Телефонный номер Бринеров был 14.
Росли не только предприятия Жюля, но и его семья. За следующие двенадцать лет Наталья благополучно разрешилась тремя мальчиками и тремя девочками – после того, как их первый ребенок умер во младенчестве, надолго погрузив Наталью в глубокую печаль. В результате, каждые несколько зим Бринерам приходилось перебираться в дом попросторнее. Лето они обычно проводили в Сидеми, где Наталья могла навещать свою кузину Ольгу, редко покидавшую каменную «крепость» Янковских. Третий ребенок Бринеров Борис родился 29 сентября 1889 года. С самого начала он казался очень умным – но и остальные дети Бринеров не были глупы. Быть может, Борис видится мне особенным, потому что он – мой дед.
• 3 •
Все правление Александра III планы строительства железной дороги через Сибирь не только демонстрировали имперские амбиции России, но и подчеркивали подковерную борьбу ее министерств. В XIX веке часто говорилось, что у России нет правительства, есть только министры. Главным образом из-за нескончаемых дебатов между министрами строительство дороги началось лишь после кончины Александра в 1894 году. Не все министерские диспуты были пустяшны – они часто случались из-за расхождения взглядов на режим управления: надо ли сиюминутным решениям просто подчиняться царской воле или же они должны соответствовать крепкой экономике? Потому что Транссибирская магистраль никогда не была осуществимым капиталистическим предприятием – не было ни малейшей надежды, что она когда-нибудь станет приносить прибыль. Говоря попросту, за билетами в Сибирь люди выстраиваться в очередь к кассе не станут.
Правительство, однако, и не собиралось предоставлять им выбор: оно намеревалось переселить миллионы крестьян из их деревень и промышленных городов на Западе на пустынные равнины, в тундру и тайгу Востока. Фактически, власть впервые в таком масштабе училась управлять движением населения, а цель этих учений – разгрузить перенаселенный Запад после отмены крепостного права. Но кроме того предполагалось и «русифицировать» Дальний Восток. Как это недвусмысленно объяснял генерал-губернатор Унтербергер: «Край нами занят не для колонизации его желтыми, а для того, чтобы его сделать русским»[18]. Один проницательный историк заметил по этому поводу лучше всех: «Транссибирская железная дорога была построена с целью переместить на Восток население, которому понадобится железная дорога»[19]. А также, мог бы добавить, армию для защиты этого населения.
Транссибирская магистраль стала железным мостом через всю Россию; кроме того, она служила доказательством, что Россия готовится к военному господству над Азией. Эта система обеспечила бы переброску из западной России войск и снабжения, при помощи которых было бы легко одолеть некрупные (а в случае Китая – дисфункциональную) державы Азии. Такое значимое военное преимущество могло бы даже отменить необходимость воевать с Японией: как только Транссиб заработает, победы можно добиться одной лишь угрозой натиска России.
То была Имперская Эпоха – ее описывали как «последовавшее за 1880-ми неистовое соперничество Великих Держав за дополнительные колониальные территории в Африке, Азии и на Тихом океане, отчасти ради выгоды, отчасти из страха оказаться обойденными»[20]. Англия колонизовала Восток с 1700-х годов, Германия, Франция и Соединенные Штаты тоже обзавелись здесь плацдармами и выискивали природные ресурсы, которые можно было бы грабить, используя неистощимую местную рабсилу, дешевую и покорную.
Россия три сотни лет контролировала малонаселенную Сибирь, а вот на Дальнем Востоке могла похвастаться лишь Владивостоком. Были там, конечно, и другие городки, включая Никольск-Уссурийский и Хабаровск к северу, а вот крупных городов еще не построили. Хуже того: этот регион был частью континентальной России, не какой-то удаленной колонией, однако сам факт не значит ничего, если до этих мест невозможно добраться и никак нельзя их защитить. Если на Владивосток нападут европейские державы, обосновавшиеся в Азии, он окажется беззащитен, а его утрата будет значить потерю российской земли, а не просто колониальных владений. Тем самым уже по мере развития города усилиями горстки личностей, заботящихся об интересах общества, он приобрел огромное стратегическое и геополитическое значение, весьма превышавшее его скромную действительность.
С самого начала долговременное выживание города зависело от того, возьмется имперское правительство за прокладку Транссиба или нет. К 1880-м годам, казалось, Владивостоку угрожает нечто происходящее в тысячах километров от него – в Канаде, как ни странно. Британское правительство завершило постройку Канадско-тихоокеанской железной дороги, и средняя длительность путешествия из Англии в Японию сокращалась с 52 дней (восточным маршрутом через Суэцкий канал) до всего лишь 37 (западным через Канаду). «Лондон рассчитывал пользоваться канадской дорогой, – пишет историк Маркс, – чтобы сосредоточивать свои силы против Владивостока»[21].
По любым меркам прокладка Транссибирской железнодорожной магистрали предприятием была дерзким: громадность этого проекта осознать трудно даже сейчас. Следовало пересечь почти семь тысяч километров почти непроходимой территории – за десяток лет до первых автомобилей и грузовиков, причем кое-где на этом маршруте почва не оттаивала месяцами. По оценкам, только западные и центральные участки дороги требовали усилий 80 000 человек, включая 30 000 одних лишь землекопов для перемещения грунта – бульдозеров тогда не существовало, – и 2000 квалифицированных каменщиков. Один участок русской Китайско-восточной железной дороги был настолько удален, что в 1896 году российские министерства решили выстроить в Китае совершенно русский город, где могли бы разместиться железнодорожные рабочие и их семьи. Для этого выбрали место на берегу реки Сунгари и возвели там несколько домов, посад назвали Харбином. К 1910 году город уже стал своим для 44 000 русских и 60 000 китайцев.
Специально для строительства железной дороги был создан и русский торговый флот. Для дороги требовалось 150 миллионов фунтов чугуна в чушках. Для строительства десятков железнодорожных мостов из Соединенных Штатов импортировалась закаленная сталь. Многие рельсы доставлялись с английских заводов партиями по 6000 (что покрывало участок в 25 километров) и грузились на баржи, которые иногда под их тяжестью тонули. Весь подвижной состав требовал более 30 000 железнодорожных вагонов и 15 сотен локомотивов.
Как «отца Транссиба» помнят отнюдь не царя Александра III, а утонченного и дальновидного министра Сергея Витте. Карьера Витте, начинавшего в Министерстве путей сообщения, поднявшегося до ранга министра и занявшего пост министра финансов, поместила его в такое положение, что он понимал все аспекты этого исполинского замысла и мог довести его до завершения. Фактически, много лет Транссиб был главным компонентом всей российской экономической политики Витте. До него министры спорили об огромной стоимости проекта; Витте же доказывал, что он выгоден для России при любой стоимости – одной лишь престижностью и мощью своей. Сами открывающиеся возможности для торговли будут на руку «экономическому империализму» – подчинению Азии торговой политикой, а не военной мощью.
Широкоплечий и крепкий мужчина, Витте «был высок даже для России, где часто встречаются люди высокого роста, и все тело его казалось сделанным грубыми ударами топора, – писал А. П. Извольский, бывший министр иностранных дел. – Его лицо имело бы тот же характер, если бы не дефекты формы носа, которые давали ему некоторое сходство с портретом Микеланджело»[22]. Историк Джон Алберт Уайт замечал, что проекты министра финансов «поглощали огромную часть государственного бюджета, хватка его власти затрагивала жизни все большего числа людей, и он становился повелителем буквально государства в государстве»[23]. «В дальнейшем его стремление бесконечно распространять власть государства на различные сферы деятельности, – писал далее Извольский, – привело к тому, что в течение десяти лет он был действительным господином 160-миллионного населения империи».
Единственное принятое Витте решение действенно гарантировало со временем завершение этого монументального проекта. В 1892 году он назначил 23-летнего цесаревича Николая первым председателем Комитета Сибирской железной дороги. Тем самым Витте удалось «подлизаться» к будущему царю, как считали некоторые члены правительства, отыскав выход для инициатив последнего. На самом деле, это стало первым предприятием Николая в мире взрослых, и с его престижным участием и номинальным руководством, Витте понимал, что проект этот никогда не бросят, что бы ему ни грозило.
Цесаревич Николай прибыл во Владивосток 11 мая 1891 года, и этот церемониальный повод многое значил для зарождавшегося города, да и, в итоге, для самого Николая и его безвременно прервавшегося правления. Миру тем самым продемонстрировали, что следующего правителя России искренне интересует этот регион. Здесь его, разумеется, приветствовали отцы города, включая и Жюля Бринера. Николай, бывший, по оценке одного современника, русским по крови лишь на 1/128-ю, вероятнее всего беседовал с Жюлем по-немецки – тот был на 100 % швейцарцем, хоть и стал русским гражданином, а потому – подданным царской фамилии.
Цесаревич приехал сюда из Японии, где на него совершил покушение размахивавший мечом нападавший; Николаю оцарапало череп, и событие это его объяснимо расстроило. К тому же, вероятно, убогий городок в его тогдашнем виде впечатления на него не произвел. Несмотря на несколько роскошных домов, Владивосток все равно еще оставался военно-морской базой в глуши, где основное население по-прежнему проживало во времянках. По словам биографа Роберта Мэсси, цесаревич счел Владивосток «унылым пограничным городком с грязными немощеными улицами, открытыми сточными канавами, некрашеными деревянными домами и кучками глинобитных соломенных фанз, населенных китайцами и корейцами»[24]. На следующий день по прибытии Николай посетил благодарственный молебен в Успенском соборе. Еще через несколько дней, 19 мая, отцы города сопроводили его на закладку железной дороги, где, как записал в своем дневнике князь Ухтомский, «по окончании молебствия, Наследник Цесаревич изволил лично наложить в приготовленную тачку земли и свезти ее на полотно строящейся Уссурийской дороги»[25]. «Вскоре после этого, – писал Мэсси, – он взял мастерок и заложил первый камень владивостокского железнодорожного вокзала». В тот миг Владивосток и стал официально последней станцией самой длинной железной дороги на свете. Собственноручно заложив этот камень – между Тигровой сопкой и Алеутской улицей с одной стороны и берегом бухты Золотой Рог с другой, – Николай поставил честь империи на завершение строительства магистрали, хотя его русским подданным, заплатившим за нее, проку от этого будет мало. Несмотря на то, что дорога эта грозила военной мощью самому сердцу Дальнего Востока, врагам России она же подарила несколько лет для подготовки к отражению этой угрозы.
Пройдет еще десяток лет, пока на эту станцию не прибудет первый поезд, а по расписанию они начнут сюда прибывать и еще лет через десять. Весь проект, столь тесно связанный с именем Николая, принес такие долгосрочные расходы, какие станут очевидны лишь гораздо позже, да и то лишь историкам. «Траты Витте, – писал Маркс, – повергли бюджет в дефицит, что вынудило его повысить налоги», для чего потребовались «большие жертвы со стороны населения России»[26], которые только усугубили суровые условия, в которых Россия оказалась в годы, предшествовавшие революции 1905-го, которую Троцкий назвал «генеральной репетицией» большевистской.
Три года спустя Николай II и Жюль Бринер окажутся втянуты в еще одно совместное предприятие гораздо теснее, и последствия его для их соответствующих империй окажутся более зловещими.
К 1890-м годам жизнь во Владивостоке для зажиточного населения была уже вполне цивилизованной. Город немного походил на Сан-Франциско после золотой лихорадки: в грубую инфраструктуру метрополии там были вправлены неожиданные изощренность и культура. Другие колониальные державы лишь прививали европейские кварталы к существующим азиатским городам, а вот архитекторы Владивостока преуспели в придании всему городу безошибочного европейского флера уже первыми своими крупными постройками. На Дальнем Востоке никогда еще не было подобного места – нет его и по сию пору.
Жюль Бринер и другие отцы-основатели неустанно старались обогатить местную культурную жизнь. Они отчетливо помнили бревенчатые хижины пограничного поста, с которых начинался Владивосток; ныне же вдоль Светланской и Алеутской улиц высились преимущественно каменные дома, трехэтажные, построенные на века. Театр мадам Галецкой (также именуемый театром «Золотой Рог») вскоре стал привлекать известных актеров и актрис из Москвы и Санкт-Петербурга, а также музыкантов и исполнителей со всего Тихоокеанского региона.
В октябре 1890 года, еще до приезда сюда цесаревича Николая, Владивосток посетил Антон Чехов. Тогда ему было всего тридцать лет, и он еще не стал трагикомическим гением русского театра и литературы, занятым раскопками человеческой души. Чехов стал врачом и именно в этом качестве совершил свое героическое гуманитарное путешествие в поисках фактов на сахалинскую каторгу, существовавшую к тому времени не один десяток лет. Опубликованный отчет о его путешествии стал откровением для большинства русских.
Владивосток отдельно интересовал Чехова на обратном пути в западную Россию – в Москве Чехов мог выписывать газету «Владивосток», выходившую с 1883 года. На нее подписывались даже в царской канцелярии в Санкт-Петербурге – вот до чего мощно действовал Дальний Восток на воображение жителей метрополии, точно так же, как жителей Восточного побережья США в эту же эпоху манил Дикий Запад.
За пять дней, которые Чехов провел в городе, он мог встретиться с редактором газеты «Владивосток» и засвидетельствовать ему свое почтение, а также, по мнению Веры и Ирины Бриннер, пить чай у Бринеров. Еще он любовался Амурским заливом со склона Тигровой сопки и работал в библиотеке Общества изучения Амурского края. Общество это, основанное в 1883 году, стало первой организацией, обратившей внимание на флору и фауну региона, его этнографию и историю. В музее общества хранилась коллекция образцов, до сего дня дающая нам представление о естественной истории Амурской области. Жюль Бринер был пожизненным членом и важным покровителем Общества, не один десяток лет делал благотворительные пожертвования в его пользу. Он лично оплатил изысканные цветные литографии с изображениями ботанических образцов, отпечатанные в превосходной немецкой типографии и ничем не уступавшие тем, что печатало Королевское ботаническое общество в Лондоне.
Через два месяца Чехов вернулся в Россию, еще через некоторое время навестил брата Александра и впервые увидел своего новорожденного племянника Михаила. Сорок лет спустя Михаил Чехов сыграет в одиссее Бринеров решающую роль.
Развитию культурных и образовательных ресурсов Владивостока Жюль уделял не только деньги, но и время. В 1899 году после многих лет подготовки был основан Восточный институт – ему суждено было стать крупным российским академическим центром ориенталистики. Вскоре к нему потянулись с запада страны честолюбивые востоковеды – преподавать историю и языки Китая, Японии, Монголии, Маньчжурии и Кореи. Студенты должны были изучать в нем английский, китайский и один из прочих восточных языков. С первого года существования института Жюль служил председателем стипендиального комитета и лично щедро вкладывал средства в стипендиальный фонд. Его дети в числе первых стали посещать владивостокские гимназии, готовившие молодых людей к поступлению в западные университеты, а девушек – к конторской работе.
Благодаря переписке местной жительницы Элеанор (Элеоноры) Лорд Прей сохранился богатый сведениями дневник повседневной жизни здешних зажиточных семейств. Миссис Прей родилась в штате Мэн, но в 1894 году вместе с мужем обосновалась на Дальнем Востоке. У семейства Гольденштедт они арендовали летний дом на полуострове Де-Фриза, весьма похожем на Сидеми, располагавшийся южнее в четырех часах ходу от них. Тридцать пять лет она почти каждый день отправляла письма родственникам в США, в которых описывала все аспекты здешней жизни. Ферма Гольденштедтов снабжала город говядиной, свининой и разнообразной птицей, а также молоком, маслом, сметаной, картофелем и капустой; добывали они и устриц, крабов и рыбу. На ферме заготавливали тонны кислой капусты и варили варенья (персиковое, малиновое, черносмородинное, яблочное), делали мармелад, соленья и маринады. К празднику на даче подавали «холодный лосось под майонезом, заливную рыбу, говяжью колбасу, холодную телятину, яйца в майонезе, чуп-чуп, датский салат, картофельный салат, горячий отварной картофель, подливку, соус из хрена, огурцы, латук, редис, желе из ревеня, мороженое и кофе»[27]. В январе 1900 года миссис Прей писала: «Бринеры позавчера давали ужин, и миссис Хэнсен рассказала мне об их столовой. Говорит, она великолепна: размером примерно с четыре наших гостиных, целиком освещается через крышу за исключением одного большого окна. Вокруг нее бежит узкая галерея, и она заполнена камелиями и другими растениями»[28].
Во Владивостоке «Кунст и Альберс» меж тем превратились в поистине великолепный универсальный магазин. В 1893 году их здание первым оборудовали электрическим освещением – от их собственного парового генератора, который сам по себе был новинкой, – а вскоре в нем заработали первые электрические лифты в Азии. Зажиточный покупатель мог найти здесь множество фабричных товаров, галантерею, скобяные, шорно-седельные товары, книги (включая научные издания), фортепиано и прочие музыкальные инструменты и ювелирные изделия. А самые зажиточные могли заказать через «Кунст и Альберс» вообще что угодно.
• 4 •
От Сидеми, где Бринеры проводили каждое лето, до северной границы Кореи было всего 50 километров. Тогда эту местность знали как «Уединенное царство страны отшельников». В поисках новых предприятий, которые смогут и далее упрочить дело России на Дальнем Востоке, Жюль отправился добывать лесные концессии на север, к Никольск-Уссурийскому. Его предложений там не приняли, и он заслал своих агентов на север Кореи, разведывать тамошние лесные ресурсы – и те вскоре нашлись в изобилии на берегах рек Ялу и Туманной; следовало только убедить короля Кореи выделить ему в этом регионе концессию. И Жюль выехал в длительную командировку в Сеул, столицу тогда еще не разделенной Кореи.
К 1896 году Корея окончательно попала под влияние Японии, а соседняя Маньчжурия к западу – под контроль России. Корейский король Коджон, нерешительный вождь небольшого роста и непонятного авторитета, боялся за свою жизнь: несколькими годами ранее его супругу королеву Мин убили японские агенты, дабы прекратить ее интриги против японского влияния. В то время, опасаясь за свою жизнь, Коджон нашел прибежище в русской дипломатической миссии в Сеуле.
Там 28 августа 1896 года Жюль и встретился с 26-м королем династии Чосон, который на следующий год будет провозглашен императором, несмотря на отсутствие империи. Они подписали соглашение, согласно которому новой «Корейской лесной компании» Жюля сроком на 20 лет предоставляется право
…вести лесные операции на казенных землях в верховьях реки Тумень и по ее правым притокам в Мушинском округе, а также на острове Дажалет (Ульленг-до) в Японском море. Затем, после устройства дел в этих местах, «Корейская лесная компания» имеет право исследовать при содействии сведущих людей лесные площади на корейской территории системы реки Ялу, и после того она будет иметь право распространить свои операции в подходящих местах, производя операции на тех же основаниях, как в Туменском участке[29].
Этот громадный район – 5000 квадратных верст – предоставлял абсолютный стратегический контроль над всем Корейским полуостровом. Кроме того, в соглашении оговаривалось право
…делать все, что необходимо для проведения дорог и конножелезных путей и для очистки рек в видах удобств сплава леса; также строить дома, мастерские и устраивать заводы… Для разработки леса компания может устраивать паровые лесопильные заводы или на русском берегу реки Тумень, или на корейском, где будет удобнее.
Подразумевалось, что он также имеет право вводить на эти участки охранную стражу – если сочтет необходимым защищать свои бригады рабочих от хунхузов. Почти четверть этого документа посвящена необходимости правильного ведения лесного хозяйства и эксплуатации лесных богатств. И наконец, договором Жюлю разрешалось «передать сей контракт любому русскому благонадежному лицу или обществу». Взамен король Коджон получал четверть чистой прибыли от всей операции, чьей штаб-квартирой служила контора Бринера во Владивостоке, на углу Алеутской и Светланской.
Разумеется, Жюль знал, что правительство империи осведомлено о его лесной концессии с самого начала – его переговоры с корейским королем происходили в российском посольстве. Точно ему не было известно другое, и об этом он мог только подозревать: Сергей Витте лично интересуется его деятельностью, и она могла тревожить министра. Директор Общей канцелярии Министерства финансов Российской империи Петр Михайлович Романов потребовал, чтобы один из агентов министерства в Сеуле – по имени Д. Д. Покотилов – сообщал ему все, что удастся выяснить о деятельности русского купца швейцарского происхождения в Корее. Покотилов отправил в министерство полный четырехстраничный текст лесного контракта, отметив, что «домогательства г. Бринера увенчались полным успехом»[30]. Кроме того, Покотилов сообщал:
Во время своего почти месячного пребывания в Сеуле и Чемульпо, г. Бринер самым обстоятельным образом занялся изучением вопросов, имеющих отношение до оживления сношений Кореи с нашей тихоокеанскою окраиной, причем я могу сказать по совести, что редко встречал человека более наблюдательного и, если можно так выразиться, практически любознательного. – Кроме своего лесного дела, он заинтересовался и притом, как мне кажется, вполне серьезно, возможностью организовать вывоз риса из Кореи во Владивосток… Вместе с тем, г. Бринер обратил серьезное внимание на возможность начать сюда ввоз керосина, который в настоящее время доставляется сюда одними японцами и притом исключительно американский. – С этой целью г. Бринер поручил одному из своих новых знакомых в Чемульпо присмотреть и купить ему место в этом порте для устройства цистерн…
Агент, перед которым стояла задача шпионить за Жюлем, подпал под обаяние владивостокского предпринимателя и его дальновидных интересов:
Доводя до сведения Вашего Превосходительства о деятельности в Корее г. Бринера, беру на себя смелость выразить мнение, что усилия его завязать непосредственные торговые сношения между здешней страной и Владивостоком должны, казалось бы, быть встречены со стороны Министерства финансов самым сочувственным образом, и я уверен, одобрение выраженное ему от имени Вашего Превосходительства, еще значительно усилит его рвение на этом несомненно симпатичном с русской правительственной точки зрения поприще. – В ноябре сего года г. Бринер предполагает отправиться в Россию, будет и в Петербурге, и, по моему совету, не преминет представиться Вашему Превосходительству.
С некоторым беспокойством агент также рапортовал:
Как и следовало ожидать, подписание этого контракта не осталось незамеченным в японской и японофильствующей англо-японской прессе, толкующей все это дело в смысле нового шага России, стремящейся распространить свое политическое влияние на северные провинции Кореи и т. п. Некоторые выдающиеся японские газеты напечатали даже длинные статьи по этому предмету, указывая на крайнюю важность этого факта в смысле упрочения влияния России в Корее и т. д.
Стало быть, с момента подписания договора о концессии Японию волновали намерения Жюля касаемо корейской лесной концессии, и правительство империи в Санкт-Петербурге было об этом осведомлено. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы все стало ясно: взятые вместе, реки Ялу и Туманная практически отсекают весь Корейский полуостров от Азиатского континента. И контракт Жюля, позволявший ему «делать все, что необходимо», мог служить оправданием для переброски сюда целых дивизий русской армии – на территории, находившиеся под военным контролем японцев.
Владимир Иосифович Гурко в 1897 году работал в Государственной канцелярии. Несколько лет спустя он оставил воспоминания о визите Жюля Бринера в столицу империи в ноябре того года – и о бедственных последствиях этого визита:
В ноябре 1897 г., т. е. еще до завладения нами Порт-Артуром и когда мы развивали нашу деятельность в Корее, в Петербург приехал владивостокский купец Бринер с предложением купить у него полученную им от корейского правительства концессию на эксплуатацию обширных, охватывающих всю Северную Корею лесных пространств по рекам Тумен и Ялу. Первоначально Бринер обратился с этим предложением к директору Международного банка небезызвестному советнику в финансовых делах Витте Ротштейну, но с ним ему не удалось совершить эту сделку. В дальнейших поисках покупателя принадлежащей ему концессии Бринер сталкивается с Вонлярлярским, который тотчас же возгорается этим делом: купить за несколько десятков тысяч рублей концессию на эксплуатацию территории в 5000 квадратных верст, изобилующих неисчерпаемыми естественными богатствами, представляется делом весьма заманчивым. Однако он понимает, что эксплуатация этой территории, находящейся вдали от всяких путей сообщения, требует затраты огромных средств и мыслима лишь в масштабе государственного предприятия. Именно в качестве такового прельщается этим делом A. M. Безобразов, с которым сговаривается по этому делу Вонлярлярский, и посему стремится заинтересовать им великих мира сего. Ему удается привлечь внимание в общем несклонного заниматься подобными вопросами бывшего министра двора гр. И. И. Воронцова-Дашкова, а также легко увлекающегося великого князя Александра Михайловича[31].
Адольф Ротштейн представлял в России интересы Ротшильдов. Александр Михайлович Безобразов был отставным офицером Кавалергардского полка и сыном санкт-петербургского уездного предводителя дворянства. Его соратник Владимир Вонлярлярский характеризовал его так: Безобразов «наделен был неуравновешенными способностями – среди коих главенствовало воображение – и болезненная тяга к преходящим увлечениям»[32].
Относительно же контракта Бринера с корейским королем Гурко вспоминает:
Увлеченный своей богатой фантазией, Безобразов составляет по этому делу обширную записку [вероятно, отчет Жюля, цитируемый ниже. – Р. Б.], которую ему удается через гр. Воронцова представить царю. В этой записке Безобразов стремится убедить Николая II приобрести концессию Бринера в личную собственность и тут же развивает обширный план ее использования.
В то же время министр финансов Витте – раздумывая над огромным дефицитом государственного бюджета, вызванным строительством Транссибирской магистрали, – советовал Николаю не ввязываться в лесную концессию Бринера.
Существовало множество доводов в пользу того, чтобы Николай присмотрелся к ней: само местоположение концессии, как писал историк Уайт, было «ключом стратегической важности… область в 5000 квадратных верст, растянувшаяся по северной границе Кореи»[33]. Безобразов, вспоминает Гурко,
…утверждал, что проведение нами рельсового пути по всей Маньчжурии, втягивая в сферу нашего влияния ее богатую южную часть, столь же неприемлемо для Японии, как и завладение нами на тех или иных основаниях Северной Кореей. Иначе говоря, Безобразов полагал, что установить сухопутную связь Сибири с Порт-Артуром без вызова к нам враждебных чувств не только в Китае, но и со стороны Японии мы вообще не можем. При таких условиях задача наша, по мнению Безобразова, сводилась к тому, чтобы провести предположенный железнодорожный путь по той местности, которую можно всего легче защищать от нападения Японии, и притом с наименьшим нарушением интересов Китая. Подобной местностью в его представлении являлась Северная Корея и именно та ее обширная часть, концессию на которую можно было легко приобрести. Горный хребет, отделяющий бассейны рек Ялу и Тумен в северо-восточной его части от Японского моря, в средней части от Корейского полуострова, а в юго-западной от Желтого моря, представлял естественную защиту концессионной территории от Японии в случае появления ее войск в Южной Корее. Хребет этот являлся, таким образом, первоклассной линией стратегической обороны почти по всему протяжению предположенной дороги в случае ее проведения в проектированном им направлении. Особенное значение придавал Безобразов при этом юго-западной части Северной Кореи, прилегающей к Ляодунскому полуострову. Здесь имеется горный проход, дающий легкий доступ из расположенной у Печилийской бухты приморской части Северной Кореи в занятую нами Квантунскую область. Занятием этого прохода мы будто бы совершенно преграждали пути японским войскам по направлению к Порт-Артуру. Что же касается Китая, то мы при таком направлении железной дороги проводили ее лишь в незначительной части Северной Маньчжурии, а посему Небесную империю не озлобляли. Одновременно он утверждал, что без усиления нашей военной мощи на Дальнем Востоке мы вообще не в состоянии охранить сухопутную связь Сибири с Порт-Артуром, ни со стороны Китая, ни со стороны Японии.
Сами корейцы определенно предпочитали российское владычество японскому – с японцами они воевали веками. Хотя Николай оставался равнодушен к проекту, пишет далее Гурко,
…неудача, которая поначалу постигла его план, не охладила Безобразова. Он продолжает стремиться играть роль в нашей дальневосточной политике и, в частности, убеждает государя послать на средства Кабинета Его Величества особую экспедицию в территорию концессии Бринера. Экспедиция эта должна выяснить, что представляет в экономическом отношении концессионная площадь, а также какое она может иметь для нас значение в отношении стратегическом. В этих видах в состав экспедиции, состоящей под главенством служащего в Кабинете Его Величества тайного советника Непорожнева включаются два офицера Генерального штаба (впоследствии члены Государственной думы) – Звегинцев и барон Корф (сын Приамурского генерал-губернатора барона А. Н. Корфа).
«Его Величество соизволил распорядиться о подписании договора о временном приобретении лесодобывающей концессии купца Бринера»[34]. Трудное путешествие протяженностью 123 тысячи миль и личное распоряжение царя показывают, насколько важен стал этот вопрос для Николая.
Офицеры эти по возвращении из упомянутой экспедиции вводятся непосредственно к государю. Своими восторженными рассказами о естественных богатствах исследованного ими края, а также о его значении для стратегической обороны (они привезли его подробную топографическую съемку) от Японии захваченной нами Маньчжурии они возбуждают живейший интерес Николая II. Горячо, разумеется, поддерживает этот интерес Безобразов. В результате 11 мая 1900 г. концессия Бринера приобретается на имя Непорожнева на личные средства государя за весьма, впрочем, скромную сумму в 65 тысяч рублей.
Каковы же были мотивы Жюля во всем этом деле? Этот умный тонкий человек, объездивший весь Дальний Восток, не мог не видеть стратегического значения своего договора с корейским королем Коджоном. Однако он явно не выступал и агентом имперского правительства, которое его предложение поначалу не заинтересовало. Пошел ли Жюль на все эти усилия лишь для того, чтобы выручить деньги за контракт? Намеревался ли он с самого начала продать царю концессию? Или он отправился в Санкт-Петербург просто-напросто за государственной поддержкой и, быть может, какого-то вспомоществования проекту, дабы привлечь в него других вкладчиков? Царь Николай II заплатил Жюлю деньги за кусок бумаги, подписанный королем-марионеткой. Однако Жюль больше склонялся к осмотрительности, нежели к алчности – и никогда не пренебрегал задумываться о том, как его дела подействуют на других. Он сам жил в Японии и, несомненно, знал, что, если японцы воспримут эту продажу как российскую провокацию, микадо может запросто развязать в этом регионе войну, которая поставит под угрозу все, что Жюль там создавал последние двадцать лет, включая его семью, его предприятия и сам город Владивосток. Могла ли с самого начала помощь России в отъеме Кореи у Японии входить в его тайные намерения?
В ходе моих изысканий я наткнулся на примечательный документ, в котором Жюль самолично объясняет свои мотивы и рассказывает, с чего начался его интерес к корейским лесам. Машинописный текст, недавно обнаруженный в Российском государственном историческом архиве, датируется маем 1897 года и представляет собой отчет Жюля от первого лица: здесь он рассказывает о своем интересе к Корее, описывает ее ценность для возможных вкладчиков капитала и государственных чиновников. Этим документом Жюль и предлагал концессию на реке Ялу царю Николаю II:
Занимаясь в продолжении двадцати лет коммерческими операциями и между прочим лесной торговлей на Дальнем Востоке, я обратил внимание на леса Северной Кореи. Еще гораздо ранее, чем страна эта была открыта для европейской внешней торговли, на рынках Чифу и Тяньцзиня уже появились в большом количестве толстые колоды и невольно удивляли путешественников своей громадой. Это были леса с реки Ялу (Ялу-кианг).
Драгоценный корень женьшень, произрастающий исключительно в густых лесах, куда с трудом проникает солнце, часто встречается в Северной Корее и нахождение этого корня там увеличило во мне интерес и вероятное предположение о богатстве вековых лесов ее.
Потом, случайно встретив в одном из храмов в Киото великолепные деревянные колонны из породы, похожей на тик, я узнал, что они добыты на о. Дажилет (Ульленг-до), о лесном богатстве которого приобрел впоследствии и более обстоятельные данные[35].
Семью годами ранее, пояснял Жюль, цены на лес в Японии возросли на 50 %; посему он «собрал достоверные и драгоценные сведения о состоянии лесов на р. Тумен, которые постепенно и пополнял», и через российских представителей в Сеуле начал переговоры с корейским правительством о предоставлении лесной концессии. «Опасаясь, однако, чтобы впоследствии владельцы лесов на р. Ялу и на о. Дажилет не явились опасными конкурентами на японских и китайских рынках для моего леса с р. Тумен, – прибавлял он, – я старался и успел приобрести в свое пользование все эти три лесные местности Кореи». Лес с реки Ялу явно не стоял для него на первом месте – его занимали планы лесоразработок по р. Туманной. И он отнюдь не предвкушал войны с Японией – напротив, рассчитывал, что японцы станут его клиентами.
Не предполагал Жюль и никакой угрозы для своей рабочей силы. «Единственный элемент, время от времени могущий беспокоить население – это разный китайский сброд (преимущественно беглые солдаты), который производит набеги с целью грабежа. Но обыкновенно присутствие даже одного-двух европейцев держит этих бродяг на почтительном расстоянии». Жюль подробно анализировал разновидности доступного леса, способов его транспортировки, а также приводил сравнительный рыночный анализ цен и качества леса из этого региона и Соединенных Штатов. Все это – отнюдь не поверхностные заметки человека, пытающегося скрыть какие-то тайные мотивы.
Жюль явно намеревался основать выгодное лесозаготовительное предприятие при сотрудничестве с государством: и впрямь – без имперского одобрения было бы затруднительно обеспечить то значительное финансирование, которого требовал проект. Его собственный участок в Сидеми располагался лишь в одном дне пути от реки Туманной, и он мог рассчитывать, что российские пограничники оберегут его летнюю дачу от возможных нападений корейцев или хунхузов и с самого начала предоставят государственную защиту лесной концессии.
Совершенно невероятно, что Жюль выступал внештатным провокатором, однако такое допущение делает историк Уайт, замечая, что «официальные связи Бринера, судя по всему, были тесны, поскольку он получил концессию при содействии русского посланника в Корее. Более того, во время ее получения он служил в пограничной комиссии… С самого начала его концессия была тесно связана с официальными кругами, если не с официальной политикой»[36].
Жюль всегда намеревался съездить в Санкт-Петербург за правительственным одобрением своего проекта на реке Ялу: намерение это упоминается в письме агента Витте Покотилова в Министерство финансов через несколько недель после того, как Жюль достиг соглашения с королем Кореи. Несомненно, Жюль рассчитывал, что концессия окажется привлекательна для экономического империализма Сергея Витте: в итоге, это русская промышленность легально брала под контроль корейскую территорию. Витте же с самого начала, похоже, связывал этот план со своим политическим противником Безобразовым. Однако, уже отказавшись от предложения Жюля, министр финансов со временем все же передумал. Как писал Александр Солженицын: «Тут Витте, снова в противоречие себе, соглашался присоединять Маньчжурию и даже открывать лесную концессию в Корее»[37].
Но каково же было намерение Николая при покупке концессии Бринера – и уплаты за нее из собственного кармана? По словам Солженицына, Безобразов убедил царя, что «наши экономические предприятия в Корее, лесная концессия, быстро начнут приносить фантастические барыши, и Восток окупит сам себя»[38]. Но с учетом огромных таежных просторов на русской почве это все же как-то неубедительно. Кроме того, царь проявлял интерес лишь к стратегическому местоположению концессии Жюля, а вовсе не к флоре и фауне, которые Жюль, самолично отправившись в экспедицию вдоль реки Ялу, исправно документировал. Для российского правительства это был лишь слабо замаскированный хапок земли – отнюдь не деревьев.
План Безобразова, как его описывает Уайт, состоял в том, чтобы «концессия Бринера начала работу с организацией полуофициальной “Восточно-Азиатской промышленной компании”, устроенной так же, как британская “Ост-Индская компания”. Компанию эту следовало организовать и управлять ею так, чтобы ей не приходилось заботиться о дивидендах, а она бы сосредоточивалась на служении имперским интересам. Компания эта контролировала бы как местные дела, так и всю политику России на Дальнем Востоке»[39].
Никто не сомневается, что всю эту схему привел в исполнение Безобразов – но каковы были его интересы в этом деле? Если верить Гурко, Безобразов «был фантазер, одержимый манией величия, роль царского советника прельщала его честолюбие, а возможность влияния на кардинальные вопросы государственной политики дурманила его слабую голову и окончательно скрывала от него общее положение страны за преследуемой им химерой владычества России едва ли не во всей Азии».
Именно подобная амбиция и тревожила Японию. В резком противоречии с доктриной экономического империализма Витте Безобразову со временем удалось убедить царя, что России необходимо продемонстрировать свою военную мощь на Дальнем Востоке, чтобы во всем регионе не осталось сомнений в абсолютном владычестве имперской власти над «желтой опасностью». Влияние Витте на Николая ослабло с огромным ростом дефицита государственного бюджета, вызванным строительством Транссибирской магистрали, где перерасход средств уже достигал 150 %. А по мере ослабления роли Витте голос Безобразова крепчал… и громче били тамтамы войны.
Следующие несколько лет Япония старалась добиться от России разъяснений по поводу ее намерений в Корее, хотя истребление иностранцев во время Боксерского восстания, по сути, положило конец любым практическим мерам в регионе.
…Японский министр иностранных дел маркиз Ито, – писал Гурко, – осведомившийся о приобретении нами концессии в Северной Корее и встревоженный тем, что мы ввели в Маньчжурию значительную военную силу, которую, несмотря на подавление боксерского движения, по-видимому, не собираемся из нее уводить, вел с [бароном Р. Р. Розеном, российским посланником в Японии] по этому поводу весьма сериозные разговоры.
Маркиз Ито прямо заявил, что Япония вынуждена перекинуть свое владычество на часть Азиатского материка, так как население ее, вследствие естественного прироста, уже не может безбедно жить в пределах составляющих Японию островов. Такой частью Азиатского материка может быть, говорил Ито, только Корея, и притом преимущественно северная ее часть, так как Корейский полуостров и более южные части Восточно-Азиатского побережья, если не считать уже занятого Россией Ляодунского полуострова, столь густо населены, что о переселении туда японцев речи быть не может.
Маркиз отправился в Санкт-Петербург – дорога заняла более восьми недель, через Суэцкий канал – и ждал там несколько месяцев, но никто из имперского правительства его не принял и беседовать с ним не пожелал. Каковы бы ни были тогда намерения николаевского правительства, в этом состояла затяжная, трусливая и бесчестная неудача русской дипломатии, за которую впоследствии взыщется высокая цена.
Витте сам поехал на Дальний Восток с инспекцией и в октябре 1902 года посетил Владивосток, где встречался с влиятельными предпринимателями и общественными деятелями, среди которых был и Жюль Бринер, и «совершенно ознакомился с тем, что там делается на дальней окраине, и из всего… осмотра вывел мрачные заключения»[40]. Министра финансов особенно заботил рост иностранных предприятий на русском Дальнем Востоке: по этой причине он отменил привилегии порто-франко для иностранцев, которые в самом начале и привели сюда из Японии Жюля. Но тот сейчас был гражданином России, и это вполне отвечало его интересам.
Японский микадо Муцухито по-прежнему стремился к какой-то договоренности с Россией, но ситуация становилась все более угрожающей. Вскоре должен был войти в строй Транссиб, который теоретически мог перебрасывать русские полки на восток всего за несколько недель. Однако к тому моменту объезд вокруг озера Байкал еще не начали, поэтому и войскам, и обычным пассажирам приходилось переправляться через озеро на судне, а затем опять пересаживаться на железную дорогу. Более того, только что запустили Китайско-восточную железную дорогу – предприятие целиком русское: она пересекала Маньчжурию на юг, до самого Порт-Артура, и по этим вот рельсам русские войска могли оказываться всего в нескольких сотнях километров от реки Ялу. С японской точки зрения это беспокоило больше всего: в марте 1903-го лесная концессия заработала, а потому вооруженная охрана лесоразработок по контракту с корейским императором была оправдана.
К этому времени неверной рукой Николая II уже вовсю водили империалистские амбиции Безобразова, который в январе 1903 года съездил в Порт-Артур; в его распоряжении находились два миллиона рублей (40 миллионов долларов в сегодняшних деньгах) из личного царского фонда – «кредит… “на известное Его Императорскому Величеству употребление”»[41]. Кроме того, у него имелся план «о преобразовании управления Квантунской области в наместничество на Дальнем Востоке с подчинением наместнику всех наших войск и предприятий, находящихся в Маньчжурии», – по сути, квази-независимую вице-монархию. Чтобы не выглядеть карьеристом, взыскующим места для себя самого, Безобразов прельщает титулом наместника начальника Квантунской области адмирала Алексеева. «Под напором разыгравшегося честолюбия, – пишет далее Гурко, – Алексеев поддерживает Безобразова и в вопросе о концессии на Ялу».
В какой-то момент Санкт-Петербург решает пойти на попятную:
Между прочим, на уведомления о последовавшем в Петербурге (16 февраля 1903 г.) решении эвакуировать Южную Маньчжурию, согласно принятому нами обязательству к 26 марта 1903 г., с переводом расположенных там войск вовнутрь России, Алексеев, отчасти ради обеспечения Порт-Артура большей военной силой, но отчасти и ради привлечения к себе расположения Безобразова, отвечает настойчивым ходатайством о передвижении этих войск в Квантунскую область… Самоуверенность и нахальство Безобразова доходят к этому времени вследствие этого до такой степени, что он представляет государю записку под заголовком «Расценка положений», в которой не только доказывает необходимость увеличить численность наших войск на Дальнем Востоке на 35 000 человек, но еще указывает, как их расположить. При этом он совершенно не считается с принятым нами обязательством очистить к 26 марта 1903 г. от наших войск всю Южную Маньчжурию и предполагает даже ввести в Северную Корею конный отряд с горными орудиями в 5000 человек.
В дальнейшем Безобразов организует «…солдатские рабочие артели для разделки леса, одетые в китайское платье и имеющие оружие, спрятанное в обозе… из… хунхузов, которые вооружаются казенными ружьями», – может статься, из тех же китайских бандитов, что пережили «личную войну» с ними Янковского двадцатью годами ранее и сотней километров северо-западнее. Российскому военному министру Куропаткину такой отъем его полномочий не пришелся по душе, но настроить царя против Безобразова ему не удалось[42]. Совсем немного погодя Николай II постановляет:
…2. Для сосредоточения всех вопросов, касающихся Дальнего Востока, учредить там особое наместничество.
3. Образовать под личным председательством государя Особый комитет по делам Дальнего Востока из министров военного, финансов, иностранных и внутренних дел и статс-секретаря Безобразова, возложив управление делами этого комитета на адмирала Абазу. К обязанности комитета относится разрешение всех главных вопросов, касающихся Дальнего Востока.
Мэсси предлагает такой сжатый конспект событий, приведших к Русско-японской войне:
Хотя Япония явно считала Корею территорией, важной для собственной безопасности, компания русских авантюристов вознамерилась ее умыкнуть. Их план сводился к созданию частной компании [ «Русского лесопромышленного общества на Дальнем Востоке»] и введению русских солдат в Корею под видом рабочих. Если бы это вызвало какие-то неприятности, российское правительство всегда могло бы снять с себя любую ответственность. А если план увенчается успехом, империя приобретет себе новую провинцию, а сами они присвоят в ней крупные экономические концессии. Министр финансов Витте энергично протестовал против такой рискованной политики. Однако Николай, находясь под большим впечатлением от руководителя авантюристов бывшего кавалерийского офицера Безобразова, план одобрил, после чего Витте в 1903 году подал в отставку из правительства[43].
В Японии проходили массовые демонстрации – в Токио, Киото и Ёкохаме: толпы людей возмущались российской оккупацией Маньчжурии, а неприятие концессии на реке Ялу пресса разжигала у публики с тех самых пор, как годами ранее Жюль подписал соглашение с корейским королем. Япония и впрямь весьма терпимо относилась к провокациям русских – если, конечно, делать нелепое допущение, что Япония имела какие-то права на Корею. К этому времени японское военное командование уже вовсю готовилось к войне, и множество молодых людей загоняли в армию; то же происходило и по всей России – например, старший сын Жюля и Натальи девятнадцатилетний Леонид, поступивший в московское Александровское коммерческое училище, также подлежал военной обязанности.
К началу 1904 года подготовка к войне ускорилась с обеих сторон. Наместник Алексеев запросил у Санкт-Петербурга разрешения на мобилизацию войск по всей Маньчжурии с целью выдвижения их к реке Ялу. Однако царь по-прежнему рассчитывал, что микадо образумится, и даже 1 февраля 1904 года, выступая на ужине в Зимнем дворце, Николай II утверждал, что войны не будет[44].
И все-таки уже 6 февраля русские войска перешли реку Ялу с территории первоначальной концессии Жюля и вторглись на территорию северной Кореи. Через несколько часов Япония расторгла дипломатические отношения с Россией.
Вечером 8 февраля Жюль и Наталья Бринеры посетили суарэ во Владивостоке, устроенное городским руководством в честь официального посланника Токио. На следующий день телеграф принес известие, что еще до объявления войны Япония нанесла коварный торпедный удар по русским военным кораблям, стоявшим на внешнем рейде Порт-Артура: были выведены из строя два русских броненосца и бронепалубный крейсер. Еще через день японская эскадра навязала бой русским кораблям в гавани корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон), после которого русские экипажи вынуждены были затопить свои суда. Две недели спустя еще один броненосец был потоплен на выходе из Порт-Артура, и русский комендант Стессель приказал своим часовым расстреливать на месте «всех подозрительных китайцев, подающих сигналы». После того, как его приказ был принят к исполнению, «гражданских китайцев стали отстреливать, как куропаток»[45].
• 5 •
Русско-японская война для России оказалась катастрофической с первого дня до последнего, и ценой своей – и кровью, и средствами – непосредственно вскормила корни и ярость русской революции. В самом начале военных действий марксистский наставник Ленина Г. В. Плеханов провидчески писал из эмиграции: «Если севастопольский погром в корень подорвал систему Николая I, то порт-артурский крах обещает до основания расшатать режим Николая II»[46].
Имперская надменность и расистское презрение к азиатам не давали ни министерствам, ни самому Николаю разглядеть, до чего замечательно Япония за много лет приготовилась именно к этому моменту. Вообще-то никто в имперском правительстве не верил, что Япония решится на войну – и, уж конечно, на упреждающий удар по флоту. Россия бряцала саблями на Дальнем Востоке с 1860 года – уже когда угрожающе назвала «Владетелем Востока» свою военно-морскую базу с ее 48 моряками. Теперь, в 1904 году, российской отваге предстояло наконец пройти проверку: население страны изготовилось к войне. Хотя Япония потопила под Порт-Артуром еще два корабля, россияне в массе своей царя поддерживали. Этот кошмарный миг – прямой результат нерешительного, неумелого правления Николая – также обозначил самый пик его популярности.
Россия казалась неуязвимой – в действующей армии состоял миллион человек, в резерве еще четыре[47]; войска Японии насчитывали всего 180 тысяч человек и 400 тысяч резервистов. Российский военный флот был чуть ли не вдвое больше японского, но базировался преимущественно в Балтийском море, в тысячах километров к западу; на Тихом океане же Япония располагала вдвое большими торпедоносными силами, чем Россия, и применяла их (вместе с плавучими минами) с разрушительнейшим воздействием. На западе царь мобилизовал всю громадную неуклюжую военную махину России как мог быстро и приготовился перемещать ее на восток посредством самого важного элемента имперской стратегии – Транссибирской железной дороги. В конце концов, началась война, ради которой она и строилась.
Но магистраль к японскому нападению готова не была. Еще не проложили рельсы на 100-километровом объезде вокруг озера Байкал. Военный министр Куропаткин умолял правительство отложить начало военных действий до завершения прокладки дороги, но над ним систематически брали верх председатель Особого комитета по делам Дальнего Востока Безобразов, наместник Алексеев и сам Николай. Витте, «отец» железной дороги последние пятнадцать лет, уже вышел в отставку.
Меж тем японские агенты регулярно сообщали с Байкала в Токио, что магистраль не выдержит переброски всей военной мощи России на восток; кроме того, сообщалось, что толщина льда на озере – больше трех футов. Япония начала войну сознательно «в тот миг, когда Россия была уязвимее всего – когда лед на Байкале достиг такой толщины, что с ним не справлялись ледоколы»[48]. В этот момент многотысячный поток войск на восток застопорился на берегах озера, затопив собой весь Иркутск.
В полнейшем отчаянии российское командование приняло импровизированное и неслыханное решение. Пять сотен рабочих проложили 30 000 рельсов прямо по льду, покрыв ими 40 километров через озеро. Однако первый же состав оказался слишком тяжел – лед проломился, и паровоз пошел ко дну. Поэтому более 3000 вагонов принялись переправлять по льду на другой берег по одному, впрягши в них лошадей, а солдаты преодолевали замерзшее озеро пешим маршем или на санях, каждые несколько километров останавливаясь греться в бараках-времянках, построенных в этих суровых условиях. Тысячи людей оказались обморожены. Один целый полк в составе 600 человек заблудился в буране – все утонули или замерзли до смерти. Но все равно таким манером на другой берег удавалось переправлять до пяти воинских эшелонов в день, а также более 16 тысяч самоходных «пассажиров» и 9000 тонн груза. Однако план военных перебросок этим все равно далеко не выполнялся – сил для отражения губительного натиска японцев по-прежнему недоставало.
Четыре недели спустя японский флот обстрелял Владивосток. В два часа дня 6 марта 1904 года, когда первые снаряды упали вблизи бухты Золотой Рог, Жюль и Наталья увели пятерых детей (Леонид был в училище) в подвал. Весь город жил уже по законам военного времени – здесь размещалось 16 тысяч русских солдат под командованием генерал-лейтенанта Н. П. Линевича; японцы целили в их казармы. Однако в порту базировался маленький отряд русских кораблей, состоявший из нескольких крейсеров: ему и удалось отогнать нападавших прежде, чем они сумели нанести бомбардировкой значительный ущерб.
Два дня спустя деморализованный русский флот воспрянул духом – в Порт-Артур прибыл весьма уважаемый адмирал С. О. Макаров и принял на себя командование флотом с борта броненосца «Петропавловск». В конце же месяца японцы выманили «Петропавловск» из гавани, и он подорвался на минах; адмирал Макаров и около 700 членов экипажа погибли. Но к этому времени русский флот был почти полностью уничтожен, боевой дух моряков подорван, а подкрепление всё не появлялось. Лишь полгода спустя Санкт-Петербург отдал распоряжение 2-й эскадре флота Тихого океана выходить из Балтики на помощь – долгим путем вокруг Южной Африки, через Индийский океан на Дальний Восток. Было очевидно, что появление новых броненосцев, крейсеров и эсминцев в Японском море приведет к величайшему на свете морскому сражению.
К отходу эскадры из Кронштадтской гавани Николай II и императрица Александра выехали из Зимнего дворца – напутствовать войска и пожелать им победы. Но капитан эскадренного броненосца, названного в честь отца Николая «Император Александр III», публично ответил: «Вы желаете нам победы. Нечего и говорить, как мы ее желаем. Но победы не будет!.. Я боюсь, что мы растеряем половину эскадры на пути, а если этого не случится, то нас разобьют японцы: у них и флот исправнее, и моряки они настоящие. За одно я ручаюсь: мы все умрем, но не сдадимся…»[49]
А на лесной концессии Бринера японские войска численностью около 45 тысяч человек 30 апреля 1904 года перешли реку Ялу. На следующий день они оттеснили около 200 тысяч русских солдат, чьи потери насчитывали больше 2000 человек. По словам одного историка, «противник превосходил русских не только численно, но и хитростью и маневренностью, а результатом стала ошеломляющая победа японцев»[50]. Россия позорно проигрывала по всей Маньчжурии: на реке Шахэ свыше 210 тысяч русских войск потеряли почти 40 тысяч. При осаде Порт-Артура японские потери составили (по разным источникам) от почти 60 до свыше 110 тысяч человек, но на пятый месяц город ими был взят; России он стоил от 15 до 30 с лишним тысяч жизней, и это поражение непосредственно привело к массовым антивоенным демонстрациям в Санкт-Петербурге. Наконец при Мукдене, в крупнейшем наземном сражении за всю предыдущую историю, Россия понесла почти 90-тысячные потери в войсках численностью чуть больше 280 тысяч, Япония же потеряла «всего» 75 тысяч человек. То была исполинская война – и чудовищно разгромная для России.
Но на этом унижения не кончились. После почти 8-месячного похода около 40 кораблей Тихоокеанской эскадры наконец достигли Цусимского пролива между Японией и Кореей. Адмирал Того, как и предсказывал капитан «Александра III», уже их ждал. Крупнейшее в эпоху додредноутных броненосных кораблей морское сражение длилось недолго. 19 кораблей было потоплено, 2 взорваны своими экипажами, среди них 7 броненосцев, 6 крейсеров и 5 миноносцев. Погибло свыше 5 тысяч человек, более 6 тысяч было взято в плен. Япония потеряла всего 117 человек.
К тому времени президент США Теодор Рузевелт уже несколько месяцев предлагал выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Японией. Через десять дней после практически полного уничтожения российского флота царь Николай согласился отправить в Портсмут, Нью-Хэмпшир, высокопоставленного посланника для ведения мирных переговоров. Им стал не кто иной как Сергей Витте, кем Николай ранее пренебрегал, а после переговоров даже наделил титулом. На исход переговоров могло повлиять его демократическое поведение в Нью-Хэмпшире:
Я самым любезным образом исполнял все эти просьбы, свободно допускал к себе корреспондентов и вообще относился ко всем американцам с полным вниманием, – писал он. – Этот образ моего поведения постепенно все более и более располагал ко мне, как американскую прессу, так и публику… Я не сомневаюсь, что такое мое поведение, которое налагало на меня, в особенности по непривычке, большую тяжесть, так как в сущности я должен был быть непрерывно актером, весьма содействовало тому, что постепенно американское общественное мнение, а вслед за тем и пресса все более и более склоняли свою симпатию к главноуполномоченному русского Царя и Его сотрудникам[51].
Мирные переговоры шли, пока японцы хозяйничали на Сахалине, а адмирал Того намеревался взять весь Владивосток в заложники. Именно этого с ужасом ждали все жители города – особенно после того, как газета «Джапэн Таймз» написала, что «раз пролив Мамия [Татарский] в наших руках, блокада Владивостока станет предприятием весьма действенным»[52]. Для пароходной компании Жюля Бринера возможность вооруженной блокады города виделась особенно жуткой.
Когда в конце августа Портсмутский мирный договор был подписан (что принесло упорному борцу за него Тедди Рузевелту Нобелевскую премию мира), «международный город» Владивосток Россия все же не сдала.
Но имперскому правительству теперь грозила иная опасность – гораздо сильнее и уже не на Дальнем Востоке, а прямо у царского крыльца.
После начала войны из павловских коленных рефлексов патриотизма в России постепенно развились антивоенные настроения – их разжигали демагоги в прессе и подстрекатели на площадях: они призывали народ выступить против войны. В мае 1905 года земские деятели обратились к самодержцу прямо: «Государь! Преступным небрежением и злоупотреблением Ваших советников Россия ввергнута в гибельную войну, наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен, и грознее опасности внешней разгорается внутренняя усобица»[53]. Те же чувства выражали демонстранты по всей России. «Достаточно сказать, что общее число рабочих забастовочных дней в течение января 1905 г. достигло совершенно небывалой и с тех пор не достигнутой цифры – 920 тысяч. О значительности этой цифры можно судить по тому, что до тех пор максимальное число рабочих забастовочных дней в течение целого года во всей империи составило (в 1903 г.) всего 445 тысяч»[54].
22 января 1905 года около 140 тысяч подданных Николая II двинулись к Зимнему дворцу с пением гимна «Боже Царя храни». Когда выяснилось, что все главные перекрестки блокированы царскими войсками, в том числе – конными казаками, антивоенные демонстранты ринулись вперед, и солдаты открыли огонь. До двухсот человек погибло, ранило до восьмисот.
«Кровавое воскресенье, – писал Мэсси, – стало поворотным пунктом в русской истории. Оно разбило древнюю мифическую веру в то, что царь и народ едины… Но было лишь началом года террора»[55]. Целью стало свержение николаевского режима. Через девять месяцев всю страну охватила общая забастовка – не ходили поезда, не подавалось электричество, не работали больницы, не выпускались газеты.
Наконец 30 октября Николай II уступил всю полноту власти и титул «самодержца всея Руси». В своем «Высочайшем Манифесте об усовершенствовании государственного порядка» он по сути передавал часть власти Думе – тем самым Россия становилась полуконституционной монархией, – а также гарантировал народу некоторые права и свободы. Контроль внешней политики оставался за царем и назначенными им министрами.
Для более рьяных борцов с режимом этого было недостаточно. К декабрю советы депутатов в Москве собрали около 2000 человек для строительства баррикад вокруг городского центра, чтобы объявить в городе временное правительство. В ноябре из первой эмиграции в Петербург тайно прибывает Ленин.
Война с Японией постепенно закончилась, и шансы на самоуправление выборной парламентской думой манили достаточно, чтобы подрывать ту вялую притягательность, которой обладал радикальный социализм для буржуазии. Кроме того, массовые демонстрации и стачки, распалившие всю нацию, были нацелены на окончание войны. Как только война закончилась, рабочие вернулись на работу, а Ленин – обратно в свою европейскую эмиграцию, еще на двенадцать лет. Но теперь он уже был тесно связан со Львом Троцким, а в Финляндии познакомился с молодым Иосифом Сталиным. «Триумвират советской империи» свела вместе война с Японией.
«Неудавшаяся» революция 1905 года, как и победоносная большевистская 1917-го, началась с антивоенного движения, подстегнутого голодом, и неожиданно завершилась новой формой государственного правления.
В своем авторитетном труде «Взлет и падение великих держав» историк Пол Кеннеди замечал, что «если государство стратегически растрачивает себя – скажем, покорением обширных территорий или ведением дорогостоящих войн, – оно рискует тем, что потенциальная выгода от внешнего расширения может перевеситься его громадной стоимостью»[56]. Так в итоге рушились все империи – если другие империи не успевали поглотить их прежде.
Между Петербургом и конечной станцией Транссиба Владивостоком – четверть земной окружности. Закладывая камень в основание местного вокзала, цесаревич Николай также сажал зерно революции, которая уничтожит его четверть века спустя. 1891 год также знаменовал собой начало ужаснейшей засухи и последовавшего за ней голода, унесшего множество жизней, хотя Россия продолжала занимать средства для строительства железной дороги – не для подданных царя, которые ее оплачивали, и даже не для промышленности, которой можно развивать эти регионы: Транссиб по-прежнему предназначался для доставки вооружений, нацеленных на Азию. Кроме того, то был идеальный пример «стратегической растраты государства», по выражению Кеннеди. С неразвитой техникой 1890-х годов (грузовики появятся лишь через 15 лет), упорное желание перекинуть через всю Россию «железный мост» оказалось дорогостоящей наглостью: амбиции России превосходили ее возможности, министерская спесь санкционировалась имперской. О да, такую дорогу построить было возможно – и хотя бы это правительство доказало. Но войдет ли она полностью в строй, когда потребуется как критический важный компонент геополитической стратегии России? Или же ее стоимостью окажется подорвана уверенность нации в своем правителе и самом институте монархии?
Ибо строительство железной дороги ставило гораздо более масштабный вопрос: кто имеет право решать, велика такая цена или нет, – народ России, наполнявший национальную казну, или царь и его министры, ее опустошавшие? Или, быть может, историки: оглядываясь на прошлое, пользуясь всеми преимуществами ретроспективного взгляда, лишь они могут отследить все последствия, проистекшие из любого решения, а затем до бесконечности спорить друг с другом, отстаивая полезность каждого?
Война с Японией была ненамеренным следствием пассивно-агрессивной имперской политики, начавшейся с покупки царем лесной концессии Бринера. Николай был личностью душевной, теплой и искренней, но его воспитывали служаки и натаскивали на непреклонную диктатуру – тонко чувствующего благородного господина готовили к бесчувственной тирании: его легко могли сбить с толку такие настойчивые интриганы, как Витте и Безобразов, а позднее – Распутин. России пока что не требовалась железная дорога на Дальний Восток – разве что для запугивания Азии; Николай это понимал. И со своими тысячами квадратных километров тайги России вовсе не требовался лес из Кореи; это было известно Жюлю. Тем не менее мой прадед предпочел передать свою концессию от императора Кореи императору России.
Чрезмерное упрощение российской истории – искажение, и все же историки единодушны: непродуманная и катастрофически проведенная война с Японией обозначила собой начало конца имперской России. Даже империи – особенно они – склонны прыгать выше собственной головы. Концессия Бринера в Корее послужила той переломной точкой, в которой территориальные амбиции России превзошли ее способности, и «железный мост через всю Россию» завел чересчур далеко.
Всю войну семейство Бринеров – три мальчика и три девочки, возрастом между десятью и двенадцатью годами – боролось с обстоятельствами; но их богатство, разумеется, предоставляло гораздо больше возможностей, чем многим другим жителям Владивостока. Для начала, «Бринер и компания» теперь сами владели судами – и довольно крупной судоверфью притом, – которые могли при нападении на город перевезти всю семью в безопасное место. А если слишком опасным становилось напряжение в самом городе, они за несколько часов могли пересечь Амурский залив в Сидеми – даже ночью, при необходимости, поскольку Жюль на острове Кроличий построил маяк. Но Сидеми располагалось лишь в нескольких десятках километров от северного края Кореи, поэтому, если японские войска вздумали бы пойти маршем на Владивосток, они бы неизбежно оказались на участке Бринеров и Янковских без предупреждения. Нечего и говорить, что этот участок патрулировали хорошо обученные и обмундированные дружинники Михаила Янковского.
«Во Владивостоке военного времени была масса предпосылок для беспокойства»[57], – писал историк Стивен, – учитывая постоянный поток солдат и матросов на поездах и судах. Но беспокойный послевоенный гнев стал гораздо тревожнее после отмены военного положения. Вместе с миром настала демобилизация 90-тысячных войск, и бо́льшая часть их проходила через город, где все еще случались вспышки насилия: матросы и грузчики выясняли отношения с гарнизонной пехотой. Целые отрезки Транссиба иногда перекрывали бастующие, отчего создавались опасные заторы, и прижелезнодорожные городки переполнялись целыми полками безденежных озлобленных солдат, иногда – по целым неделям. Из тюрем и каторг по всему региону во время и вскоре после войны освобождались сотни, если не тысячи заключенных; все они тоже тянулись к Владивостоку и сосредоточивались преимущественно у множества опиекурилен в издавна существовавших корейских и китайских кварталах. Мак по-прежнему выращивался китайцами в дебрях Маньчжурии, и по всему Дальнему Востоку к опиекурильням относились терпимо – взять, к примеру, район Миллионки во Владивостоке. Но потасовки между докерами, солдатами, матросами и уголовниками подпитывались водкой по тридцать центов за пинту.
«Полная анархия»[58], по словам военного губернатора, воцарилась во Владивостоке 12 ноября 1905 года после чтения царского манифеста в соборе[59]: следующие три дня в уличных столкновениях погибло 38 человек, некоторые – прямо перед домом Бринеров на Светланской. Вспышка эта носила чисто политический характер – те, кто поддерживал избранную Думу, сражались со сторонниками абсолютного самодержавия.
• 6 •
Смута после революции 1905 года постепенно улеглась, и Жюль Бринер – ему уже исполнилось пятьдесят семь – сосредоточился на новом предприятии, которому суждено будет сыграть значительную роль на следующем отрезке российской истории. Девятью годами ранее, уже готовясь ко встрече с корейским императором, он начал осуществлять громадный горнодобывающий проект, хотя до сих пор ввести его в строй толком не удалось. Сначала его отвлекала корейская концессия, затем Боксерское восстание, за ним – Русско-японская война и революция 1905 года, но в итоге ему удалось запустить одно из ценнейших и долговечнейших своих промышленных предприятий, а с ним и основать новый городок, выстроенный в глуши практически на пустом месте. Так к его империи, прежде охватывавшей судоходство и добычу леса, добавилось горное дело.
В 1896 году знакомые искатели женьшеня, заходившие к Янковскому за пантами, молодыми рогами пятнистых оленей, которых разводил у себя на полуострове Янковский, – они также использовались в традиционной восточной медицине, – принесли ему образцы руды, найденные в пятистах километрах к северу от Владивостока. Образцы увидел Жюль; китайцы думали, что это серебро, и предложили показать ему место, где они их нашли. В образцах действительно содержалось серебро, но главным образом – каламин, высококачественный цинксодержащий минерал. Подвергнув образцы анализу, Жюль призвал на помощь талантливого русского исследователя Сергея Масленникова. Несколько месяцев спустя небольшая поисковая партия, в составе которой находился известный немецкий геолог, выступила в тайгу Сихотэ-Алиня вдоль реки, которую немногочисленные местные жители называли Тетюхе.
Искатели женьшеня провели их нелегким путем, последний отрезок – пешком, разведчикам пришлось отбиваться от диких кабанов, а подъем на восемьсот футов в горы был опасен. Там в подлеске расчистили небольшую площадку, в склоне горы, ровно в том месте, где были найдены первые образцы, пробили шурф. После долгих изысканий немецкий геолог объявил, что запасы руды на этом участке стоят ее извлечения. В 1897 году, приобретя у российского правительства права на добычу полезных ископаемых, Жюль водрузил здесь металлический знак пятнадцатифутовой высоты, определявший этот участок как «Первый рудник». В том году выработка оказалась незначительной – всего тысяча тонн. Меж тем 17-летний юноша по имени Федор Силин помогал геологоразведочным партиям Бринера отыскивать и другие горизонты залегания руд на горе, обещавшие богатую добычу цинка и свинца. Бригады рабочих вручную рыли там открытые карьеры. Позднее разработали еще несколько горных отводов, названных Жюлем в честь жены и детей: «Натальевский», «Борисовский», «Леонидовский» и т. д. – то были серные рудники с большим содержанием свинца, цинка и серебра. Несколько этих рудников действуют и сейчас, столетие спустя.
В 1897 году, по пути в Санкт-Петербург перед тем, как предложить концессию на реке Ялу царю Николаю II, Жюль начал планировать для этого места крупное механизированное производство. Никогда еще не начинал он такого громадного и сложного предприятия – глубоко в тайге, без местной рабочей силы и поселка, где она могла бы размещаться. Он уже убедился, что перевозить руду по суше через горы невыгодно; придется доставлять ее к побережью всего в 30 километрах оттуда. Естественная бухта Японского моря станет для этого предприятия портом; здесь руду будут грузить на суда и переправлять в промышленные порты Европы.
Но и такая переброска руды представляла собой немалые трудности. Жюль понимал, что придется строить свою железную дорогу. Ее очевидная стоимость превзойдет любые прибыли от рудников еще на много лет вперед; но поскольку пассажиров она перевозить не будет, ей и не обязательно быть полноформатной железной дорогой. О поездах Жюль задумывался с тех пор, как тридцатью годами ранее вопрос о трамваях и железных дорогах возник в Шанхае. Вместе с отцами Владивостока они также начали обсуждать и постройку трамвайной системы в городе.
Наконец в Тетюхе Жюль решил проложить узкоколейку[60]: небольшие вагонетки можно загонять прямо в штольни, где их грузили рудой, и они были достаточно устойчивы, чтобы проделать путь по рельсам, ведшим по речной долине к портовой пристани. Жюль знал, что в Швейцарии, где он впервые проехал в детстве по железной дороге, некоторые ветки проектировали с шириной колеи 60 см (около 21 дюйма), чтобы осуществлять транспортировку в горных местностях, а такая ширина колеи значительно у́же, чем для пассажирских или товарных поездов. Здесь грузовые поезда будут приводиться в движение паровыми локомотивами.
Даже более-менее точный расчет стоимости рудников Бринера оказался задачей не из простых. Предоставив в кредит все тяжелое горное оборудование, кёльнская компания «Хумбольдт-Кальк АГ» стала значительным вкладчиком капитала в компании, где мажоритарным акционером выступали «Бринер и Ко.». Кроме того, они выстроили громадную теплоэлектростанцию для всего предприятия, а также нового поселка Тетюхе, впоследствии переименованного в Дальнегорск. «Хумбольдт-Кальк» предоставляли щековые дробилки и вальцы, а также выстроили обогатительный завод – с тем, чтобы в итоге предприятие выпускало обогащенную руду. Наклонная вагонеточная линия «Бремсбергер» спускала ее с Верхнего рудника на три сотни ярдов к главной железнодорожной ветке. Все материалы для этого производства, включая рельсы и стальной пирс, способный выдержать вагонетки с рудой, доставлялись из Европы к мысу Бринера, на котором Жюль для своего нового порта тоже возвел маяк (отличающийся по конструкции от первого, построенного в Сидеми).
Рудники требовали много рабочих рук, в итоге на работу там каждый день выходило до трех тысяч человек – они вместе со своими семьями и стали первыми жителями Тетюхе. Но сперва их сюда надо было переселить. И ближе к небольшой гавани возникла деревушка портовых грузчиков и моряков, названная Бринеровкой.
Положение Жюля как купца первой гильдии оказалось незаменимым – оно настоятельно требовалось для привлечения промышленного капитала. За предыдущие сорок лет объемы российской промышленности выросли пятикратно – в немалой степени благодаря политике Сергея Витте, поощрявшего иностранные капиталовложения. Для Тетюхе Жюль искал иностранный капитал в миллион рублей (приблизительно соответствует нынешним 10 миллионам долларов). К 1907 году он обеспечил себе необходимые средства – от немецкого вкладчика по имени Арон Гирш. С помощью старшего сына Леонида Жюль принялся собирать воедино все элементы. В апреле 1908 года триста тонн цинковой руды с Верхнего рудника на конных повозках по немощеной дороге перевезли в Рудную и погрузили на пароход «Селун», который ушел в Германию. Тем же сентябрем началось строительство узкоколейки, введенной в действие к следующей весне, под значительной охраной: в этом регионе тоже не прекращали свирепствовать банды хунхузов, а также амурские тигры. Жюль отправил запрос, чтобы регион патрулировался регулярными войсками, но на бандитской территории они были почти бесполезны.
Кроме того, он всеми силами старался удовлетворять нужды рабочих (первоначально – около тысячи человек), делал все, чтобы они были накормлены и не отвлекались от работы; столетие спустя старожилы Дальнегорска еще помнили, с каким вниманием Жюль относился к их дедам. Раз в неделю «Бринер и Ко.» доставляли мешки овощей, картофеля и муки прямо к дверям горняков. Для своих работников и членов их семей он предоставил бесплатный лазарет. Кроме того, он давал им возможности экономить: по желанию горняков часть заработной платы они могли получать одеждой хорошего качества, которую Жюль завозил сюда морем – зная, что иначе новой одежды членам этой удаленной от цивилизации общины не добыть никак.
Под конец 1910-х годов в регионе – да и по всей России – начала возникать новая сила. Партизанские отряды под управлением пламенных большевиков боролись с кровавым режимом на местах. В Приморье часть их базировалась в Ольге – деревне неподалеку от Тетюхе. Партизаны на все лады пытались склонить горняков на сторону большевиков и настроить их против «Бринера и Ко.». Но в Тетюхе им это удавалось плохо – рабочие здесь, судя по всему, были вполне довольны своей судьбой. Как-то раз в день получки в начале зимы горняка, выходившего из конторы Бринера и довольного новыми перчатками, которые он получил вместе с деньгами, встретили два агитатора – отобрали перчатки и отрезали у них пальцы. Один бросил их на землю и сплюнул:
– Смотри, какую дрянь, а не материю, Бринер дает своим горнякам. Он и дальше будет угнетать народ, пока его рудники не станут нашими.
Подобные столкновения были часты – случались они чаще, чем нападения амурских тигров.
В 1910-м Бринеры переселились в новый дом на склоне Тигровой сопки, по адресу Алеутская, 15, – на полпути между конторой торгового дома и железнодорожной станцией. До поезда идти было пять минут вразвалку, а через неделю Жюль уже мог прогуливаться по Санкт-Петербургу: само осознание такой возможности было в новинку для человека, родившегося в 1849 году. «Дом Бринера», как называют это строение до сих пор, проектировал тот же немец, Юнгхендель, кто уже построил в городе множество каменных домов в разнообразных архитектурных стилях. Однако этот трехэтажный городской особняк не походил на прочие – в поразительно свежем ключе ар-нуво с игривыми деталями он мгновенно сделал ярче всю линию домов, смотревших фасадами на главный порт. Он произвел большое впечатление на миссис Прей: «Вчера днем навестила миссис Бринер, поскольку теперь она обустроилась в новом доме, очень приятном. В старой столовой там теперь два алькова, и она выглядит совсем как картинка из “Дамского домашнего журнала”: из одного алькова вверх ведет лестница, и внутри все очень симпатично и уютно»[61].
В тот год Владивосток праздновал свою пятидесятую годовщину – с тех пор, как по Тигровой сопке здесь еще рыскали тигры. Наскоро выстроенный сорока восемью дерзкими моряками поселок превратился в космополитический центр региона. К 1897 году население всего русского Дальнего Востока достигло примерно трехсот тысяч[62], из которых около 30 % были китайцами и корейцами. К 1914 году общее население всей Сибири составляло 15 миллионов[63], преимущественно – мигранты, переселившиеся в плодородный коридор южной Сибири. Теперь уже первые автомобили – безлошадные экипажи «Руссо-Балта» – тарахтели между телегами, а в 1912 году вдоль по Светланской, которая кое-где уже освещалась электричеством, залязгали бельгийские трамваи. В городе работало японское консульство, открылось множество новых церквей, а в кинотеатре «Иллюзион» показывали «движущиеся картины». Всего через 7–8 лет после исторического полета братьев Райт в небе над Владивостоком уже демонстрировали свое искусство русские «летуны», а на верфях в бухте Золотой Рог испытывались первые русские субмарины.
Михаил Янковский к этому времени уже покинул Сидеми – в 1912 году он скончался в Крыму. Огромное поместье, примыкавшее к участку Бринеров, унаследовал его сын Юрий – и конный завод, и оленью ферму. Бринеры оставались тесно связаны с Юрием Михайловичем, чья слава как одного из величайших в Азии охотников на тигров жива до сих пор. Этот замечательно бесстрашный стрелок в свое время добыл не одну сотню тигров. В те дни китайские аптекари рассылали своих агентов по всему Дальнему Востоку, и те за приличные деньги скупали у охотников и трапперов все, что годилось в дело. Семейство Янковского и вообразить себе не могло, что в наши дни амурскому тигру придется с таким трудом бороться за выживание.
В тот год второй сын Жюля Борис готовился поступать в институт. И Жюль, и Леонид хорошо разбирались в бизнесе, но почти ничего не понимали в инженерном деле или геологии, поэтому Борис решил зарабатывать степень в Санкт-Петербургском горном институте, чтобы самостоятельно постичь все технические особенности работы Тетюхинских рудников – и уже существовавших, и будущих. Вне всяких сомнений мой дед Борис также был рад в двадцать с небольшим лет вырваться из тесного владивостокского общества в изощренную столицу империи, от которой дух захватывало.
А также, быть может, – из сферы влияния своей властолюбивой матушки. Наталья, судя по многочисленным воспоминаниям, была хронически гневлива. Жюль, занятый работой и перипетиями революции, эмоционально в жизнь семьи не вовлекался. Он, очевидно, просто парил над семейными спорами, которые велись преимущественно на французском – то был основной язык семейства Бринеров. Фактически отца семейства дома звали так, как сам он предпочитал, – Жюль, тогда как для всех окружающих он был Юлий Иванович.
А в Санкт-Петербурге, в Зимнем дворце Николай и Александра находились под обаянием личности безумного монаха Григория Распутина. Влияние его на императорскую семью ширилось, а с ним росли и его злоупотребления – и его дурная слава.
Царевич Алексей, унаследовавший гемофилию от матери, с детства жил от одной беды со здоровьем до другой: даже малейшие ушибы могли серьезно угрожать его жизни. Александра была преданной матерью и проводила у его ложа не одну бессонную ночь, его отец – тоже. Поэтому когда выяснилось, что тобольский старец одним своим присутствием способен останавливать у царевича кровотечения, Александра уверовала, что монах – «человек Божий». Даже когда Распутин через доверчивую, однако волевую Александру начал влиять на политику правительства, царь расценивал его пророчества как богоданные, а самого его считал святым. Это слепое восхищение отлично характеризует катастрофическую неспособность Николая разбираться в людях. Однако все разговоры с царем о Распутине были под запретом:
Мне так говорил Штюрмер: «Вы можете критиковать, сколько хотите; но я вас предупреждаю, что разговоры о Распутине могут вызвать для вас нежелательные последствия». Я говорю: «Борис Владимирович, запрещенный плод самый сладкий. Это вещь давно известная. Оставьте в покое, и что вам Распутин? Если справедливы слухи, что он вас назначил, тогда дело другое». – «Я ничего с ним общего не имею». – «Отчего же вы его защищаете? Это негодяй первостатейный, которого повесить мало». – «Это, – говорит, – желание свыше», и т. д. – «Но, – я говорю, – желание свыше ограничивается тем, что даже в формуле права сказано: «Выслушай мое мнение и поступай, как хочешь». – «Как же мне сказать правду, когда чорт знает, что делается (извините за выражение). Распутин бог знает что делает. Катается пьяный по улицам; протоколы составляются в Москве и Петрограде. Как не предупредить? Какой же вы после этого монархист, вы, напротив, самый ярый республиканец, который путем поблажек колеблет монархическую идею. Кто такие вещи делает?»[64]
Распутин частенько наезжал к цыганам – в места вроде Мокрого, описанного Достоевским в «Братьях Карамазовых». Цыгане разбивали там свои таборы со времен Екатерины Великой, чей друг граф Орлов пристрастил русскую аристократию к цыганской музыке. К концу XIX века такие деревни превратились в излюбленные места отдыха – с трактирами, игровыми притонами и публичными домами, где все проходило под перезвон цыганских гитар. Одним из самых известных цыганских музыкантов того времени был Иван Димитриевич-старший: сам он играл на семиструнной гитаре и пел преимущественно на разных цыганских диалектах. По воспоминаниям его сына Алеши, однажды ночью во время очередного загула Иван попытался убить Распутина, но попытка не удалась, и вся «кумпания» в 1915 году вынуждена была пуститься в бега. А двадцать лет спустя, уже в Париже, семейство Димитриевичей сыграло очень важную роль в судьбе внука Жюля – Юла.
В августе 1914-го с покушения на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда началась Первая мировая война. Для протокола: Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии; Германия объявила войну России и Франции; Британия объявила войну Германии; Австрия объявила войну России; Сербия и Черногория объявили войну Германии; Франция и Британия объявили войну Австрии; Австрия объявила войну Бельгии; а Россия, Франция и Британия объявили войну Турции. При таком сжатом изложении все это звучит комично, если бы не миллионы жертв в окопах от бомб и пуль, горчичного газа и болезней.
Первая мировая на передний план против Германии выдвинула Россию, на глаза публики попались тевтонские корни Александры Федоровны, и Николай все более оказывался в невыгодном свете перед своим народом – особенно с учетом того, что Россия проигрывала битву за битвой высокомеханизированной германской военной махине. Дума, не имевшая конституционной роли в международных делах, беспомощно наблюдала, как армия совершает все новые ошибки. Общественное недовольство постепенно сосредоточилось на Александре: все считали, будто она работает на победу Германии. С началом войны Николай всеми силами взывал к русскому патриотизму – даже название столицы с германского «Санкт-Петербурга» поменял на славянский «Петроград». Но пока Николай все свое время проводил в ставке верховного главнокомандования вдалеке от столицы, Александра – очевидно, под воздействием Распутина в том, что касалось министров, политики и даже военной стратегии – начала играть все более активную роль в правлении империей. Однако в социальной своей изоляции она не понимала, насколько ее ненавидят широкие массы.
Великая война – какой и запомнят ее те, кто ее пережил, – воздействовала на Владивосток непосредственно. Судам местных пароходств теперь грозили торпедные атаки. Рудники Бринера резко сократили добычу, к тому же многие инженеры и специалисты там были немцами. В армию забрали и множество русских горняков, и тысячи поселков вроде Тетюхе обезлюдели – в них осталось население, не способное себя прокормить: старики, женщины и дети. Хотя Жюль всеми силами старался помочь семьям горняков, тысячи людей поддерживать из собственного кармана долго он не мог.
В значительной мере новая волна антивоенной агитации произрастала непосредственно из тех же чувств, что выплеснулись ранее в «Кровавом воскресенье», – и по большей части тем же населением против того же царя, хотя ненависть была уже новой. Главное отличие теперь состояло в огромном организационном ресурсе, подготовленном профсоюзами, рабочими советами и местными земствами. Это неприятие войны и политический пыл, им вдохновленный, происходили уже не из абстрактного пацифизма, не из недостатка патриотизма или мужества – и тем и другим русский народ обладал в изобилии. Три года антивоенные настроения раздувало из тлеющего уголька до пылающего костра: то была животная реакция на чудовищные страдания, какие терпели из-за Первой мировой войны деревни и поселки, где жизнь сделалась непереносимой. По всей сельской России не заготавливалось сено на корм скоту, не добывалось мясо, не чинились крыши, а преступники лиходейстовали безнаказанно.
И все эти страдания, казалось, – лишь ради того, чтобы царь Николай II совместно со своим кузеном английским королем Георгом V могли победить другого их кузена кайзера Вильгельма II, когда напыщенный германский монарх решил, что может оттяпать себе Францию. Русские потери в войне росли, общественная ненависть к императрице Александре широко распространилась даже в прессе: утверждалось, к примеру, что германская принцесса передала «распутному старцу» всю власть над Россией, пока супруг ее «играл в солдатики» в ставке. Стоило Николаю как-то выразить свою любовь к жене, общественное отвращение лишь возрастало.
В 1916 году Распутина наконец убили аристократы, убежденные, что безумный монах губит монархию – особенно в том, что касалось назначений новых министров с его подачи. Дума уже превратилась в бурлящий котел коллективного гнева, идеологической поляризации и личной вражды. Антицаристская риторика на заседаниях Думы стала настолько подстрекательской, что Николаю приходилось Думу распускать, тем самым превращая в насмешку единственное достижение революции 1905 года.
Российской империи настал конец 12 марта 1917 года – созданием нового Временного правительства, – а 15 марта последний русский монарх Николай II отрекся от престола – не только за себя, но и за сына. Тем самым настал конец 300-летнему правлению дома Романовых. В ноябре 1917 года Временное правительство, в свою очередь, было низложено, и власть в свои руки взял Всероссийский съезд советов под руководством партии большевиков, ведомой Лениным и подкрепленной усилиями ЧК. Их бездушный руководитель Феликс Дзержинский был одним из наиболее пламенных «рыцарей революции», и сам Ленин считал его своим героем. Организация, созданная Железным Феликсом, просуществовала впоследствии не одно десятилетие, меняя только названия.
Вся императорская семья вместе с детьми была отправлена в ссылку сперва в Тобольск, затем в Екатеринбург. Условия их содержания под стражей становились все суровее. Наконец 16 июля 1918 года Николая и Александру, а также Алексея и четырех его сестер – Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию – отвели в подвал Ипатьевского дома и перестреляли.
• 7 •
Жюлю Бринеру было 68 лет, когда рухнула Российская империя, а с нею – и его личная, промышленная. Старшие сыновья уже вернулись домой после учебы, сами став мужьями и отцами, и все жили в отдельных квартирах Дома Бринера рядом с конторой его пароходства, где на верхнем этаже обитал он сам с женой Натальей. Когда Борис закончил Горный институт, оказалось, что руководить ему нечем: новые власти в 1917 году попытались национализировать Тетюхинские рудники, и постановлением «Особой комиссии» Бринеров отстранили от дел[65]. Когда же пало и Временное правительство, рудники оказались без законного владельца. Однако экспортно-импортные операции остались в их руках: Жюлю хватило дальновидности зарегистрировать свое пароходство в британской колонии Гонконге. Он верно рассудил, что новая власть в стране не захочет ссориться с Великобританией.
В свои 52 года Наталья теперь чаще впадала в приступы депрессии, начавшиеся несколькими десятилетиями раньше после смерти ее первой дочери. В 1916 году, когда скончалась ее старшая сестра Антонина, она страшно горевала – с сестрой они были очень близки с детства. Она убедила Жюля выстроить в Сидеми семейную усыпальницу, где первой предстояло упокоиться ее сестре. Жюль уступил и возвел бесстрастную и бездушную 12-футовую греческую арку с четырьмя массивными столбами и без единого намека на вероисповедание усопших. Должно быть, этой постройкой отец семейства отдал дань своим лютеранским корням, потому что все прочие семейные отправления – венчания, крещения и отпевания – проходили в Успенском соборе. Однако невзирая на эту уступку Наталья по-прежнему поддавалась приступам необузданного гнева.
Меж тем буря зрела и за стенами их дома на Алеутской с бодрым модерновым фасадом. После отречения Николая II началась пятилетка, когда почти ежемесячно к власти во Владивостоке приходила какая-нибудь новая партия, которую немного погодя свергали ее преемники: меньшевики, большевики, умеренные, даже монархисты – все боролись за управление Приморьем. С каждым новым переворотом в город прибывали сторонники новой власти и войска, шли строем от железнодорожного вокзала – или бежали, или прорывались с боями – в центр города. И вновь Транссиб был ключом ко всей русской истории: «стальная лента, – как писал историк, – связавшая Дальний Восток с центром, служила и громоотводом революции»[66]. Железная дорога до Владивостока стала основной артерией гражданской войны.
Сопротивление большевикам делили между собой несовместимые фракции – от умеренных социалистов до крайних монархистов: никто из них не мог договориться ни о политике, ни о стратегии. Лютовали при этом и красные, и белые, хотя многие зверства красных впоследствии заретушировали. И «в отличие от красных, – писал Стивен, – убивавших методично во имя своих высоких целей (классовой борьбы, революции, прогресса всего человечества), белые убивали в дикой ярости на всех и вся, что, по их мнению, уничтожило их дореволюционный мир»[67].
Последующие четыре года сибирской интервенции международных военных сил тоже не были мирными. Интервенция эта была прямым порождением Первой мировой войны. Провозглашалось, что нации-интервенты – Япония, США, Британия и Франция – намерены ограничить распространение советской власти (под абсолютным контролем Ленина) лишь западной частью России, тем самым обеспечив независимость Сибири и русскому Дальнему Востоку. Хотя происходило это за десятки лет до рекомендованного американским дипломатом Джорджем Кеннаном метода «сдерживания» коммунизма, сдерживание это фактически началось с интервенции.
Но под этими лозунгами у каждой страны-союзника имелись и собственные мотивы, причем немалую роль играло и обычное возмездие. Новое советское правительство внезапно подписало сепаратный мирный договор с Германией и Австрией (так называемый Брест-Литовский мир), и все союзники России – Франция, Англия, Соединенные Штаты и прочие – оказались в трудном положении стратегически, а Первая мировая меж тем продолжала полыхать.
Когда рухнула Российская империя, на огромном континенте образовался властный вакуум. Любая политическая должность на любом уровне стала целью для полудюжины различных политических партий, которые часто привлекали к себе сторонников угрозами и насилием. В то же время условием мирного договора с Германией для советского правительства стал отпуск 2,3 миллионов иностранных военнопленных. Страну затопил поток озлобленных, отчаянных и голодных людей, из которых на свою сторону могли вербовать и интервенты, и партизаны. Многие бывшие военнопленные были настроены яро про– или антибольшевистски; другие просто никак не могли вернуться домой. Именно так случилось с 45-тысячным чехословацким корпусом, направлявшимся во Владивосток, когда большевики, контролировавшие города вдоль Транссиба, начали останавливать их эшелоны. Чехословаки оказались заперты в глубине России и приняли решение пробиваться с боями на восток, чтобы там влиться в ряды интервентов.
К востоку же постепенно перемещался и вселявший ужас своей жестокостью казацкий атаман Григорий Семенов, поднявший мятеж в Забайкалье. Современник так описывал его:
Семенов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, ко времени принятия мною полка, состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой смёткой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семенову не хватало ни образования (он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны[68].
Уайт подробно очерчивает «карьеру пыток, убийств и грабежей» казацкого атамана, покуда тот «разъезжал повсюду на своих знаменитых бронепоездах»[69]:
Один из них… нес 57 солдат и офицеров… десять пулеметов, два трехдюймовых орудия и две 37-мм пушки… В вагонах его часто увозили крупные партии несчастных. Однажды, как сообщалось, у станции Адриановка таким образом было вывезено и казнено 1600 человек… В более практичные моменты он грабил банки, обчистил таможню в Маньчжурии, отбирал все, что ему нравилось, деньгами или вещами, у путешественников… Тем не менее его деятельность полностью поддерживали японцы.
Легко видеть, насколько серьезно белое движение дискредитировало себя на Дальнем Востоке, где атаман Семенов был одним из главных борцов с большевистской революцией.
В Великой войне атаман служил в царских казацких войсках. Японцы финансировали независимую армию Семенова[70], используя его не только для замедления продвижения Красной армии, но и для раздора между Белой армией, Чехословацким легионом, кадетами, эсерами, партизанами и прочими. Интерес Японии явно лежал в том, чтобы ни одна из этих фракций не достигла превосходства в регионе как можно дольше, меж тем сами они постепенно закреплялись здесь: микадо очень не хотелось для Японии коммунистического соседа.
По сути, белое сопротивление Красной армии возглавлял адмирал Александр Колчак, который с манией величия, редко встречаемой за стенами психиатрических лечебниц, провозгласил себя «Верховным правителем России». В Омске Колчак с нуля пытался создать легитимное правительство всего востока – при неуверенной поддержке интервентов. В Русско-японскую войну он получил несколько наград, но, подобно множеству героев Первой мировой теперь был объявлен врагом советской власти. Важнее же всего то, что Колчак – это признается и его врагами, и его предательскими союзниками – проехал с золотым запасом Российской империи по Транссибу. Часть золота была передана Колчаком его японским «союзникам» в обмен на оружие, которого он так и не получил. И хотя у всех наций-интервентов в этом деле имелись свои планы, все они так или иначе надеялись захватить золото Колчака, а сильнее прочих – Япония, чьи войска высаживались в бухте Золотой Рог, маршировали по Светланской и распространялись по всему востоку России.
Стивен это описывал так:
Владивосток представлял собой отдельный мир – уникальную смесь русской провинции, договорного порта Шанхая и американского Дикого Запада. В вестибюле отеля «Версаль» звучали десятки языков, хождение имели более десятка валют… К 1918 году здесь находилось 11 иностранных экспедиционных корпусов разной численности, симпатий и программ. Список возглавляли 73 тысячи японцев, за ними шли 55 тысяч чехословаков, 12 тысяч поляков, 9000 американцев, 5000 китайцев, 4000 сербов, 4000 румын, 4000 канадцев, 2000 итальянцев, 1600 англичан и 700 французов… все они сбились во Владивосток[71].
Журналист и востоковед Константин Харнский так описывал здешний общественный пейзаж:
Этот скромный окраинный город был тогда похож на какую-нибудь балканскую столицу по напряженности жизни, на военный лагерь по обилию мундиров. Кафе, притоны, дома христианских мальчиков, бесчисленные, как клопы в скверном доме, спекулянты, торгующие деньгами обоих полушарий и товарами всех наименований. Газеты восьми направлений. Морфий и кокаин, проституция и шантаж, внезапные обогащения и нищета, мчащиеся автомобили, кинематографическая смена лиц, литературные кабачки, литературные споры, литературная и прочая богема. Напряженное ожидание то одного, то другого переворота. Мексиканские политические нравы. Парламенты. Военные диктатуры. Речи с балконов. Обилие газет и книг из Шанхая, Сан-Франциско и откуда угодно. Английский язык, «интервентские девки». Мундиры чуть ли не всех королевств, империй и республик. Лица всех оттенков, всех рас до американских индейцев включительно. Белогвардейцы и партизаны, монархический клуб рядом с митингом левых. Взаимное напряженное недоверие. Американские благотворители. Шпики. Взлетающие на воздух поезда в окрестностях. Пропадающие неведомо куда люди… Вообразите себе ухудшенный тип прежней Одессы, вообразите себе горы вместо степи и изрезанный, как прихотливое кружево, берег вместо прямой линии, перенесите все это куда-нибудь за восемь тысяч верст от Советской земли, отдайте одну улицу белым, а другую красным, прибавьте сюда по полку, по роте солдат разных наций, от голоколенных шотландцев до аннамитов и каких-то неведомых чернокожих – и вот вам Владивосток переходных времен[72].
К этому перечню стоит прибавить русские политические фракции – большевиков, меньшевиков, эсеров, монархистов, кадетов и прочих, у всех – свои сторонники в порту, по нескольку сот человек, и всем не терпится в драку. Все это – и не только – ежедневно кипело за окнами особняка Бринеров у вокзала, где напряжение копилось и без иностранных войск, маршировавших по Алеутской.
Девять тысяч человек Американского экспедиционного корпуса находились под командованием генерал-майора Уильяма С. Грейвза, и они тоже по прибытии прошли парадом по Светланской. Американцев по большей части приветствовали тепло, да и в итоге 6 % личного состава впоследствии женились на русских женщинах[73]. Но американские парни – кровь-с-молоком – также служили отличной мишенью партизанам. Выполняя приказ полевого командира Сергея Лазо, партизаны напали на американский гарнизон у села Романовка. А год спустя сам Лазо, один из величайших советских героев Гражданской войны, был захвачен в плен японцами, передан белогвардейцам и вместе со Всеволодом Сибирцевым и Алексеем Луцким, по легенде, сожжен в паровозной топке живьем. Этот арест был вызван т. н. «Николаевским инцидентом», когда партизанские отряды заняли Николаевск-на-Амуре и истребили там японский гарнизон и почти все городское население.
Гражданская война на Дальнем Востоке длилась четыре года, но, в отличие от американской Гражданской войны, когда только американцы сражались между собой, здесь в конфликте на русской земле участвовало десять иностранных держав, и большинство было бы не прочь захватить имперский золотой запас, который вез Колчак.
А тому – самозваному правителю России – не очень удавалось мобилизовать массы в белое движение. Своей произвольной жестокостью и грабежами белые дискредитировали себя повсюду – даже среди тех русских, кто симпатизировал капиталистическим традициям буржуазии. Колчаковский режим продержался около года. После нескольких успешных наступлений в западном направлении войска начали от него разбегаться, а рекруты всячески противодействовали насильственной мобилизации, вплоть до нанесения себе увечий. Отчаявшись, Колчак двинул свои оставшиеся силы к последнему оплоту сопротивления – Владивостоку. Однако в Иркутске Чехословацкий легион захватил его – предполагалось, что они союзники, но им тоже требовались гарантии безопасного перехода до Владивостока. Чехословаки сдали Колчака большевикам, которые без промедлений его расстреляли.
Некоторые белогвардейцы вовсе не были монархистами – среди них попадалось много простых уральских рабочих, даже с семьями, которые пошли за генералом Владимиром Каппелем на восток через Сибирь и озеро Байкал в декабре 1919 года. Впоследствии это отступление получило название Великого Сибирского Ледяного похода. По пути люди мерли сотнями – умер и сам Каппель, – а тысячи людей получили обморожения, им пришлось ампутировать конечности. В начале марта выжившие участники похода дошли до Читы, где соединились с войсками атамана Семенова. Однако к тому времени подавляющая часть европейских интервентов уже покинула Россию, а 1 апреля 1920 года из Владивостока ушли и последние американские военные.
Но в Приморье еще оставались многотысячные японские войска. Перед советским руководством в Москве, куда Ленин перенес столицу страны из Петрограда, теперь стояли военные задачи на Украине и в Крыму. Не желая «терпеть» японцев на русской земле, Ленин неохотно одобрил создание восточного буферного государства, по-прежнему находившегося под контролем Советов – если не прямо из Москвы, то через местных большевиков. Новое государство назвали Дальневосточной республикой. На гербе его изображались не скрещенные серп и молот, а якорь и кайло.
Жюль Бринер скончался 9 марта 1920 года в 11:45 вечера, незадолго до того, как Владивосток стал официальным центром Приморской областной земской управы. Ему было чуть за семьдесят. Наверняка у него кружилась голова, стоило вспомнить о детстве в Швейцарии, юности в пиратах, ученичестве в Шанхае, семье, которую он создал и покинул в Нагасаки, и первом взгляде на бухту Золотой Рог, когда тигры еще бродили по той сопке, где теперь, посреди Гражданской войны, стоял его модерновый особняк. Жюль пережил почти всех своих сверстников – Густава Альберса, Михаила Янковского, Сергея Витте… и самого царя Николая II. Но если он задумывался о будущем своей семьи, покоя на смертном одре ему не было. Большевики уничтожали промышленников вместе с их присными. Однако Жюль все равно знал, что наследникам своим оставляет значительное состояние, а если жить здесь станет рискованно, они могут на каком-нибудь его судне переправиться и в более безопасное место.
Останки Жюля перевезли в усыпальницу, которую он выстроил в Сидеми, и там захоронили. Но с приходом большевиков вандалы разрушили склеп, а прах Жюля верные корейцы сожгли и развеяли по ветру. Пережили его супруга Наталья – некогда юной невесте уже исполнилось 55, – три замужние дочери и три сына: все они уже произвели на свет пятерых внуков. А через четыре месяца после кончины Жюля жена Бориса Маруся родила второго ребенка, и мальчика окрестили Юлием в честь деда. Но мальчик с детства писал свое имя «Юл».
После еще двух лет бурливого хаоса во Владивостоке Гражданская война на Дальнем Востоке завершилась – Дальневосточная республика вошла в состав уже не совсем России, но РСФСР. В те годы люди «держали два флага – красный и триколор, вывешивать соответственно случаю, – писал историк Кэнфилд Смит. – Правительство во Владивостоке было парализовано, поскольку никто не был уверен, кто сейчас у власти»[74]. На власть претендовал даже атаман Семенов, но ни временное правительство братьев Меркуловых, ни японские покровители атамана-головореза до власти допускать не желали.
Поток семей, спасавшихся от большевизма из больших и малых западных городов, начался еще в 1917 году; теперь же Западную Европу буквально затопило русскими эмигрантами. Многие были готовы рискнуть по-крупному и переехать в Соединенные Штаты, но русская диаспора растекалась и в Южную Америку, и в Австралию, в Корею и Шанхай. В Маньчжурии резко выросло население Харбина – за тридцать лет с нуля до полумиллиона. Для тех же, кому удавалось выбраться из России и сохранить при этом состояние, предпочтительным пунктом назначения оставался неизменно Париж.
Когда 25 октября 1922 года по Светланской прошли части Красной армии – освобождать город от белогвардейских капиталистов вроде Бринеров, – марш этот стал символом окончательной победы коммунистической революции по всей стране. Через пару месяцев будет объявлено о создании Союза Советских Социалистических Республик. Следующие семьдесят лет эта дата будет напоминать гражданам СССР о том, что Владивосток был «последним городом России».
Иллюстрации
Мари Хюбер Бринер (1824–1879), жена Йоханна, мать Жюля и еще семерых детей.
Йоханн Бринер (1820–1890), прядильщик и ткач, родился в Мёрикен-Вильдегге под Цюрихом, но почти всю жизнь прожил под Женевой.
Дом семьи Бринеров в Мёрикен-Вильдегге под Цюрихом, откуда Жюль в 1863 году уехал, чтобы потом уплыть в Шанхай.
Владивосток в 1874 году – примерно тогда Жюль посетил его впервые.
Владивосток десять лет спустя. Жюль перевел сюда свое пароходное агентство четырьмя годами раньше.
Наталья Куркутова-Бринер в 16 лет вышла замуж за Жюля, который был вдвое старше ее. Она была двоюродной сестрой супруги Михаила Янковского, а в ее деде текла бурятская кровь.
Бринеры во Владивостоке: Леонид (8 лет), Наталья (26 лет), Жюль (43 года), Маргарита (7 лет) и Борис (3 года).
Магазин Кунста и Альберса, выстроенный в 1882 году из кирпича, привезенного из Гамбурга; в нем же был установлен первый в Азии электрический лифт.
Первый дом Бринеров во Владивостоке до 1910 года.
Главное здание летнего поместья Бринеров в Сидеми на п-ове Янковского – из Владивостока до него нужно было плыть полдня через Амурский залив.
Визит цесаревича Николая в мае 1891 года в Успенский собор.
Самая ранняя фотография Жюля Бринера (1849–1920), сделанная во Владивостоке, когда Жюлю исполнилось 43 года.
В 1896 году Жюлю было 47 лет, и дела его процветали.
Король Коджон, впоследствии император Кореи, жил на территории русского посольства, когда с ним встретился Жюль.
Цесаревич Николай примерно во время своего визита во Владивосток. Этот снимок он подарил Обществу изучения Амурского края.
Александр Безобразов убедил царя приобрести у Жюля лесную концессию на реке Ялу.
Министр финансов Сергей Витте, «отец Транссиба».
Дмитрий Покотилов следил за деятельностью Жюля в Корее по заданию Витте.
Генерал-губернатор Унтербергер поощрял переселение русских на Дальний Восток.
Владивостокский вокзал – последняя станция самой длинной железной дороги в мире, после перестройки.
Более полутора тысяч локомотивов заказали в Европе для Транссиба. Сотни их поступали морем во Владивосток, и собирали их прямо возле порта.
Этот современный памятник Михаилу Янковскому (1991) – дань памяти ближайшему другу и партнеру Жюля.
Улица Алеутская, на которой Жюль в 1910 году выстроил резиденцию Бринеров.
В 1904 году перед Зимним дворцом Николай II и императрица Александра (в коляске) проводят смотр войск перед отправкой в Корею.
В 1905 году русская армия отступила из Кореи.
В резиденции, выстроенной Жюлем в 1910 году, жило все семейство. Здесь в верхней комнате справа десять лет спустя родился Юл.
Поезда уходили по Транссибу от вокзала, расположенного на Алеутской, и поначалу пересекали Светланскую буквально в двух шагах от резиденции Бринеров.
Первый маяк, построенный Жюлем на Кроличьем острове перед поместьем Бринеров в Сидеми.
Кроме того, Жюль построил маяк на мысе Бринера под Тетюхе.
Серебряные, свинцовые и цинковые рудники, созданные Жюлем в Тетюхе, превратились в огромное предприятие, на котором трудилось 3000 горняков.
Монах Распутин, казалось, обладал таинственной властью над всей имперской политикой России.
У казацкого атамана Семенова была частная армия, которую финансировала Япония.
К 1919 году войска интервентов из шести стран маршировали по Светланской; среди них был и американский экспедиционный корпус.
К 1910 году империя Бринера достигла расцвета.
Но всего десять лет спустя Первая мировая война и большевистская революция подорвали все, чего Жюль достиг как предприниматель.
Большое семейство в 1914 году. Борис, сидящий напротив Жюля, – в мундире Горного института.
Жюль спроектировал семейный склеп в Сидеми за пять лет до своей кончины. Никаких религиозных символов на нем не было – вероятно, потому, что сам он был лютеранином, а его жена – православной.
К концу жизни Жюля военный пост Владивосток превратился в оживленный крупный город.
Первая страница записки Жюля Бринера, май 1897 г.
Первая страница доклада агента Покотилова, 1896 г.
Текст «Корейской лесной концессии», 1895 г.
Часть вторая
Борис Бринер
…(ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский)…
В. И. Ленин[75]
• 8 •
Борис Юльевич Бринер рос князем Приморья – разве что без самого формального титула. С самого дня рождения – 16 сентября 1889 года – и до заката Российской империи жизнь его была поистине волшебна. В отличие от своего отца, швейцарца по рождению, он был ребенком русским, и привилегии и роскошь для него были делом естественным – в ту эпоху, когда богатство еще уважали.
Однако праздное богатство в семье никогда не почитали. Отец его был таким человеком, для которого труд – черта характера, а не выбор: он верил, что те, кому многое дано, и возвращать должны много. Ему хотелось, чтобы три его дочери удачно вышли замуж, но рассчитывал, что сыновья разделят его страсть к труду, и намеренно готовил их к наследованию различных отраслей своей торгово-промышленной империи, согласно их интересам. Старший, Леонид, и младший, Феликс, склонялись к такому естественно, а вот средний Борис мог бы выбрать и совсем другой путь в жизни, но сыном был послушным и признавал свои обязанности будущего наследника промышленной и судоходной империи.
Поэтому в 1910 году, отправив багаж извозчиком, 21-летний юноша прошел квартал от дома Бринеров до владивостокского вокзала и сел на транссибирский поезд, который через неделю доставил его на запад. Он поступил в Санкт-Петербургский горный институт. Когда же он его окончит, изменится и название столицы, и все остальное в его мире.
Борис получал среднее образование во владивостокской мужской гимназии, а вот младшего сына, Феликса, Жюль отправил учиться в Лозанну – неподалеку и от Женевы, и от своей родной деревни. Так поступали во многих зажиточных семьях Владивостока, но дети от этого не становились патриотами России меньше. Леонид, к примеру, закончил Санкт-Петербургский университет в чине кадета и готовился к военной службе.
Горный институт был одним из лучших геологических учебных заведений в мире. Он был учрежден Екатериной Великой в 1773 году, и в грандиозном корпусе, выходящем на берег Невы, также размещалось собрание редких минералов и геологических образцов, собранных со всего света, уникальное до сих пор. Имелась и коллекция золотых самородков, а в ней – крупнейшие из добытых на то время. Несколько десятков парадных залов, наполненных стеклянными витринами, и сейчас украшены крупными фресками, отделаны позолотой и дубовыми панелями.
Хотя можно было бы заключить, что Горный институт готовил специалистов узкого профиля, в обязательную программу изучения входили история и литература, а также языки – французский, немецкий и русский, отнюдь не только геология, химия и инженерное дело. По всем трем языкам у Бориса были преимущества – на них говорили дома. На пятом курсе он написал 40-страничную работу о залежах свинца, серебра и цинка Тетюхинских рудников и получил магистерскую степень. Тогда же она была напечатана[76], и для сбора данных Борис в 1913 году возвращался во Владивосток и ездил на Тетюхинские рудники. Работа представляла собой очерк по истории рудника, созданного его отцом, в ней приводились схемы расчетного залегания руд и описывались самые современные для того времени способы геологоразведки и извлечения цветных металлов. Защитился он с отличием по горному делу – ему присвоили 2824-ю по счету степень в более чем вековой истории этого учебного заведения[77].
Первые несколько лет жизни Бориса в Санкт-Петербурге город был относительно спокоен снаружи, несмотря на шепотки о Распутине и германской царице. Политические дебаты велись по большей части в Думе, где заседания часто заходили в тупик из-за непримиримой партийной политики, а иногда их – неконституционно – распускал царь. Меж тем в залах рабочих собраний и на заседаниях рабочих советов по всему городу организаторы и агитаторы нагнетали бурю, которая многим в то время казалась просто спуском пара.
А улицы и набережные города блистали культурой, богатством и аристократизмом. Величественная столица с десятками дворцов в центре города ничем не напоминала Владивосток. Между 1910-м и 1916-м годами, как раз пока Борис учился, Николай и Александра редко живали в Зимнем дворце – предпочитали ему резиденцию в Царском Селе.
Но в городе Борис мог знакомиться и встречаться со множеством других общественных фигур. В разреженном воздухе этих космополитических вершин аристократия часто жила не по средствам, хотя многие этого не осознавали, а окружающие старательно не замечали. Тем не менее сын купца первой гильдии был вхож в гостиные промышленной элиты; там у него кружилась голова после далекой владивостокской провинции, куда он по-прежнему возвращался на каникулы.
Кроме того, он совершил несколько поездок в Европу – включая Лондон и Париж; хотя родины предка – деревушки Мёрикен-Вильдегг – он ни разу не навещал, и он сам, и все его братья и сестры имели право на получение швейцарского паспорта. Российское правительство считало лиц с двойным гражданством исключительно русскими подданными, для швейцарцев же гражданство этой страны было наследуемым правом и неотъемлемым фактом, как цвет глаз, – от него невозможно было отказаться, как это могли сделать американцы и прочие. Более того, потомок любого отца-швейцарца мужского пола автоматически становится швейцарцем – на протяжении четырех поколений. Это правило действует лишь по мужской линии – закон его определяет откровенно как «отцовскую привилегию»: право отца передавать свою национальность по наследству сыновьям, внукам и даже правнукам.
Жюль растил Бориса прилежным и дотошным, но сын его к тому же был общителен, остроумен, душевен и беззаботен. Его прекрасный тенор часто слышали на вечеринках. Женщины перво-наперво замечали, до чего он миловиден – и мужскую привлекательность свою он сохранил, хотя характер его закалился, несколько огрубел от возраста и перенесенных испытаний. Ростом он был выше отца, подтянут и очень спортивен; волосы стриг коротко, хотя впоследствии предпочитал более длинную прическу.
Борис как раз готовился писать свою дипломную работу, когда Николай II в августе 1914 года объявил о вступлении России в Первую мировую войну, и толпы людей выстроились вдоль Невы и на Дворцовой площади приветствовать его яхту «Александрия», на которой он прибыл к Зимнему дворцу. То было самое массовое скопление людей на площади с «Кровавого воскресенья» девятью годами ранее. Подписав манифест, Николай вышел на балкон, где собравшиеся приветствовали его ревом и исполнением государственного гимна, а всего через четыре года после того, как он отправил воевать пятнадцать миллионов своих подданных, его изувеченный труп будет сброшен в шахту.
С первого же дня существовало и мощное противодействие войне – даже среди аристократии и министров. Граф Сергей Витте едва сдерживался:
– Эта война – сумасшествие, – заявил он. – Она была навязана царю, вопреки его благоразумию, глупыми и недальновидными политиканами. России она может принести только катастрофические результаты. Лишь Франция и Англия могут надеяться извлечь из победы какую-нибудь пользу… Во всяком случае наша победа представляется мне чрезвычайно сомнительной…
Несомненно, вы имеете в виду наш престиж на Балканах, наш религиозный долг защищать своих кровных братьев, свою историческую и священную миссию на Востоке? Но это же романтическая, вышедшая из моды химера. Никто здесь, по крайней мере ни один мыслящий человек, теперь не принимает всерьез этот беспокойный и полный самомнения балканский люд, в котором нет ничего славянского. Они всего лишь турки, получившие ошибочное имя при крещении. Мы обязаны дать возможность сербам терпеть наказание, которое они заслуживают. Что им было до славянского братства, когда их король Милан сделал Сербию австрийским владением? Это все, что касается причин происхождения этой войны!
А теперь поговорим о выгодах и наградах, которые она нам принесет. Что мы надеемся получить? Увеличение территории. Боже мой! Разве империя его величества еще недостаточно большая? Разве мы не обладаем в Сибири, Туркестане, на Кавказе, в самой России громадными пространствами, которые все еще остаются нетронутой целиной?.. Тогда каковы те завоевания, которые манят наш глаз? Восточная Пруссия? Разве уже у императора не слишком ли много немцев среди его подданных? Галиция? Она же полна евреями! Кроме того, как только мы аннексируем польские территории, входящие в состав Австрии и Пруссии, мы сразу же потеряем всю русскую Польшу. Не совершайте ошибку: когда Польша обретет свою территориальную целостность, она не станет довольствоваться автономией, которую ей так глупо пообещали. Она потребует – и получит – свою абсолютную независимость. На что мы ещё должны надеяться? На Константинополь, на Святую Софию с крестом, на Босфор, на Дарданеллы? Это слишком безумная идея, чтобы она стоила минутного размышления! И даже если мы допустим, что наша коалиция одержит полную победу, а Гогенцоллерны и Габсбурги снизойдут до того, что запросят мира и согласятся с нашими условиями, – то это будет означать не только конец господства Германии, но и провозглашение республики повсюду в Центральной Европе. Это будет означать одновременный конец царизма! Я предпочитаю умалчивать относительно того, что может ожидать нас, в случае принятия гипотезы нашего поражения…
Мои практические выводы заключаются в том, что мы должны покончить с этой глупой авантюрой и как можно скорее[78].
В Санкт-Петербурге Борис и его брат Феликс общались с земляками – и квартировали у семейства Благовидовых, тоже живших некоторое время в их родном городе. Там они и познакомились с двумя сестрами – Марусей и Верой, учившимися в одной гимназии с дочерями Жюля. Зная респектабельность Бринеров, Благовидовы выделили им комнаты в своем доме, и вскоре Борис влюбился в Марусю, а Феликс через некоторое время – в Веру.
Моя бабушка Мария Дмитриевна Благовидова была высокой, статной и сдержанной молодой дамой с темными волосами почти до колен. Их с Верой отец, владивостокский врач Дмитрий Евграфович Благовидов происходил из-под Пензы. Борис и Маруся были ровесниками, и пока Борис ходил на занятия в Горный институт, она училась в Петербургской консерватории – мечтала стать оперной певицей и связать свою жизнь с театром. Марусина сестра Вера – яркий представитель русской интеллигенции: она стала первой женщиной-психиатром в России[79], – и в то же время вполне состоялась как пианистка.
Но, заглядывая в будущее, Борис легко мог предвидеть сложности – особенно если свадьбу справлять во Владивостоке. Он вовсе не рассчитывал, что его мать оценит будущую невестку по достоинству. Наталью интеллигенция ни восхищала, ни вдохновляла – а тот факт, что дед девочек Благовидовых по отцу был евреем (военный музыкант Фейтель Мордухаевич Шерий при крещении полностью сменил имя[80]), мог и вовсе отвратить от них мать семейства Бринеров. Но больше всего в Марусе и Вере Наталье не нравилась их современность: обе сестры в речах и поведении были независимы, православные догмы их не стесняли. Более того, Маруся училась на артистку, а это едва ли благопристойное занятие для супруги промышленника, особенно в таком маленьком городе, как Владивосток, где им неизбежно придется обустраивать свое гнездо.
Ибо теперь, с получением степени, Борис должен был вернуться и заново открыть рудники в Тетюхе. Жюлю уже было под семьдесят, и вскоре ему уже не под силу станет двухдневное путешествие из Владивостока в Тетюхе. Управлять рудниками больше не мог никто, а у Бориса это бы никак не получилось из Петрограда или Москвы, где регулярно шли оперы, которые так любила Маруся. Выходя за Бориса замуж, Маруся тем самым отказывалась от карьеры, к которой готовилась с детства.
Решение оказалось мучительным. Марусина семья пошла на немалые жертвы, чтобы дать дочери то образование, которого ей хотелось. Хуже того, Борис настаивал, чтобы обвенчали их в Петрограде перед возвращением во Владивосток, и они бы поставили Жюля и Наталью перед уже свершившимся фактом. Для консервативного православного общества все это выглядело так, будто сын уважаемого купца первой гильдии сбежал с будущей актриской.
Но Маруся очень любила Бориса и соглашалась на все его требования. Обвенчались они в Петрограде, пока Борис был еще студентом, и к тому времени, когда они в 1916 году сели на поезд до Владивостока, Маруся уже родила их первого ребенка – Веру, названную в честь Марусиной сестры. А та, презрев общественные условности, уже открыто жила с Феликсом в Петрограде, хотя тот, военнообязанный, служил прапорщиком в 6-м запасном саперном полку. Борис был уверен, что их мать разозлится на них обоих.
И не ошибся. Наталья презирала сестер Благовидовых и не скрывала этого с момента встречи. Особенно ненавидела она Марусю – вероятно, потому, что Борис у них был любимым сыном. Кто знает, может, все вышло бы не так скверно, не поселись Борис с новой невесткой в самой резиденции Бринеров. Но еще шла война, времена были неспокойные, и семье следовало держаться вместе. Лишь Наталья не обрадовалась вторжению свободомыслящей актриски, вскружившей голову ее сыну.
• 9 •
Весной 1917 года, вскоре после того, как Борис и Маруся обосновались во Владивостоке, Николай II вынужденно отрекся от престола. На другом берегу Невы меж тем Вера и Феликс поняли, что у них тоже будет ребенок. Феликс попросил у Веры руки, но та сразу предложение не приняла – боялась, что брак помешает ее карьере психиатра в Пантелеймоновской больнице. Он была полна решимости сохранить свою независимость, а мыслила достаточно прогрессивно, чтобы не обращать внимание на условности брака.
Ленин уже вернулся в Россию особым поездом, предоставленным кайзером Вильгельмом II, который рассчитывал на антивоенные настроения Ленина и его руководящую роль в завершении войны. Феликс впоследствии рассказывал дочери, как он лично встречался с Лениным и «как в своей должности офицера царской армии пытался стащить Ленина с трибуны»[81].
В 1919 году английский писатель Артур Рэнсом, левый журналист газеты «Мэнчерстер Гардиан», провел не один час за приватными беседами с Лениным, и скромность вождя произвела на него неизгладимое впечатление:
Больше, чем когда-либо раньше, Ленин произвел на меня впечатление счастливого человека.
Возвращаясь обратно из Кремля, я старался припомнить человека, у которого был бы такой же темперамент и характер, проникнутый радостью. Но мне это не удалось… Этот маленький, лысый, морщинистый человек, который, качаясь на стуле, смеется то над тем, то над другим и в то же время всегда готов каждому, кто его попросит, дать серьезный совет, – такой серьезный и так глубоко продуманный, что он обязывает его приверженцев более, чем если бы это было приказание.
Его морщины – морщины смеха, а не горя. Я думаю, что причина этому та, что он первый крупный вождь, который совершенно отрицает значение собственной личности. Личное тщеславие у него отсутствует. Более того, как марксист, он верит в массовое движение, которое с ним, без него ли все равно не остановится. У него глубокая вера в воодушевляющие народ стихийные силы, а его вера в самого себя состоит в том, что он в состоянии учесть точно направление этих сил. Он думает, что ни один человек не может задержать революцию, которую он считает неизбежной. По его мнению, русская революция может быть подавлена только временно и то только благодаря обстоятельствам, которые не поддаются человеческому контролю. Он абсолютно свободен, как ни один выдающийся человек до него. И не то, что он говорит, внушает доверие к нему, а та внутренняя свобода, которая в нем чувствуется, и самоотречение, которое бросается в глаза. Согласно своей философии он ни одной минуты не допускает, чтобы ошибка одного человека могла испортить все дело. Сам он, по его мнению, только выразитель, а не причина всех происходящих событий, которые навеки будут связаны с его именем[82].
В последующие недели, пока и сила революции, и политический хаос нарастали, Вера и Феликс решили рожать ребенка во Владивостоке. Имея это в виду, Вера приняла предложение Феликса, и 29 апреля 1917 года они обвенчались. После неспокойного путешествия по Транссибу, где миллионы беженцев уже мешались с миллионами солдат, Феликс и Вера прибыли в резиденцию Бринеров к Борису и Марусе. Вскоре Благовидова-мать, которую все звали «Баега́» (сокращение от «Баба-Яга»), также поселилась у них – помогать с будущим ребенком. В доме Натальи Благовидовых теперь стало больше, и хозяйка неизменно пребывала в ярости. 1 декабря 1917 года Вера родила девочку, которую они с Феликсом назвали Ириной.
В «Октябрьской» революции Ленин и большевики успешно осуществили государственный переворот и свергли постимперское правительство. Власть была захвачена под лозунгом «Вся власть советам!», но те знаменитые «“десять дней, которые потрясли мир”, лишь слегка колыхнули Дальний Восток»[83], писал историк Стивен. Во Владивостоке у большевиков были сильные организации на железной дороге и в порту, среди моряков, солдат и горняков. 1 декабря советская власть временно победила во Владивостоке и на территории Приморья.
Теперь Бринерам грозила непосредственная опасность большевизма. Настоящую защиту могли предоставить им лишь японские оккупационные силы. В ближайшем будущем в доме Бринеров на Алеутской иностранные военные не раз будут ставить палатки на участке, иногда ночевать в вестибюле и на лестницах – те же японские войска, которые разгромили Россию чуть больше десяти лет назад. Их присутствие внутри и снаружи дома бесило Наталью – а особенно когда здоровье уже начало подводить Жюля. Но то, что интервенты располагались в их доме, хоть как-то защищало Бринеров. Будучи самыми успешными капиталистами в городе, большое семейство (шестеро детей с супругами, пятеро внуков) были очевидными кандидатами для большевистских трудовых лагерей.
Эти концлагеря, которые в большой мере определят весь облик советского тоталитарного строя, впервые возникнут в годы Гражданской войны как экстренная мера. «За три недели до Октябрьской революции, – писала историк ГУЛАГа Энн Эпплбаум, – Ленин собственноручно набрасывал хоть и смутный, но план организации “принудительных работ” для богатых капиталистов»[84]. Позже сам Ленин писал: «Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I и II класса. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудники…»[85] Эпплбаум заключает, что «с первых дней существования советского государства людей приговаривали к наказанию не за то, что они сделали, а за то, кем они были». В то же время для Бринеров некоторым утешением, вероятно, служило то, что суда их пароходства могли обеспечить необходимую связь между Владивостоком и внешним миром, а также – хоть какие-то рабочие места.
Жюль и члены его семьи ни сном ни духом не чуяли, в какую сторону может подуть ветер в отношениях между большевиками, партизанами, казаками и интервентами: между 1917-м и 1922-м годами во Владивостоке сменилось семь правительств, и каждое было на ножах с предыдущим. По всей России капиталистов вроде Бринеров, «буржуев», отлавливали и ставили к стенке. Внуки Жюля – включая Юла – росли под истории о красных партизанах, которые брали младенцев за ноги и разбивали им головы о стены на глазах у родителей, которых затем расстреливали.
Жюль и Борис пытались спасти рудники в Тетюхе, даже когда советское правительство национализировало промышленные предприятия согласно декрету о национализации от 28 июня 1918 года: заводы и фабрики передавали под управление директоров, лояльных партии большевиков, которая в городах проводила насильственную индустриализацию, а в селах миллионы частных хозяйств объявляли коллективной собственностью и тоже препоручали надежным кадрам.
Но когда адмирал Колчак объявил себя «Верховным правителем России» и вождем всего антибольшевистского сопротивления, Жюль обратился к его правительству в Омске с просьбой вернуть рудники Бринеров русским акционерам и директорам – из патриотических соображений. Колчак дал на это согласие, и в июне 1919 года на общем собрании тетюхинских акционеров Жюль был снова введен в совет директоров, а управление перешло в руки «Бринера и компании». «Тетюхинский рудник однако оставался законсервирован, – писал Джонни Видер, посвятивший много лет исследованиям международного значения этого предприятия. – Финансовые дела компании были в беспорядке; ее собственность и снабжение реквизировали на военные нужды; здания разграбили; портовые мощности в Рудной, что рядом с мысом Бринера, заблокированы и подвернуты бомбардировке, а паровой буксир “Рында” затоплен белыми…»[86] К тому же, верхние рудники уже истощились, а изыскания в нижних слоях требовали совершенно новых производственных мощностей. Поскольку в таком хаосе рассчитывать на вкладчиков не приходилось, Бринеры едва поддерживали умирающую компанию из собственного кармана. Добычу руды никак не возобновишь без крупных влияний капитала и экспертизы, а ни того, ни другого не имелось: как только правительство Ленина принялось захватывать собственность, весь иностранный капитал бежал из страны.
Для тысяч отчаявшихся горняцких семей в Тетюхе это был тупик: они больше не могли рассчитывать на работу, которую им предоставляли «Бринер и Ко.», – единственную на сотни километров тайги окрест. Рудники Бринера сдались разору Гражданской войны.
В октябре 1918 года Феликс Бринер, которому исполнилось 27 лет, отправился в Омск служить адмиралу Колчаку в его борьбе с большевиками, хотя после расстрела царской семьи возврата к империи не предвиделось. Дочь Феликса Ирина впоследствии писала:
Папа, будучи белым офицером царской армии, подчинялся генералу Колчаку, который вел белые силы через Сибирь. Во время революции многие иностранные державы делали вид, будто хотят помочь России, но на деле их интересовал лишь захват русского золота, которое Колчак вез на поезде. Французский генерал Ренан пытался договориться с Колчаком. Отец был на этих переговорах переводчиком и своими ушами слышал слова Ренана: «К черту Колчака, дайте нам забрать золото». Чехословаки и французы объединились, предали генерала Колчака и выдали его большевикам[87].
В отличие от Колчака, Феликсу повезло – он живым выбрался из Иркутска, но то, что случилось после, было едва ли не хуже смерти.
После этого папу приписали другому белому генералу – Каппелю, который вел оставшуюся Белую армию пешком через сибирскую тайгу. Бросок этот назывался «Ледяной поход», и выжили в нем немногие. Каждое утро – горы трупов, жертв тифа и мороза. Нам повезло, что папа остался жив: изможденный, с обмороженными ногами он счастливо вернулся домой к семье и снова стал работать в пароходстве своего отца – «Бринер и компания».
Со времени своего приезда во Владивосток, Борис был недоволен: для поддержки компании на плаву требовалось чересчур много усилий. Они с Леонидом занимались пароходством, а для экспортно-импортной компании любые перемены в политическом море, скачки валютных изменений и нехватка угля для судов чреваты опасностями. Но самой главной их заботой стало обустройство базы для деятельности за пределами России. Жюль предусмотрительно зарегистрировал компанию в Гонконге, а управляющую контору держал в Шанхае, по адресу Бунд, 18, но компания все равно требовала внимания. Теперь им следовало организовать за пределами России еще и верфи, а также расширить клиентскую базу. Леонид и Борис, а вскоре – и Феликс, ездили по всему Дальнему Востоку, открывали новые конторы, расширяли уже существующие и устанавливали личные связи с местными чиновниками. Они побывали в Порт-Артуре и Дальнем – китайских городах, находившихся теперь под контролем Японии (как и Корея). Братья также открыли конторы в Пекине, Чанчуне (Синьцзине) и Тяньцзине в Китае, а также в Мукдене и Харбине в Маньчжурии, которая находилась под властью Китая. Масштабы деятельности – огромны, но Бринерам это давало дополнительные возможности, если они когда-нибудь решатся бежать из большевистской России, а также гарантии того, что семья не будет бедствовать.
Борис трудился не покладая рук. Всего через несколько месяцев после приезда на Алеутскую он взялся за организацию первого политехнического института на Дальнем Востоке. Набрав преподавательский состав из специалистов и инженеров порта и рудников Бринера, а также военных, привлекая средства, откуда только мог, включая собственную семью, в ноябре 1918 года он открывает во Владивостоке Высший политехникум. Ректором его был избран преподаватель Восточного института, основать который Жюль помогал почти двадцатью годами ранее. В институте было два факультета – экономический и горный, механический и строительно-промышленный. Кроме того, Борис воспользовался своим положением в совете Общества изучения Амурского края и должностью дальневосточного представителя Русского геологического общества, чтобы привлечь в институт преподавательские кадры. Сам он вел занятия по горному делу, передавая студентам то, чему научился сам в Горном институте, а свою обширную коллекцию редких минералов пожертвовал заведению – впоследствии она стала ядром будущего геологического музея Дальневосточного технического университета.
Из всех Бринеров Борис был самым общительным и спортивным. Атлет и бонвиван, он состоял в обществе спасания на водах, а также во владивостокских теннисном и яхт-клубах: как и отец, всегда очень любил быть на воде. Марусю регулярно водил не только в театр и на концерты, но и на спортивные состязания. Но Гражданская война продолжала бушевать, и многие подобные развлечения прекратились, а по городу перемещаться становилось просто опасно.
Смерть Жюля в марте 1920-го не стала неожиданной, но нанесла еще один страшный удар по и без того пострадавшему миру Бринеров. Наталья эмоционально замкнулась сильнее прежнего. Выйдя за Жюля замуж в шестнадцать лет, в браке с ним она прожила 38 лет и родила семерых детей (один скончался во младенчестве). Со смертью мужа она унаследовала почти всю его собственность. Остальной семье Наталья ясно дала понять, что не намерена уступать своим невесткам ничего, и собственное завещание составила соответственно: если сыновья скончаются раньше (а в условиях Гражданской войны такая возможность была реальна), Благовидовы пойдут по миру с сумой.
Три месяца спустя новообразованная Дальневосточная республика выделила своим гражданам десять дней для обмена всех их рублей на новую дальневосточную валюту, стоившую 1/200 обмениваемого рубля; тем самым всеобщее благосостояние по сути сократилось на 99,5 %. Это вызвало общественное возмущение; возражали даже крупные и грозные оккупационные силы Японии – бойкотируя новую валюту, они фактически ее обесценили. Со своим господством и ресурсами убеждения японцы предложили полностью уйти из Забайкалья, если дальневосточное правительство введет в кабинет так называемых «цензовиков» – «квалифицированную буржуазию». В кабинет было избрано четверо таких членов, включая Бориса Юльевича Бринера[88], который немного погодя стал министром торговли и промышленности Приамурского правительства.
В этом качестве ему приходилось регулярно встречаться с членами большевистской и меньшевистской фракций, с эсерами, кадетами и энесами, которые первоначально отказывались даже садиться за один стол переговоров с такими капиталистами, как Борис. Совещания часто заходили в тупик, и напряжение, в котором жил Борис, неуклонно возрастало.
Ибо как раз в это время его заботило другое – грядущее рождение второго ребенка. Сын, названный в честь деда Юлием, родился 11 июля 1920 года. Крестили его 25 января 1921 года в Свято-Никольской церкви.
• 10 •
Как только будущий Советский Союз взял под контроль Дальний Восток, положение Бринеров стало еще напряженнее. «У них, предпринимателей с зарубежной поддержкой, – писал Видер, – существование ежедневно зависело от советских властей Владивостока, в частности – от ГПУ. Феликс был белым офицером, служил колчаковскому режиму переводчиком с французского»[89]. Средняя сестра Мария вышла замуж за Сергея Хвицкого, флотского офицера и героя Красной армии – за разгром флотилии Врангеля в Крыму он одним из первых офицеров получил орден Красного Знамени. За Марией до этого ухаживал Константин Суханов, другой красный герой Гражданской войны на Дальнем Востоке. Ныне страх перед отрядами зарубежных интервентов под дверью сменился ужасом внезапного ареста советскими властями, действующими по приказу из Москвы – или даже без него.
Все эти годы население новообразованного Советского Союза косил голод, обрушившийся на страну с распадом всех сельскохозяйственных и экономических структур, национализация частных предприятий и промышленности была признана негодной, и в 1921 году Ленин объявил «новую экономическую политику». Восстановили частное владение малым бизнесом, хотя вся крупная промышленность – к примеру, рудники – оставалась под строгим контролем правительства. Признавая отчаянную нужду страны в иностранном капитале, ленинские товарищи по партии также одобрили новую торговую политику, позволявшую денежным иностранным предпринимателям получать государственные концессии на разработку полезных ископаемых.
К 1922 году промышленное производство в Советском Союзе сократилось до 1/5 от показателей 1913 года[90], а в результате конфискации зерна правительством голод унес миллионы жизней. Борис и его братья решили обратиться к новому ленинскому правительству в Москве в еще одной попытке возродить тетюхинские рудники.
В конце концов, было доказано, что рудник еще располагает огромными запасами руды, для которых имеется готовый рынок, а советской казне настоятельно требовалась иностранная валюта. Если Бринеры как русские граждане не могли владеть Тетюхе, вероятно, они смогут восстановить предприятие и управлять им от имени какого-нибудь иностранного концессионера. Не посмотрит ли Москва благосклонно на такой план и не заключит ли соглашение с «Бринером и компанией»? Если это произойдет, семье больше не нужно будет опасаться шагов ЧК за дверью.
Иностранные концессии были так важны для Ленина, потому что были средством обретения международного признания. Поэтому вопрос об иностранных концессиях был передан в ведение ЧК – самому́ жуткому Феликсу Дзержинскому. В действительности советская стратегия в том, что касалось иностранных концессий, «служила не только экономическим, но и политическим целям, – отмечал историк Стивен, – поскольку многие страны по-прежнему отказывались признавать большевиков как законное правительство страны, а те, кто покупал лесные или железнодорожные концессии (к примеру, Соединенные Штаты на Камчатке и в Николаевске), de facto признавали советское правительство»[91]. Многие зарубежные державы не имели по этому поводу единого мнения: в Великобритании, например, Консервативная партия не соглашалась признавать власть большевиков в России, зато Лейбористская и соглашалась, и признавала. Именно поэтому, поясняет Стивен, «иностранные концессии распространялись… и среди них были знакомые названия, вроде “Бринера и компании”».
Борису приходилось много времени проводить в Москве – он добивался официальных гарантий того, что ленинское правительство действительно готово вести с ним дела ради спасения экономики. Жена и двое детей поэтому оставались дома одни – как раз в самые страшные времена. Но лицом горнодобывающего предприятия мог быть только сам Борис; Леонид поддерживал работу конторы, занимался сложными договорами и юридическими тонкостями, а Феликс путешествовал по всему региону в поисках квалифицированной рабочей силы. Именно Борис получил ученую степень, написал исследование по Тетюхе. А побыв министром недолго просуществовавшего Приамурского правительства, он наглядно показал способность тесно работать с представителями новых властей. Кроме того, правительство знало, что Бринеры доказали свою способность привлекать европейский капитал. (Их последний инвестор немец Арон Гирш потерял почти все свои средства, вложенные в Тетюхе; Бринеры некоторым образом выполнили свои юридические обязательства перед Гиршем, выплатив ему сумму в сильно обесцененных «рублях» Дальневосточной республики. Понятно, что Гирш еще некоторое время продолжал требовать у Бринеров то, что ему причиталось, но, по сути, конечно, революции проиграли они все.)
Вероятно, самым полезным талантом Бориса, по словам его компаньона Ч. Э. Кидда, было умение сделать себя популярным – даже для стойкого большевистского руководства. Этот «князь Приморья» умел гладко лавировать между парадоксальными кадрами политической элиты в анти-элитистской политической культуре. Борис выглядел «человеком и очаровательным, и хватким, – писал Кидд. – Несмотря на его связи в мире капитала, о нем хорошо отзывались в советской Москве, и… он в этих делах добился замечательных успехов». Это очарование и цепкость – быть может, в той же мере, что и его технические познания в горном деле, – и были причинами, по которым ему пришлось покинуть Владивосток, уехать в Москву и лично вести переговоры с Железным Феликсом.
А Дзержинский, истинно веровавший в коммунистическую революцию, почти всю свою взрослую жизнь провел политзаключенным: за участие в революционной деятельности его не раз ссылали в Сибирь, из ссылки он не раз бежал и наконец обосновался в Польше. По приезде в Россию в 1917 году его назначили председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, а впоследствии – и комиссаром внутренних дел. В те годы, когда с ним общался Борис, Дзержинский был еще и наркомом путей сообщения.
Первые шесть месяцев 1923 года Борис регулярно «ездил на работу» по длиннейшей железной дороге на свете. Во Владивостоке он был любящим отцом семилетней Веры, желавшей стать оперной певицей (как мама) и двухлетнего Юла, который даже в таком раннем возрасте проявлял независимость характера. Марусю же он тепло и безоговорочно поддерживал во всем. А в Москве Борис представлял собой фигуру светскую и скромно элегантную даже в годы отчаяния и голода.
3 мая 1923 года Совет труда и обороны объявил о сдаче тетюхинских рудников в концессию «на условиях аренды». На их приобретение подали около 30 заявлений, не остались в стороне и Бринеры. В те годы существовало много горнодобывающих концессий, но в данном случае уникальным было то, что Бринеры – русские, однако в условия договора входило, что финансирование будет иностранным. Прогнозируя ежегодную выработку руды в сто тысяч тонн, правительство требовало иностранных капиталовложений на сумму 250 тысяч рублей золотом (в наши дни это около 2,5 миллионов долларов), которые, как письменно обязался Борис, поступят от «одной группы в Англии, финансирующей предприятие в крупных масштабах». «Британская инженерная компания Сибири, лимитед» («Бекос») гарантировала, что Бринеры – те люди, которые смогут раздобыть такой капитал, хотя сам «Бекос» всю сумму вкладывать не станет. Но зато Борис теперь располагал полномочиями в переговорах с Железным Феликсом.
Дзержинский в них выступал в должности председателя ВСНХ. Можно было ожидать, что он станет презирать лощеного сынка промышленного капиталиста: его должности председателя ОГПУ (переименованного ЧК) никто не отменял. Поэтому их встречи были чреваты не только возможностями, но и опасностями. От успеха этих переговоров зависело будущее семьи Бринеров в Советском Союзе. Борис знал, что шеф тайной полиции в любой миг может без долгих рассуждений обвинить его в каком-нибудь абстрактном преступлении вроде «индивидуалистических наклонностей» – ЧК так поступала со многими – и отправить умирать прямиком на сибирскую каторгу, а вместе с ним – Марусю, Веру и Юла. И Дзержинский, вероятно, хотел бы поступить с ним именно так, а не посылать общаться с европейскими банкирами и прочими капиталистами. Но СССР требовались зарубежные капиталовложения, чтобы добывать руду в Тетюхе, а та нужна была для получения иностранной валюты, которая шла на закупки продовольствия, семян, сельскохозяйственного оборудования и всего остального, чего не хватало голодной стране. Равно как и международного признания, которое в свою очередь отомкнет для страны займы иностранных банков.
На этом рубеже в опасности было само выживание Советского Союза как действенной державы. В 1922 году В. И. Ленина хватил первый из нескольких серьезных инсультов, вероятно вызванных третичным сифилисом[92]. Серьезно ослабев, однако не утратив дееспособности, Ленин модифицировал сопротивление капиталистическим структурам, которые могли бы спасти и его правительство, и миллионы жизней. Несомненно, сам он был в курсе обсуждавшихся в 1923 году иностранных концессий, включая Бринерову, – из-за фактического дипломатического признания страны, которое они могут за собой повлечь. Но здоровье его неуклонно разрушалось, а последние свои дни Ленину приходилось иметь дело с беспрестанной борьбой за власть.
Через полгода после смерти Ленина, 8 июля 1924 года Борис Бринер и Феликс Дзержинский подписали концессию на Тетюхинские рудники. На документе также стояла подпись Георгия Чичерина, еще одного «старого большевика», который по возвращении из ссылки стал заместителем наркома иностранных дел Льва Троцкого, а теперь и сам занял этот пост. Чичерин вел переговоры с Германией об отказе от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков и порядке урегулирования разногласий. Известные имена подписантов должны были убедить иностранных банкиров в том, что непредсказуемый Советский Союз не станет отходить от условий этого концессионного соглашения.
А они формулировались достаточно широко. Соглашение передавало рудники фирме в аренду сроком на 36 лет при условии, что Бринеры привлекут иностранный капитал и запустят предприятие в течение года, а прогноз выработки руды, ранее обозначенный Борисом, будет осуществлен. Соглашение позволяло Бринерам передавать концессию иностранным операторам, имелась в нем и арбитражная оговорка – но она относилась лишь к избранным иностранным инвесторам. Оговорка эта впоследствии будет иметь большое значение.
Борис преуспел в переговорах с самым идеологизированным и жутким человеком в правительстве. В результате рудники, созданные Жюлем при царизме, воскресли благодаря его сыновьям уже в Советском Союзе – и поселок Тетюхе спасся. Теперь Борису предстояло найти инвестора, готового рискнуть солидным капиталом в решительно антикапиталистической стране.
В то же время за много месяцев, проведенных Борисом в Москве, его жизнь претерпела собственную революцию. Борис влюбился.
Екатерина Ивановна Корнакова в свои 27 лет была звездой. На шесть лет младше Бориса, она уже стала одной из любимейших публикой актрис русского театра. Миниатюрная блондинка, наделенная потрясающей красотой и огромным талантом, Катерина родилась в 1895 году в Кяхте у российско-монгольской границы – примерно в тех же краях, откуда происходил Чингисхан. Отец ее, богатый купец и землевладелец, разводил лошадей, а мать была видным фольклористом и этнографом, Русское географическое общество даже удостоило ее серебряной медали. Юная Катерина была не просто независима – ее считали прямо-таки неуправляемой и не поддающейся дисциплине. В 1912 году отчаявшаяся мать отправила ее «на перевоспитание» к двоюродной сестре Дейзи (Маргарите) – жене Юрия Янковского. Катя провела все лето в Сидеми, там и познакомилась с Борисом. Маргарита Янковская организовывала театральные постановки для детей и писала пьесы, которые они сами ставили, – и распознала в Катерине настоящий актерский талант. В конце лета родственники собрали деньги и отправили девушку в Москву. Там ее взял к себе в частную студию Николай Массалитинов – он организовал ее вместе с двумя актерами Московского художественного театра, где Катерина впоследствии играла вместе с Массалитиновым в постановке «Села Степанчикова».
В 1923 году она уже стала звездой МХТ и вышла замуж за актера Алексея Дикого. Детей у них не было, а жизнь с эмоциональным и пьющим супругом оказалась мучительна. За Катериной пылко ухаживал ее режиссер, наставник и сценический партнер Константин Станиславский – человек на тридцать два года старше ее; некоторые до сих пор убеждены, что она была величайшей любовью всей его жизни[93]. Пусть даже так, но Катерина отказалась как от него, так и от Дикого, а посвятила себя Борису. Своей легкостью в общении, самоуверенностью и элегантностью горный инженер приобрел себе множество друзей в актерских кругах. Его самого творческий мир Московского художественного театра в начале 1920-х годов быстро ослепил и покорил. В стране ширилась коммунистическая революция, а там набирала обороты революция театральная, и в последующие годы семейство Бринеров она затронет едва ли не сильнее общественных потрясений.
Московский художественный театр был основан четвертью века раньше Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. В России он стал первым ансамблевым театром, где актеры работали и репетировали все вместе при каждой постановке, и тем самым у них вырабатывались общие принципы актерской игры. «Программа начинающегося дела была революционна, – писал позже Станиславский. – Мы протестовали и против старой манеры игры, и против театральности, и против ложного пафоса, декламации, и против актерского наигрыша, и против дурных условностей постановки, декораций, и против премьерства, которое портило ансамбль, и против всего строя спектаклей, и против ничтожного репертуара тогдашних театров»[94]. Единомышленники стремились донести до публики те эмоции, что были неподдельны, а также идеи, произраставшие из реального общественного опыта, а для этого – исследовать до конца любые мыслимые драматические инновации. Материал для такой новой школы социального реализма предоставляла целая волна исключительных русских драматургов, во главе которой стоял Антон Чехов.
Но как же актеру достичь подлинных эмоций в искусственной обстановке зала, полного чужих людей, которые внимательно на тебя смотрят? Станиславский, похоже, первым из режиссеров поставил этот вопрос, и ответ на него лег в основу теории актерского мастерства для последующих четырех поколений.
Некоторые ближайшие его коллеги не соглашались с основными методами его «системы» – особенно с его убежденностью, что актеры должны пользоваться конкретными воспоминаниями о собственной жизни, чтобы вызвать на сцене подлинные эмоции. Одним из таких коллег был Михаил Чехов, племянник покойного драматурга, актер и режиссер МХТ. В начале 1920-х годов из своей Первой студии Чехов создает отдельный репертуарный театр – «Второй МХАТ». Как и многие, он не переваривал принятия Станиславским сталинского руководства страной. Чехов открыто критиковал обе стороны русской революции, и от ареста в СССР его спасло чудо. Но при Сталине «система Станиславского» стала моделью для всего советского театра, и социальный реализм стал реализмом социалистическим. Станиславский не осмеливался критиковать режим, и его театр процветал. Михаилу Чехову же пришлось бежать из страны в Германию, и в итоге он оказался в Париже, где влился в бурное белоэмигрантское общество и основал собственный репертуарный ансамбль и школу актерского мастерства.
Таковы были люди, населявшие новую столичную жизнь Бориса, – они оказались гораздо интереснее его друзей по Горному институту или провинциальных владивостокских знакомых. Даже за стенами театра Катерина была импульсивнее, своенравнее и выразительней Маруси, которая полностью погрузилась в семейную жизнь в точности так, как этого хотел от нее Борис, когда настаивал на том, чтобы она отказалась от театральной карьеры.
После нескольких месяцев истовой влюбленности в Катерину и нескольких отложенных или отмененных вообще визитов во Владивосток Борис решил, что не может и не хочет возвращаться к жене и двоим детям. Он сел и написал следующее письмо – его смысл и значение будут сказываться на жизни всех Бринеров еще не один десяток лет[95]:
13 окт. 1923 г. Москва
Дорогая моя Мамулинька,
с большим душевным волнением я пишу тебе это письмо, но не писать тебе его я не могу и не в праве, как в отношении тебя, так и себя.
Я так устал, так изнервничался из-за своего душевного разлада, что больше не могу и хочу тебе, как моему лучшему другу до сих пор, как моей жене, как матери моих дорогих детей, сказать все, что я переживаю, и я уверен, что ты меня поймешь и простишь.
Если я тебе не писал всего до сих пор, то я думал, что то чувство, которое я переживаю, и которое меня охватило сейчас всего, я сумею преодолеть, сумею сохранить свое душевное равновесие, но это оказалось не так, это оказалось выше моего разума, моих сил.
Конечно, этому способствовала обстановка, условия, в которых я оказался в Москве, вдали от тебя, Мамулинька, от всех вас, мои дорогие, родные мне.
Единственный человек, в котором я сразу же почувствовал родственную мне, необычайно тонкую душу, это Катюша. Она так отзывчиво, тепло ко мне отнеслась с самого начала, что я буквально только и отдыхал, когда бывал у нее, и я не подозревал, что это чувство дружбы может быть более теплым, чем это бывает обычно, может перейти во что-нибудь большее.
Но это оказалось так. Я так же, как и она, почувствовал это во время ее поездки в Харьков. В это время только я почувствовал, как я к ней привязался, как я тоскую без нее. Она же нервно заболела там настолько, что временами не могла играть.
Мамулинька, моя родная, мне страшно, буквально страшно было сознать, что я полюбил Катю, и вот уже месяц как я страдаю невыносимо от мысли, что это так, от боязни убить тебя, сказав об этом, но в то же время я сознавал, что первый человек, которому я должен открыть свою душу, – это ты, и я знаю, что иначе я поступить не мог, что это было бы против моей природы, против той чистоты, той [нрзб] отношений, которые были всегда между нами, Мамулинька.
Я знаю, какую боль я тебе причиняю, и при этой мысли мне становится до того тяжело, что я не знаю, куда мне девать себя, но, Мамулинька родная, это выше меня, то, что со мной сейчас делается, что я переживаю.
Самое мое большое желание сейчас, это чтобы ты поняла меня и не осудила слишком строго.
С приходом этого чувства я уже пережил много и много больше переживу, очевидно, в будущем. Так хотелось бы сейчас с тобой говорить, [нрзб] и так у меня тяжело на душе. Вот я написал тебе, но не знаю, пошлю ли тебе это письмо. Написал его т. е. сидя сейчас в своей комнате, не мог не сделать этого.
Если сможешь, напиши мне хоть несколько слов.
Больше я пока не пишу. Крепко целую тебя и наших дорогих, чудных ребяток.
[Подпись]
Когда письмо уже ехало почтовым вагоном по Транссибирской магистрали во Владивосток, Борис и Катерина больше не держали свой роман в тайне. Катерина уже оставила мужа и начала сопровождать Бориса на деловые встречи и очаровывать различных советских бюрократов, которых следовало очаровывать, чтобы ожили Тетюхинские рудники. Опасения Бориса о связи с актрисой, высказывавшиеся десятком лет ранее, теперь оказались более не действительными.
Поскольку идеология первых лет советской власти позволяла быстрые разводы в присутствии лишь одного из супругов, Борис получил развод от Маруси Благовидовой в Москве 20 мая 1924 года[96], а четыре недели спустя, 18 июня, женился на Катерине Корнаковой. Ему исполнилось тридцать пять лет, ей к тому времени – двадцать девять.
Письмо нанесло Марусе такой удар, что от него она так и не оправилась. Сочиняя это письмо, Борис прекрасно понимал, что после одиннадцати лет вместе такое предательство она могла и не пережить. И действительно, после него как будто отмерла некая часть ее личности. «Помню, как она ходила взад-вперед по комнате, – писала впоследствии ее племянница Ирина, – заламывала руки и стонала: “Больно, больно, какая боль, больно”. Мне тогда было всего шесть, но я все равно чувствовала, до чего жестоко ранил ее человек, которого она так любила. Боль эта осталась с нею навсегда»[97]. Из множества фотографий, на которых Маруся изображена вместе с детьми Верой и Юлом, нет ни одной, где она бы улыбалась. По словам Ирины, «Марусе казалось, что муж объявил ее мертвой, и в душе она как будто повиновалась ему».
В ее положении невыносимо было все: она по-прежнему жила в резиденции Бринеров дверь в дверь со свекровью Натальей, которая без уравновешенного посредничества Жюля теперь откровенно злорадствовала над болью и унижением, которые своей бывшей жене причинил Борис. Попав в полную зависимость от Бринеров, Маруся вдруг оказалась в роли матери-одиночки, да и ту не могла толком играть – отвержение и потрясение нанесли ей слишком большой урон. Целыми днями она ни с кем не разговаривала, едва могла выполнять простейшую работу по дому. Все это происходило в пугающей неизвестности середины 20-х годов: Маруся получила письмо Бориса в первую годовщину победного марша Красной армии мимо их дома. В честь этого события Алеутскую переименовали в улицу 25-го Октября.
Единственной отдушиной Марусе оставались сестра Вера и зять и деверь Феликс, которые взяли заботу о детях на себя – на что и рассчитывал Борис. Все вместе они переселились в дом за городом, в пригороде под названием 19-я Верста – таково было расстояние до центра. Там, как могли, и создали новую семью с Феликсом во главе. Тот примечательно владел собою: как ни сердился на действия Бориса, своих обязательств не избегал. Маруся по-прежнему была слишком расстроена и невыдержанна, чтобы хорошенько заботиться о детях, а те вели себя буйно и капризно. Ее мать Баега своим присутствием уравновешивала и успокаивала – «…была готова прийти на выручку всем, кто в этом нуждался. Она вязала крючком очень красивые платки из шелка и шерсти. Шерстяные были черные или белые, из шелка – еще и красные. Огромные шали, в них можно было завернуться целиком, некоторые с кистями, некоторые без. Она всегда что-нибудь делала, а под вечер играла в свой любимый солитер»[98]. Феликс же и Вера одаряли маленькую Веру (восьми лет) и Юла (четыре года) той же любовью, что и собственную дочь, семилетнюю Ирину – ее двоюродных брата и сестру они растили так же, как ее, даже после этого внезапного и бурного изгнания из отцовского дома.
После свадьбы Борис и Катерина уехали в путешествие по Европе, посетили и Лондон – город, который любили оба. Там они провели несколько месяцев, и за это время Борису удалось раздобыть капитал для вложения в рудники Тетюхе. С этим он и его молодая жена вернулись на его родину во Владивосток, где Наталья приветствовала ее сердечно.
• 11 •
Теперь Борису необходимо было оставаться на Дальнем Востоке – управление реконструкцией всей системы рудников, разработанной его отцом в 1897 году, пало на его плечи; навещал он и детей. Для Катерины же это означало отказ от блистательной жизни звезды в театральной столице. Хотя уход из Московского художественного театра и стал для нее тяжкой потерей, она понимала, что вскоре ей и без того пришлось бы сойти со сцены: двоемыслие нарождавшегося сталинского режима было, в отличие от Станиславского, не для нее. Она думала о том, чтобы присоединиться к Михаилу Чехову, но «индивидуалистские наклонности» и его ставили в опасное положение, и вскоре он вынужден был бежать в Ригу, затем переехал в Германию, Париж и Англию. Катерина же страстно любила Бориса и уже не помышляла о том, чтобы жить с ним порознь. А кроме того, ей нравилась верховая езда и развлечения на открытом воздухе под Владивостоком, который уже превратился в город со 150-тысячным населением[99]. Тем не менее квартиру в Москве они оставили за собой, ибо часто ездили в столицу: это может служить показателем их высокого положения – даже с учетом нехватки жилья в те годы им это разрешили.
Капиталовложения в Тетюхе поступили от сэра Алфреда Честера Бейти, большого оригинала и урожденного американца. Выучившись в Горной школе Университета Коламбиа, Бейти сперва работал в горнодобывающей империи Гуггенхайма – помогал в разведке, приобретении и разработке золотых, серебряных и медных рудников в Мексике, США и Бельгийском Конго. К 1910 году свою консультационную контору он делил с другим горным инженером по имени Херберт Хувер. Они подружились, и на следующий год вместе совершили поездку на сибирские рудники, где могли встречаться и с Жюлем Бринером. Профессиональное партнерство Хувера и Бейти длилось много лет, пока в 1928-м первого не избрали Президентом США. Когда же Бейти основал новую компанию «Селекшн Траст, Лтд.», первым ее предприятием стала экспедиция за алмазами на Золотом Берегу (ныне Гана) и в Сьерра-Леоне. Вторым – горнорудное предприятие в Тетюхе.
Благодаря напористому управлению Бейти и прилежанию и цепкости Бринера переговоры по устройству концессии заняли менее полугода (за это время команда геологоразведчиков произвела опасную для жизни зимнюю съемку рудников). В мае 1925 года они образовали совместную английскую компанию «Тетюхе Майнинг Корпорейшн» с капиталом 250 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллионов долларов в нынешних деньгах), куда входил и платеж в 150 тысяч фунтов «Бринеру и компании» за передачу ей на 36 лет концессии, уже одобренной советским правительством. Борис был назначен местным директором (среди директоров компании также числился Леонид), а контора Бринеров во Владивостоке значилась уполномоченным торговым агентом, ответственным за приобретение необходимых припасов, наем рабочей силы и технической экспертизы. Юристом компании был Александр Остроумов, муж самой младшей сестры Бориса Нины.
Год спустя, в мае 1926-го, рудник заработал вновь: после более чем десяти лет упадка сыновья Жюля восстановили его творение. По Видеру, новая компания
…перестроила старые мощности, установила новую дробилку, электростанцию и свинцовоплавильный завод, значительно расширила подземные выработки, обновила железную дорогу и ввела множество технических новшеств при участии более чем двадцати британских, американских и немецких инженеров, приехавших сюда (многие вместе с женами и иждивенцами), и с использованием постоянного штата рабочих численностью от тысячи до 2400, состоявшего из китайцев (из Монголии и Маньчжурии), русских и корейцев. В июле 1930 года советское правительство выделило предприятию заем в два миллиона рублей – в дополнение к возросшим капиталовложениям из Лондона… К августу 1931 года капитал компании увеличился до 682 тысяч фунтов. Продажи рудных концентратов – за исключением тех, что продавались советскому правительству, – осуществлялись из Лондона; а транспортировка их в Европу, занимавшая три месяца, осуществлялась грузовыми судами, преимущественно британской компании «Глен Лайн».
За первые 15 месяцев работы[100] рудники Тетюхе продали руды на 107 тысяч фунтов стерлингов; к 1930 году продажи утроились, достигши 136 300 тонн дробленой руды.
«Борис проводил много времени на рудниках и пристально интересовался как техническими, так и административными делами, – писал Кидд, работавший с Борисом в 1930-х. – Неудивительно, что на это косились генеральные управляющие, чувствовавшие, что тем самым он подрывает их авторитет. Он довольно часто посещал заседания совета директоров в Лондоне и из России вел обширную переписку с Лондоном»[101].
Очевидно, Борис и Катерина подолгу проводили в разъездах – в основном по Транссибу. До Лондона – еще несколько дней пути, в зависимости от времени года и выбранного маршрута. Между Тетюхе, Владивостоком, Сидеми, Москвой и Лондоном, с заездами в континентальную Европу, Шанхай и Харбин пара в первые годы своего брака редко задерживалась где-либо дольше недели. Каковы бы ни были их планы, во Владивостоке они оказывались лишь для торопливых деловых встреч, поэтому времени на детей либо оставалось мало, либо не было совсем. Многие запланированные свидания в последнюю минуту откладывались или же просто забывались.
К собственному полувековому юбилею в 1929 году Сталин успешно консолидировал всю власть в стране в своих руках. В 1928-м, с началом первой пятилетки Сталин взялся и за реорганизацию всего сельского хозяйства путем коллективизации частных хозяйств. Сопротивлявшиеся коллективизации крестьяне вместе с политическими противниками режима отправлялись в трудовые лагеря, например, Колымы и Магадана – в сотнях километров к северу от Владивостока, где каждый год гибло до трети заключенных. За начало 1930-х годов коллективизация унесла миллионы жизней.
Однако «отца народов» большинство населения обожало. По выражению историка Дмитрия Волкогонова: «Величайший парадокс: Сталин совершил много ошибок и тяжких преступлений. Но благодаря созданной им системе они фантастическим образом трансформировались в сознании людей в великие деяния Мессии»[102]. Даже после того, как Сталин отбросил всякую видимость коллективного руководства, социалистическая мечта об эгалитарном обществе продолжала служить удобным камуфляжем всю четверть века его диктатуры. Равенство – это, конечно, хорошо, но некоторые у нас, по выражению Оруэлла, «равнее прочих». Под Сталиным пирамида его дружков разрослась в обширную, упорствующую в своих заблуждениях и зачастую пагубную для самой себя бюрократию (к которой Россия, впрочем, за много веков привыкла). «Репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом наступления»[103], – объявил Сталин на XVI съезде ВКП(б) в 1930 году. Лучше пусть накажут девять невиновных, чем безнаказанным останется один виновный. Меж тем расхищались и терялись критически важные запасы угля, продовольствия и одежды.
Вот в таком политическом климате Борис и Катерина регулярно ездили в Москву. Несмотря на начальный успех рудников, местное политическое и профсоюзное руководство во Владивостоке и Хабаровске создавало неимоверные препоны: управляющих компании беспрестанно третировали, то и дело прекращали производство из-за якобы нарушений постоянно менявшихся правил – а за них управляющих можно было подвергнуть и уголовному преследованию. На собрании совета директоров в Лондоне Бейти объявил, что, хотя он «в полной мере ценит сочувственную поддержку предприятия со стороны центральных властей в Москве, однако вмешательство местных властей и профсоюзных чиновников в дела нашего персонала и рабочих вызывало и продолжает вызывать для нас огромные хлопоты и финансовые потери»[104].
Но теперь, уже при Сталине, «началось движение против иностранных концессий», писал Кидд. Даже после того, как советское правительство выделило компании заем в два миллиона рублей, «отношение центральных властей, похоже, изменилось – они все меньше и меньше стали расположены помогать корпорации». Каждая поездка Бориса в Москву становилась все более нервной и менее продуктивной. А немного погодя он начал понимать, что сталинское правительство устраивает ему обструкцию.
Первой его непреодолимой бедой стала нехватка угля для электростанции, обслуживающей и рудник, и поселок. На выработку достаточного объема пара для производства необходимого электричества требовалось две тысячи тонн высокосортного угля в месяц. Даже если «Бринер и компания» могли политически надавить на угольные копи, по закону компании все равно требовалось перевозить уголь государственным транспортом, а это вело к бессчетным проволочкам и сбоям. Но в попытках остановить отток валюты за рубеж правительство сделало невозможным импортировать уголь. По той же причине китайским и корейским горнякам, составлявшим примерно половину рабочей силы на руднике, внезапно запретили отсылать заработки семьям на родину, и они поэтому ушли. Прогулы в одночасье выросли на 40 %.
«Все время работы не хватало одежды», – писал Кидд, однако британским техническим специалистам «ограничили количество одежды, которую они могут ввезти в Советский Союз – любые ее избытки могли конфисковаться таможней». К тому же, с первой пятилеткой опять ввели карточную систему, а крестьяне по всей стране предпочитали забивать свой скот, а не отдавать его в коллективное пользование.
К 1927 году цены на цинк и свинец на мировом рынке упали в два раза в результате перепроизводства; два года спустя обрушился Уолл-стрит, и цены опять вдвое сократились. В 1930 году выпуск продукции в Тетюхе на самом деле вырос вдвое, но с падением цен доходы не изменились. Наконец повсюду сказалась и Великая депрессия. 31 мая 1931 года опубликованные отчеты «Тетюхе Майнинг Корпорейшн» показали банковское сальдо в один фунт, двенадцать шиллингов и шесть пенсов. В действительности, долг компании составлял 222 тысячи фунтов стерлингов. Честер Бейти перекрыл кран и принялся за ликвидацию компании – возращением бринеровских рудников государству. «СССР согласился на компенсацию в 932 тысячи фунтов стерлингов, – писал Видер, – растянув ее на 18 лет». Советы, докладывал Бейти на общем собрании компании, «на переговорах вели себя очень честно, равно как и в выполнении детализированных платежей». А в письмах в лондонскую «Таймз» британский юрист компании отрицал, что советское правительство вынудило компанию бросить эту концессию[105]. Покладистость сталинского правительства могла быть вызвана и фактом, что Бейти некогда был коллегой действующего президента США Херберта Хувера.
Положение же Бринеров было не столь определенным. С точки зрения советского правительства, писал Видер,
…Борис был русским горным инженером, говорящим по-русски и прожившим всю жизнь в России; но, как и его отец, он к тому же был изобретательным предпринимателем, который не раз доказывал, что способен работать в советской системе, причем в последний раз – добившись от советского правительства займа в два миллиона рублей… Почти тридцать лет «Бринер и Ко.» вновь и вновь успешно взаимодействовали с царскими, белыми, красными и советскими властями относительно рудников в Тетюхе – на своих условиях. Больше того, «Бринеру и Ко.» под досоветской властью не трудно было выступать с позиций патриотов-первопроходцев: они-де создали и поддерживают рудники в Тетюхе ради общего блага, – поскольку широко признавалось, что так оно и есть.
Но без рудников Бринеры были не нужны. В качестве «квалифицированного буржуазного специалиста» Борису разрешалось выезжать по делам за границу; однако правила в сталинской России менялись так быстро, что какие бы привилегии ни перепадали семье, их могли отменить в мгновение ока, за чем последовали бы арест и ссылка. Транссибирская железная дорога, ранее работавшая на доставку оружия, затем служившая артерией революции, теперь представляла собой путь в один конец – тюремный конвой в ГУЛАГ.
За те семь лет, что миновали с развода Бориса и Маруси, семья Бринеров тоже преобразилась. В 1927-м Маруся и ее семья переехали в Харбин – всего в семистах километрах от Владивостока вглубь континента. В этом городе, возведенном русскими при строительстве Китайско-Восточной железной дороги, имелись хорошие русские школы, а также – контора компании Бринеров. Маруся поселилась на новом месте с одиннадцатилетней Верой и семилетним Юлом; Феликс остался с женой и дочерью во Владивостоке, но жить всем стало легче, когда за год до этого в свои 59 лет скончалась Наталья.
Весной 1931 года рудник закрылся, и ситуация для остававшейся в Советском Союзе семьи стала угрожающей. Как впоследствии писал Леонид Бринер:
Отношение Советов во Владивостоке к деловым людям вообще сильно переменилось и стало агрессивнее, чем прежде. Чувствуя такую перемену на собственной шкуре и прожив там девять лет в нервном напряжении ввиду постоянных репрессалий и арестов людей, принадлежащих к интеллектуальному и «зажиточному» сословию, мой брат Феликс вынужден был бежать из Владивостока как можно скорее, пока я был в деловой командировке в Маньчжурии… Советские власти неизменно отказывали ему в свободе покидать страну по его желанию, отчего у него сложилось впечатление, что советские власти держат его на положении заложника[106].
Феликс тщательно подготовил тайный план побега семьи на свободу, не подводя под удар своих коллег по работе. Тайная полиция подозревала, что Бринеры готовятся к побегу, и поручила соседям следить за их квартирой. Но их повар нашел китайского лодочника, согласившегося довезти всех до британского судна. 31 мая 1931 года Феликс, его жена Вера и тринадцатилетняя дочь Ирина тихонько покинули квартиру в пять часов утра, бросив все свое имущество. В густом тумане на лодке они вышли из бухты Золотой Рог вместе с сестрой Феликса Ниной, ее мужем Шурой Остроумовым и их детьми. На Русском острове они встретили крестьянина, пожелавшего продать им козу – ну, или такова была легенда для их выезда. Уплатив этому человеку и пообещав вернуться за козой на обратном пути, они вновь вышли в море. Впоследствии Ирина писала:
Волны здесь были выше, ветер – крепче… Ждали мы часов пять или больше, пока не стали опасаться, что с борта нас не заметили в густом тумане… Наконец мы услышали низкий пароходный гудок… Но в тот же миг из тумана выступил огромный величественный корабль, как славное виденье… Потом мы выяснили, почему задержалось судно. ГПУ было так уверено, что папа будет на нем бежать, что искали его везде, даже в двойном трюме[107].
Судно называлось «Гленифер» и принадлежало «Глен Лайн» – компании, чьи суда бороздили моря от Тетюхе до Европы, перевозя цинковую руду «Бринера и Ко.». Его капитан – Бейкер – подготовил письменное признание, что в случае ареста судна всю ответственность за перевозку беглецов он берет на себя, а его экипаж здесь ни при чем.
Судно высадило их в китайском порту Циндао. Оттуда Феликс перевез семью в Дайрэн (Дальний) – торговый порт поблизости от Порт-Артура, где его руководства ждала контора Бринеров. Они избавились от всех русских документов и зарегистрировались у китайских властей по своим швейцарским паспортам. Со флагштока у дома Бринеров в последний раз был спущен флаг с серпом и молотом, и там подняли другой, с белым крестом на красном поле, флаг Швейцарии.
Борис и Катерина теперь оставались последними Бринерами в Советском Союзе – и небезосновательно тревожились за собственную безопасность. «Еще в Москве, – писал Кидд, – Борис узнал, что, если он вернется во Владивосток, его жизни будет угрожать опасность»[108]. В июле 1931 года до них дошло известие, что Феликс с семьей благополучно добрались до Китая, и они, как и планировалось, чтобы не возбуждать подозрений, сели на транссибирский экспресс. Но в Иркутске тайно сошли с поезда и пересели на другой – до Харбина.
Контора Бринеров во Владивостоке прекратила свое существование, а в доме Бринеров на Алеутской разместилась типография компартии. Борису требовалось завершить дела в Лондоне, чтобы Бринеры и дальше ежегодно получали существенные выплаты за рудники. В конце 1931 года Борис и Катерина пересекли Тихий океан и Соединенные Штаты – прямо посреди Великой депрессии – и отплыли в Англию.
Пройдет более полувека, прежде чем кто-то из Бринеров вновь ступит на русскую землю.
• 12 •
Как миллионы других русских, Бринеры стали беженцами; но, в отличие от почти всех них, у Бринеров на руках были швейцарские паспорта, а также – успешный импортно-экспортный бизнес с отделениями по всему Дальнему Востоку. Он, конечно, не имел никакого отношения к горному делу – единственной специальности Бориса; к тому же, если бы Бринеры попали в лапы Советам, их швейцарские паспорта не стоили бы и ломаного гроша. Но и в самой гуще сталинского террора Борису, можно сказать, сильно повезло по сравнению с другими русскими, пусть он уже и не был «князем Приморья».
Борис и Катерина прожили в Лондоне год – наезжали в Нормандию и странствовали по Франции, присматриваясь и прицениваясь. На дальнейшие платежи советского правительства Бринерам за Тетюхинские рудники, конечно, полагаться не следовало. Что же касается другой работы, в 1931 году горнорудная промышленность хромала по всему миру – цены обрушились, в промышленности вообще упадок, к тому же Депрессия. Опыт свой Борис приобрел всего на одном месторождении цинка, свинца и серебра, поэтому маловероятно, чтобы ему удалось найти стабильную должность консультанта: и угля нехватка, и рынок слабый.
Борис отлично знал, что братьям срочно нужна его помощь в делах «Бринера и компании». Учитывая переполох на мировом рынке и новые опасения в торговле у стран, граничащих с советским Дальним Востоком, им ежедневно приходилось принимать массу решений, только чтобы удержать дело на плаву. Феликс к этому времени уже управлял конторой в Дайрэне, а Леонид был откомандирован в Шанхай. Борис и Катерина решили осесть в Харбине и в 1932 году там и обосновались.
Выстроенный практически на пустом месте русскими в 1898 году, Харбин создавался по распоряжению российского министра финансов Сергея Витте при прокладке принадлежавшей России Китайско-Восточной железной дороги. К 1922 году его население составляло полмиллиона жителей, четверть из них – русские. Общественная жизнь города преимущественно сосредоточивалась вокруг внушительного деревянного православного храма в центре зажиточного Нового города.
Именно в этом квартале Маруся и поселилась с Верой и Юлом после того, как они бежали в 1927 году из Владивостока. Но приезд сюда же Бориса и Катерины был для нее чересчур. Кроме того, опять поговаривали о войне; Маруся же была слишком хрупка – и физически, и эмоционально, – чтобы переживать еще одну военную оккупацию. Вскоре после приезда Бориса Маруся с двумя детьми (и швейцарскими паспортами) поехали по КВЖД в Дайрэн навестить Феликса и свою сестру. А там сели на судно, отходившее в Гавр, и через Суэцкий канал добрались до Европы. Из Гавра они переехали в Париж.
Однако в сентябре 1931 года, когда Борис и Катерина только готовились переезжать в Маньчжурию, к такому же ходу готовилась и Япония. Она быстро перехватила контроль этих территорий у Китая и России. Японские провокаторы в маньчжурском городе Мукдене (Шэньяне), что располагался не так уж далеко от корейской реки Ялу, спровоцировали «инцидент» для оправдания широкого ввода своих войск на территорию. В феврале 1932 года японцы вошли в Харбин, где их приветствовали ликующие толпы русских белоэмигрантов: японское присутствие служило гарантией тому, что в ближайшее время советские войска сюда не сунутся. На самом же деле, когда японцы захватывали Мукден, советский военный флот на Тихом океане мог выставить против них лишь несколько древних ржавых корыт.
«Чтобы прикрыть плоды агрессии фиговым листком легитимности, – писал Стивен, – Япония создала марионеточное государство Маньчжоу-го с последним монархом маньчжурской династии во главе»[109]. Стало быть, когда в Харбин собрались Борис и Катерина, ехали они как швейцарская семейная пара в русский город независимой маньчжурский империи на территории Китая, ныне оккупированной японцами. Для них это был лучший вариант; кроме того, у Бориса имелись обязательства перед «Бринером и Ко.».
Вот так в 1932 году Борис и его жена продолжили одиссею Бринеров – из Англии через Францию, где провели неделю в Довиле с шестнадцатилетней Верой и двенадцатилетним Юлом, а оттуда – на восток, через Австрию, Венгрию и Румынию, а там сели на пароход до Порт-Артура в «Империи Маньчжоу-го».
Хоть им с женой и повезло выбраться из Советского Союза, Борис не был приспособлен к жизни беженца. Теперь им с Катериной довольно было осесть где-то и жить дальше. К 1932 году они вместе уже прожили девять лет нескончаемых бурь – причем некоторые подняли сами, – но оставались неоспоримо и страстно влюблены друг в друга, и теперь, когда им выпала возможность осесть на одном месте, Катерине очень захотелось ребенка. Борис желал того же, невзирая на двоих детей во Франции. В их разлуке нельзя было винить его одного – он же только что сам переехал в город, где жили его дети, однако его и Катино присутствие в этом городе оказалось невозможным для Маруси. Это и, конечно, японская оккупация.
После большевистской революции население Харбина увеличилось от потока русских беженцев, которые старались хранить традиции, а равно и поддерживать заблуждение, что коммунизм минует, как мода, и Имперская Россия восстановится. «Как отрезанная ткань, сохранившаяся в формальдегиде еще долго после гибели тела, – цинично писал Стивен, – харбинские эмигранты упорствовали, словно жизнеподобный фрагмент дореволюционной эпохи»[110]. В кафе и клубах Харбина вспыхивали споры между сторонниками ветхих дядьев Николая II, рвавшихся к трону давно почившей империи. И повсюду на Дальнем Востоке утратившие смысл жизни семьи казаков, некогда царской конницы, теперь основывали унылые станицы в медвежьих углах, как отбившиеся от отары овцы.
«Бринер и компания» продолжали процветать, выполняя договоры на экспорт и импорт, заключенные с крупными промышленными предприятиями. Несмотря на общий спад 1930-х годов, вызвавший колебания спроса, изменения цен на топливо, обменных курсов валют и прочих переменных, это десятилетие стало для семьи периодом относительного спокойствия.
Чтобы развеяться, Борис выезжал на своей крупной черной кобыле Венере в пригороды Харбина. Ездил с друзьями на утиную и фазанью охоту и брал с собой двух своих собак – черного лабрадора по кличке Тайги и рыжего сеттера Яна (у Катерины был свой керн-терьер по имени Седка). Немного погодя Борис купил и моторный катер в расчете на всю семью, на котором они ходили по реке Сунгари.
В Харбин неизменно заезжали все крупные театральные труппы из Европы, гастролировавшие в Китае, – этот город теперь соперничал с Владивостоком и по своему статусу, и по размерам. Но хотя расстояние между ними было не так уж велико, уже опустился «железный занавес» – за десять лет до того, как Чёрчилл якобы применил этот оборот[111]. Катерина организовала в Харбине драмкружок с молодыми актерами и регулярно ставила на сцене Шекспира и Диккенса, а также устраивала особые представления, когда на Дальний Восток приезжали друзья из Москвы. В Харбине проездом побывал самый знаменитый русский оперный исполнитель того времени Федор Шаляпин – и навестил Бринеров: они были знакомы с Катериной с тех пор, как он работал вместе со Станиславским над усовершенствованием актерских приемов; как известно, Станиславский больше восхищался его исполнительским мастерством, чем вокалом.
Бринеры возобновили и старую дружбу с семейством Янковских с Сидеми. «Величайший в Азии охотник на тигров» Юрий Янковский, сын польского патриарха, десятком лет раньше, когда вокруг Сидеми смыкалось большевистское кольцо, принял дерзкое решение. Спустя 80 лет его сын Валерий так описал это путешествие:
Ранней осенью мы уплыли в Корею на своем ледокольном катере «Призрак»… Эвакуация осенью 1922 г. началась поздно, в спешке. Катер «Улисс» и автомобиль «форд» оказались брошенными во Владивостоке. Посаженные в клетки олени остались на берегу полуострова. В результате в распоряжении семьи оказались: небольшой участок на холме маленького корейского порта Сейсин с двумя фанзами и площадка на песчаном пустыре за городом под конюшни. Зато к семидесяти добровольным беженцам прибавилось еще шестьдесят любимых кровных скакунов и рысаков, которых, будучи не в силах с ними расстаться, он [отец] угнал своим ходом через границу в окружении охранников полуострова[112].
Янковские со своим движимым имуществом медленно проплыли из Сидеми вдоль побережья – 90 километров, пока не вышли из русских территориальных вод. Потом так же дошли и до Чхонджина. Со временем Юрий и его жена Дейзи – кузина Катерины Бринер, впервые ее с Борисом и познакомившая, – приобрели участок в горах Кореи, где опять начали держать лошадей и оленей. Но у Юрия Янковского на уме было и кое-что пограндиознее.
Янковские создали охотничий курорт, который назвали «Новина» – в честь своего родового гнезда в Польше: он соединял в себе архитектурные и пасторальные черты их поместья в Сидеми. «Там были яблоневые и грушевые сады, огороды с овощами и медовые ульи, – писал историк Доналд Кларк, – а горные леса в изобилии предоставляли оленину, кабанятину и фазанов. По вечерам в Новине устраивались ужины человек на двадцать, которые все собирались за одним столом, после еды пили водку и рассказывали истории у очага»[113]. Следующие двадцать лет сотни русских гостей останавливались в доме округлых форм и ходили охотиться на дикого зверя со знаменитым траппером. Из Харбина, где было гораздо жарче, почти каждое лето на морскую часть курорта Янковских – в «Лукоморье» – приезжали Борис и Катерина. Вместе с другими гостями из интеллигенции Катерина ставила пьесы и устраивала чтения. Однажды зимой, когда в гости из Парижа приехал восемнадцатилетний Юл, они вместе отправились в Новину на неделю – поохотиться с Юрием Янковским.
В те времена жизнь Катерины и Бориса была счастлива и относительно стабильна. Борис доказал предпринимателям региона, что он ценный союзник, начал консультировать местные горнодобывающие предприятия, а затем открыл свою строительную фирму, которая работала в тесной сцепке с «Бринером и компанией», импортировавшей лес и прочие стройматериалы. К этому времени Леонид расширил деятельность шанхайского агентства, и работа в импозантном здании № 18 на Бунде шла гладко. То был тот же портовый район, где в 1860-х в юности Жюль торговал шелком.
У Феликса в Дайрэне дела тоже шли хорошо. С самого начала 1930-х годов у него там была еще одна работа – консульский агент Швейцарского МИДа: в Берне Феликса попросили осуществлять содействие швейцарским гостям в регионе Порт-Артура – Дайрэна. Вскоре и Бориса назначили консульским агентом для харбинского региона – несмотря на то, что он никогда не жил в Швейцарии и уж подавно не имел дипломатической подготовки. Однако поскольку в Маньчжоу-го заезжало мало швейцарцев, за исключением самих Бринеров, братьев консульские обязанности не тяготили, зато впоследствии эта дипломатическая работа спасет Борису жизнь.
Несмотря на совместное счастье Катерины и Бориса, их бездетные годы были источником глубокого разочарования. И это, и жизнь беженцев отразились на сердце Бориса: у него начались болезненные приступы стенокардии. Однако в 1938 году Катерина наконец забеременела. Ей исполнилось 43 года, и, казалось, это ее последний шанс, но беременность оказалась сложной. Она уже наняла себе в помощь няньку по имени Наденька. Носила она мальчиков-двойняшек – и выносила. Однако родились они мертвыми.
Это Катерину опустошило. Удар оказался еще сильнее оттого, что ей сказали: детей рожать она больше сможет.
Через несколько недель Борис и Катерина взяли себе в Харбине девочку и назвали ее тоже Катериной. Мало известно о ее происхождении, кроме даты рождения – 18 декабря 1938 года, – однако, похоже, родилась она у швейцарской женщины. Бринеры решили никогда не сообщать младшей Катерине о том, что ее удочерили. Лишь несколько человек знали, что Катерина ее не рожала, а поскольку беременна она была, неожиданностью ни для кого это не стало.
Через девять месяцев после рождения Катерины Гитлер вторгся в Польшу. Началась Вторая мировая война, и мало кто сомневался, что нацистская армия вскоре захватит Францию, где с Марусей жили Вера и Юл.
Бойкая 22-летняя дочь Бориса Вера вышла замуж за русского пианиста Валентина Павловского, постоянного аккомпаниатора известного виолончелиста Григория Пятигорского, который в 1921 году покинул родину. Теперь Пятигорский переезжал из Парижа в Соединенные Штаты, и его аккомпаниатор – с ним вместе. За мужем в Штаты поехала и Вера.
Юл, которому тогда исполнилось 19, в Париже чувствовал себя как дома, Маруся – тоже. Но примерно в то время ей поставили диагноз: лейкемия. С неизбежным вторжением Гитлера во Францию Бринеры опять стали беженцами. Юл морем отвез свою хрупкую мать в Дайрэн; по пути иногда приходилось переносить ее на руках. Там за Марусей могла бы ухаживать ее любимая и любящая сестра.
Год, который Маруся и Юл провели на Дальнем Востоке, дал Борису возможность больше общаться с сыном. Юл приезжал к нему в Харбин, вместе они бывали в Шанхае, Пекине и Новине, в гостях у Янковских. Юлу по-настоящему нравилась мачеха, и это причиняло его матери дополнительную боль, а его интерес к актерской профессии ее даже злил. Борис, однако, злился больше: он рассчитывал, что сын продолжит его дело в «Бринере и Ко.», а со временем, возможно, и возглавит компанию. В какой-то момент Борис пригласил Юла в Шанхай, но, когда тот приехал, его отец уже покинул город. Хотя за много лет таких несостоявшихся встреч отца и сына накопилось немало, именно тот случай разбил Юлу сердце. За эту невстречу отца он так и не простил – и хорошенько постарался, чтобы Борис это понял.
Вскоре Юл увез нездоровую Марусю в Нью-Йорк, где за ней ухаживала его сестра, а через два года, 4 февраля 1943-го, мать скончалась. Почти всю свою взрослую жизнь Маруся была очень несчастна. Прах ее захоронен в Нью-Йорке, очень далеко от Владивостока.
Борис и Катерина же оставались верны Харбину; а с учетом хаоса, что воцарился во всем мире, тот уголок был вполне безопасным прибежищем – при условии, что его контролировала Япония. Кроме того, дела по-прежнему требовали присутствия Бориса здесь. Маленькая Катерина в детстве переболела менингитом, затем пережила туберкулез. Тем не менее она росла вполне счастливым ребенком, не обделенным родительской любовью. Почти все время проводила со своим спаниелем Молли – или в огромном кукольном домике, который Борис выстроил ей в саду: она могла свободно перемещаться внутри и развлекать множество своих кукол.
Феликс уже какое-то время был полноправным швейцарским консулом в регионе, а также исполнял обязанности консула Франции и Швеции. (Леонид ранее исполнял консульские обязанности во Владивостоке, а Борис – в Харбине). После японской атаки на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года швейцарское правительство немедленно обязало его защищать интересы граждан Великобритании и Соединенных Штатов – и помогать в их эвакуации из региона, раз теперь они считались врагами Японии. Давно установленная нейтральность Швейцарии в международных вопросах сообщала ей уникальный престиж в глазах тех, кто искал убежища. Теперь Феликс был единственным дипломатическим представителем пяти западных держав в этом регионе – огромная ответственность для предпринимателя, родившегося в России. В конце мая 1942 года, сопроводив сотрудников американского и британского консульств на судно, Феликс пожаловался на острую боль в груди; на следующее утро, несмотря на попытки Веры и Ирины спасти его, сердце у него остановилось.
Младшего сына Жюля Бринера похоронили у православной церкви Дайрэна. Его вдова и дочь поехали в Харбин, к младшей дочери Жюля Нине и ее мужу Александру Остроумову, давнему юристу «Бринера и компании». Остроумов быстро взял в свои руки все их дела, включая и сумму в 20 тысяч долларов, которую Феликс оставил семье в шанхайском банке.
С каждой жестокой битвой, которую США выигрывали у Японии на Тихом океане, японские оккупационные силы в Маньчжурии все больше угрожали иностранным резидентам. К 1944 году союзники – СССР и США – начали смыкаться на Японии, и жизнь в оккупированном Харбине стала непереносима. Ради собственной безопасности Бринеры решили переехать в Тяньцзинь, где прожили год, подолгу бывая в Пекине. К августу 1945-го, когда американцы сбросили на Японию атомные бомбы, армия Сталина изготовилась к захвату Маньчжурии, где по-прежнему жили Борис и обе Катерины.
• 13 •
«Вторжение советской армии в Харбин в 1945 году, – писала Кэтрин Бринер более шестидесяти лет спустя, – ознаменовалось минометным и автоматным огнем, весь город осветился ракетами. Помню, я была в саду и съежилась под деревом с Наденькой, мы смотрели на зарево в небе. Мы боялись, что наш дом разбомбят»[114].
Вслед за этим раздался звук, которого Борис очень боялся с самой большевистской революции почти тридцатью годами раньше, – грохот советских сапог у дверей своего дома. 13 сентября 1945 года, вспоминала Кэтрин, «я была у себя в детской, и мама мне сказала, что к нам пришли важные советские офицеры и поместили всех нас под домашний арест. Это произошло со всеми европейско-русскими гражданами Харбина. Офицеры потом сказали маме, что ее вместе со мной репатриируют в Россию, и она сможет вернуться в Московский художественный театр». То, что власти настолько хорошо осведомлены об их семейных делах, ничуть не утешало. Катерина, «услышав это, пришла в ужас».
«Советские допрашивали моих мать и отца много раз, и всегда – посреди ночи, – продолжала Кэтрин. – Папу обвиняли в сотрудничестве с японцами. Он отвечал, что никогда этого не делал, потому что во Второй мировой швейцарцы поддерживали нейтралитет». Но советские, разумеется, не признавали, что Борис – гражданин Швейцарии, тем паче – дипломат; для них важнее было его прошлое русского промышленника. Да и как ни посмотри, многие официальные дипломаты на самом деле были шпионами.
Бринеров продержали под домашним арестом в Харбине три месяца. Кэтрин так описывала происходившее далее:
В канун Нового года, глухой ночью за нами пришли и отвезли на аэродром, где нас ждал самолет. Не помню, чтобы с нами летел кто-то еще, кроме русских военных. Мы сели – а был жуткий холод – и полетели в Россию. Офицеры угощали нас шампанским, поскольку был Новый год, и по радио у них играла «Катюша».
Мы не знали, куда летим, но это было где-то под Владивостоком. Нас привезли в лагерь беженцев, где было много палаток и людей. Там мы пробыли дня два. Было очень холодно. Мне только исполнилось семь лет. Через два дня нас перевезли в отдельный дом в деревне под названием Ворошилов [Уссурийск]. Родителям сказали, что мы здесь немного поживем, а для того, чтобы освободить нам это место, казнили какого-то японского адмирала. В доме было две спальни, нам выделили одну, а кухарка – она была из МВД, как и наш сторож, – расположилась в другой. Еще нас охраняли два солдата с полуавтоматическими винтовками. Ванной в доме не было, нам разрешили помыться всего раз в местной бане месяца через три, когда объявили, что нас везут в Москву.
Пока мы там жили, еды было очень мало. Приходилось рыться в огороде у дома – искать мерзлую картошку и капустные кочерыжки, из которых «кухарка» варила суп. Нам давали черный хлеб, на вкус – как будто с опилками, и он был ужасен. В кухне стояла дровяная печь, в гостиную она выходила тоже, и если она гасла, становилось очень холодно. За все это время мы получили одну посылку Красного Креста, это было чудесно.
Князь Приморья оказался не в силах помочь своей семье. Им оставалось лишь попытаться не умереть.
А в Шанхае Леонид все силы прилагал к тому, чтобы спасти брата, отлично зная при этом, что многие пленники на Дальнем Востоке оказывались на Колыме, откуда мало кто возвращался. 2 ноября он написал генеральному консулу Швейцарии в Китае, также работавшему в Шанхае, относительно «насильственного похищения моего брата Бориса Бринера из Харбина в СССР»[115]. Леонид вкратце изложил всю семейную историю Бринеров за те годы, что предшествовали «оккупации Русского Дальнего Востока большевиками»; само это слово – «оккупация» – четверть века спустя после события показывало непримиримое презрение Леонида к революции. «Не могу привести ни единой обиды, которую советские власти могли бы таить на моего брата Бориса, кроме одной, – писал он, – а именно: что он остался за границей, а не вернулся во Владивосток в 1931 году», т. е. 14 лет назад. В то же время Леонид много писал в Швейцарский МИД в Берн, прося о помощи правительство той страны, которую Жюль покинул больше 80 лет назад. «Нас всегда считали швейцарцами по рождению, – писал он, – и мы по-прежнему швейцарские граждане».
В марте 1946 года Бринеров привезли на вокзал во Владивосток и посадили на Транссибирский экспресс, проходивший мимо их отчего дома, – но теперь советскими заключенными. «Теперь за нами приглядывали два советских офицера, – писала Кэтрин. – В поезде было полно военных, и я помню, что солдаты, а однажды даже генерал, были ко мне очень добры и угощали конфетами и пирожными. В поезде еда была хорошая после той, какой мы питались».
По-прежнему было неясно, что с ними происходит. Советские аппаратчики продолжали не признавать швейцарского гражданства Бринеров, и Борис понимал: Советы считают, что отмахнуться от этого принципа невозможно. Поэтому он опасался худших из возможных видов допроса, что ожидали бы их в Москве: для них с Катериной это могло означать и то, что им придется смотреть, как пытают их дочь, – подобная практика была распространена. Но вместо всего этого по прибытии в столицу к ним отнеслись как к «почетным гостям» Советского Союза и сопроводили в одну из лучших московских гостиниц – «Савой».
И лишь когда Борис встретился с послом Швейцарии, что-то прояснилось. Швейцарскому правительству не удалось убедить советские власти, что Борис Бринер имеет право на дипломатический иммунитет, поэтому оно предложило обменять на семью шестерых частных советских граждан и военного летчика, содержавшихся в швейцарских тюрьмах[116]. Как только обмен состоялся, Борис, Катерина и Катерина-младшая «репатриировались» в Швейцарию, на незнакомую им родину.
Из Москвы в Берлин они выехали на автобусе – Советы отменили все пассажирские поезда в Европу на неопределенное время. «Помню наш приезд в Берлин, – писала Кэтрин. – Дело происходило ночью, и он весь был как город-призрак. Всё в руинах и черным-черно, лишь кое-где горели свечи в остовах домов – среди обрушившихся стен, без крыш, прямо под небом». Разгромленный город уже поделили на сектора, контролируемые Соединенными Штатами, Советским Союзом, Великобританией и Францией. Бринеров выпустили на единственном контрольно-пропускном пункте, разрешенном из советского сектора, – впоследствии он получил название «КПП Чарли».
Бринеры пробыли пленниками Советского Союза полгода: их допрашивали, им угрожали, они голодали. Почти все это время Борис и Катерина не рассчитывали, что выберутся из этой переделки живыми – многие в подобных обстоятельствах и не выживали. Облегчение, какое они испытали по освобождении, должно быть, невозможно и вообразить. Трудами Леонида его брат спасся от верной смерти – а также огромными дипломатическими усилиями правительства Швейцарии, которые покоились исключительно на швейцарском гражданстве, унаследованном Борисом от Жюля Бринера.
В то время как раз становились известны масштабы холокоста, хотя в прессе об этом широко еще не говорили. В Берлине, писала Кэтрин, «к папе приходили журналисты и показывали ему кошмарные фотографии уничтожения евреев, которые требовалось перевезти в Швейцарию, чтобы немецкие зверства стали известны».
В Берне Борис прошел дебрифинг в Министерстве иностранных дел – в правительственном агентстве, учрежденном в целях обмена пленными. У маленькой Катерины обострился туберкулез, и ее отправили в санаторий в Локарно; а через несколько месяцев вся семья выехала в Англию, где в Саррее сестра Катерины-старшей с помощью Бориса купила дом и открыла ресторан.
Борису же не терпелось вернуться в Шанхай, где вся ответственность за «Бринера и компанию» уже очень долго лежала на плечах Леонида. Поэтому теперь западным, а не восточным, транссибирским путем в начале 1947 года Борис повез семью в США. Там состоялась их поразительная встреча с Юлом и Верой – проведя в Нью-Йорке всего несколько лет, они добились осуществления всех своих мечтаний.
Только нынче и Юл, и его сестра добавили к фамилии «Бринер» одну букву «н», чтобы избежать неверного произнесения «Брайнер». 26-летний Юл, едва овладев английским, уже играл на Бродвее в «Песни лютни» и гастролировал с этой постановкой по Штатам. Борис познакомился с супругой Юла, на которой тот женился двумя годами ранее, молодой кинозвездой Вирджинией Гилмор, и побывал у них дома в крохотной квартирке над химчисткой на Восточной 38-й улице. Там Борис провел день с Вирджинией и их четырехмесячным младенцем. Внука Бориса, как и сына, назвали в честь деда Жюлем (Юлием). Впоследствии Юл Бриннер-младший возьмет себе кличку «Роки», а еще позже сократит ее до «Рока». Вирджиния Бориса встретила тепло, но Юл относился к отцу с прохладной корректностью – и продолжал заниматься своими многими делами, не имея возможности или не желая тратить на отца слишком много времени. Но самым поразительным переживанием для Бориса стала встреча с Верой, своей дочерью, которой исполнился 31 год. «Мы отправились слушать Веру в Метрополитэн-Оперу, где она пела в “Мадам Баттерфляй”», – писала Кэтрин. Для Бориса то был наверняка потрясающий вечер! Он не видел Веру лет десять – а теперь смотрел, как она выступает в одной величайших партий сопрано на сцене одного из величайших оперных театров в мире. Борис и сам всегда любил петь, но, когда его взрослые дети предпочли исполнительские карьеры, он лютовал, хоть Катерина их и поощряла. А теперь оба его ребенка стали звездами. Но кроме того, Борис наверняка вспоминал, и что их мать пожертвовала своей певческой и актерской карьерой ради мужа, который ее бросил потом ради актрисы.
И еще одна мысль наверняка мелькала у него, пока он слушал «Мадам Баттерфляй». Эта опера же, по сути, – история западного человека, приехавшего в Японию и женившегося на японской девушке; пережив с нею довольно краткую идиллию, он покидает и ее, и их ребенка. Разумеется, Борису была известна подобная история молодого Жюля в Японии – сходство сюжетов невозможно упустить из виду. И Борис наверняка размышлял, что не поступи его отец так же, как оперный мерзавец, сам он тогда вряд ли родился бы на свет.
Юл в тот вечер тоже был в опере – в «черной казацкой косоворотке и сапогах, – вспоминала Кэтрин. – С собой он принес гитару, ибо в то время он еще и пел в ночных клубах». Как это необъяснимо странно и чудесно, что они собрались все вместе на другой стороне планеты послушать Веру в опере о Японии, и Юл при этом был в костюме тех, кто когда-то патрулировал улицы его родного города.
Даже прощаясь с отцом, Юл был сух. Хоть у них не было никаких конкретных оснований считать, что это станет их последней встречей, ни тот, ни другой и вообразить не могли, когда или где они встретятся вновь.
Из Нью-Йорка Борис и обе Катерины отправились в Пало-Альто, Калифорния. Там они остановились у старшего сына Леонида Кирилла, которого мать, первая жена Леонида, увезла в Сан-Франциско еще в детстве.
Борис, однако, рвался в Шанхай к Леониду – тому не так давно поставили диагноз «рак желудка». «Мама была очень против», – писала Кэтрин, – из-за «сильного предчувствия, что с нами произойдет что-то плохое, и умоляла его не везти нас туда. Но он не желал ее слушать и говорил, что все будет отлично… И так вот мы отплыли в Шанхай».
«Бринер и компания» по-прежнему располагали конторой на Бунде, дом 18. Борис и Катерина сняли квартиру в европейском квартале города, и Кэтрин вспоминала, что «в Шанхае жило много друзей родителей и была большая русская колония».
Всего через несколько месяцев после того, как они там обосновались, Леонид скончался – в свои шестьдесят три. Оставшись последним из братьев Бринеров, Борис знал, что империи с его собственной кончиной настанет конец. С учетом мучительных приступов стенокардии, учащавшихся в жарком и влажном климате Шанхая, требовалось составить какие-то планы на будущее. Хоть его зять Шура Остроумов, тоже живший в Шанхае, был знаком с юридической подоплекой компании, он был юристом и собственно дела вести не умел. Очевидно, и Юл не пожелал бы брать на себя руководство «Бринером и компанией».
Вернувшись однажды из школы, Катерина обнаружила мать в слезах. «В тот день я пришла домой, – писала Кэтрин, – а мама была совершенно расстроена и сказала мне, что папа умер от сердечного приступа». Это случилось 9 июля 1948 года; Борису было 58 лет.
В молодости Борис руководил возведением усыпальницы Бринеров в Сидеми, где рассчитывал когда-либо упокоиться и сам; вместо этого последний свой приют он обрел в Шанхае. Катерина была совершенно безутешна, как и их дочь. «Мы были очень близки, – писала Кэтрин, – а мне даже не довелось с ним попрощаться».
Последний сын Жюля Бринера ушел – ни один из братьев не дожил до 65, – и Шура Остроумов взял на себя всю ответственность за ликвидацию компании; он пообещал выслать долю Бориса из вырученных средств за остатки империи Жюля Бринера Катерине в Англию, куда она увезла дочь к сестре в Саррей.
Как и Жюль, Борис прожил невообразимо полную жизнь, но те обстоятельства, в которых им обоим приходилось существовать, на каждом этапе отличались: Жюль родился в семье прядильщика и ткача, Борис – в семье промышленника. Жюль добился успеха в свободном климате первых лет «Дикого Востока», а Борис всю свою взрослую жизнь боролся с угнетающей диктатурой. Оба оставили свои первые семьи, не успев сделаться преданными мужьями и отцами. И оба родили замечательных сыновей.
Иллюстрации
Борис в кадетской форме во время учебы в Горном институте.
Дети Жюля и Натальи Бринеров, снимок 1897 г.: Маргарита (12 лет), Леонид (13 лет), Нина (3 года), Феликс (6 лет), Мария (4 года) и Борис (8 лет).
Жюль и Наталья вместе с детьми и их няней в Сидеми, 1901 г. Борис, которому исполнилось 12 лет, внизу слева.
Борис отправился учиться в Горный институт, чтобы затем управлять рудниками, основанными его отцом в Тетюхе.
Борис влюбился в Марусю Благовидову, учившуюся тогда в консерватории.
Почти в то же время его брат Феликс влюбился в Марусину сестру Веру. Обе пары после свадеб переехали во Владивосток, где проводили летние месяцы на пляже в Сидеми.
Маруся (слева) училась на певицу (сопрано). Вера стала одной из первых женщин-психологов в России, а кроме того, была признанной концертной пианисткой.
В 1916 году у Маруси и Бориса родился первый ребенок – дочь Вера.
В 1918 году семейство по традиции собралось в Сидеми: Борис и Маруся, Вера и Феликс (с племянником Кириллом). Борис – в свойственной ему позе, которую лет через тридцать у него переймет Юл.
После рождения Юла в 1920 г. Борис почти все время проводил в Москве, договариваясь о возобновлении работ на рудниках в Тетюхе, а Маруся увозила Юла с сестрой на лето в Сидеми.
В гостиной дома Бринеров Маруся и Борис с сыном Леонида Кириллом. Это последняя совместная фотография пары.
Валерий Янковский – сын Юрия, «величайшего в мире охотника на тигров», и внук Михаила, партнера Жюля по Сидеми.
В октябре 1923 года, в первую годовщину воцарения большевистского режима, по улицам Владивостока парадом прошли части Красной армии.
Катя Корнакова была еще подростком, когда уехала из дому, чтобы стать актрисой в Московском художественном театре.
Ее первой крупной работой стало «Село Степанчиково» Достоевского.
А роль Кейт в «Укрощении строптивой» Шекспира стала последней перед отъездом во Владивосток.
Первая страница прощального письма Бориса Марусе, 1923 г.
Борис и Катя почти все время проводили в обществе актеров МХТ (Переславль-Залесский, 1924 г.).
Помимо руководства ЧК, Феликс Дзержинский также отвечал за иностранные концессии. В 1924 году Борис подписал с ним соглашение о возобновлении работ на рудниках Тетюхе. А затем лично руководил восстановлением рудников, стоявших с Первой мировой войны. К 1926 году добыча руды возобновилась.
В 1932 году рудники перешли под управление сталинского режима.
С лиц семьи, оставленной Борисом, печаль не сходила еще много лет, а Маруся и вообще никогда больше не улыбалась. Радость видна на лице Юла, только когда он фотографировался с отцом.
Борис временами навещал Юла (здесь – в Харбине, когда Юлу исполнилось 12 лет), но стоило им с Катей самим переехать в Харбин, Маруся увезла Юла и Веру в Париж.
Летом 1934 года Борис навестил Юла (14 лет) и Веру (18 лет) в Довиле, где Юл летом работал на пляже спасателем.
К своим 15 годам Юл вел самостоятельную жизнь – выступал в цирке и ночных клубах Парижа, а с матерью и сестрой жил только в летние месяцы в Довиле.
В 47 лет Борис управлял конторой Бринеров в Харбине, а также основал строительную компанию.
В 1938 году в Харбине родилась Катерина – дочь Кати и Бориса.
Борис и Катя души не чаяли в дочери. Этот снимок сделан в 1945 году, незадолго до вступления в Харбин советской армии.
В Харбине Борис не оставлял любимых занятий – на своей кобыле Венере, например, выезжал почти каждый день.
Братья Бринеры руководили компанией, основанной их отцом и работавшей по всему Дальнему Востоку. Иногда Борис заезжал в Порт-Артур – здесь он со своей племянницей Ириной, дочерью Феликса.
Приезжая в гости к отцу, Юл катался с ним верхом вдоль Сунгари. До съемок «Великолепной семерки» это был его единственный опыт верховой езды.
Борис в Северной Корее, 1942 г. Валерий Янковский – крайний слева.
Всю свою жизнь Борис был заядлым охотником. Они с Катей до 1945 года часто навещали курорт Янковских в северной Корее.
«Князь Приморья» был не очень готов к трудностям, которые предстояло пережить им с женой после вторжения советской армии, незадолго до которого был сделан этот снимок.
Шанхайский Бунд в 1930-х.
Часть третья
Юл Бриннер
Юл Бриннер, должно быть, безумец, если воображает, что может быть Юлом Бриннером.
Жан Кокто (1956)
• 14 •
Юлий Борисович Бринер родился 11 июля 1920 года в промышленной империи, которая рушилась в хаосе революционной России, добравшемся и до резиденции Бринеров на Алеутской, где интервенты спали в коридоре за дверью той комнаты, где принимали младенца. Когда ему исполнилось три года, бури иной природы дотянулись до его семьи: уход отца неизлечимо повредил матери. А четыре года спустя его семья стала перемещенными лицами, хотя какое-то время и сравнительно благополучными. Тем не менее он рос в окружении любящих его женщин, а помогал им его надежный дядя Феликс. С самых ранних лет Юл привык быть организующим принципом в любой комнате, где есть люди.
Вокруг его колыбели вихрились разные языки: Маруся говорила с Борисом по-русски и по-французски, тот иногда по телефону разговаривал по-английски, а в доме слышалась китайская, корейская, чешская и японская речь, английский же язык звучал там редко. Это многоязыкое общество обязывало всех находить невербальные средства общения с иностранцами. Юл рос – и говорил по-русски со своей сестрой Верой, которой было четыре, когда он родился, и двоюродной сестрой Ириной, которой тогда исполнилось три. Мать его говорила по-русски – хоть и редко после того, как Борис ее оставил: месяцами она лишь стонала и плакала, а после замолчала почти совершенно. Но его тетя Вера, дядя Феликс и бабушка Баега воспитывали в детях черты русской культуры – прямую эмоциональную экспрессивность, к примеру, и безграничное восхищение доминантной вирильностью, смягченные художественной и интеллектуальной восприимчивостью интеллигенции, а также швейцарским вниманием к деталям, которое внушил своим сыновьям Феликсу и Борису их отец Жюль.
Говоря строго, юный Юл родился не в России, а на территории Дальневосточной республики, в которой отец его служил министром промышленности. Тридцать месяцев своего существования республика эта выписывала собственные паспорта, но лишь немногие страны официально признавали ее существование. Единственной данностью было швейцарское гражданство Юла, но его не признавали в России. А окрестили его Юлием.
Юл с самого начала был духом независимым – его в этом поощряла тетка Вера, убежденная вольнодумица. Он был жизнерадостен и проказлив, музыкален и изобретателен, совершенно не терпел авторитетов ни в каким виде: когда бы его ни наказывали, он неизменно давал сдачи. Это бы могло оказаться опасным, скажем, в транссибирском экспрессе, полном советских аппаратчиков.
Даже маленьким он очень любил море и побережье, где вдоль Амурского залива раскинулось поместье Сидеми. Совсем еще младенцем его взяли туда на катере, и первые шесть лет он проводил время на скалистом берегу под домиком, в котором останавливались его родители; там же его дед и бабушка некогда провели свой медовый месяц. Бабушка Юла Наталья так враждебно относилась к его матери, что в главное здание к старухе он заглядывал редко. Вместо этого прыгал с камня на камень и ловил крабов на пляже.
Когда Юлу исполнилось шесть, семья покинула Владивосток, но его любовь к морю и чувство к городу и оживленному порту, перекрестку культур, только что развилось у него в разнообразном мире Владивостока, где улицы полнились всевозможными мундирами, и десяток национальностей сосуществовал во взаимном сотрудничестве и/или безразличии. К тому времени «Кунсту и Альберсу» уже приходилось трудно: компания возникла в 1864 году, всего через четыре года после основания первоначального военно-морского поста, а лет через десять после рождения Юла ее причудливое барочное здание перейдет государственному магазину – ГУМу, где в последующие десятилетия полки часто будут пусты. И большинство других иностранных предприятий вскорости исчезнет при коммунистическом режиме: Национальный городской банк, «Интернэшнл Харвестер», АМХ, «Рыцари Колумба», американский Красный Крест, кафе «Чикаго» и множество европейских фирм сдались под гнетом продажных местных властей.
Юл с ранних лет понимал, что его семья привилегирована, однако ее особое положение быстро портится: дети Бринеров вдруг стали «нежеланными» в школах, потому что были «буржуи». Юл чувствовал напряжение, тревогу и ужас, иногда вызываемые у домашних событиями на улицах, но, кроме того, у него имелась личная связь с целым миром – благодаря железной дороге, проходившей прямо под их домом, что тянулась аж до самой Европы. Как и большинство мальчишек, поезда завораживали его – их звуки и блестящие детали, чистая мощь огромного черного локомотива. Ему всегда хотелось иметь игрушечную железную дорогу – Борис обещал привезти ему такую из Европы, но, очевидно, ни разу не вспоминал о своем обещании, посещая «Хэрродз» в Лондоне; вообще-то советская таможня, скорее всего, конфисковала бы любую подобную диковину.
Подписав с Дзержинским в 1924 году Тетюхинское соглашение, они с Катериной вернулись на Дальний Восток. Проводя больше времени в горняцком поселке в пятистах километрах к северо-востоку, в резиденции Бринеров они бывали наездами, и там их навещали Юл с сестрой. Хотя эмоциональный климат таких свиданий детей с мачехой ничего хорошего не сулил, Юл и Вера обожали Катерину с первой же встречи. Она была оживленна, театральна, умна и очаровательна, и над нею еще витал восторг ее московской театральной карьеры. Катерина казалась им всем, чем не была их унылая раненая мать. И на самом деле эта женщина, сыгравшая главную роль в уничтожении семьи Юла, вдохновила его и на то, чтобы стать актером.
Примерно в то же время Юл в первый из очень многих раз убежал из дому. Его двоюродная сестра Ирина писала:
Тогда же у Юла случилась первая влюбленность. Он был очень недоволен тем, что ему велела делать мама, и объявил, что больше не хочет жить дома, что он любит старшую дочь друзей семьи и желает уйти и жить с ней. Ему было пять лет, ей – уже за двадцать. Маруся сказала:
– Прекрасно, я помогу тебе собрать сумки. – Взяла чемодан, сложила туда пижаму, рубашку и горшок, вынесла к калитке, поцеловала сына на прощанье, закрыла калитку и ушла. До этого момента Юл держался молодцом. Однако в стуке калитки ему, я думаю, послышалось что-то окончательное. Сначала он зримо удивился, затем расплакался. Мать вернулась и спросила, что не так.
– Я хочу домой, она слишком далеко живет, а я проголодался.
Так закончился первый роман Юла[117].
Вскоре после мать и бабушка переправили Юла с сестрой в Харбин, тогда находившийся под контролем китайцев, – подальше от угрозы советского ареста. Их туда перевез Феликс – в дом, который он снял в русском квартале Новый город.
Юл был живым и непослушным мальчишкой, – писала Ирина, – его изобретательным проказам не было числа. На все у него всегда находилось решение. Если ему чего-то хотелось, а мать говорила, что у них нет на это денег, он отвечал:
– Ну так сходи в банк и купи денег.
Он много дрался и с мальчишками, и с девчонками, и учителя постоянно жаловались на него матери. Когда Маруся хотела его наказать, моя мама обычно за него заступалась[118].
Вот так он с раннего детства учился разрабатывать стратегии того, как стравливать различные авторитеты.
Взрослея посреди хаоса военных лет и семейной травмы, с последующим бегством в Китай, Юл вынужден был самими обстоятельствами воспитать в себе внутреннюю систему поддержки – сознательно сконструировать и стать собственным примером для подражания, собственным героем, своим принципом организации.
Шестилетний Юл поселился в Харбине, когда город праздновал свое тридцатилетие. Об уникальности Харбина сочинены многие тома, посвящены они и глубокомысленным дебатам о том, какой преимущественно это город, русский или китайский – как в 1910 году, так и в 1920-м и 1925-м. Посад был основан по распоряжению министра финансов Сергея Витте в 1896 году, чтобы в нем размещались рабочие, строившие Китайско-Восточную железную дорогу, и большинство населения Харбина составляли китайцы и корейцы, однако они контролировали лишь крохотную долю общего благосостояния. В 1920-х годах, по словам Стивена, почти четверть полумиллионного городского населения были русскими. «Харбин оставался крупным центром русской диаспоры до конца 1940-х годов, – писал он. – Преобладали китайцы (300 тысяч), за ними следовали корейцы (34 тыс.) и японцы (5 тыс.). Кроме того, существовали анклавы балтийских немцев, поляков, украинцев, армян, татар, грузин и эстонцев, бежавших от большевиков, а также около 13 тысяч русских евреев – некоторые жили здесь уже долго и стали видными фигурами в деловых, религиозных и ученых кругах Харбина»[119]. На самом деле, с завершением строительства КВЖД Харбин «мог тягаться с Владивостоком за главенство в регионе. И русские, и иностранные фирмы открывали в Маньчжурии свои представительства», и среди них заметными были «Бринер и компания» – со швейцарским флагом над входом.
Школа Ассоциации молодых христиан, куда ходили дети Бринеров, – любимое заведение многих поколений учащихся. Хотя директор ее Хейг по рождению был американцем, занятия вели на русском, программа и методы преподавания копировали с русских гимназий, и начальные классы, которые Юл посещал с 6 до 11 лет, готовили к традиционно русскому дальнейшему обучению. Школа заслужила столь высокую репутацию, что ее выпускников принимали в американские университеты без вступительных экзаменовок.
Занятия в школе АМХ начинались в девять, после получасовой молитвы в актовом зале, и заканчивались в три; после чего Бринеры обедали, и у Юла начинались уроки музыки с тетей Верой (та продолжала изредка давать концерты после своей медицинской карьеры в Москве), а потом следовало делать домашние задания. Они с сестрой – которая разбивала сердца всех мальчиков в Харбинской средней школе – также занимались пением, и вскоре стало ясно, что голоса у обоих исключительные; поскольку и Маруся, и Борис прекрасно пели, музыка в жизни их всех всегда многое значила. Быть может, именно поэтому, когда Юл попросил у отца на свой десятый день рождения гитару, Борис действительно достал для него инструмент, и вскоре Юл сменил клавиши на струны.
В Харбине же Юл впервые всерьез познакомился с театром. Ему исполнилось семь, когда по Дальнему Востоку гастролировала советская оперная труппа с исполнением «Снегурочки» Римского-Корсакова. Одну из главных партий пел знаменитый тенор Лемешев. Юл вернулся с представления домой, пылая взором, – воображение его полностью захватила объединенная мощь хорошо поставленной музыкальной драмы с яркими костюмами, подчеркнутая могучим живым оркестром. Вскоре после, писала Ирина, «однажды у Юла был жар, и он вдруг ни с того ни с сего подскочил на кровати и запел арию из “Снегурочки”: “Постой, постой, Снегурочка”, – после чего снова рухнул на кровать. У него и всю жизнь потом проявлялись эти маленькие актерские черточки»[120]. Это знакомство с исполнительским искусством вскоре упрочится и другими операми, пьесами и балетами, приезжавшими с гастролями из Советского Союза.
Юл к тому времени уже целыми днями вовсю исследовал Харбин весной, иногда прогуливая занятия по музыке и не делая домашнюю работу. Степенное цивилизованное русское сообщество будило в нем не такой интерес, как восточные районы города с их странной едой и базарными запахами, повсеместными в китайских кварталах азартными играми, турнирами го у японцев, да и опиекурильни всегда были где-то рядом.
Опий в Маньчжурии был распространен повсеместно, а настойка его продавалась в аптеках, и взрослые регулярно ее принимали; давали ее и детям – от колик или для улучшения сна. Опиекурильни портили районы, в которых располагались, но все заинтересованные в них выручали крупную прибыль, включая полицию и тех представителей власти, кто брал взятки, то есть все за исключением самих пристрастившихся курильщиков – этим доставались только грезы. Юл не раз пробовал курить опий, и после того, как отступала тошнота, это ему очень нравилось.
В начале 1932 года, когда Юлу исполнилось одиннадцать, по Маньчжурии к Харбину начали двигаться японские войска. Ирина писала:
Помню, среди харбинцев воцарилась паника – после того, как нам сказали, что этой ночью китайские войска уйдут, а в город вступит японская армия. Все боялись, что китайцы будут мародерствовать или нападать на белое население. Некоторые граждане для самозащиты вооружились и завалили окна мешками с песком.
Настала ночь, никто не спал – все наблюдали и ждали. И вот они появились, мы видели из окон. На деревянных повозках, влекомых маленькими лошадками или мулами, китайские солдаты сидели в своих грязных ватниках, испуганные и жалкие. Никто ничего не грабил; им хотелось лишь поскорее сбросить эту армейскую форму и спрятаться от японцев. Нам их было жалко[121].
Такого напряжения Маруся вынести уже не могла, а теперь, когда в Харбин перебрались и Борис с Катериной, «всякий раз, когда ее бывший муж… приезжал повидаться с детьми, для нее это становилось трагедией»[122]. Кроме того, сестра Юла намеревалась продолжать образование в Русской консерватории в Париже: Вере особенно хотелось петь в опере, к чему когда-то готовилась в Санкт-Петербурге и Маруся. Юла тогда запишут в один из прекраснейших традиционных французских пансионов, а Марусе перепадет столько парижского возбуждения, что душа ее, возможно, и пробудится снова. Там же, среди огромной общины русских белоэмигрантов, она, быть может, и отыщет себе новых друзей.
Поэтому осенью Маруся, Вера и Юл отправились по железной дороге в Дайрэн, а оттуда на пароходе – в Шанхай. Тот оказался самым современным и волнующими местом, где Юл доселе бывал: кроме того, этот город любил его отец, и он навсегда сохранит в себе для Юла некоторое очарование. Там они взошли на борт американского океанского лайнера и отправились в шестинедельный круиз до Марселя, с остановками в полудюжине портов по пути: Гонконг, Сайгон, Сингапур, Рангун, Калькутта, Мадрас, Бомбей и, наконец, – через Суэцкий канал в Средиземное море. В каждой гавани они задерживались на день, и Юл исследовал все портовые города, проникался своеобразным их духом, а когда отыскивал опий – покупал его и прятал у себя в гитаре. На переходах же запоем читал Достоевского.
Между русскими и французами издавна существовало культурное родство, хотя эти нации и вели друг против друга войну за войной. Но Париж к концу XIX века стал бесспорной Меккой европейского искусства – в немалой степени благодаря Сезанну, Ренуару и прочим мастерам импрессионизма, – и туда приезжали многие и разные русские художники, среди них – Шагал и Гончарова. Волны русской эмиграции оседали всего в нескольких шагах от русской православной церкви на рю Дарю возле элегантного VIII округа. Друзья семьи нашли им квартиру в нескольких кварталах от церкви на рю Катюлль-Менде, которая и останется их домом почти на все тридцатые годы.
Русские белоэмигранты жили по всему Парижу – от комнатушек горничных на Левом берегу Сены до утонченных салонов искусств и особняков, и многие эти эмигранты преобразовывали всю европейскую культуру. Сергей Дягилев принес в Париж новаторство своего «Русского балета», равно как танцовщики Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Серж Лифарь и другие; но главное – он вывез из России работы Игоря Стравинского, а затем и самого композитора, для которого Париж стал домом между двумя мировыми войнами. «Изумите меня!» – вот знаменитый вызов, брошенный Дягилевым Жану Кокто перед тем, как они начали сотрудничать с Пикассо при постановке балета «Парад». Вызов этот лучше какого бы то ни было девиза выражал самую суть «банкетных лет» культурных экспериментов в концертных залах, галереях, издательствах, театрах и синематографах Парижа в годы юности Юла.
С самого дня их приезда Юл почти не сидел дома: к двенадцати годам он уже был решительно независим. Поначалу его отправили в «Эколь де Рош» в Нормандии – традиционное учебное заведение для мальчиков в духе «старых школьных галстуков»: прекрасные сельские просторы в 180 километрах к северу от Парижа, где предлагался интенсивный летний курс французского для иностранных учащихся. На него и записали Юла. Его французский был по-прежнему ограничен, оставался и сильный славянский акцент, но он быстро выучился говорить по-французски бегло. Как у его отца и деда, у него была исключительная способность к языкам.
С самого начала Юл прилагал очень мало усилий к тому, чтобы соответствовать ожиданиям. В первый же день в школе он ввязался в драку, а потом его регулярно ловили с сигаретами – он курил и отказывался при этом прятаться. В отличие от прочих иностранных землячеств, его необычное происхождение – родившийся в России швейцарский гражданин, воспитанный в Азии, – превратило его в фигуру особую, а тем самым – в мишень для учащихся постарше и поматерее. Но Юл рос в культуре столь хаотической жестокости и насилия, что школьные забияки и представить себе не могли. Его ответ на любое нападение бывал до того свиреп, а презрение к авторитетам до того велико, что он быстро заработал себе у сверстников репутацию хулигана и даже заводилы.
В «Ле Рош» он все лето не продержался, и к осени его записали в парижский лицей Монсей. Их финансовые нужды во Франции удовлетворял Борис, включая обучение Веры в консерватории, где ей обеспечило место ее необычайно округлое сопрано, однако деньги часто запаздывали с приходом, и Маруся, которой больше обратиться было не к кому, вынуждена была просить о финансовой помощи свою сестру и Феликса. Это лишь увеличивало неприязнь Юла к отцу – и к авторитетам вообще. То есть сам авторитет он не оспаривал – он был лишь против того, чтобы тот воздействовал на него. Поэтому, когда ему чем-то не угодил учитель латыни, Юл убедил одноклассников повернуть все парты лицом к задней стене, когда тот войдет в класс. Посещаемость уроков у него была хуже некуда, и вялые попытки Маруси как-то его дисциплинировать оказывались безрезультатны. Учителя же, вместе с тем признавая его одаренность, леность и упрямство, из школы его не исключали, даже когда он прогуливал по многу дней подряд.
Но к тому времени Юл уже нашел для себя мир, которого искал, и ключом к нему стала его гитара.
• 15 •
В русский ресторан на Монмартре, где каждый вечер с цыганскими романсами выступала семья Димитриевичей, Юла впервые привела сестра Вера, которой тогда уже исполнилось семнадцать. Там она как-то раз ужинала с Ростиком Хоффманном – личным секретарем балетного танцора Сержа Лифаря. Вера поболтала с цыганами, которые пригласили ее спеть с ними русскую народную песню. Патриархом труппы был Иван Димитриевич. Его 19-летний сын Алеша с первого взгляда влюбился в Веру и пригласил ее заходить в ресторан еще – уже как свою личную гостью. Она взяла с собою младшего брата; от этого Алеша в восторг не пришел, и они с Юлом по меньшей мере раз серьезно повздорили, прежде чем стали друзьями на всю жизнь.
Юл был на семь лет моложе, но уже гораздо сильнее щуплого цыгана, однако именно с Алешей впервые в жизни у него возникла поистине родственная связь – как со старшим братом, который может показать, как все устроено в жизни, и обучить народным песням. Феликс был единственным мужчиной, с которым Юл общался регулярно, и хотя дядя всегда был человеком ответственным и заботливым, весело с ним не бывало; поэтому товарищество Алеши стало для мальчика новым переживанием.
Клан Димитриевичей принял Юла к себе в кумпанию как родного. Если уж выбирать между цыганами и унылым обществом матери, ответ ясен, и Юл почти все время проводил с Димитриевичами – спал, когда придется, а меж тем учился играть на цыганской семиструнной гитаре и набирал себе репертуар русских народных песен, которые мог бы исполнять с их ансамблем. По большей же части он просто выступал с ними – группой руководил Иван, а Алеша, две его сестры, Маруха и Валентина, и другие родственники пели и играли на разных инструментах. Алеша дал ему полезный совет: «Не пой слишком громко, Юл, – сказал он ему как-то раз, – только чтоб до горизонта слышно было». В какой-то раз они собрали целый оркестр – в тридцать гитар. Всю оставшуюся жизнь Юл будет отмечать этот день – 15 июня 1933 года – как начало своей профессиональной исполнительской карьеры. Через месяц ему исполнилось 13. В тот вечер он впервые сам спел «Окончен путь» в клубе «Распутин», иронично названном в честь безумного монаха, который помог краху Российской империи.
Первый русский ночной клуб в Париже открылся на рю Пигаль в 1922 году – его финансировал зажиточный эмигрант из Санкт-Петербурга; к 1930-м годам русских клубов, ресторанов и баров на Монмартре уже были десятки; с достаточным количеством водки они помогали беженцам забыть, что Империи больше не существует. Многие русские буржуи, кому удалось сбежать из страны и сохранить при этом богатство, теперь бесцельно спускали его в этих темных и дорогих притонах ностальгии, стараясь хоть как-то воссоздать мир, уже испарившийся, как мираж. Швейцары и метрдотели таких заведений часто оказывались бывшими русскими аристократами, видавшими лучшие дни; теперь, опустившись до самого дна, они все равно предпочитали капиталистическую бедность коммунистическому голоду.
Декор большинства таких клубов сильно тяготел к темному бархату, позолоченным канделябрам и царским сувенирам: саблям, фотографиям, наградным лентам и серебряным самоварам. Меню соблазняли и парижан, и беженцев традиционными русскими блюдами и целым ассортиментом водок с крепкими специями – и дорогих шампанских вин. Застольную музыку обеспечивали балалайка и аккордеон, а потом выходили русские артисты: звездами вечера обычно бывали Димитриевичи – каждый вечер они выступали в дюжине клубов, находившихся в нескольких кварталах друг от друга.
Юл и для Димитриевичей, и для клубов оказался находкой: к шестнадцати годам он частенько бывал самым симпатичным мужчиной во всем заведении. Когда на своем безупречном русском он разговаривал с богатыми вдовами, заигрывавшими с ним, те неизменно предлагали ему выпить, и он неизменно заказывал «свой обычный»: официант тогда приносил ему бокал размерами с небольшой аквариум, якобы наполненный водкой, взимал с посетительницы огромную сумму, а Юлу отчислял откат. Цыгане никогда всерьез не связывались с не-цыганами – называли их «гаджё».
Димитриевичи говорили по-русски и по-французски, но плохо, а между собой общались на романском, или роме, – языке цыган-котляров, на котором пели и их песни. Как «жестянщики» Ирландии и Англии, «гитанос» Испании, котляры тоже приспосабливали местные песни к своим вкусам и мешали русский язык с ромой. За год-другой Юл выучил слова к пятидесяти или больше цыганским песням, а также к десятку французских баллад, и набрался достаточно цыганского языка, чтобы разговаривать с друзьями. А те часто повторяли максиму: «Правду говорить можно только на роме». Гаджё нипочем не скажут правды – поэтому цыгане их постоянно и подначивали.
Но еще больше, чем язык, Юлу по душе пришлось мировоззрение цыган – оно идеально ложилось на его переживания беженца. Он быстро определил себя как вечного скитальца, который, как Алеша, будет жить по правилам дороги, а не по правилам домоседов гаджё. Уже, казалось, было ясно, что миру европейских цыган скоро придет конец, как это предсказывалось в народной песне, уже ставшей для Юла фирменной.
На сценах ночных клубов Юл быстро обрел себя. По его собственным оценкам, независимо жить он начал именно в тех ресторанах, пивных и бистро. Его баритон был густ и могуч, и некоторое время он изучал оперный вокал с одним из Вериных преподавателей. А в восемнадцать лет даже выступил на консерваторском концерте, где спел арию из «Дона Джованни». В клубах его присутствие в оркестре приковывало к себе все внимание публики, которая давала щедрые чаевые, когда он пел у их столиков. Многие годы спустя Юл снова встречал в ресторанах многих из тех посетителей – только теперь они подходили к его столику за автографами.
Начиная с 1935 года, половину лета Маруся могла каждый год жить в небольшом домике под Довилем, на пляжах Нормандии; Юл и Вера обычно тоже проводили в тех краях месяц-другой. В первый их отпуск там с ними неделю провел Борис – обитал в отеле «Казино» с видом на Ла-Манш. На всех фотографиях Юла в отрочестве рядом с матерью он неизменно мрачен – и так же неизменно весел с отцом. Зная, что Борис в юности состоял во Владивостоке в Обществе спасения на водах, Юл тоже записался в спасатели – сначала помощником, а затем и старшим спасателем пляжа «Казино». Его романтический престиж среди «зрелых женщин» лет в 17–18 резко возрос. Несколько преимуществ для этого у него уже имелось: он был хорошо воспитан и легок в общении, изощрен и страстен, а как любовник вполне уверен в себе даже к своему первому лету в Нормандии.
В Париже Димитриевичи обычно встречались в кафе возле цирка – там же собирались и воздушные акробаты. Болтая с ними как-то вечером, «я притворился опытным мастером трапеции», – вспоминал впоследствии Юл о себе четырнадцатилетнем, – чтобы акробаты взяли его к себе; но, разумеется, «я блефовал, и когда вскарабкался на площадку, футах в пятидесяти над землей, и посмотрел вниз, то едва не лишился чувств… Все на меня заревели; но дали мне несколько месяцев подготовки и взяли к себе в труппу. То был самый счастливый период всей моей жизни»[123].
Воздушная акробатика родилась во Франции – среди пловцов и ныряльщиков, которые до появления страховочных сетей репетировали свои трюки над бассейнами. Первым артистом на трапеции стал Жюль Леотар, прославленный в песенке «Дерзкий молодой человек на трапеции»; трико, в котором он выступал, до сих пор носит его имя в английском языке. В 1859 году Леотар дебютировал в парижском цирке «Рояль», и традиция, им установленная, дожила до 1917 года, когда цирковое здание возле Пляс-де-ля-Репюблик переделали в синематограф для показа немого кино; именно там Юл и Вера, едва приехав в город, впервые посмотрели «Золотую лихорадку» Чарли Чаплина. Но в 1934-м четверка братьев Бульоне завладела крупным залом и поставила внутри шапито – тем самым они восстановили в помещении простенький цирк, работавший только зимой. Его так и назвали – «Сёрк д’Ивер». Через два года после его открытия Юл поступил туда на работу – сначала общим подмастерьем, затем подручным клоуна, затем акробатом, ловцом на трапеции и наконец полноправным акробатом, в том же месте, где и зародилось это искусство.
В те годы воздушные акробаты были звездами – благодаря, в первую очередь, нелегкому в исполнении тройному сальто. Зрители выстраивались в длинные очереди, чтобы только увидеть, как какой-нибудь летун пробует исполнить «Первое в Мире Тройное Сальто». Юлу не надо было дважды бросать вызов – он уже нацелился на этот номер с самого первого раза, как только отпустил перекладину и полетел к рукам ловца, свисавшего вниз головой с другой перекладины.
Свои трюки Юл выполнял в костюме грустного клоуна-бродяги, в парике дыбом и траурном гриме. «Я летел и плакал»[124], – позже рассказывал он. Представляя собой фигуру до того комическую, он мог пробовать тройное сальто сколько душа его пожелает, а неудачи его становились частью исполняемого номера. Его персонаж, упорный клоун, все время пытался сделать тройное сальто и неизменно падал в разнообразных позах в страховочную сетку двадцатью футами ниже. В тесном мирке поклонников цирка Юл уже сделал себе имя.
Кроме того, уже в шестнадцать лет Юл стал известным прожигателем жизни. В 1936-м, после того, как его тетка Вера и двоюродная сестра Ирина переехали в Лозанну, они навещали Марусю в Париже и видели, что «Юл вырос и превратился в симпатичного молодого человека с волнистыми темно-русыми волосами, – как писала потом Ирина. – Ему нравилось наряжаться, и он был очень элегантен. Выводя нас куда-нибудь на прогулку, он вызывался сам выбрать, что нам надеть. Ему было важно идти с элегантно одетыми спутниками»[125]. Его связи с «Зимним цирком» и семьей Димитриевичей «стали известны родне лишь много позже, а для его матери оказались неприятным сюрпризом»[126]. Хотя на самом деле к его шестнадцати годам цирк и цыганский ночной клуб сделались для Юла самыми надежными общественными институтами.
А в семнадцать с ним произошел несчастный случай. Он небрежно приземлился в страховочную сеть, и его выбросило за нее на кучу труб от строительных лесов; он переломал много костей с левой стороны тела, от ноги до плеча. Не было ясно даже, сможет ли он после этого нормально ходить. Фактически он оказался прикован к постели в Марусиной квартире на много месяцев; времени даром, впрочем, он не терял – играл на гитаре и готовился к поступлению в Сорбонну. Хотя к работе в ночном клубе он вернулся и каждый вечер играл с Димитриевичами несколько выступлений, боль не давала ему толком ходить еще год. В это время он регулярно курил опий – его достаточно легко было найти в Париже: колониальное владычество Франции над Индокитаем обеспечивало его постоянный приток. Даже в 1950-х годах многие моряки французского торгового флота, базировавшегося в Марселе и Гавре, за работу спокойно принимали плату опием. Гангстеры перевозили его в больших количествах в метрополию, где их постоянными клиентами обычно бывали стареющие аристократы, по многу лет пользовавшие этим наркотиком свои заболевания, реальные или же вымышленные.
В 1930-х многие художники Парижа тоже употребляли опий. Однажды вечером после выступления в русском клубе под названием «Царевич» к Юлу подошел необычайного вида поэт лет за сорок – он слышал, что молодой артист может достать опий. Юл, конечно, его тут же узнал: то был Жан Кокто, писатель, кинематографист и художник, чей портрет украшал страницы светских сплетен «Ле Фигаро» так же часто, как и страницы об искусстве. Юл видел его недавний фильм «Кровь поэта» (1932) и читал его роман «Ужасные дети». Поэтому, ослабив на гитаре две струны и сунув руку в деку, Юл извлек комок смолистого вещества, завернутый в вощеную бумагу. Вот с такого необычного начала и завязалась их плодотворная дружба на всю жизнь.
Кокто широко признавали как поэта-новатора с первого десятилетия нового века, затем в нем открыли драматурга, художника сцены (после работы с «Русскими балетами» Дягилева) и, наконец, мастера кино – особенно с выходом на экраны его главного шедевра «Красавица и чудовище» (1946), полвека спустя изуродованного организацией Дизни. Он дружил с Марселем Прустом, враждовал с Андре Жидом и к концу 1930-х годов представлял собой фигуру гордую, хоть и поистаскавшуюся, натурального «анфан-террибль» французского искусства. По его собственному определению, он был «не синфазен миру». Не принадлежа ни к культуре мэйнстрима, которую отвергал сам, ни к субкультурам авангарда, которые отвергали его, Кокто часто воспринимался эдакой фривольной светской персоной, позером, изображающим художника. Приходилось сносить множество насмешек – особенно от Марселя Дюшена и его дадаистов, которые потешались над Кокто публично. Быть может, по сравнению с теми звездами, с кем он водил компанию, в особенности из-за его долгой двусмысленной дружбы с Пикассо, Кокто в мире искусства и впрямь казался мельче. Его гомосексуальные склонности, не слишком-то и скрываемые, и его эгоистическая эстетика не увеличивали его популярности ни в мире искусства, ни среди широкой публики.
Да и тяга к опию мир к нему не располагала. Ко времени знакомства с Юлом в 1937 году Кокто уже опубликовал свои воспоминания, иллюстрированные его же яростными рисунками, – дневник, который он вел во время первой своей детоксикации, так и озаглавленный: «Опий, дневник излечения». Очевидно, метод не помог, и он продолжал курить опий всю свою оставшуюся жизнь. В тот год, когда они познакомились, Кокто часто разживался наркотиком у молодого певца из ночного клуба, тем самым написав маловероятную сноску к истории искусства XX века: в молодости Юл Бриннер поставлял опий Жану Кокто.
Некоторое время Юл контролировал свои дозы – преимущественно следуя старому французскому трюизму: если не пользоваться опиатами (включая морфий или героин) три дня подряд, пристрастия к ним не выработается. Как и во множестве подобных трюизмов, в этом правды не было ни грана, и вскоре Юл понял, что каждый третий день у него отвратительное до неудобства настроение. И он решил отказаться – не от опия, а от трюизма. Но вскоре после начались неприятности – как физические, так и финансовые: чем больше его ломало, тем больше денег взимали с него поставщики. Наконец, убедив их авансом выделить ему консигнационную партию, он не заплатил им и бежал из Парижа.
Решившись разжать хватку опия, в 1937 году Юл обратился за единственной материнской заботой, которую знал, к тетке Вере, уже четыре года как обосновавшейся в Швейцарии, чтобы Ирина могла изучать историю искусства в Университете Лозанны, пока Феликс управлял делами «Бринера и компании» в Китае. Лозанну они выбрали потому, что сюда в детстве отправили учить французский Феликса – и всего в нескольких часах дороги оттуда родился Жюль. И вот здесь в свой первый же приезд в Швейцарию Юл провел три месяца детоксикации. Медицинское алиби семьи: Юл страдает от гормонального дисбаланса гипофиза. На самом деле, как он признался тетке, в Париже за ним охотятся некие очень лихие парни.
Тем не менее, когда весь опий вышел из организма, Юл вернулся в Париж. Но теперь им владело честолюбивое желание, такое сильное и ясное, что его можно, пожалуй, счесть и призванием: он решил стать актером. В семнадцать лет Юл уже был матерым исполнителем – каждый вечер в клубах его представляли отдельно, он исполнял что-то соло и что-то дуэтом с Алешей; кроме того, ему были рады и в «Зимнем цирке» – уже, правда, не в качестве акробата, а клоуном. Его грим и ермолка напоминали давнего европейского «Короля Клоунов» (Карла Адриана Веттаха, швейцарца по происхождению), но сам он представлял собой фигуру скорее несчастную, чем балаганную. Гонорары давали ему возможность в семнадцать лет снимать крохотную квартирку-студию, «гарсоньерку». Но главным образом его влекла возможность играть – со временем, быть может, и в кино. Отец его от этих мыслей сына приходил в ярость, но поскольку Юл жил сам по себе, Борис ничего поделать не мог – тем паче Катерина уже много лет поощряла Юла поступить в театр. Теперь, к вящей досаде Бориса, она рекомендовала юношу Михаилу Чехову – тот, уйдя из Московского художественного театра, основал свою театральную труппу в Париже.
Но когда Юл уже совсем готов был прийти к нему, Чехов перевез свой театр в Англию. Юл вместо этого поступил в театр Георгия (Жоржа) Питоева – подмастерьем и плотником; время от времени ему предлагали сыграть эпизодические роли. Белоэмигрантов Жоржа и Людмилу Питоевых незадолго до этого назначили режиссерами «Театра де Матюрен», где они несколько лет осуществляли новаторские постановки, включая работы Луиджи Пиранделло, Джорджа Бернарда Шо и Ференца Мольнара.
Так Юл вошел в мир большого театра: через дружную репертуарную труппу, где все старались воссоздать на сцене свежие, умные и часто экспериментальные работы. Питоевы – и с ними их сын Саша, сверстник Юла – были учениками и Станиславского, и Михаила Чехова; они первыми познакомили Юла с основными концепциями актерской игры, заложенными в Московском художественном театре. Для театра во Франции и США 1930-е годы были «рьяными», как их описывал Херолд Клурмен. Среди друзей, которых Юл завел в те годы, были выдающиеся художники Жан-Луи Барро, уже маститый театральный и кинорежиссер, вскоре ставший звездой фильма Марселя Карне «Дети райка» (1945), который многие считают величайшим французским фильмом всех времен, и Марсель Марсо, который, как и Барро, учился у Этьенна Декруа, а в то время уже подходил вплотную к созданию образа клоуна Бипа, которого будет играть до конца своей жизни в искусстве.
Но под конец 1938 года Марусе диагностировали лейкемию, и несмотря на всю хрупкость она больше всего на свете хотела повидать сестру Веру. Юл, как послушный сын, довез мать на судне до Порт-Артура, а оттуда через всю Маньчжурию в Харбин, аккуратно обогнув Советский Союз. Меж тем сестра Юла Вера вышла замуж за пианиста Валентина Павловского и решила обосноваться в Нью-Йорке.
Вот так, в восемнадцать лет, Юл снова оказался на Дальнем Востоке – впервые после того, как ему было одиннадцать, в городе, где он ходил в школу АМХ и в первый раз попробовал опий. Кроме того, теперь у него была возможность навестить в Шанхае отца – этот город оставался экзотичным и возбуждающим так же, как и для его деда Жюля, который тоже сошел здесь на берег подростком с пиратского судна семьюдесятью годами ранее.
Юл наслаждался собственными силой и проворством: в Шанхае к своим навыкам спасать на воде и летать под куполом цирка он добавил еще и умение играть в хай-алай. Игра эта зародилась как ручной мяч, затем стала пелотой в стране басков и наконец превратилась в хай-алай («веселый праздник» на баскском); из Испании вместе с имперскими амбициями ее перевезли на Филиппины, а оттуда британские игроки импортировали игру в Шанхай. В свои восемнадцать Юл не достигал шести футов роста и был заметно худ, но плечи его были накачаны сотнями часов на трапеции, и это неплохо служило ему на «фронтоне» – трехстенной арене для «быстрейшей игры на свете».
Бориса восхищала физическая сила сына, но он по-прежнему выговаривал ему за стремление стать актером, хотя Катерина продолжала юношу поощрять. Несмотря на это, они прекрасно проводили вместе время. Быть может, счастливее всего Юл был, когда они с отцом отправились в Новину, на охотничью базу Янковских в северной Корее. Великий охотник на тигров Юрий Янковский лично водил их по следам тигров и медведей; десятки лет спустя Юл описывал их приключение как «волшебное время». Но за то же путешествие на Дальний Восток Юл еще и потерял с отцом всякое терпение, когда Борис не появился в Шанхае. Совокупный эффект множества таких несостоявшихся встреч с отцом разбил наконец Юлу сердце. В дальнейшем он часто вспоминал, что с того момента ему хотелось убить отца.
Такой полный эмоциональный срыв – первый из множества за жизнь Юла – был психологическим механизмом защиты с четко определенными культурными корнями. «Русские давно были одержимы желанием начинать все с чистого листа», – писал историк и журналист Эндрю Майер, определяющий эту характеристику как «отречение». Историк Александр Панченко считает отречение «фундаментальной русской чертой. Мы занимались этим не одно поколение… Мы упорствовали в отрицании того, кто мы, слишком долго, и отрицание это, возможно, и делает нас нами»[127].
Весной 1939 года Юл отвез Марусю обратно в Париж, после чего сам отправился в Англию – в надежде влиться в труппу Михаила Чехова в Дартингтон-Холле. Этот замок XIV века в Девоне принадлежал Леонарду и Дороти Уитни Элмхёрст из тех самых американских Уитни, преданным и активным меценатам, которые в 1930-е годы преобразовали свой огромный исторический амбар в театр. Их дочь Беатрис Стрейт была начинающей актрисой в Нью-Йорке, увидела моноспектакль Михаила Чехова «Вечер Антона Чехова» на Бродвее в 1935-м и тут же пригласила всю труппу в девонширский замок своей семьи.
Но когда Юл туда доехал, сам Чехов собирался покинуть Дартингтон-Холл. Нападение Третьего рейха на Англию становилось все вероятнее, и Чехов принял приглашение Элмхёрстов перевезти свою труппу в большой дом, которым они владели в Риджфилде, Коннектикут. Чехов отправился в Штаты первым – договориться о серии постановок Шекспира, которые поначалу дадут труппе какой-то доход. Остальные остались в Девоне и, пока Юл три месяца жил с ними, приняли его как нового члена труппы.
То был первый визит Юла в Англию, и знакомство стало не вполне благоприятным. Дартингтон-Холл оказался неотапливаемой средневековой пещерой, сырой и промозглой все то время, пока он там жил. Но работа, которой занималась труппа на репетициях и занятиях по актерскому мастерству, стала для Юла откровением. Занятия проводил партнер и помощник Чехова Георгий Жданов, русский актер и режиссер постарше Юла, работавший с Чеховым еще в студии МХАТ до того, как оба они в 1920-е годы бежали из Советской России. В Германии он посотрудничал с Мейерхольдом, а затем воссоединился с Чеховым в Англии и там начал творческое руководство актерскими приемами Юла, растянувшееся на несколько десятков лет.
Также Юл впервые окунулся в английскую культуру. Среди других пьес он посмотрел постановку Шекспирова «Макбета» репертуарной труппой Доналда Уолфита, которая гастролировала по Англии с самим Уолфитом во всех великих шекспировских ролях. Уолфит продолжал театральную традицию актера-управляющего, тем самым показывая Чехову и его труппе, как раз когда они намеревались переехать в Штаты, что это вполне годный способ выживать. Четыре десятка лет спустя Юл и сам станет актером-управляющим.
В начале весны 1940 года Юл вернулся в Париж, а труппа Чехова уехала из Англии в США. К этому времени уже было ясно, что Гитлер вскоре вторгнется во Францию, а Бринеры опять станут беженцами, как некогда случилось во Владивостоке и Харбине. Сестра Юла с мужем обосновались в Нью-Йорке и ждали приезда Маруси, чтобы лечить ее от прогрессирующей лейкемии, поэтому Юл с матерью собрали все самое ценное и необходимое, включая неуклонно уменьшавшуюся коллекцию их пожитков, оставшихся от прежних жизней на Дальнем Востоке, теперь же – всего-навсего воспоминаний о мире, который давно сгинул. Затем Юл отвез Марусю в Гавр, где они сели на океанский лайнер, отходивший курсом на Манхэттен, – опередив нацистскую армию, маршем двигавшуюся на Париж, всего на несколько недель.
• 16 •
Юл Бринер сошел с матерью на берег в Нью-Йорке летом 1940 года. Оба были русскими по рождению, и въезд в США им бы не разрешили, но путешествовали они как швейцарские граждане – в силу национальности Юлова деда. Причудливо то, что швейцарские паспорта сообщают «место происхождения» их владельца, а не место рождения. А местом происхождения и Юла, и Маруси значилась швейцарская деревенька Мёрикен-Вильдегг, отсюда и их гражданство.
На Уэстсайдском причале их встречала Вера – муж ее в то время гастролировал с виолончелистом Пятигорским. Все отправились к ним домой, где она приготовила матери уютную спальню: состояние Маруси после перехода через Атлантику было угрожающее. Хотя Юл оставался верным и заботливым сыном, собственные чувства он давно изолировал от неуемной и нескончаемой материной меланхолии – использовал те же защитные механизмы, что и с отцом: эмоциональное отречение. И часа не прошло после того, как Юл устроил мать у Веры, а он уже отправился впервые осматривать Манхэттен. Затем он обнаружил вокзал Гранд-Сентрал и сел на поезд до Риджфилда.
Английский у Юла мало на что годился, несмотря на уроки в школе АМХ и время, проведенное не так давно в Англии. Русский и французский у него были, конечно, превосходны, и он еще помнил что-то из мандарина, кантонского и корейского языков. Но ориентироваться в Нью-Йорке и Коннектикуте было непросто. К счастью, Михаил Чехов отправил кого-то из труппы на станцию Стэмфорд подобрать Юла и доставить его в дом Уитни, где теперь размещался театр Чехова.
Юлу наконец предстояло начать обучение у Михаила Чехова – через полвека после того, как его дед, вероятно, поил чаем дядю Михаила Антона во Владивостоке. Эта подготовка стала для Юла основой всего будущего – а также его культурное образование среди русской интеллигенции, его сосредоточенность, яркое воображение, выразительные исполнительские силы и физическое проворство акробата.
Михаил Чехов сам был человеком небольшим, но с неукротимым духом. Как актер он мог полностью преобразовать себя, похоже, в любого персонажа по выбору, а как преподаватель извлекал из своих учеников такие глубины выражения, о которых те и сами не подозревали. Вне всяких сомнений, величайшее воздействие на всю его творческую жизнь произвел дядя Антон, чьи рассказы и пьесы озаряли своим мягким светом всю русскую культуру задолго до прихода советской власти: их мягкий гуманизм сыграл свою роль при основании Московского художественного театра в 1898 году – театр открылся мировой премьерой самой непреходящей работы Чехова «Чайка», поставленной Константином Станиславским.
Свою карьеру Михаил Чехов начал как актер у Станиславского, и репутация его после нескольких ролей упрочилась, а затем он основал студию МХАТ и отошел от приверженности своего наставника «ощущению правды жизни» в театре. «Я никогда не переставал недоумевать, – писал он впоследствии, – что есть художественного и творческого в простом копировании жизни, хоть и во всех ее деталях, так сказать, фотографически. И считал это одной из смутных сторон многогранного таланта Станиславского…»[128] Вместе с тем Чехов всегда отдавал Станиславскому должное: тот «первым вспахал целину и открыл новые поля, которые все мы потом возделывали по-своему».
Такова была разница между эстетиками двух режиссеров – и отзвуки ее раздаются в театре по сию пору. Для Чехова главенствующим соображением в любой драме и комедии было творческое создание, а не воссоздание человеческого эмоционального и интеллектуального опыта. Актеру недостаточно, утверждал он, воспроизводить собственные подлинные чувства: это не искусство, это просто «копирование жизни». Вместо того, чтобы искать персонажа в себе, актер должен поселиться в персонаже, которого полностью измыслил у себя в воображении, а это «сродни тому, чтобы просить персонажа показать вам, как это делать». Он проводил грань между собственным подходом и подходом Станиславского в «превосходстве эго персонажа (у меня) против эго актера (у Станиславского)». Посредством овладения конкретными методами тренировки воображения и эмпатии актер может ухватить и подчеркнуть самые существенные аспекты своего персонажа, добыв их из диалога и действия.
Но как же актеру передавать множество тонких внутренних свойств, составляющих сложный и законченный характер персонажа? Научиться использовать свое тело, голос, сам дух свой в качестве инструментов выражения. «…Если ты пианист, – писал потом Юл, – у тебя имеется внешний инструмент, которым ты учишься овладевать, работая пальцами и напряженно упражняясь. С помощью этого инструмента ты, творческая личность, выступаешь и доносишь до публики свое искусство. Но если ты актер, художник в тебе должен владеть самым трудным инструментом – самим собой, своим физическим и эмоциональным существом…»[129] Именно конкретными способами и упражнениями, которым Чехов учил своих студентов, возможно было развить крайнюю «чувствительность тела к психологическим творческим импульсам», подчеркивал он сам. «Тело актера должно впитывать психологические свойства, – писал Чехов, – его следует ими наполнять и растворять их в нем, чтобы они постепенно превратили его в чувствительную мембрану, нечто вроде приемника и передатчика тончайших образов, чувств, эмоций и толчков воли»[130]. На трапеции и в ночных клубах Юл научился силе вирильности; у Чехова он научился силе мягкости.
Методы Чехова включали в себя разнообразные творческие акты. Актер мог начать с того, что воображал «психологический центр» своего персонажа – быть может, в кончике носа у человека любопытного, или в ногах, если человек бывалый моряк, или где-то за затылком, если персонаж нервозен и одержим призраками. «Центр сцены» для каждого персонажа тоже будет свой: у вора он – шкатулка с драгоценностями на столе, к которой его будет влечь, но прямо на нее он смотреть не станет, чтобы не заметили; для влюбленного это может быть фотография возлюбленной на каминной полке. Но всеобщим методом, предложенным Михаилом Чеховым, был «психологический жест»: поза или обычное движение, исполняемое всем телом, которые актер выбирает как эмблематичное, сущностное выражение своего персонажа. Это действие или позу актер в игре никогда не проявляет, однако они подспудно влияют на все его движения.
Внимание, которое Чехов уделял физическому исполнению, идеально соответствовало физичности, излучавшейся Юлом. Кроме того, он отточил вокальное выражение и физическое исполнение песни, научился соразмерять непосредственность и степень «присутствия», которых она требовала в зависимости от того, где исполняется – с небольшой эстрады или прямо у столика. Вскоре он вообще-то уже часто ездил в Нью-Йорк – 80 километров на поезде – и прослушивался в разные ночные клубы, где и начал по нескольку вечеров в неделю петь цыганские песни. Первым местом его работы в Соединенных Штатах стал клуб «Голубой ангел» – так же назывался фильм 1930 года, сделавший Марлен Дитрих всемирной звездой; наезжая временами в Нью-Йорк, она там выступала – так они с Юлом и познакомились.
Дитрих исполнился сорок один год – она была на двадцать лет старше Юла, но роман их, который будет время от времени возобновляться последующие двадцать лет, оказался живуч и страстен. Ее долгие отношения с режиссером Йозефом фон Штернбергом завершились в 1935 году после семи фильмов. Правительство Гитлера пыталось заманить Дитрих обратно в Германию, но актриса отвергла фашизм и в 1939 году приняла американское гражданство. К тому времени она уже снималась в главных ролях вместе с Гэри Купером, Джимми Стюартом и Кэри Грантом. Несмотря на множество любовных романов, Юл так или иначе оставался любовью всей жизни Марлен – об этом недвусмысленно говорится и в биографии кинозвезды, написанной ее дочерью Марией Рива. В следующие годы Дитрих не раз помогала Юлу с театральными и кинематографическими знакомствами, а время от времени – и деньгами.
В Риджфилде труппа Чехова проводила все время либо в занятиях по актерскому мастерству, либо в репетициях шекспировских пьес, которые они показывали в колледжах. Поскольку Юл в труппе был новеньким и очень плохо говорил по-английски, он в основном перевозил декорации и костюмы из одного колледжа в другой по всему северо-востоку Штатов, как правило – опережая небольшой автобус, в котором ехала вся труппа и обслуга, человек пятнадцать. На каждой остановке он разгружал допотопный фургон и помогал устанавливать декорации; вечером после быстрого прогона труппа играла три-четыре пьесы. Пока Юл достаточно не овладел английским, ему доверяли единственную роль – копьеносца, без текста. Чехов и Жданов вели занятия, упражнения и репетиции по-английски, и вот так-то Юл по большей части и освоил язык англоязычного театра, хотя со своими наставниками он часто общался и по-русски. За то, что Юл стал отчетливо русским актером, следует скорее благодарить эти годы, проведенные им в Америке с Чеховым, а не факту его рождения во Владивостоке.
2 декабря 1941 года у труппы Чехова состоялась премьера в «Маленьком театре» (ныне «Театр Хелен Хейз») на Бродвее с ограниченным ангажементом – ставили «Двенадцатую ночь» Шекспира, в роли Виолы – Беатрис Стрейт. Постановку осуществлял Георгий Жданов – его к тому времени уже прозвали «доктором» за то, что он безошибочно диагностировал любые актерские проблемы. Юл выступал в крошечной роли клоуна Фабиана, хотя этот клоун весьма отличался от того образа, который Юл некогда создавал в «Зимнем цирке». Шекспиров текст он заучил фонетически – примерно так же оперные певцы учат тексты арий на незнакомом языке, – и слова у него отскакивали от зубов. Несмотря на все эти сложности, не прошло и десяти лет после того, как он уехал из Харбина, – и вот он уже играет на Бродвее, а ему всего 21 год. В первых афишах с его именем он значится как «Йоул Брайнер».
Пять вечеров спустя после премьеры «Двенадцатой ночи» японцы разбомбили Пёрл-Харбор – неожиданной воздушной атакой, весьма напоминавшей их коварные нападения на русский флот в Порт-Артуре в 1904 году. В результате постановку еще через несколько представлений свернули. Тем не менее благодаря этой маленькой роли Юл смог получить членский билет профсоюза актеров и обзавелся агентом по имени Маргарет Линдли. Она не рвалась искать ему новую работу, покуда он не овладеет английским получше, но с готовностью знакомила его с нужными людьми на частых вечеринках у себя дома. Там-то он и повстречался с молоденькой звездой, которая в свои 22 (на год старше Юла) уже снялась в заметных ролях в трех крупных голливудских фильмах; она предложила позаниматься с Юлом английским. Звали ее Вирджиния Гилмор, и они влюбились друг в друга с первого взгляда.
На самом деле, при рождении в Эль-Монте, Калифорния, ее назвали Шерман Пул. Происхождения она была английского и немецкого; ее бабушка переехала из Миссури в Калифорнию в переселенческом фургоне, а по пути нарожала кучу детишек. Пресс-агент студии Ричард Кондон (впоследствии автор «Маньчжурского кандидата» и других романов) решил, что имя «Вирджиния Гилмор» будет более звездным. Она была поразительно красивой светлой шатенкой, миниатюрной и с девчачьим нравом, но едва ли наивной. В семнадцать лет она была подружкой прославленного немецкого режиссера Фрица Ланга, который сбежал из нацистской Германии в Голливуд, а через него познакомилась и с другими немецкими эмигрантами. Более того, когда ей пришла пора сдавать последний экзамен по экономике в Голливудской средней школе, репетитором у нее был друг Ланга драматург Бертольт Брехт; экзамен она провалила – преподаватель обвинил ее в том, что она социалистка. Ее левые наклонности были видны уже тогда.
Сэмюэл Голдуин провозгласил Вирджинию «честное слово, американской красоткой, причем с мозгами; да она еще и стихи пишет», и ее вскоре наняли «Девушкой Голдуина». За красивые ноги журнал «Лайф» прозвал ее «Ляжкой Гилмор». К девятнадцати годам она уже снялась у Жана Рено в его первом американском фильме «Болотная вода», за которым последовала главная женская роль в «Западном союзе» самого Ланга. На экране она флиртовала с Гэри Купером в «Гордости янки», а за кадром – с Малышом Рутом, который тоже появлялся в этом фильме. Вирджиния даже сходила на несколько предсказуемо неловких свиданий с Рутом, известным сердцеедом.
Когда Юл познакомился с Вирджинией, его разговорный английский был по-прежнему полон ошибок, хотя неуклонная диета из детективов Дэшилла Хэмметта и Мики Спиллейна медленно, но верно улучшала его владение американской идиоматической речью. Поскольку Вирджиния, прозванная Джин, постоянно моталась между Бродвеем и Голливудом, первые два года их знакомства прерывались длительными разлуками.
После Пёрл-Харбора Юл вызвался пойти добровольцем в армию США, но его не взяли – из-за рубцов в легких, очевидно, оставшихся после туберкулеза. Поэтому он взялся за работу в Управлении военной информации – главным образом, передавать часовые новостные бюллетени на французском из Нью-Йорка бойцам Сопротивления по всей Франции; кроме того, он также начитывал сводки военных новостей на русском, транслировавшиеся в Советский Союз. Тем самыми он не только играл полезную роль в поддержке военных усилий – эта работа дала ему возможность познакомиться со многими пионерами радио, которые уже готовились к приходу нового способа вещания – «радио с картинками».
Все это время Юл продолжал жить, работать и гастролировать с труппой Чехова. Заезжали даже в Луизиану на юге. В Батон-Руже Юла остановили за превышение скорости, и поскольку полицейские не смогли разобрать его английский, когда он сопротивлялся аресту, его бросили в «тюрьму для цветных» на ночь. Это дало Юлу возможность свежим и четким взглядом посмотреть на то, как устроено американское общество 40-х годов изнутри.
В Нью-Йорке он брался за любую работу, потому что стоимость лечения матери возрастала: пел в любом требуемом стиле; трудился моделью для фотографов моды, включая известного английского портретиста Сесила Битона; служил натурщиком для студентов живописи и фотографии, изображавших «нагие мужские формы»; и даже, еще не овладев толком английским, ходил на прослушивания в театры. В одном из своих последних писем сестре в Харбин Маруся писала, что Юл так заботится о ее нуждах, что она за него переживает.
Маруся скончалась в больнице в начале весны 1943 года. От предательства Бориса она так и не оправилась – тот навсегда остался единственной любовью всей ее жизни. Оба ее ребенка вздохнули с бесстыжим облегчением: ее долгие годы скорби и страданий от лейкемии в последней стадии наконец завершились. Они-то уж точно знали, каково ей приходилось.
Михаил Чехов распускал труппу и переезжал в Лос-Анжелес, где его ожидало несколько киноролей, из которых самая известная – роль психиатра-фройдиста в «Завороженном» Хичкока (1944), который консультирует персонажа Грегори Пека по просьбе его протеже, сыгранной Ингрид Бергман. Пек тоже учился у Чехова; как и многие другие звезды Голливуда, он в частном порядке работал над каждой своей ролью в кино либо с Чеховым, либо со Ждановым.
Полгода спустя Юл сел на экспресс «XX Век Лимитед» до Чикаго (что было намного лучше и современнее Транссибирского экспресса), а оттуда «Небесным вождем» направился в Лос-Анжелес. После двух с половиной лет ухаживаний Юл женился на Вирджинии в суде округа Лос-Анжелес в 1944 году, как об этом незаметно объявила в своей колонке светских сплетен Луэлла Парсонз, хоть и не преминула мнение свое выразить: «Вирджиния Гилмор и какой-то цыган, с которым она познакомилась в Нью-Йорке, сочетаются браком 6 сентября».
В свой срок Юл подал документы на американское гражданство, которое и было ему даровано на основании проживания в стране и брака с гражданкой США. Это означало, что теперь ему придется объявлять и свое место рождения, а не просто швейцарское «место происхождения». Как ни удивительно, в этой графе Юл записал: «Сахалин, СССР». Для подобной фальсификации были веские причины: во время его рождения Владивосток входил в страну, которой больше не существовало, – Дальневосточную республику. Нипочем нельзя было сказать, какие бюрократические сложности могли произрасти из этого факта, поэтому Юл упомянул просто один их дальневосточных регионов, в чью горнодобывающую промышленность вкладывали свои средства «Бринер и компания». Официальная формулировка в его американском паспорте представляла собой еще один легкий акт отречения – на сей раз от места рождения. Именно тогда он официально изменил и написание фамилии на «Бриннер».
Джин много работала и в Голливуде, и на Бродвее, встречалась со множеством влиятельных людей, с которыми знакомился и Юл, хотя его часто представляли как «мистера Гилмора». Джин тогда работала по контракту со студией «XX век – Фокс», а студийное руководство всегда бывало недовольно, если их контрактные инженю выскакивали замуж. В наказание между сколь-нибудь значительными ролями ее стали снимать во многочисленных фильмах категории Б: к 1945 году в профессиональных изданиях Вирджинию знали как «Королеву Пчел»[131] – она снялась в 15 таких фильмах. На Бродвее же она работала со знаменитым режиссером и драматургом Моссом Хартом, затем – с Херолдом Клурменом, среди прочих, зарабатывая себе репутацию способной театральной актрисы, а не просто еще одной голливудской блондинки.
Юл с молодой женой устроились в маленькой квартире на Восточной 38-й улице над химчисткой, за которую пытались платить из своих нерегулярных заработков. Между нечастыми ангажементами Юла в ночных клубах (его радиопередачи в Управлении военной информации не оплачивались) и работой Джин на сцене денег у них частенько не бывало совсем. Юл продолжал ходить на «сгоны» и любые прослушивания, которые ему устраивала его агент, но для ролей в военное время он выглядел слишком уж чужеземно. Лишь из-за того, что ему так сильно нужна была работа, Юл взялся за поистине неловкое дело, но оно открыло ему целый новый мир. На доске объявлений радиостанции Управления военной информации он прочел о работе на телевидении, которое по-прежнему называлось «радио с картинками».
Телевидение разработал Фило Т. Фарнсуорт, получивший первый патент на свое изобретение в 1927 году, но затем он проиграл права собственности в спорном деле, возбужденном «Радиокорпорацией Америки» Дейвида Сарноффа. «Ар-си-эй» впервые продемонстрировали это изобретение в 1939 году на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке. Всего через пять лет Юл снялся в одной из первых эфирных телепередач.
Когда транслировали эти передачи, по всему Нью-Йорку тогда насчитывалось около трехсот телевизионных приемников. «Коламбиа Бродкастинг Систем» делала это робко, в порядке эксперимента, из своих студий на верхнем этаже над вокзалом Гранд-Сентрал. Рекламных вставок еще не появилось – вещание было до сих пор надежно не отработано, – но эти первые шаги в будущее развлечений давали «Си-би-эс» отличный шанс против «Нэшнл Бродкастинг Кампани», которая господствовала в радиоэфире с самого своего возникновения в 1927 году.
Детская программа, в которой участвовал Юл, называлась «Мистер Джоунз и его соседи». «Главным образом, – вспоминал он впоследствии, – там нужно было носить дурацкую шапочку». Программа продержалась всего несколько недель, но в смысле книги рекордов и собственного резюме Юл снимался в одной из первых программ вещательного телевидения, и руководству сети уже была известна его фамилия. Гораздо же важнее, что он подружился со множеством творческих людей, которые вскоре станут первопроходцами коммерческого телевидения, – режиссерами и продюсерами. Подчеркивая свою связь с Чеховым, Юл также давал понять, что с готовностью будет ставить любые телевизионные программы, в любое время. Совсем немного погодя тот факт, что он работал на телевидении с самого его начала, окажется полезным, хоть тогда Юлу и приходилось носить дурацкий колпак.
• 17 •
Несмотря на десятки прослушиваний, Юл не раздобыл себе ни единой серьезной актерской работы. Предлагавшиеся по большей части были ролями обычных американцев, для которых он, очевидно, не очень подходил. А для редких экзотических ролей в Нью-Йорке имелись другие актеры, конкуренции с которыми он бы не выдержал. Кроме таинственного смешанного акцента у Юла была и несколько азиатская внешность, унаследованная от бабушки Натальи, отчасти бурятки. Она подчеркивалась жилистым и мускулистым телом. Его редеющие волосы добавляли лет пять к его возрасту – равно как и его агент Маргарет Линдли: если подворачивалась возможная роль, она настаивала, что Юл родился в 1915 году. То была лишь одна из множества выдумок, которые затем расплодились в его бессчетных биографиях.
Удачная роль подвернулась осенью 1945 года, сразу после капитуляции Японии. Режиссер Джон Хаусмен, работавший с Орсоном Уэллзом в труппе «Меркурий», ставил новую оперетту под названием «Песнь лютни». В ней была занята юная инженю Мэри Мартин – в последующем она сделает популярными и классические оперетты «Южная Пасифика» и «Звуки музыки», – а роскошные декорации создавал один довольно известный художник. После единственного прослушивания Юлу досталась ведущая мужская роль.
«Песнь лютни» была сильно стилизованной адаптацией древней китайской сказки «Пи-па-ки» об обедневшем ученом, которые едет в столицу и завоевывает там славу… но только если откажется от своей жены и женится на принцессе. Премьера оперетты состоялась в театре «Плимут» 6 февраля 1946 года, и хотя публика на пьесу реагировала весьма эмоционально, критики несколько кривились. «Мисс Мартин играет трудную роль и, в общем и целом, справляется с нею неплохо, – писал рецензент «Нью-Йорк Таймз» Льюис Николз. – Юл Бриннер – несчастный муж, его исполнение удовлетворительно». Несмотря на слабую похвалу, Юл получил престижную премию Доналдсона как самая перспективная новая звезда Бродвея 1946 года. Много лет спустя, получив и множество других наград, Юл продолжал считать эту самой важной для его карьеры – она бесспорно принесла ему в 26 лет репутацию настоящего актера.
Краткая биография, которую Юл сочинил себе для афиши спектакля, представляла собой такую же мешанину, которой он потчевал окружающих всю оставшуюся жизнь. «Юл Бриннер – наполовину монгол», – начиналась она довольно правдиво – благодаря бабушке. Но далее он заявлял, что «школу театра он постигал в Праге, Риге и Варшаве», что правдой уже не было; «после чего шесть лет работал в “Театре Матюрен” с Жоржем и Людмилой Питоевыми в Париже» – это правда, но лишь половину указанного срока, – «где играл в постановках Пиранделло, Ибсена, Клоделя и Чехова». Ну, в некоторых спектаклях по пьесам этих драматургов он действительно появлялся.
Все это противоречило краткой биографической справке для вычурной программки спектакля, предлагавшей иную смесь факта и вымысла: «Юл Бриннер, гражданин Швейцарии на пути к американскому гражданству, родился в Сибири, почти все детство провел в Китае, образование получил во Франции… Прежняя жизнь его так же пестра, как кафтан Иосифа, запутанна, как законы правительства, и фантастична, как сказка Тысячи и Одной Ночи». Все это правда. Но затем в справке говорилось: «Мать Юла была чистой цыганкой; его отец, один из богатейших людей Китая, по преимуществу – монгол, но с примесью цыганской и швейцарской крови». Маруся пришла бы в ужас от того, что ее называют цыганкой; ее родословная восходила к русской интеллигенции, а не к бродягам рома. Обе Веры – тетка Юла и сестра – были в ярости от того, что Юл эдак отрекся от своей матери. Так вышло случайно, объяснял им Юл, виновато его плохое знание английского, когда он рассказывал продюсеру о своем прошлом.
У отречения, писал историк Майер, есть брат-близнец – самозванство[132]. Когда отрицается прошлое, на замену ему следует изобрести новое прошлое. Согласно «Русской идее» Бердяева, «самозванство – чисто русское явление»[133]. Возможно, оно способно – или нет – объяснить множество мифов Юла; по крайней мере, это ставит его изобретательные биографии в контекст определимого культурного явления.
Лишь горстка людей знала, какую фантастическую траекторию описала жизнь Юла от Владивостока до Бродвея. Разумеется, его сестра Вера, которая пришла на премьеру – между собственными сценическими победами с партиями сопрано, – отлично представляла себе, откуда взялся этот таинственный чужеземец; да и Вирджиния была в курсе той долгой одиссеи, что привела его сюда, хоть и не знала всех подробностей. В Соединенных Штатах, а особенно в Нью-Йорке – миллионы поразительных историй об эмигрантах и беженцах, которым все удалось; история Юла – одна из многих таких историй, да и то всего лишь ее начало – в те поры. Но никого из взрослых, вырастивших Юла, здесь не было, чтобы порадоваться его успеху. Мать и дядя Феликс скончались тремя годами раньше, его тетя Вера и двоюродная сестра Ирина жили в Маньчжурии, а отец сидел под советским домашним арестом где-то под Владивостоком.
Через несколько недель после премьеры «Песни лютни» Вирджиния начала репетиции пьесы Максуэлла Эндерсона «Шоферское кафе», которую ставил Херолд Клурмен, первый американский режиссер, использовавший в работе «метод Станиславского». Для второй главной роли Клурмен выбрал симпатичного двадцатиоднолетнего паренька из Небраски по имени Марлон Брандо, который впитал принципы русского режиссера как губка. Много лет спустя критик Полин Кейл писала, что они со спутником пришли на спектакль во время второго акта, и выворачивающая потроха наизнанку эмоциональность исполнения Брандо была настолько экстремальна, что ей пришлось отводить глаза – создавалось полное впечатление, что у актера на сцене припадок. «Шоферское кафе» принесло Брандо награду Круга театральных критиков как «многообещающему новому актеру 1946 года» – она соответствовала награде Доналдсона, полученной Юлом. Однако после тринадцати представлений «Шоферское кафе» сняли; Вирджиния приняла эту неудачу с облегчением – за неделю до начала репетиций они с Юлом узнали, что к концу года она ждет ребенка.
К тому времени, как 23 декабря 1947 года у них родился сын, Юл почти весь год провел на гастролях. «Песнь лютни» после трех месяцев на Бродвее закрылась, а затем труппа отправилась в путь: Чикаго, Де-Мойн и Колорадо-Спрингз, после чего надолго осталась в Сан-Франциско, в театре «Керран». Там Юл и получил известие о рождении сына – и вместе со своим другом, костюмером Доном Лосоном, открыл бутылку «Дом Периньон». Два дня спустя, после ужасающего перелета на винтовом пассажирском самолете «Ди-си-3», Юл уже оказался рядом с женой и впервые увидел сына. Джин и Юл так пока и не договорились об имени, но Мэри Мартин, по-прежнему добрый друг пары, утверждала, что «Юл» нужно сохранить и дать младенцу такое же имя, как у его отца и прадеда. Юл согласился, объяснив Вирджинии, что в семье Бринеров имя патриарха передается по наследству, как титул. Вирджиния как-то сомневалась, но после 28-часовых ягодичных родов спорить ей было не с руки. Поэтому в свидетельстве о рождении младенца записали Юлом Бриннером-младшим. Насчет крещения нигде не договаривались, ни в православной церкви, ни в протестантской, но через несколько месяцев, побывав на крещении ребенка подруги в Церкви Св. Варфоломея на Парк-авеню, Джин умудрилась там же окрестить и своего сына. Крестной матерью стала Мэри Мартин.
Через несколько месяцев в Нью-Йорке проездом оказались Борис, Катерина и их дочь – их не так давно выпустили из советского плена, и они проехали через Москву, Швейцарию и Англию. Почти весь день провели они с Вирджинией и Юлом-младшим. Джин навсегда запомнила своего свекра как галантного и крайне привлекательного человека, хоть и выглядел он флегматичнее Юла. Борис был в восторге от внука и уехал с теплыми воспоминаниями о Вирджинии.
Когда гастроли «Песни лютни» завершились, Юл вернулся в Нью-Йорк и посвятил себя всего жене и ребенку: друзья даже тогда считали его очень заботливым отцом. Но главное – нужно было заработать столько денег, чтобы перевезти семью в квартиру, которая не располагалась бы над химчисткой. Он быстро нашел себе подходящее занятие – режиссером на «Си-би-эс»; величайшей же помехой стало его природное непослушание руководству сети и его приспешникам, которые пытались навязывать даже творческие аспекты процесса. Достаточно сказать, что работа эта оказалась не постоянной.
На свой 28-й день рождения, 11 июля 1948 года, Юл ставил часовую драму для программы «Студия Один» – и на работу ему доставили телеграмму, где сообщалось, что двумя днями ранее его отец скоропостижно скончался в Шанхае от сердечного приступа. Телеграмму прислал Шура Остроумов, дядя Юла – муж его тетки Нины. Катерина была не в состоянии что-либо предпринимать, поэтому Шура обещал Юлу, что обо всем позаботится, включая финансы семьи: как только ликвидируются все остаточные активы империи Жюля Бриннера, Шура распределит полученные средства между Катериной, Верой и Еленой, вдовами Бориса, Феликса и Леонида.
Известие о смерти отца стало для Юла ударом, хотя размышлять об этом он был не в состоянии. Вероятно, и на похороны отца бы не явился, да и не могли ни он, ни сестра его Вера ехать для этого в Шанхай. Однако хоть сам давно уже охладел к отцу, в будущем, как он твердо заявил Вирджинии, он намерен обеспечить своему сыну сильную и надежную любовь, какой сам от своего отца не дождался.
Но это означало приносить домой постоянную зарплату. Поэтому, когда продюсер «Песни лютни» попросил Юла поехать с постановкой в Лондон, тот согласился, хоть это и значило разлуку с семьей. Лондонская премьера состоялась 11 октября 1948 года в театре «Зимний сад» и получила восторженные отзывы; как только стало понятно, что она здесь будет идти год или даже больше, Вирджиния приехала в Лондон с младенцем и задержалась почти на полгода.
Послевоенная Англия, хоть и страна-победительница, жила трудно. Юл и Джин вспоминали потом, что им обоим там было серо и грустно. По-прежнему стояли руины домов, разрушенных «Фау-2», городской воздух полнился дымом угольным и древесным. Когда «Песнь лютни» закрылась, Джин отвезла ребенка обратно в Нью-Йорк, а Юл остался играть в русской комедии «Очи черные», недолго шедшей в театре «Стрэнд» – о трех русских женщинах и их беженской жизни в Нью-Йорке. То была первая постановка, в которой имя Юла на афише значилось над названием пьесы – благодаря его успеху у критиков в «Песни лютни». В 1943 году пьеса эта шла полгода на Бродвее, но в Лондоне постановку закрыли внезапно – Юлу даже не заплатили, дали только билет на самолет домой… и тот Юл вскорости проиграл в покер.
Без гроша в кармане он машиной и паромом доехал до Парижа и нашел себе работу у старых друзей – в «Зимнем цирке»: братья Бульоне с радостью взяли его «звездой» на трапеции, что несколько подогрело интерес к представлениям. Что, в свою очередь, привело к работе у Мориса Каррера, управляющего «Максима» – ресторана, который служил неувядающим символом французской «прекрасной эпохи». С помощью Каррера Юл находил ангажементы и в других ночных клубах и кабаре.
Но через несколько лет после завершения немецкой оккупации Париж оказался совсем не тем городом, из которого Юл уехал в 1940-м. Семейство Димитриевичей сбежало от нацистов в Аргентину – те истребляли цыган сотнями тысяч по всей Европе. Французская экономика боролась за выживание, а те, кого обвиняли в сотрудничестве с немецкими войсками, подвергались разного рода наказаниям и репрессалиям. К концу 1948 года, когда денег скопилось столько, чтобы уплатить за второй класс на пароходе через Атлантику, Юл вернулся в Нью-Йорк.
Следующие три года Юл работал преимущественно телевизионным режиссером на «Си-би-эс». Его подготовка у Михаила Чехова, а также самоуверенность мастера на все руки и первопроходческий опыт в работе с новыми средствами массовой коммуникации – вот все, что нужно было для создания многообещающей карьеры. Следовало лишь сдерживать свое непослушание руководству студии, иначе ему бы не продлевали контракт, на который надеялась Вирджиния. Но поскольку Юлу очень хорошо удавалось все, за что бы он ни брался, его нанимали вновь и вновь, от одной программы к другой, и он ставил часовые телеспектакли – за следующий год дюжину или больше.
Также они с Вирджинией вели первое ток-шоу мужа и жены под названием «Мистер и миссис». Позднее, в «Сэтердей Ивнинг Пост» Юл описывал это так:
Вот потеха… Мы с Вирджинией были продюсерами, сценаристами, режиссерами и актерами, хотя время от времени нам удавалось залучить к себе какую-нибудь ничего не подозревавшую знаменитость. Мы оплачивали нашему гостю такси – больше не позволял бюджет. Но нам удавалось достичь поразительных эффектов. Идея заключалась в том, что мы выходим в эфир, минут десять-двенадцать болтаем с гостем, потом ассистент режиссера щелкает пальцами и вопит: «Мы в эфире!» Вирджиния в полном изумлении поворачивается ко мне: «Мы, оказывается, в эфире», – а я с круглыми глазами отвечаю: «Вот оно, значит, как?» И только после этого, в теории, мы выходим в эфир, хотя с гостем беседуем уже давно.
Однажды мы устроили встречу Сальвадора Дали и Эла Кэппа. Беседа текла настолько неподцензурно, что я вообще поразился, как нам эфир не прихлопнули. А в конце они выкинули одну очаровательную штуку – на одном листе бумаги сделали по рисунку. У Эла был как раз период Шмо, и пока он его рисовал, в живот персонажа Дали вписал окно, через которое виднелась линия горизонта, а вдали – скелеты с длинными тенями[134].
Юл ставил драматические программы в передачах «Студия Один», «Омнибус» и «Опасность» и работал вместе с группой молодых режиссеров, которые в следующие десятилетия станут признанными мастерами кино: Сидни Люмет («Из породы беглецов», «Ростовщик»), Мартин Ритт («Хад», «Норма») и ассистент Юла Джонни Франкенхаймер («Маньчжурский кандидат»). Кроме того, он ставил, а иногда и сам вел программу «Клуб Аист» – ток-шоу из шикарного заведения той эпохи. Это возвело Юла на самую вершину светской сцены Нью-Йорка, как раз когда традиционные классовые разграничения начали накладываться друг на друга во «властной элите», описанной историком Ч. Райтом Миллзом в 1959 году: «В обществе кафе главные обитатели мира знаменитостей – институциональная элита, светские круги метрополии и профессиональные развлекатели – смешиваются, публично зарабатывая на стремлении друг друга к престижу». Таким и была программа «Клуб Аист» – родина культуры знаменитостей ток-шоу, известной нам поныне.
В 1949 году Юл сыграл свою первую роль в кино – вкрадчивого заправилу банды наркоторговцев в «Порту Нью-Йорка», низкобюджетном триллере, где главного полицейского играл Скотт Брейди. На эту работу Юл никогда не оглядывался ни с нежностью, ни с гордостью: на самом деле, утверждал он, свои сцены он снимал долгими выходными между выпивкой. Оплачивалась эта работа тоже не бог весть как, но исполнение роли элегантного обходительного убийцы, похожего на змею, он теперь мог смело показывать любому режиссеру – вместо торопливых экранных проб. К тому же теперь Юл стал полноправным киноактером, хотя ему не исполнилось еще и тридцати.
Тот факт, что у Юла часто не бывало денег, никогда не бросался в глаза: как его отец и дед, одевался он всегда безупречно и стильно, носил заказные сорочки с монограммами. Даже когда денег не хватало на такси, у Юла был камердинер – его друг и «костюмер» Дон Лосон оставался с ним, хотя Юл мог подолгу не платить ему жалованье. Дон также отвечал за дорогой парик, который Юл с неохотой приобрел для выступлений по настоянию своего агента и некоторых устроителей. 1940-е были лучшим временем для американских производителей париков, и миллионы мужчин, не дававших им отдохнуть, преуспели главным образом в том, что лысина стала считаться чем-то позорным – ну или, по крайней мере, комичным. Когда Юлу перевалило за тридцать, волосы у него поредели настолько, что на лбу образовался жидкий и острый «вдовий клинышек». Однако искусственность даже мастерски изготовленного «половичка» раздражала Юла больше, чем он готов был публично признать, – но ему требовалась работа.
К 1950-му году среди театральных и телевизионных профессионалов Юл уже стал известной фигурой; признавали его и в тех городах, где шла «Песнь лютни». Он уже стал гражданином США, поэтому мог работать кем угодно, но как отцу подрастающего мальчика ему требовался постоянный заработок. Это дошло до него в самом начале, когда им с Джин пришлось отказаться от квартиры, и они остались без денег и без жилья посреди зимы с маленьким ребенком на руках. Юл быстро доказал, что он искусный столяр: некоторые счета он оплачивал тем, что делал простую симпатичную мебель в духе колод для рубки мяса для своих друзей по шоу-бизнесу: например, журнальный столик, который он построил для кинокомпозитора Алекса Норта, жив и теперь, шестьдесят лет спустя.
После той кошмарной зимы Джин убеждала Юла оставить актерскую игру и сосредоточиться на телевизионной карьере, где репутация его все более крепла. В 1950-м на «Си-би-эс» открылась вакансия помрежа (фактически – постоянного студийного продюсера) для новой телестудии на углу Бродвея и 52-й улицы: позднее ее переименовали в «Театр Эда Салливэна». Вирджиния умоляла, а затем и настаивала, чтобы Юл поступил на эту работу. Он отказался – однако пообещал, что будет искать постоянную работу режиссера. Обещание свое он выполнил – даже после того, как представилась и другая возможность.
• 18 •
После «Песни лютни» с Юлом Мэри Мартин блистательно отыграла в «Южной Пасифике» Ричарда Роджерза и Оскара Хаммерстайна. Услыхав, что композитору и либреттисту английская актриса Гертруд Лоренс заказала написать оперетту по мотивам «Анны и короля Сиама», она убедила их, что единственным актером, годным для главной мужской роли в спектакле, будет ее бывший партнер по «Песни лютни».
Перед этим прослушиванием Юл пренебрег советом своего нового агента Теда Эшли и не стал надевать парик, а электрической машинкой обрил все волосы очень коротко. Историческому королю Монгкуту I во время описываемых в книге событий было под шестьдесят, и он много времени провел в буддистском монастыре, где монахи бреют головы. В итоге же выбор Юла оказался все же не историческим, а эстетическим.
Много лет спустя Ричард Роджерз так описывал прослушивание Юла:
Нам сообщили имя первого соискателя, и вышел лысый парень, сел по-турецки на сцену. У него с собой была гитара, и он шандарахнул по ней, испустил этакий неземной вопль и запел что-то довольно варварское. Мы с Оскаром переглянулись и сказали: «То, что надо!»[135]
«Чем-то довольно варварским» была его фирменная народная песня «Окончен путь».
Сюжет «Короля» косвенно вытекал из двух исторически достоверных хроник Анны Лионоуэнз «Английская гувернантка при сиамском дворе» (1870) и «Роман в гареме» (1873). Но даже эти первоначальные документы были плодом фантазии, начиная с самого названия. Лионоуэнз нанимали учительницей, а не гувернанткой, отчего ее положение при королевском дворе было бы значительно выше. По сути, в своих книгах она предлагала в высшей степени беллетризованный отчет о том, как сама работала у сиамского короля учительницей множества детей от его жен и наложниц. Также там рассказывается о ее влиянии на политическую стратегию короля, изменившую Юго-Восточную Азию в 1860-х годах и оберегшую Сиам от имперских устремлений Великобритании. Ее причудливый рассказ, широко признанный как документальный, был тем более дерзок, что в нем описывалась частная жизнь покойного почитаемого монарха.
Роджерз и Хаммерстайн романтизировали историю еще сильнее, как Ричард Роджерз пояснял в «Нью-Йорк Таймз» за четыре дня до премьеры в «Сент-Джеймз-Театре»:
Мы не следовали книге рабски и дотошно в истории не копались. Однако несмотря на все фактические компромиссы, которые представлялись нам уместными, мы очень постарались собственными романтическими средствами представить Короля и Анну подлинными и пленительными людьми, какими, по нашему убеждению, они и были.
Сила их истории – в глубоких переменах, которые они вызвали друг в друге. Однако их совместная жизнь несет на себе бесспорный отпечаток глубокого взаимного влечения – взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Отношений таких сильных, настоящих и убедительных, что они в некотором смысле представляются чем-то большим, нежели любовная связь и даже брак[136].
Пусть так, но исторически совершенно точно и важно в сюжете «Короля», что в правление короля Монгкута и его сына Рамы V Сиам был единственной страной Юго-Восточной Азии, не сдавшейся колонизации, – и все из-за того коварства, с каким королю Монгкуту удалось натравить друг на друга европейские державы. Именно так император Кореи потом пытался удержать власть над своей страной: лично выделив лесную концессию Жюлю Бринеру, чтобы у России возникли в этом регионе свои интересы, гарантировавшие бы независимость Кореи от Японии.
В эту величественную роль Юл привнес свой накал, и она запустила его карьеру, как управляемую ракету. Сам персонаж с его королевским упрямством, невинностью, благородными устремлениями присутствовал уже в сценарии, однако осанка, властность и настойчивость были Юловы: в каждый миг он выносил на сцену весь свой жизненный опыт. Перво-наперво – навыки, полученные от Михаила Чехова и Георгия Жданова, а особенно ценной для этой роли была подчеркивавшаяся Чеховым физичность. Даже украдчивая проходка короля босиком являла собой животную силу, которую Юл выработал еще воздушным акробатом в цирке. Годы в ночных клубах подготовили его и к тому, что он стал уверенным и мощным певцом, хотя пел он в таком стиле, о котором Бродвей раньше и не слыхивал. Юл никогда не бывал в Сиаме (в 1939 году страну переименовали в Таиланд, и она стала конституционной монархией), но с детства был хорошо знаком с азиатской сдержанностью и намеренной непроницаемостью. К тому же после «Песни лютни» играть восточного человека было ему не в новинку.
Но вот танцы ему никак не давались естественно, а в ключевой романтический миг всей пьесы, «Потанцуем?», Юлу приходилось вести Гертруд Лоренс в неукротимо пылком вальсе (хотя, говоря технически, – в польке), выпуская актрису из объятий так, что она летела через всю сцену. Им достаточно повезло – с ними работал лучший бродвейский хореограф того времени Джером Роббинз, который пошагово и поставил им этот чарующий танец. Кроме того, Роббинз создал бессмертный балет-в-оперетте – «Хижину дяди Тома», представленную в сиамских костюмах, масках и с восточными телодвижениями.
Но если не брать во внимание хореографию, почти ко всем остальным аспектам постановки Юл свою руку приложил. В биографии Роджерза и Хаммерстайна Фредерик Нолан писал:
Юл Бриннер… постепенно присвоил роль Короля – да и вообще почти всю пьесу. Режиссером считался Джон ван Друтен, но он был недостаточно крут, чтобы тягаться с Гертруд Лоренс, капризной и неуверенной в себе примадонной. Бриннер же ставил на Бродвее [sic] и телевидении… Когда он говорил, Лоренс слушала. Роджерз признается, что у них были бы большие неприятности, не окажись рядом Бриннера…[137]
Под творческим руководством Роджерза и Хаммерстайна первая постановка «Короля» стала поистине произведением искусства – в 1950-х еще можно было считать бродвейскую оперетту искусством, а не коммерческим развлечением. Потенциальные доходность и убыточность постановки были не так велики, какими стали впоследствии, а чистая прибыль не диктовала всех решений; финансовые амбиции часто побивались эстетическими целями. Оркестр был гораздо многочисленней, чем при нынешних постановках, а когда художник по костюмам Ирен Шарафф заказывала тайские шелка ручной выделки под ее палитры, продюсеры соглашались на значительные дополнительные расходы. Даже грим, который Юл разработал для этой роли, бросал вызов своей преувеличенной свирепостью в духе театра кабуки – и переносил его в совершенно иную плоскость, поскольку все остальные актеры на сцене были загримированы по-театральному натуралистично.
На постановку много что работало. Популярна была сама история – благодаря книге и первому фильму, к тому же Роджерз и Хаммерстайн своими «Оклахомой!», «Каруселью» и «Южной Пасификой» доказали, что лучше них мастеров нет. Непогрешимы они, конечно, не были, но у них имелось много опыта, и они умели пользоваться своей золотой репутацией: еще до премьеры Фрэнк Синатра записал три песни из спектакля и превратил их в хиты.
В начале единственным именем над названием пьесы на афишах было «Гертруд Лоренс». Ее исполнение всегда гарантировало поклонникам удовлетворение, а кассе – 10 % валового объема продаж билетов[138]. Герти, как ее называли, родилась в Англии в 1898 году и блистала на сценах Лондона и Нью-Йорка больше четверти века; она в огромной степени притягивала к театру, в особенности – своими совместными работами с Ноэлом Кауардом, который вскоре стал добрым другом Юла. Она была единственной актрисой с авторитетом, достаточным для того, чтобы заказать для себя оперетту у Роджерза и Хаммерстайна. Как ни удивительно, однако петь она не умела, – теперь же ей приходилось впервые исполнять номера «Знакомимся ближе», «Привет вам, юные влюбленные», «Потанцуем?» и другие. В первой программке постановки имя Юла значилось сильно ниже названия пьесы, вместе со всем остальным актерским составом, как это диктовал первоначальный контракт Лоренс.
Но после премьеры 29 марта 1951 года все изменилось. Пьесу приняли восторженно, а молва оживленно передавала известие об экзотическом лысом и гологрудом человеке, игравшем короля Сиама. Тем не менее ведущий критик «Нью-Йорк Таймз» Брукс Эткинсон в первой рецензии отнесся к премьере прохладно, а пару недель спустя в воскресном приложении ему пришлось подавиться собственными словами:
Как и «Южная Пасифика», «Король и я» – мастерски написанная музыкальная драма с тщательно продуманным либретто, роскошной партитурой, запоминающейся игрой актеров и великолепной сценографией.
…Мистер Роджерз и мистер Хаммерстайн намного превзошли ту механическую формулу, на которой основываются музыкальные постановки, и сообщают нечто глубокое и основополагающее о самой человеческой природе. Опять же, как и «Южная Пасифика», «Король и я» – литература, а поскольку здесь литература выражена преимущественно в музыке, результат трогает до глубины души.
…Гертруд Лоренс, поистине очаровательная женщина, играет роль Анны сильно и умно… Неистовый, неугомонный, сообразительный Король Юла Бриннера – немногословный и живой характер, пылающий дух, выраженный стилизованной беспощадностью манер и грима[139].
Еще через пару недель имя Юла значилось на козырьке театра вместе с именем Герти.
Уникальный и оригинальный характер, созданный Юлом, был незапланированным элементом потрясающего успеха пьесы: упрямый аристократ, который в ходе каждого представления постепенно являет борьбу между лучшими ангелами своей природы и собственным деспотическим злонравием. Пыл короля, его находчивость и живое чувство юмора, противопоставление его бесспорного ума и пиджин-инглиша, на котором он говорит, а также его грубая мужская притягательность совершенно захватывали внимание публики – до того отличался он от одомашненной маскулинности других ведущих актеров той эпохи: Уильяма Холдена, скажем, или Грегори Пека, или даже новеньких вроде Пола Ньюмена или Марлона Брандо. Упрямый и раздражительный тиран, нежный отец и плодовитый господин небольшой деревни из 68 потомков, он был человеком невинным, он преодолевал парадоксы жизни и с неохотой принимал бесценную помощь образованной женщины. Женщинам король предлагал привлекательный образ властного мужчины, который в душе – маленький ребенок, зависящий от мудрости Анны. Для мужчин же он был воплощенной вирильностью, полной хвастовства и доминирующей силы. К тому же он был фигурой до того таинственной и загадочной, что публика таких раньше и не видела, – двигался с подчеркнутым бьющим в глаза изяществом амурского тигра и декламировал свои реплики могучим голосом с неопределимым акцентом.
«Король и я» шел в Нью-Йорке больше двух лет – 1246 представлений. Это был величайший хит всего Бродвея. Как восторгался в «Хералд Трибьюн» Отис Гёрни:
Мюзиклы и их главные герои после этого вечера никогда не будут прежними… Бриннер задал планку, соответствовать которой будет очень трудно… Вероятно, лучшее шоу десятилетия[140].
Гертруд Лоренс скончалась от рака в 1952 году, через три недели после своего последнего выхода на сцену. Ее сменила целая череда миссис Анн, но лишь имя Юла оставалось над названием пьесы. Постановка отправилась на гастроли по десяти городам страны, которые длились еще полтора года, и к концу этого периода Юл уже стал национальной звездой. Каждый вечер, когда опускался занавес, орды поклонников дожидались возможности хоть одним глазком взглянуть на Юла Бриннера между полудюжиной конных полицейских, отряженных городскими властями охранять служебный вход в театр. Это походило на истерию, которую вызывал у «девочек в носочках» десятком лет раньше Фрэнк Синатра; на самом деле, некоторые их тех конных полицейских охраняли еще и Синатру.
Приход славы потрясает даже тех, кто готов к ней лучше всего: слава преображает, поскольку она – противоестественный общественный опыт, какой проистекает из искажений театра, кино и рекламы. Сверхзвезда, выходящая в зал, полный случайных посторонних людей, вдруг становится их организующим принципом, и когда рой начинает вокруг нее сгущаться, они уже не действуют как отдельные личности: поначалу они смотрят украдкой, затем начинают бесстыже пялиться, после чего все коллективно признают, что они поклонники. Они излучают некое особое рвение, помрачение совершенно чужих друг другу людей, скопом убежденных, что они близко знакомы со своим идолом. Такая случайная группа людей мутирует в бесчувственную к другим толпу или же, в худшем случае, в обесчеловеченную массу, готовую топтать маленьких детей и старушек, лишь бы заполучить автограф.
Никто не имел ни малейшего понятия, откуда именно взошла эта новая звезда, и Юла это совершенно устраивало. Семейная история Бринеров была слишком сложна для репортеров из отделов развлечений – они бы и половины ее правильно не записали; это Юл отлично понимал. А поскольку журналисты уже начали замечать расхождения в его различных биографиях, он игриво начал предлагать им новую историю своей жизни в каждом интервью – так всегда поступало и семейство Димитриевичей, при каждом рассказе изобретая себе новое прошлое. Только цыгане не делали этого в печати.
Прошлое Юла было достаточно темно, чтобы у него не возникало неприятностей, но подозрение к «русским» лишь возросло, когда в 1949 году Советский Союз провел первые испытания ядерного оружия. Гонка вооружений сильно охладила и без того холодную войну. К концу 1950 года войска ООН пересекли в Корее 38-ю параллель с юга и к концу октября уже достигли реки Ялу. Именно тогда северокорейские войска перешли в контрнаступление, и 200 тысяч китайских коммунистических «добровольцев» ринулись на юг через ту территорию, которая некогда была лесной концессией Жюля Бринера. Они захватили почти весь Корейский полуостров, пока в Инчхоне не высадилась армия США и не отогнала коммунистические войска обратно за 38-ю параллель: всего в нескольких сотнях километров от нее Юл и Борис пятнадцатью годами раньше ходили по тигриным следам с Янковскими. В Сенате США Джозеф Маккарти намекал, что Вашингтон контролируют коммунисты, и вызывал свидетелей под угрозой повестки или внесения в черный список, чтобы те «называли поименно» всех, кто когда-либо посещал какие-либо сборища с левым уклоном. Американцев предупреждали о «красных под кроватью», а Юлу, что крайне примечательно, удалось избежать всяческих подозрений.
Вероятно, самым поразительным в ранней славе Юла было то, что меньше всего замечают: он играл восемь спектаклей в неделю, но в то же время продолжал режиссировать телевизионные драмы, как и обещал в свое время Вирджинии. Он ставил часовые передачи в прямом эфире – «Опасность», «Студию Один» и «От судьбы не уйдешь»: в одном эпизоде последней программы он занял Марлен Дитрих, с которой по-прежнему романтически встречался; в другую серию взял ее дочь Марию Рива. Кроме того, в программе «Омнибус» сам сыграл французского поэта XV века Франсуа Вийона. Часто приходилось мчаться с полицейским эскортом по Бродвею из студии «Си-би-эс» к «Театру Сент-Джеймз» (недалеко от него труппа Чехова некогда показывала «Двенадцатую ночь») – только бы успеть к началу сложного гримирования перед спектаклем.
В те годы выносливость Юла была неистощима. Он редко спал дольше четырех часов, и теперь, когда перед ним открывались всевозможные новые двери, ему хотелось заглянуть буквально в каждую. Неутомимое любопытство и творческий дух гнали его от одного нового проекта к другому, а непрекращающаяся жажда жизни оставалась ненасытной. Почти каждый вечер, сняв грим, Юл отправлялся в какой-нибудь джазовый клуб на 52-й улице, обычно к Эдди Кондону – или дальше к северу, в клуб, которым заправлял его друг боксер Сахарок Рей Робинсон. Домой до рассвета он являлся редко, а по воскресеньям обычно еще до зари отправлялся ловить морского окуня в Лонг-Айлендском проливе со своим другом Джерри Данненбергом.
С постоянным доходом он смог перевезти семью в квартиру побольше – в район Западного Центрального парка на 104-й улице, на десятом этаже. Не лучшая часть города, но гораздо удобнее, чем много лет было над химчисткой. Обустраиваясь там, Юл ночами устанавливал в чулане одну из первых «звуковых систем с высокой точностью воспроизведения» или делал простую мебель для кухни. Кроме того, он собрал огромную игрушечную железную дорогу – она заполняла всю столовую к смятению жены и восторгу шестилетнего сына. Он говорил мне, что поезда его завораживали всегда, потому что в детстве самая длинная железная дорога на свете заканчивалась возле его дома. Никто не верил ему, когда он рассказывал истории о пиратах Востока или охоте на амурского тигра, или о железной дороге, которую построил его дед Жюль… а вот я верил всегда.
Несмотря на преданность семье, Юл продолжал встречаться с Марлен Дитрих, а также и другими женщинами. Без ведома Джин он снял себе квартирку возле театра – сделку организовал Дон Лосон; там он держал часть своего гардероба и время от времени устраивал романтические свидания. Бывали такие выходные, когда он оставлял меня там вздремнуть по время его вечернего выступления, а наутро брал меня на рыбалку. Иногда днем Юл просил посидеть со мною Марлен – это был наш секрет от моей матери.
Пьеса пользовалась успехом, и Юл начал знакомиться со всевозможными звездами и знаменитостями, наезжавшими в Нью-Йорк. Многие оказывались любопытными и проходили за кулисы пожать Юлу руку: известные персоны от Альберта Швейцера до Элеанор Рузевелт, артисты вроде Фрэнка Синатры и Джо Э. Льюиса. Реальные монархи мира, включая нидерландскую королеву Юлиану, были счастливы приветствовать Юла в своих рядах, пусть и в шутку. В этих обстоятельствах все они отлично понимали, что на представление они попали властью Юла. Взрослые зрители, включая генерала Макартура, за кулисами робели, как дети. Детям же с Королем всегда было легко – столь великую любовь к ним являл он со сцены.
Для меня он оставался чудесным и преданным отцом. Я чувствовал крепкую связь с ним – ощущение того, что у нас общая судьба, по сути своей отличная от судеб всех остальных. Мы оба с ним цыгане, как часто объяснял он, обучая меня играть песни Алеши на маленькой гитаре, которую подарил мне на восьмилетие. Как и он, я с детских лет путешествовал – вместе с его гастрольной труппой; и, как и он, я очень молодым научился адаптироваться и импровизировать. Превыше всего прочего Юл никогда не позволял мне сомневаться в том, что для него я – самый важный человек на свете, и это в нем оставалось неизменным, всегда. Хотя я редко проводил с ним вечера, по утрам и днями мы с ним часто отправлялись куда-то вместе – на рыбалку, к примеру, но чаще – кататься на водных лыжах. Это был наш с ним спорт – мы им занимались из нашего арендуемого летнего домика на мысе Уилсона в Лонг-Айлендском проливе, в Коннектикуте, да и позже, когда ездили по стране или по миру.
Нас с Юлом так увлекали наши с ним общие интересы – от моделей поездов до скоростных катеров и водных лыж, – что иногда для общения нам не нужны были слова. В одной статье в журнале «Космополитэн» сообщалось, что «хозяйку, развлекавшую Бриннеров на выходных… глубоко поразили отношения Юла с сыном, в то время – почти шестилетним. “Малыш – вылитая копия отца, такой же крепыш с такими же напряженными темными глазами. Они вместе играли, и между ними установилось особое взаимопонимание, дивное согласие”»[141].
Студия «XX век – Фокс» обеспечила себе опцион на право экранизации «Короля», вложив средства в бродвейскую пьесу, но прежде, чем Юл подписал контракт на исполнение главной роли в фильме, в антракте к нему за сцену пришел посетитель. Юл так впоследствии описывал эту встречу:
Я часами создавал иллюзию своего персонажа, и все, над чем я работал, мог разрушить любой, пришедший ко мне посреди спектакля. А я не мог разговаривать с посетителями в образе Короля, поскольку Роджерз и Хаммерстайн не написали мне никаких диалогов для гримерки. Тем не менее однажды после занавеса первого акта мне сказали:
– Вас хочет видеть какой-то человек. Он утверждает, что он – Сесил Б. Де Милль.
Я не мог отказать человеку такого калибра – создателю гораздо большей иллюзии, чем я мог мечтать. Я ответил:
– Если иллюзия моей роли будет разрушена, это его проблема. Просите.
Его ввели, и он сказал:
– Как бы вам понравилось сняться в картине, которую смогут увидеть ваши внуки?
Я ответил:
– Мне бы это очень понравилось.
…Он рассказал мне о Рамзесе, и за несколько минут смог так обрисовать характер Рамзеса, так подчеркнуть величие и богатство материала, что не успел еще выйти из гримерки, как я согласился на роль и мы пожали друг другу руки. С того момента мне было уже безразлично, что́ его администраторы сделают с контрактом[142].
Фильм «Десять заповедей» должен был стать пересъемкой немой черно-белой популярной кинокартины Де Милля, выпущенной еще в 1923 году; работа над ним начиналась через год.
Де Миллю было 72 года – низенький щеголеватый человек в очках, с порослью седых волос и замашками деспота. Хотя он выглядел, как какой-нибудь рохля, банковский служащий, вел он себя, как генерал на войне, а вернее – как абсолютный тиран, каким он в своей сфере и был; поэтому не случайно Де Милль также был предан архиконсервативной политической повестке дня. Многие друзья Юла (и еще больше друзей Джин) попали в черные списки, включая и нашего соседа композитора Сола Кэплена, а Де Милль в то же время понуждал всех голливудских режиссеров подписывать клятву верности – или же они потеряют свое членство в Гильдии. То было сродни охоте на ведьм на слушаниях Комитета по антиамериканской деятельности, которые тоже проходили в то время. Против предлагавшейся клятвы проголосовало сокрушительное большинство членов Гильдии, которые прекрасно понимали, что́ из себя представлял Де Милль в политическом смысле – правый экстремист, которому не удалось провернуть полуночный путч[143].
Однако Де Милль, кроме того, бесспорно был отцом-основателем Голливуда. В 1914 году он снял первый в истории полнометражный художественный фильм «Муж индеанки». Де Милль, Д. У. Гриффит, Чарли Чаплин и горстка других людей помогли построить Голливуд с нуля – примерно так же, как Жюль Бринер и его соратники тридцатью годами ранее строили Владивосток. Де Милль создал и первую голливудскую киностудию, еще до основания «Парамаунт Пикчерз».
Таким человеком Юл мог лишь глубоко восхищаться, и возможность сыграть египетского фараона в самой крупной кинопостановке в истории манила неодолимо – и сильно отличалась от его единственного предыдущего фильма «Порт Нью-Йорка».
• 19 •
«Король и я» отправился в турне по Америке в 1953 году, а со спектаклем в путь пустились и десятки семей: жены и дети Короля, танцоры, основные оркестранты, команда рабочих сцены и прочие. Для перевозки декораций, занавесов и реквизита, да еще сотен костюмов, не говоря уже о членах самой труппы, компания арендовала собственные вагоны. Со спектаклем поехал и преподаватель Эрнест Палмер – детей следовало учить даже в пути, а специально для Бриннеров к составам цепляли отдельный роскошный спальный вагон. Так и моталось по всей стране бродячее Королевство Сиам: Вашингтон, Филадельфия, Цинциннати, Кливленд, Детройт, Милуоки, Сент-Луис, Новый Орлеан, Атланта, Канзас-Сити, Форт-Уорт, Чикаго, Денвер, Солт-Лейк-Сити, Портленд, Сан-Франциско, Лос-Анжелес…
Остановки длились по две недели, некоторые – целый месяц. Для Джин напряжение было очевидно, судя по статье о тяготах матери на гастролях, которую она опубликовала впоследствии.
Отели, по описаниям вроде бы выглядевшие прекрасными и удобно расположенными, на деле – пожарные ловушки за много миль от театров. Рестораны стали для каждого такой рискованной игрой, что если нам не предоставляют в распоряжение кухню, извлекаются запрещенные плитки, которые всякий раз после еды нужно прятать от бдительной горничной. К тому времени, когда в городе удается опознать удобный торговый центр, пора переезжать на новое место. Грязное белье накапливается в умопомрачительных количествах, а отдавать его в стирку нельзя, потому что нам вскоре уезжать. Следовательно, ванная комната превращается в мокрый и опасный склеп, весь увешанный стиркой, которая упрямо отказывается сохнуть.
Наконец, когда дневные труды окончены, и у тебя появляется время спокойно посидеть с мужем, его просто нет дома. Он ушел на работу, и ты остаешься одна в совершенно незнакомом городе. А поскольку на одном месте живешь не так долго, чтобы завелись друзья или устроился какой-то распорядок жизни, одиночество и оторванность от всего мира становятся твоими злейшими врагами, с которыми приходится бороться любыми подручными средствами.
…На долю жены выпадает иметь дело с бесчисленными вереницами пустых гостиничных номеров в бесконечной череде незнакомых городов. Жена актера вечно одна, часто – после изматывающего дня, она лишена друзей и знакомой обстановки своего дома. Если она не соблюдает сугубую осторожность, ее вскоре охватывает глубокое отчаяние: чем же заняться по вечерам?
Это было очень далеко от публичного и приватного образа блистательной и творческой состоявшейся актрисы. Время от времени по ходу гастролей она принималась больше пить, что было бы невозможно при каких-то иных обстоятельствах.
В конце 1954 года, когда «Король и я» полгода шел в Чикаго, мы въехали в небольшой съемный дом в пригородном Эванстоне, чтобы я – а тогда меня уже все звали «Роки» – мог ходить в третий класс отличной частной школы и получил хоть какое-то представление о нормальной жизни. Для Вирджинии то был весьма необходимый отдых от гастрольного распорядка: она быстро подружилась с соседями и восторгалась само́й обычностью жизни, хоть и краткой.
Юл воспользовался этой передышкой, чтобы вернуться в университет. Неугомонность и любопытство обрекали его на скуку, если нечего было преодолевать, а когда он в свое время ходил на занятия в Сорбонну, ему было остро очевидно, что университетского образования ему не хватает. Поэтому теперь он записался на курс по фотографии и магистерский семинар по философии в Северо-Западном университете в Эванстоне, по пути к театру в центре Чикаго. Философию Юл изучал у доктора Пола Шилппа, чью ферму мы навещали по выходным. Некоторое время спустя к Шилппу явился репортер – его издание хотело выяснить, что профессор думает о Юле Бриннере. Шилпп ответил так: «Мистер Бриннер учился у меня в классе этики, а также в классе религиозной философии зимой 1955 года здесь, в Северо-Западном университете… В то время он играл [в постановке «Король и я»]. Но… я точно знаю, что он читал не только все необходимое для занятий, но и гораздо больше. Я подчеркиваю: он – один из самых блестящих студентов, что у меня когда-либо учились».
Через несколько лет Юл объяснял журналисту «Сэтердей Ивнинг Погст», почему он выбрал философию, и нарисовал при этом достаточно откровенный автопортрет: «Большинство интервьюеров опасаются говорить о философии своих собеседников. А ведь это – самый прямой путь к характеру. Философия мотивирует весь жизненный уклад человека, все его действия. Всю свою жизнь я понимал вот что: в самом наиреальнейшем смысле человек проживает свою жизнь в одиночестве. В сущности, ты рождаешься, живешь и умираешь один. Если можешь научиться жить в мире с собой, отношения, которые приобретаешь с другими людьми, случайные или близкие, даются легко»[144].
Философия, предлагавшаяся Юлом, соответствовала тому миру неопределенности и заброшенности, в котором он вырос на Дальнем Востоке России.
Я вырос и с другой концепцией… Смерть – неотъемлемая часть повседневной жизни. Ты знаешь, когда родился, однако смерть твоя не предсказана. Почему ты считаешь, что она случится через десять лет? Почему не сегодня вечером? Но если бы я знал, что умру сегодня вечером, с какой тщательностью я прожил бы сегодняшний день! Насколько яснее слышал бы песни, что люди поют вокруг. Насколько глубже вглядывался бы в лица друзей. Именно это я имею в виду, когда говорю: если бы мог поистине знать свою жизнь хотя бы одну минуту, в эту минуту ты бы вместил все.
…Однажды преподаватель философии спросил, не откажусь ли я, если студенты его класса зададут мне несколько вопросов.
– Почему бы и нет? – ответил я.
И вот один молодой человек спросил:
– Мистер Бриннер, не могли бы вы объяснить, по какой ужасной нужде вы, человек, который уже всего достиг, в свободное время посещаете университетские занятия? Вы играете восемь спектаклей в неделю, вам далеко ездить, однако в те несколько свободных часов, что вам выпадают, вы учитесь и ставите перед собой новые цели. Что вас снедает?
Я ответил ему:
– Лишь когда я умру и меня похоронят, настанет такое время, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне сказали: «Он достиг». Если вы неумны и считаете, что вы достигли всего до этого срока, вы уже мертвы. С этого момента и впредь вас ожидает лишь застой. Вы – просто ожившее мясо… Меня подгоняет не нужда… – Скорее все потому, что «у Юла в крови лишняя кварта шампанского», как кто-то когда-то сказал обо мне.
Помню, как читал в детстве это интервью и спрашивал себя, не родился ли и я сам с этой лишней квартой шампанского в крови. Перечитывая его сейчас, я понимаю, насколько по сути русской была его философия – и по характеру своему, и по своим последствиям: «Если бы я знал, что умру сегодня вечером…»
В тот же день, когда гастроли «Короля» заканчивались в Чикаго, Юл отправился в Египет снимать свои первые сцены в «Десяти заповедях»: для исхода евреев из Египта Де Милль уже построил там самые крупные декорации в истории. На самом деле вся статистика этого фильма была чрезмерна, начиная с бюджета в 13 миллионов долларов.
По своему влиянию на жизнь Юла Де Милль уступал только Михаилу Чехову, а со временем и превзошел его. Де Милль был известен тем, что не водит дружбы с актерами, но отношения с Юлом у него были иные. Оператор «Десяти заповедей» Сэм Кавано так описывал отношения этой парочки:
По опыту я знал, что Де Милль не терпит ни малейших возражений. Да он просто дверью хлопал, если кто-то осмеливался воспротивиться. В случае же с Бриннером все было иначе. Как будто Де Милль внимательно прислушивается к умненькому любимому ребенку… Старик воспринимал советы Юла безропотно. Позднее по сценарию требовалась сцена, когда толпа пытается рассказать Фараону о своих бедах – почти по очереди. Юлу показалось, что эффект будет драматичнее, если все собравшиеся будут лепетать о своем почти одновременно. Де Милль согласился, и всю сцену переписали.
Юл всегда с гордостью признавал отношения отца и сына, что сложились и упрочились между ними. В одном интервью Юл признался, что ощущает «близость с мистером Де Миллем – он думает так же, как я, только гораздо масштабнее»; Юл всегда называл режиссера не иначе как «мистером Де Миллем». А тот отвечал на комплимент: «Юл Бриннер – самая мощная личность, какую я видел на экране: гибрид Дагласа Фербэнкса-старшего, Аполлона и чуточку Геркулеса».
Оба они были преданы собственным убеждениям, к которым, в общем и целом, пришли методичным анализом, включая консультации с каким-либо единственным признанным авторитетом в избранной области. И тот, и другой презирали тех, кого считали нерешительными. И оба могли вести себя, как абсолютные тираны, намеренно держа в напряжении всех, кто вращался вокруг по своим орбитам. Например, у Де Милля выработалась любопытная привычка неожиданно садиться – без предупреждения, где бы на съемочной площадке он ни находился. Один его специальный ассистент отвечал только за это: чтобы под мистером Сесилом Б. Де Миллем постоянно оказывался табурет, и великий режиссер не грохнулся бы на задницу. По словам самого Де Милля, это помогало всем на площадке держать ухо востро. Именно такие и множество подобных анекдотов с гордостью любил рассказывать Юл. Также Юл учился у Де Милля всему, чему только мог, в смысле работы перед камерой, а особенно – как пользоваться эффектами освещения к своей выгоде; уроки эти впоследствии служили ему добрую службу на протяжении всей карьеры в кино.
Юл достаточно неплохо ладил с Чарлтоном Хестоном – кассовой звездой фильма. Хестон принадлежал ко второму поколению великих голливудских звезд звукового кино. В первом правили Кларк Гейбл, Гэри Купер, Хенри Фонда, Джон Уэйн, Джимми Кэгни, Спенсер Трейси, Джеймз Стюарт и Кэри Грант, которые и в 1950-х продолжали играть, как мало кто умел. Но после войны и в начале пятидесятых возникло новое поколение ведущих актеров. Как группу их отличало, в первую очередь, то, что, главным образом, у всех были шире грудь и плечи. Случилось так потому, что контора Хейза, диктовавшая моральные нормы на экране, позволила мужчинам в кино снимать рубашки (как Гейблу в «Это случилось однажды ночью»). Самыми заметными в этой группе были Бёрт Ланкастер, Кёрк Даглас, Роберт Мичем, Энтони Куинн, Чарлтон Хестон, а после «Десяти заповедей» – и Юл Бриннер.
Успех Юла, похоже, больше напоминал феномен Рудольфа Валентино, а не популярность целой школы его современников. Казалось, он принадлежит к иной биологической породе, отличной от Грегори Пека, Рея Милленда, Уильяма Холдена или Гленна Форда, настолько экзотически он из них всех выделялся: никакому режиссеру и в голову не пришло бы выбирать между Кэри Грантом, Джеком Леммоном и Юлом Бриннером. Его экзотическая маскулинность задевала иные струны, маня опасностью и восторгами необычайного. В этом отношении романтическая личность Юла Бриннера воплощала собой квинтэссенцию иностранца неведомого происхождения: не вышколенного джентльмена, а павшего на землю божества. Может, именно это имела в виду Гедда Хоппер, написавшая как-то в своей колонке: «Какой совершенно лысый актер считает себя лучшим среди равных?» Со временем он начал относиться либо с искренней теплотой, либо с завистливым уважением к каждому своему коллеге, но в молодости не всегда бывал столь щедр. Однако стоило хоть где-нибудь возникнуть конкуренции – неважно, где, какой и с кем, – и Юл просто вынужден был побеждать.
В Египте преимущественно снимались сцены действий – в частности, на колесницах. Юл согласился с Де Миллем: публика должна видеть – в передней колеснице, ведя за собою сотню солдат в погоню за Моисеем, действительно Юл Бриннер. Но колесницы были транспортом, мягко говоря, ненадежным, особенно – повозка Юла, вся украшенная фараонскими причиндалами. Мало того: в костюм фараона входил голубой металлический шлем, возвышавшийся надо лбом почти на восемнадцать дюймов. Он концентрировал сумасшедший жар и весил около двадцати фунтов. Неудачная колдобина, колесница подскочит, и Юл может свернуть себе шею или вылететь под колеса и копыта сотен колесниц, которые следом за фараоном гонят каскадеры. Вот эту сцену и последующую погоню, в основном, и пришлось Юлу снимать в Египте – остальное дорабатывали в павильонах «Парамаунта» в Голливуде.
Едва закончив с Де Миллем, Юл приступил к съемкам «Короля» в студиях «XX век – Фокс» в Уэствуде, где в наши дни стоит Сенчури-Сити. Он по-прежнему очень не любил руководство «Фокс», которые десятком лет раньше прилагали все усилия, только бы Вирджиния не вышла замуж за «какого-то цыгана из Нью-Йорка», пока у нее контракт со студией. Зная, что «Фокс» все равно не найдет другого актера, который попробовал бы примерить на себя эту роль после его национального триумфа на сцене, Юл вел себя капризно, требовательно, а иногда и прямо-таки унижал «пиджаков», заправлявших студией, как он их часто называл.
«Ньюзуик» в материале номера о Юле цитировал его друга режиссера Ричарда Брукса: «Юл относится к студийной публике с подозрением, однако против маленьких людей ничего не имеет – только против больших. Его бесит лицемерие тех, кого он называет “паразитами индустрии”. Он считает, что продюсеры, агенты и прочий студийный персонал не приносят никакой пользы, и злорадствует, если кого-то из них ловят на обмане: это лишь подтверждает, что они бесполезны, как он и рассчитывал»[145].
Там же приводилось и такое мнение:
Администратор студии «XX век – Фокс», которую Бриннер часто называет «XIX век – Фокс», вспоминает:
– Однажды на вечеринке Юл много выпил и соглашался разговаривать только о том, что ненавидит. А едва речь заходила об этом, разражался довольно хамскими монологами. Со мной он вел себя достаточно мило, пока не узнал, что я работаю на студии. В нем тут же проснулся линчеватель. Никогда в жизни меня так не отчитывали. По его мнению, все руководство студии – бездарные остолопы.
Другой знакомый рассказывал журналу: «Он так ненавидит некомпетентность, – говорит один из его друзей, – что часто бывает просто жесток». Продюсер фильма Чарлз Брэкетт рассказывал, что Юл его заводил и «угрожал уйти со съемочной площадки, если его замыслы немедленно не воплотят. На сценарных совещаниях за ним всегда оставалось последнее слово. Стоило ему присесть на корточки на полу, как бейсбольному ловцу, как я понимал, что мне грозит нотация». Наконец, писал «Ньюзуик», Брэкетт довел Юла до такого раздражения, что актер сказал ему: «Вы пока не в курсе, но вы уже умерли несколько лет назад».
В такую ярость Юла приводили планы студии фундаментально изменить саму природу и сюжет «Короля», которые он сам помогал разрабатывать на первоначальных репетициях пятью годами раньше вместе с Роджерзом и Хаммерстайном. Чтобы «сделать оперетту более визуальной для кинопленки», руководство «XX век – Фокс» желало, чтобы смерть короля стала результатом его боя с белым слоном, а не подразумеваемой боли сердечной от самореализации, вызванной жесткой критикой со стороны миссис Анны.
Каждый шаг давался Юлу с боем, но он выигрывал их почти все и преуспел в том, что стал практически со-режиссером фильма. Для начала контракт, который он себе затребовал, оговаривал одобрение прочего актерского состава, поэтому на главную женскую роль Юл выбрал Дебору Керр, которой восхищался и которую обожал. Но с учетом его театрального опыта с Михаилом Чеховым, телевизионных драм, разыгрывавшихся в прямом эфире перед двумя камерами на «Си-би-эс», и, наконец, непреклонного Сесила Б. Де Милля Юл произносил свое веское слово практически во всех аспектах любого кадра и ракурса. Номинальный режиссер фильма Уолтер Лэнг говорил позднее: «Если ты с ним не соглашался, то рисковал оказаться “дураком проклятым”, а то и чем-нибудь похуже. Юл утверждал, что режиссер картины на самом деле – он, а я тут вовсе не нужен. И что без него, который правит бал, кино в конце концов станет второсортной поделкой». А исполнительница главной женской роли Дебора Керр признавалась журналисту: «Именно его творческие идеи и наставления сделали “Короля” великолепной картиной. Если бы не Юл, фильм стал бы просто очередным приятным голливудским мюзиклом. Юл чудесно умеет работать с актерами – он способен извлекать из них такое, о чем они и не подозревали. От него ничего не укрывалось, его интересовали даже мельчайшие сцены. Я вечно буду ему благодарна за то, что в фильме он сделал меня лучше, чем я есть в жизни».
Тем не менее эта первая большая роль Юла навсегда осталась для него разочарованием: он видел в фильме одни недостатки. Самое главное: из-за шумной камеры «Синемаскоуп» все диалоги в нем пришлось переозвучивать после съемок – а этим гасилась спонтанность исполнения. Некоторые ракурсы и кое-какой монтаж раздражали Юла дальше некуда. Но он все равно был вполне уверен, что фильм станет ударным.
В 1955 году, снимаясь в Лос-Анжелесе в одном фильме за другим (а третьи были уже запланированы), Юл купил скромный дом в Брентвуде, у Беверли-Хиллз, по адресу Норт-Лейтон-драйв, 223. Теперь возле этого места примостился «Музей Гетти». Юлу требовалось быть в разумной близости от киностудий, а мне, восьмилетнему, нужен был постоянный школьный распорядок дня и такой район, где я мог бы найти друзей. То был небольшой домик вроде ранчо – лишь две спальни, едва ли больше бунгало, но там имелся небольшой задний двор, выходивший в сухую уединенную лощину, и Юл с энтузиазмом устроил там себе огородик со свежими травами.
В подвале он организовал фотолабораторию: после занятий в Северо-Западном университете он всерьез увлекся искусством черно-белой фотографии – главным образом (но не исключительно) портретной, – и проявлял все свои работы самостоятельно, хотя вскоре разрешил кое-что проявлять и печатать и мне. Как и с другими его «увлеченьями», в которых стремление к совершенству сочеталось с любопытством, фотография у него переросла в одержимость – простого фотолюбительства для него уже было недостаточно. Через год он уже стал членом «Магнума» – элитного фотоагентства (представлявшего, среди прочих, Анри Картье-Брессона, Эрнста Хааса и Инге Морат; все они стали друзьями Юла). Когда премьеры «Короля» начались по всей стране, цветные слайды Юла со съемок напечатал журнал «Лайф».
Хотя дом наш был скромен, имелись в нем и драматические штрихи. Почти весь маленький столовый альков занимало красное кресло, похожее на трон, а с высокой спинки его свисал хлыст с серебряной рукояткой из «Десяти заповедей»; обеденный стол представлял собой подлинный 5-футовый циферблат часов Реймсского вокзала во Франции, установленный на настоящую дровяную печурку из французской теплушки. А в родительской спальне весь пол закрывал мягкий белый мех; «плавучая» кровать королевского размера, обращенная к камину, на самом деле была подвешена к потолку на индийских слоновьих цепях из полированной меди, а изголовьем была прикреплена к стене. На заднем дворе Юл установил купленный им полноразмерный батут – в 1950-х это еще было редкостью, – потому что мне хотелось выучиться акробатическим номерам, который он выполнял на трапеции в «Зимнем цирке».
Еще до начала его карьеры в кино – царственных ролей азиатского короля и египетского фараона – Юл стремился расширить свой актерский диапазон: он слишком уж хорошо сознавал опасность того, что ему, как и Рудольфу Валентино, студийное руководство станет отныне предлагать лишь экзотические роли с мечами и в сандалиях. В то же время акцент и особенности его личности были настолько отчетливо иностранны, что ни одна студия и не подумала бы всерьез предлагать ему роль в вестерне.
Неудивительно поэтому, что Юл начал искать, каких русских персонажей мог бы сыграть, намеренно поддерживая загадочность своего происхождения: он неуклонно предпочитал оставаться человеком-загадкой, нежели объяснять кому-то уникальные хитросплетения семейной истории Бринеров. Но ему естественно было начать разрабатывать для кино некоторое количество русских произведений, включая «Братьев Карамазовых» Достоевского и «Тараса Бульбу» Гоголя. Кроме того, к нему обратился блистательный русский режиссер, которым Юл весьма восхищался и который Юлу очень нравился, – Анатолий Литвак. Ему было чуть за пятьдесят, низенький симпатичный мужчина, преждевременно поседевший, с сильным неопределенным акцентом. Родился он на Украине, а работать начал в театре в Санкт-Петербурге примерно тогда же, когда Борис познакомился с Марусей. Затем он работал монтажером у Пабста в Германии. Огромный успех он снискал во Франции и Англии (например, с фильмом «Майерлинг», 1936), а затем эмигрировал с Штаты и во Вторую мировую дослужился там до звания полковника.
Литвак предложил Юлу участвовать в «Анастасии». Она ставилась по бродвейской пьесе – беллетризованному пересказу подлинных событий, основанных на самозванстве, что вполне походило на «Короля». В течение нескольких лет говорившая по-немецки женщина по имени Анна Андерсон утверждала, что на самом деле она Анастасия, дочь царя Николая II, и что ей таинственным образом удалось бежать с места избиения всей императорской семьи в 1918 году – из подвала, где их держали в заточении. Действие фильма происходило в Париже в 1930-е, когда там жил и Юл. Ему выпала роль продажного русского генерала – эдакого свенгали, который вербует и дрессирует потерявшую память бездомную, которую играла Ингрид Бергман. Она должна была выдать себя за Анастасию и унаследовать имперское состояние за богатых белоэмигрантов, которые вложились деньгами в поддержку ее заявлений.
Фильм снимался в Париже и Лондоне в 1956 году; мы с матерью на лето приехали к Юлу в Европу. Юлу выпала возможность сводить жену и сына в «Зимний цирк» и познакомить их с акробатами, клоунами и укротителями львов, с которыми он работал в юности. Он привез нас домой к Кокто в Мийи-ля-Форе к югу от Парижа, где Кокто провозгласил себя моим «духовным крестным отцом». Кроме того, Жан сказал мне, очень серьезно: «Юл Бриннер, должно быть, безумец, если воображает, что может быть Юлом Бриннером». (Через несколько лет я обнаружил, что это он приспособил к случаю свое хорошо известное замечание о Викторе Юго: «Hugo était un fou qui se croyait Hugo».) Годом ранее Кокто избрали во Французскую академию – в группу из сорока «бессмертных», самые сливки традиционной французской высокой культуры. Принять эту честь от классического истеблишмента для авангардиста означало, что «анфан террибль» парижской культуры на самом деле всегда был консерватором.
Однажды вечером в то лето я засиделся со взрослыми допоздна, чтобы познакомиться с семейством Димитриевичей в том клубе, где они выступали. Алеша и вся его родня лишь недавно вернулись из Аргентины, куда они уезжали, чтобы не попасть под нацистскую оккупацию. Для «Анастасии» Юл нанял цыганскую семью, которая приняла его как родного, чтобы они вместе снялись в сценах в ночном клубе, воссоздававшем одно из настоящих заведений, где Юл с ними выступал. Несколько осторожнее он представил нас с мамой своей партнерше Ингрид Бергман, с которой, по слухам в прессе, у него был роман.
Ингрид, на семь лет старше Юла, уже снялась в главных ролях в более чем 30 фильмах; но в начале 1950-х она попала в «немилость» у сладострастной американской прессы – из-за того, что оставила своего шведского мужа ради итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини, которому вскорости родила троих детей. «Анастасия» была ее первым американским фильмом после этого брачного скандала, к которому сама Ингрид относилась очень легко; но если бы за этим последовал скандал с Юлом, он превратил бы ее в серийную сокрушительницу семейных очагов.
Судьбоносным годом в карьере Юла стал 1956-й, когда состоялись премьеры трех его крупных фильмов, и он взлетел в своей профессии на самую вершину, став ведущим актером мира. Все три фильма снискали критический и кассовый успех, и их быстро стали выдвигать на разнообразные награды Американской киноакадемии. Песни из «Короля» заполнили эфир вместе с первыми международными хитами Элвиса, а «Анастасия», песня из одноименного фильма в исполнении Пэта Буна, несколько недель не выпадала из верхней десятки хит-парадов.
Юл Бриннер превратился в икону еще до того, как его работу увидела широкая публика, – при помощи только своего имени и бритой головы. Его потрясло, сколько внимания досталось его лысому черепу. Это многое говорит о культуре того времени – пятидесятыми правили видимость и стыд: мужчины были обязаны стесняться лысины, а не выставлять ее напоказ, как это делал Юл. В прессе внезапно появилась масса шуток про лысых, и это его раздражало… хоть он и сам иногда отпускал шуточки про собственную лысину, если они были смешные по-настоящему.
Вместе с обрушившейся на него известностью в прессе возобновился и интерес к его частной жизни, которую он обсуждать ни с кем не желал. Но не возражал, если речь заходила о его аппетите. Статья в журнале «Редбук» начиналась так:
Ровно в пять каждое утро в небольшом лос-анжелесском доме из красного дерева просыпается лысый мужчина средних лет. Просыпается в мучительном убеждении, что сейчас умрет от голода. Мужчина этот – невероятный Юл Бриннер… которого везде превозносят как самого волнующего актера на киноэкране после Рудольфа Валентино.
В пять утра Бриннер бродит по кухне – у него начинается день. Завтрак его состоит из большого бифштекса, иногда – двух, которые он запивает кофе. Еще до девяти утра тигриный голод настигает его снова, и он борется с ним до двенадцати, поглощая несколько огромных бутербродов с мясом. На ланч он ест отбивные, бифштекс, индейку или ростбиф и затем способен продержаться до двух, когда посылает за сэндвичами и пирогом. В течение дня он подкрепляется еще несколько раз. За обедом Юл съедает большие порции ростбифа с хлебом и картофелем и десерт. Перед сном он еще раз перекусывает и сразу засыпает. После ланча, по его собственному утверждению, он бы тоже вздремнул, но едва смыкает глаза, голод обрушивается снова.
Эта гастрономическая одержимость никак не влияет на замечательную фотогеничность Бриннера. Рост его – лишь чуть-чуть не достигает шести футов, вес – 180, а мускулатура атлетическая[146].
Большинство статей сосредоточивались на действительном происхождении Юла и обилию противоречий в его прошлых биографиях. Неоднозначное отношение его к обоим родителям продолжало эхом отзываться во всех его выдумках. Его собственный брак с Вирджинией на втором десятке лет становился все менее счастливым, и Юл, похоже, начинал больше сочувствовать Борису в том, что его отец оставил меланхоличную Марусю: быть может, оставлять позади несчастливый брак и есть правильный поступок. Так его собственная брошенность в детстве начинала смотреться под совершенно другим углом.
Например, если верить «Редбуку»,
…Юл Бриннер, по его собственным словам, отчасти монгол, отчасти – румынский цыган, а отчасти – смесь иных национальностей с горячей кровью, в зависимости от его настроения. Несколько лет назад он был отчасти русским и родился в России, но затем передумал. Теперь он предпочитает местом рождения называть остров Сахалин у восточного побережья Сибири. Возраст его постоянно меняется. Когда я беседовал с ним на студии «Парамаунт», где он играл брутальную и интересную роль Фараона в киноленте Сесила Б. Де Милля «Десять заповедей», ему было 34.
Однако версия «Колльерза» гласила следующее:
Бриннер родился на Сахалине – крупном острове у побережья Сибири. В «Мировом альманахе» годом его рождения значится 1915, однако в паспорте стоит 1920-й. Отцом его был монгол, родившийся в Швейцарии, – он получил швейцарское гражданство и изучал горное дело в университете Санкт-Петербурга. В Швейцарии Бриннер-pére[147] сменил свое монгольское имя Тайджи-Хан на довольно распространенную швейцарскую фамилию Бриннер. Мать Юла была румынской цыганкой – она скончалась при родах.
Первые восемь лет жизни Юл провел в Китае, где его отец владел серебряными и свинцовыми копями, а также экспортно-импортным бизнесом. К девятому году бабушка по материнской линии перевезла Юла к себе в Европу; вскоре после переезда она умерла. Юл отказывается рассказывать о последующих пяти годах жизни:
– Кое-каким людям следовало поступить со мной правильно, но они подвели меня, и я хочу об этом забыть[148].
Репортеру «Сэтердей Ивнинг Пост» тем не менее он предложил целый ассортимент версий:
– Согласно одной истории, я родился на Сахалине, острове у берегов Сибири. Согласно другой, моим отцом был монгол, которого угораздило родиться в Швейцарии, что дало ему право на швейцарское гражданство. Существует еще одна байка о том, что мой отец позаимствовал фамилию Бринер, заменив ею свое настоящее имя Тайджи-Хан, а я просто добавил к ней еще одно «н». Некоторые утверждают, что имя Тайджи-Хан было дано при рождении мне, однако не уточняют, можно ли называть меня Тайджи-Ханом-младшим, или у моего отца была какая-то совершенно другая фамилия. Еще по одной версии, моей матерью была румынская цыганка, а в восемь лет мать моей матери забрала меня с собой в Европу и вскоре после нашего приезда умерла. Почему бы вам одной из этих версий не воспользоваться?
Глядя мне прямо в глаза – а когда Бриннер глядит вам прямо в глаза, чувствуется его магнетизм, как будто слышишь щелчок, – он продолжает:
– Если дадите себе труд выяснить, откуда берутся все эти истории, вы обнаружите, что ни одну из них я на самом деле не рассказывал. Все они происходят из разговоров, которые кто-то якобы вел со мной, а когда журналисты приходят ко мне за подтверждением, я всем говорю: так оно и есть… Потому что вне зависимости от того, какую историю я им рассказываю… эти писаки сочиняют обо мне небылицы, а как только они что-нибудь измыслят, сразу начинают в это верить сами. Эти истории они рассказывают на вечеринках и званых обедах, и они становятся частью мифа о Бриннере. Мне же не хочется никого ставить в неловкое положение – кто я вообще такой, чтобы все эти байки опровергать? На самом деле, мне даже нравится… Возможно, журналисты получат совсем не то, за чем приходили, но по крайней мере, скучно не будет…
Люди немного путаются в моей дате рождения, но правильная такова – 7 июля 1920 года. Место – небольшой городок Елизаветинск…
Просто подначиваем гаджё…
Для тех немногих, кто знал его с детства, это лишь подтвердило его исключительность, в которой вообще-то никто и не сомневался. Его сестру Веру тоже принимали с большим успехом – она пела во втором составе премьерной постановки оперы Джанкарло Менотти «Консул», а также в первой в истории цветной телевизионной трансляции оперы – «Кармен» по «Эн-би-си» под управлением не кого иного, как Артуро Тосканини. Моя тетушка Вера была нежнейшим существом, после мамы – самой женственной фигурой в моей жизни. Ароматное облако мехов, в которое я утыкался носом. Марусина сестра обосновалась с дочерью Ириной в Сан-Франциско после того, как ее муж Феликс скончался на Дальнем Востоке. Почти совсем ослепнув от катаракты, Вера могла насладиться триумфом племянника за свою покойную сестру Марусю. Тетка знала о его амбициях стать звездой с тех пор, как ему исполнилось двенадцать.
Юл щедро помогал всем своим родственникам, которым, как выяснилось, и его успех, и его помощь были жизненно необходимы. Его неродной дядя Шура Остроумов, взявшийся управлять остатками имущества Жюля Бринера, нехорошо поступил со вдовой Феликса Верой и вдовой Бориса Катериной: обе они не получили почти ничего после окончательного распада деловой империи Жюля. Пока Ирина не стала признанным ювелиром, они с матерью в значительной степени зависели от Юла. Как и Катерина, умиравшая от рака в Лондоне, в точности когда Юл снимался там в «Анастасии». Юл заботился о мачехе до самого конца, а кроме того стал законным опекуном ее дочери Кэтрин, которой исполнилось восемнадцать, – той грозило без единого гроша попасть под опеку суда. Кроме того, Юл регулярно помогал своей сестре Вере: хотя профессиональная карьера ей удавалась, они со вторым ее мужем, бывшим военным моряком Роем Реймондом, испытывали финансовые затруднения. Юл помог Рою выучиться на инженера-электрика, когда Вера родила дочь Лору.
Короче говоря, после уплаты налогов, всех расходов и выплат своему персоналу, включая верного своего костюмера и секретаршу-англичанку, не говоря уже об агентах, адвокатах и прочих, Юл оставался почти нищим. Слава его росла вместе с его собственной маленькой, но расширявшейся империей, а вот тощие сбережения – отнюдь. Конечно, большую роль играла его чрезмерная расточительность. Вирджиния по большей части была экономна, потому что – хотя алкоголь и отчаяние и затуманивали ее суждения – она была полна решимости изображать обычную американскую домохозяйку и мать семейства, пусть это ей и не всегда удавалось. Ее постоянно заботила долгосрочная финансовая стабильность в шатком мире Голливуда. А вот Юл с готовностью утверждал, что деньги на самом деле не ценит – а следовательно, и бережливость. Его растили в семье промышленников, он привык к роскоши: летние месяцы, проведенные в сельском поместье в Сидеми, с яхтами, автомобилями и частными домами от Владивостока до Харбина и Шанхая. После очень реальных финансовых трудностей в ранней юности его готовили к звездному статусу известные транжиры – Марлен Дитрих, Ноэл Кауард и Сесил Б. Де Милль.
Кроме того, сколь бы мало денег ни было у Юла в банке, его агенты Тед Эшли и Айра Стайнер вели переговоры по контрактам еще на три или четыре фильма вперед, что могло принести по сотням тысяч долларов за каждый. «Его хотели все студии до единой, – вспоминал Тед Эшли. – Они были готовы платить неслыханные суммы. Я ни разу больше не работал с такой востребованной кинозвездой». Поэтому Юла не заботили всякие банальности вроде сберегательные счета: он продолжал транжирить деньги, как пьяный матрос… и от жены за такую расточительность ему регулярно влетало. Его обширный личный гардероб включал в себя сделанные на заказ колодки для сделанных на заказ ботинок от Джона Лобба, а также дюжину чемоданов от Гуччи из черной кожи. Свою коллекцию гаванских сигар он держал в хьюмидорах фирмы «Данхилл» в нескольких городах. И пока в Париже снималась «Анастасия», он приобрел новый спортивный «Мерседес 30 °CЛ» – его до сих пор помнят из-за открывающихся вверх дверец «чаячье крыло».
Когда объявили номинации на награду Киноакадемии 1956 года, фильмы с участием Юла получили две за лучший фильм («Король и я» и «Десять заповедей»), две за лучшую женскую роль (Дебора Керр и Ингрид Бергман) и номинацию за лучшую мужскую роль – он сам в «Короле». В этой номинации он состязался с сэром Лоренсом Оливье (которого часто называли лучшим актером на свете) в «Ричарде III», Кёрком Дагласом в «Жажде жизни» и – посмертно – с Джеймзом Дином в «Великане». Тот редкий случай, когда само выдвижение на премию было честью.
Тем приятнее было Юлу, когда премию он выиграл. В тридцать шесть лет одиссея, начавшаяся во Владивостоке, привела его на самую вершину голливудской пирамиды. Его благодарственная речь была коротка. «Надеюсь, это не ошибка, – произнес он, широко улыбнувшись, когда ему вручали статуэтку «Оскара», – потому что я вам ее ни за что на свете не верну!»
• 20 •
В 1956-м всех поразило, когда Хрущев начал свое правление с осуждения Сталина, его массовых убийств и заключения миллионов людей в трудовые лагеря. Исчезли памятники, переименовали сотни улиц, а также десятки городов. Десталинизация привела в ярость руководство КГБ и прочих окопавшихся сталинистов, но пока они хорошенько не сорганизовались, чтобы бросить Хрущеву вызов, приходилось дожидаться случая, чтобы свергнуть и его.
Десятилетие правления Хрущева принесло некоторое облегчение русскому народу-страдальцу – но и новые горести тоже. Среди них была катастрофическая попытка сместить сельскохозяйственную экономическую базу с пшеницы на кукурузу – к такому не были готовы ни сами крестьяне, ни их оборудование. С другой стороны, с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957-го СССР, похоже, действительно стал самой передовой и могучей державой на планете – как и предсказывал сорока годами раньше Ленин.
Между супердержавами росло напряжение, а они меж тем продвигались от атомного к термоядерному оружию; Айзенхауэр с таким напряжением справиться уже не мог – по медицинским причинам, после двух сердечных приступов, да и Хрущев не мог тоже – по самому своему темпераменту, после множества публичных скандалов. Поколение бэби-бума было еще слишком молодо, чтобы помнить Сталина, поэтому для нас низенький плотный сын русского шахтера и стал лицом коммунизма. В 1960 году, когда СССР сбил американский шпионский самолет «У-2», отказ Айзенхауэра извиниться за вторжение в советское воздушное пространство еще более разъярил приземленного и несдержанного Хрущева, и на следующий год он наглядно продемонстрировал русский гнев, сняв ботинок и постучав им по трибуне перед Генеральной ассамблеей ООН. «Новое применение обуви»[149], – гласил заголовок «Нью-Йорк Таймз» вместе с подписью под фотографией: «Премьер Хрущев со своим ботинком перед собой. Он им размахивал и стучал». Кроме того, он немало озадачил ЦРУ и весь мир, прокричав зловещую угрозу «Я покажу вам кузькину мать!». Озадаченный переводчик ООН перевел русскую идиому буквально: «Я продемонстрирую вам мать Кузьмы». Однако ЦРУ и военные теоретики по всему миру отчаянно бросились выяснять, кто такой Кузьма, не говоря уже о его матери – именно этого Хрущев и стремился добиться. На следующий год, когда Советский Союз провел испытания своей первой термоядерной бомбы, ее окрестили «Кузькиной матерью».
Выплески Хрущева могли бы показаться просто глупыми, не будь он одним из двух людей на земле, убежденных в необходимости взаимно гарантированного ядерного уничтожения и располагающих властью осуществить его или же предотвратить. Наконец напряжение достигло своего максимума в октябре 1962 года – в кубинском ракетном кризисе.
Для советского руководства господство над «странами-сателлитами» – Польшей, Литвой, Эстонией, Латвией, Восточной Германией, Чехословакией, Болгарией, Албанией, Венгрией, Югославией и прочими – было прерогативой, основанной на «естественном превосходстве» России. Для поддержания этой иллюзии превосходства Сталин отгородил свою империю от всякого культурного сношения с миром; поначалу так же делал и Хрущев. В СССР имела хождение лишь горсть старых американских фильмов (на 16-миллиметровой пленке), преимущественно добытых у войск союзников. Советские граждане почти ничего не знали об американской культуре. И хотя величайшей кинозвездой на свете в то время был человек, родившийся в России, на родине Юла почти никто о нем еще не слышал. Советы глушили даже сообщения о присуждении «Оскаров».
Как это ни странно, в ту же эпоху русское влияние на американскую культуру шло вверх. Помимо выдающихся классических музыкантов, сбежавших из СССР, все восхищались балетными труппами Большого и Кировского театров – вероятно, больше, чем каким-либо балетом в Америке. Даже в разгар холодной войны образованные американцы проводили грань между русской культурой и советской угрозой. Но величайшее влияние Россия оказывала на Америку на театральной сцене – в особенности в смысле методов актерской игры, разработанных Московским художественным театром тридцатью годами ранее.
В 1930-х по «системе Станиславского» развивалась Театральная группа Херолда Клурмена – особенно с работами драматургов левого уклона, например, Клиффорда Одеца. Но игру по Станиславскому на передний план американского театра и кино вывел Ли Стрэсбёрг, режиссер и преподаватель актерского мастерства, который и называл такую игру «игрой по методу», вместе со своими коллегами Стеллой Адлер, Сэнди Майзнером, Хербертом Бергхофом и Утой Хаген – работами их учеников Марлона Брандо, Ким Стэнли, Джессики Тэнди и других. К концу XX века подходы Станиславского повлияли уже на три поколения американских актеров и режиссеров.
Напротив, Михаил Чехов известен был лишь немногим актерам и режиссерам – лишь тем, кто с ним работал, включая Грегори Пека, Гэри Купера, Энтони Куинна и – вместе с Юлом – его самой знаменитой ученицей Мэрилин Монро, начавшей работать с Чеховым еще в начале своей карьеры в кино и оставшейся ему преданной. В студии она играла Корделию, а сам Чехов – короля Лира. Как-то раз она подарила учителю портрет Эйбрэхэма Линколна с такой надписью: «Линколн – человек, которым я больше всего восхищалась в школе. Теперь такой человек – Вы».
За год до кончины в 1955-м Чехов опубликовал очень важный путеводитель по своим подходам к ремеслу, озаглавленный «Актеру: о методе игры», и обратился к Юлу с просьбой написать предисловие.
Театр «Сент-Джеймз»
Нью-Йорк, 23 июля 1952 г.
Уважаемый мистер Чехов, мой дорогой преподаватель,
…Все началось в конце 1920-х годов, когда я увидел Вас в нескольких пьесах Вашего парижского репертуара: «Ревизоре», «Эрике XIV», «Двенадцатой ночи», «Гамлете» и т. д. Я вынес из них глубочайшее убеждение, что с Вашей – и только с Вашей – помощью смогу обрести то, над чем работал сам: предметный, ощутимый способ овладеть мастерством той неуловимой сути, что называется техникой актерской игры.
…Я пытался попасть в Вашу труппу, когда Вы только основали Чеховский театр в Дартингтон-Холле в Англии. Затем я узнал, что Вы с большей частью своей труппы переехали в Америку, чтобы продолжить работу в Коннектикуте, и мне потребовалось несколько лет и сложное путешествие через весь мир, чтобы самому наконец перебраться в Америку с единственной целью – работать с Вами.
…Если ты пианист, у тебя имеется внешний инструмент, которым учишься овладевать, работая пальцами и напряженно упражняясь. С помощью этого инструмента ты, творческая личность, выступаешь и доносишь до публики свое искусство. Но если ты – актер, художник в тебе должен владеть самым трудным инструментом – самим собой, своим физическим и эмоциональным существом…
Ваш,Юл Бриннер[150]
Мэрилин изучала книгу «Актеру» рьяно, как Библию, а во всех своих первых ролях полагалась исключительно на чеховскую технику игры. Если она пропускала занятия, ее терзали искренние угрызения совести. В одной записке она писала: «Дорогой мистер Чехов, прошу Вас, не отказывайтесь от меня. Я знаю (и это так мучительно), что испытываю Ваше терпение. Мне отчаянно нужна работа и Ваша дружба. Скоро позвоню Вам. С любовью, Мэрилин Монро». После смерти Чехова ее наставником стал Георгий Жданов. Поэтому, услышав о том, что Юл готовится экранизировать классический роман Достоевского «Братья Карамазовы», она тщательно его прочла – еще Чехов говорил ей, что это величайшее литературное произведение, – и, работая над «Зудом седьмого года» с режиссером Билли Уайлдером, вызвалась играть роль Грушеньки. Голливудская пресса высмеяла этот замысел: сообщалось, например, что Билли Уайлдер ответил Мэрилин, дескать, он будет счастлив поставить с нею «целую серию карамазовских сиквелов – например “Братья Карамазовы встречаются с Эбботтом и Костелло”». Студия, державшая Мэрилин у себя на контракте – старый заклятый враг Юла, «XX век – Фокс», – на самом деле даже объявила, что «не имеет никаких намерений позволять Мэрилин Монро играть эту роль». Тем не менее проект привел к ее встрече с Юлом и краткой романтический интерлюдии между ними.
Юл готов был поставить на «Братьев Карамазовых» весь свой новообретенный звездный статус, зная, что американцы не кинутся смотреть душевную и гневную классику о вырождении русской семьи – по крайней мере, в эпоху «Смазливой девчонки» и «Я люблю Люси», вдобавок – в разгар гонки вооружений и времена Хрущева. Режиссером Ричардом Бруксом Юл восхищался и тот ему нравился; они договорились провести пару месяцев вместе в Акапулько, Мексика, на рыбалке, чтобы совместно отредактировать сценарий. «Пока мы разрабатывали его характер в “Карамазовых”, – рассказывал потом в интервью Брукс, – Юл задавал мне вопросов по триста в день. Он ни на минуту не забывал ни о значении этой картины, ни о себе в ней».
Тем временем в Акапулько мы много катались на водных лыжах; проведя несколько недель за отработкой прыжков с трамплина, Юл буквально подошел вплотную к постановке нового мирового рекорда. В свои тридцать семь он по-прежнему был весьма спортивен и обожал чистый восторг полета – как некогда на трапеции.
В романе Достоевского описываются отношения между старым вырожденцем Федором Карамазовым, его четырьмя сыновьями – и огромным наследством, которое им оставила его покойная жена. Изображая четырех братьев, Достоевский пропускает сквозь призму и раскладывает человеческую душу на составные цвета характеров этой четверки – весь человеческий спектр, порожденный союзом растленного Федора и его праведной супруги. Во-первых, Дмитрий, чья невинная душа – чистая дощечка для письмен господа бога. Как Иов, Дмитрий – лакмусовая бумажка божьей власти. И три его брата: монах Алексей, чье сердце отдано богу; журналист Иван, чей интеллект посвящен человеку; и, наконец, Смердяков, слуга и внебрачный сын Федора, чье тело посвящено самому себе. «Карамазовы», кроме того, – роман о деньгах, об этических транзакциях, что производятся с помощью наличных, и о милостях, которыми могут одарить мужчину пылкие женщины.
Самым сложным был подбор актрисы на центральную роль Грушеньки. Она – хозяйка ночного клуба с алчностью мадам и улыбкой девственницы. Оставаясь любовницей Федора, она соблазняет его сына Дмитрия. Роль досталась малоизвестной швейцарской актрисе Марии Шелл, сестре Максимилиана; улыбка-то у нее имелась, но огнем она так и не занялась. Поразительное мысленное упражнение: представлять, что бы сделала с этой ролью Мэрилин Монро и как бы это отразилось на фильме.
Британская актриса Клэр Блум положительно заставила воссиять роль аристократки Кати, которая должна либо овладеть Дмитрием, либо его уничтожить. Всем было очевидно, что работу с Юлом она воспринимает вдохновенно, восторженно: этот опыт освобождал ее, расширял ее актерские возможности далеко за рамки классического репертуара. Их взаимодействие с Юлом было очень насыщенным: «Он – неимоверно тонкий актер, – рассказывала она журналу «Ньюзуик». – Без трюков или нарочитых жестов он может передать мысль именно так, как ему нужно. Самый волнующий человек, с которым мне доводилось работать, и я готова коренной зуб отдать, лишь бы сделать с ним вместе хоть что-нибудь еще раз».
Юл в роли Дмитрия сплавил в своей игре Достоевского с Чеховым. Он создал образ идеалиста, персонажа, который старается перебороть в себе низкое, достичь высочайшего. Вся игра его проникнута невинностью – даже когда Дмитрий желает отцу смерти. Бо́льшая часть действия происходит в Мокром – цыганской деревне под Москвой, где аристократы, как известно, устраивали самые декадентские свои вечеринки. До революции там проживало и выступало семейство Димитриевичей. Музыкальный лейтмотив фильма – старая цыганская песня «Иноходец», и Димитриевичи поют ее точно так же, как в Париже 1930-х.
Фильм выглядел роскошно: богатый темный бархат, опьянение восторгом. Конечно, то был голливудский Достоевский а-ля 1950-е, но на лучший результат едва ли можно было надеяться. Фильм целиком снимался в Калифорнии с искусственным снегом – экономика не позволяла иных вариантов. На глаз это совершенно незаметно, как и дискомфорт актеров – летом 1957 года в тяжелых шубах.
Неочевидно и другое: Юл весь фильм играл, превозмогая жесточайшую в жизни боль. По ночам он спал едва ли пару часов и еле мог выйти из «мерседеса», поскольку в первый же день съемок сломал себе два позвонка. Назавтра, в пятницу, Юл не вышел на работу, но с утра в понедельник уже стоял перед камерами, невзирая на адскую боль. Рубцовая ткань вокруг позвонков уже не давала врачам правильно истолковать рентгеновские снимки. Угроза непрекращающейся острой боли в спине стала очередной повседневной проблемой, однако в натуре Юла не было ни унции жалости к себе. Каждый приступ физической боли он принимал по-мальчишески дерзко, будто наслаждался ею. Но там, где мазохист получает удовольствие, сдаваясь этой боли, Юл находил, что может с нею состязаться и побеждать. До конца жизни Юл считал эту роль в «Братьях Карамазовых» своей лучшей работой на киноэкране.
Вулканическая ярость стала отличительной чертой характера Юла – торговой маркой, которую он перенес с короля Сиама на египетского фараона и свенгали Анастасии; Дмитрия Карамазова тоже переполнял гнев, хоть ярость им, как прочими персонажами, и не владела. Кроме того, присутствие Юла тлело романтикой в каждом фильме, включая «Флибуст