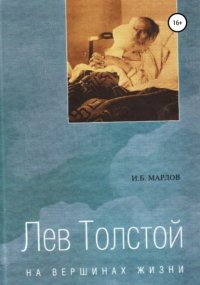
Читать онлайн Лев Толстой. На вершинах жизни бесплатно
- Все книги автора: И. Б. Мардов
Вступление. На духовном переломе
Памяти сына
«Вся наша жизнь есть подготовление к пробуждению —
радость пробуждения»(57.139).
"Мальчик играет в стружки и думает, что столяр их делает,
а столяр кончил работу и сжег стружки" (87.212).
1
И хулителям и почитателям Лев Толстой представляется протестантом и отрицателем – низвергателем или очистителем. Однако учение Толстого вполне могло бы существовать само по себе, без отталкивания и разоблачений и даже без ссылок на те или иные священные тексты. Это всецело самобытное учение, которое по большей части основано на его собственных прозрениях о жизни и человеке.
"Вы осыпаете меня восхвалениями и в то же время упрекаете в странных пробелах в моих рассуждениях и даже в отсутствии какой-либо основы. – Писал Толстой французскому писателю Полю Луазону в 1903 году. – Мне дают всякого рода лестные эпитеты: гения, реформатора, великого человека и т. д. и в то же время не признают за мной самого простого здравого смысла, чтобы видеть, что церкви, наука и искусство, правительства необходимы для общества в его современном состоянии.
Это странное противоречие проистекает из того, что мои критики не хотят, при суждении обо мне, отказаться от своей точки зрения и стать на мою, которая, однако, чрезвычайно проста.
…Для тех, кто только объективно судит о вещах, на основании наблюдений и рассуждений, для тех существование церквей, науки, искусства и особенно правительства должно казаться необходимым и даже неизбежным. Но для того, кто, как я, познал внутреннюю уверенность, вытекающую из религиозного сознания, все*) эти рассуждения и все эти наблюдения не имеют ни малейшего веса, когда они стоят в противоречии с уверенностью религиозного сознания.
*) Все подчеркивания в тексте принадлежат автору этой книги. Шрифтовые выделения самого Толстого (и других авторов) в цитатах выделяются курсивом.
Я не реформатор, не философ, не апостол, но самое меньшее из достоинств, которое я могу себе приписать и приписываю, это – логичность и последовательность.
Упреки, которые мне делают, рассматривая мои идеи с объективной точки зрения, т. е. со стороны их применимости к мирской жизни, подобны упрекам, которые сделали бы земледельцу, вспахавшему и засеявшему зерном местность, за неосторожное отношение к прежде покрывавшим ее кустарникам, траве, цветам и красивым дорожкам. Эти упреки справедливы с точки зрения тех, кто любит деревья, зелень, цветы и красивые дорожки, но упреки эти совершенно ошибочны с точки зрения земледельца, который обрабатывает и засеивает свое поле для того, чтобы себя прокормить…
Так же и со мной. Я не могу не быть последовательным и логичным, так как, делая то, что я делаю, я преследую определенную и ясную цель – питаться духовно. Не делая того, что я делаю, я обрекал бы себя на духовную смерть"(74.16-17).
Мы пишем книгу о духовном пути жизни Льва Толстого, о его прозрениях на этом пути и о тех вершинах жизни, к которым он стремился и которых достиг. И поэтому мы будем сосредоточивать внимание не на отрицаниях Толстого, а на его вопросах самому себе и его ответах на них – себе и людям.
Для лучшего понимания позиции Толстого уместно сразу же привести еще одно письмо Льва Николаевича, написанное в июле 1908 года законоучителю Московского лицея И. И. Соловьеву:
"В одной арабской поэме есть такое сказание. – Странствуя в пустыне, Моисей, подойдя к стаду, услыхал, как пастух молился Богу. Пастух молился так: «О Господи, как бы мне добраться до Тебя и сделаться Твоим рабом. С какой бы радостью я обувал Тебя, мыл бы Твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы Тебе волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада. Желает Тебя мое сердце». Услыхав такие слова, Моисей разгневался на пастуха и сказал: «Ты – богохульник, Бог бестелесен, Ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь дурное». И омрачилось сердце пастуха. Не мог он представить себе существа без телесной формы и без нужд телесных, и не мог он больше молиться и служить Господу и пришел в отчаяние. Тогда Бог сказал Моисею: «Зачем ты отогнал от меня верного раба Моего? У всякого человека свое тело и свои речи. Что для тебя нехорошо, то другому хорошо, что для тебя яд, то для другого мед сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко Мне обращается»*).
*) Ср. в Дневнике того же года: «Внешние знаки поклонения Богу нужны, необходимы людям. Человек, который, будучи один, перекрестился, скажет: Господи, помилуй, этим показывает признание своего отношения к Существующему Непостижимому. Жалки люди, не признающие этого отношения»(56.69).
Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы Вас смотреть на меня, как на этого пастуха. Я и сам смотрю на себя так же. Всё наше человеческое понятие о Нем всегда будет несовершенно. Но льщу себя надеждой, что сердце мое такое же, как у того пастуха, и потому боюсь потерять то, что я имею и что дает мне полное спокойствие и счастье.
Вы говорите мне о соединении с церковью. Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что я никогда не разъединялся с нею, – не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с той, которая всегда соединяла и соединяет всех, всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лао-тзе, Конфуция, браминов, Христа и многих и многих людей. С этою всемирною Церковью я никогда не разлучался и более всего на свете боюсь разойтись с ней"(78.178).
*)Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное) в 90 томах М. 1928 – 1958 г.: в тексте здесь и далее указаны том и страницы.
2
«Сущность обращения моего в христианство – вспоминал Толстой в 1905 году – было сознание братства людей и ужас перед той небратской жизнью, в которой я застал себя… Это было одно из самых сильных чувств, которые я испытал когда-либо»(55.164).
Религиозный перелом Толстого начался по его словам с того, что, вообще говоря, любой из нас может испытать во всякую минуту жизни. Он вдруг «увидел себя вооруженным рассудком животным, лишенным всякого понимания своей жизни (религии), и увидал кругом всех людей такими. Я тогда ужаснулся и удивился только тому, что люди не режут, не душат друг друга. И это не фраза, что я ужаснулся тогда… Я – как человек, стоящий на тендере поезда, летящего под уклон, который ужаснулся, увидав, что нельзя остановить поезда» (55,156—157).
"Чувство, которое я испытал тогда, – читаем в письме Толстого того же времени, – было так сильно, что я чуть не сошел с ума, глядя на спокойствие и уверенность людей вокруг меня, живущих без всякой религии, без всякой заботы о чем-нибудь другом, кроме своих удобств и приятностей жизни… "(76.75).
Желательно, чтобы человек был нацелен на какую-либо из вершин человеческой жизни и устремлен к ней. Что не имеет ничего общего с гордым стремлением первенствования и главенствования, которое всегда вызывало в Толстом неприязнь. Идущий к идеальным вершинам жизни и добивающийся командных высот в ней двигаются в разных и практически непересекающихся плоскостях жизни. Тут задействованы разные и несовместимые образы величия человеческого. Когда человек велик своим действенным стремлением возвыситься над собой, стать ближе к одному из высших оснований духовной жизни, то его величие имеет отношение к этому основанию, а не к его положению среди людей; гордость, тщеславие, «слава людская» мешают ему, сбивают с пути к вершине. В другом случае человек стремится стать выше всех, над людьми, он весь обращен в сторону людей, и духовно недвижим.
Парадокс в том, что стремление к вершине, по-видимому, присуще человеку как таковому, но чуждо подавляющему большинству людей. Каждый живет в той нише, которую ему удалось оборудовать, не пытается покидать ее и взмывать ввысь. Стремление к вершине жизни несовместимо с теми призрачными делами, которыми заняты люди. Всегдашняя устремленность к вершинам жизни – характерное свойство могучего духа. Толстой отражает заложенное свыше в человеческую душу желание подняться над собой. Вся проповедь Льва Толстого направлена на то, чтобы пробудить в человеке стремление к вершинам жизни.
Постоянная устремленность Толстого к самосовершенствованию, к духовному росту, к Богу само собой проистекает из стремления его к вершинам жизни. Жить в Боге для Толстого значит жить на Вершине вершин подлинной и вечной Жизненности. Бог для Толстого, прежде всего, есть абсолютная Вершина (Всевышний), Сверхвершина Жизни, которая призывает и требует человека к Себе и с Которой человек посылается в мир для исполнения в нем не своей, а Всевышней Воли.
Иисус Христос в восприятии Льва Толстого – абсолютная Вершина полноты Жизни в человеке. Вершина тем более ценная, что достигнута она не надмирным существом. Иисус для Толстого это и вершина свободной нравственной жизни человека, и вершина мудрости человеческой, воплощение Вершины Разума и Вершины Любви в человеке.
Я думаю, что сознание и чувство «Вершины» заключено в толстовском чувстве-сознании себя живущим как заготовка чего-то высочайшего и наиглавнейшего в нем. Это качество души Толстого сочетается с другим основополагающим свойством чувства жизни Льва Николаевича – его благодарностью Всевышнему за жизнь в себе, за то, что ему дано жить, что он имеет жизнь – живет. Вместе оба этих основополагающих качества переживания жизни, в конце концов, породили в Толстом (не в его уме, воображении или душевном переживании, а именно в самом его чувстве себя живущим) высшее доступное человеку духовное переживание, переживание любви к Богу, которое Лев Николаевич последние три десятилетия более всего другого ценил, хранил и развивал в себе.
Книга эта, я надеюсь, поможет уяснить и по достоинству оценить то, что опыт устремленности Льва Толстого к вершинам жизни и его переживание Бога имеют всечеловеческое значение.
3
" Я был легкомысленным, дрянным, ни во что не верующим человеком. – Вспоминал Толстой. – Пришло время, когда я почувствовал неизбежно необходимость веры…»(80.83).
Религиозный перелом Толстого состоял в том, что он из человека сначала религиозно безучастного, потом страдающего без Веры стал глубоко верующим человеком. И таковым остался до конца дней.
"Вера? – Спрашивает Толстой в Дневнике последнего года жизни. – Что такое вера? Вера, это – то духовное здание, на котором стоит вся жизнь человека, это то, что дает ему точку опоры и потому возможность двигаться"(58.30).
Первый акт духовного рождения Толстого на исходе пятого десятилетия его жизни – это рождение Веры. Веры не из-за заманок исповедания, не по лирико-религиозному чувствованию, а Веры как таковой, Веры по сверхдушевной необходимости, по внутренней неизбежности верить, по необоримой духовной потребности. Такая Вера – не верование и не только опора в этой жизни, но и воля к благу или воля блага, благая воля, волящее благо. Эта благая воля вызывает усилие, которое необходимо человеку, чтобы вернуть себя к той духовной силе, которая живет в нем, которая часто ослабевает в нем, а то и покидает его.
"Есть одно чудо: это то, что в человеке живет дух Божий. В это одно надо верить и верить в то, что говорит каждому из нас дух Божий"(73.38).
Разные вероисповедания по-разному снабжают человека представлениями и убеждениями, по которым получается так, что, несмотря на старение, смерть, страдания, несчастья, разочарования и неудачи, он в состоянии выходить из этой жизни победителем. Люди потому и не могут без Веры, что именно Вера призвана обеспечивать человеку то, что не содержится в его жизни, – победу в ней. Одна из основных задач всякого вероисповедания – успокоить душу человека в этом отношении. Вера Толстого не есть вера в общепринятом понимании. Толстой говорил, что такой веры у него нет.
"О вере скажу, что я всегда признавал и признаю веру, как доверие, самым шатким и недостаточным основанием для утверждения истины, как для всех людей, так и для самого себя в особенности, и потому веры у меня никакой нет"(79.128).
"Если я родился среди чувашей или индейцев и доверяю всему тому, что мне говорят их учителя, это не вера, а доверие, и основанных на таком доверии вер тысячи противоположных одна другой. От таких вер все зло в мире. Истинная же вера есть только одна та, которая признает существование высшего Начала, Бога, от которого я изшел, к которому приду, которым живу и часть которого составляю. Все верят в это, хотя и не умеют выразить этого и не могут определить, что такое это Начало и каким образом я связан с Ним"(73.304).
Вера для Толстого "есть сама жизнь, или, скорее, неизбежное условие моей жизни, как дыхание, пища для тела. С этим пониманием жизнь моя есть неперестающее благо; без этого понимания я не мог бы жить, не мог бы идти к смерти с тем спокойствием, с которым я иду теперь"(79.155).
Вера Толстого лишена страха и упования, в том числе упования на Бога и страха перед Ним, вот в каком смысле:
"Ты пишешь: надежда на Бога, а для меня важнее всего вера в Бога, в то, что он добро, и всё, что делается – добро для всех нас. Трудно иногда этому верить, как в твоем положении, но я верю, что это так"(73.262).
Вера для Толстого это сила Истины, истинного духовного сознания, которое "как самый удивительный волшебник претворяет всякое зло внешнее в благо и величайшее такое зло в величайшее благо. Не говорю, чтобы я обладал этим свойством, но я имею счастье помнить, предчувствовать его возможность»(82.123)*).
*) Это сказано в письме А.В.Гольденвейзеру, датированному 26 октября 1910 года, то есть за два дня до ухода Толстого из Ясной Поляны.
Такая Вера "не вера, доверие, а религиозное сознание, действенное, руководящее жизнью, если и не всей жизнью, то все-таки признаваемое руководителем жизни. Само собою разумеется, что религиозное сознание не обеспечивает верный успех. Успех будет зависеть от взаимной силы сознания и страстности натуры и окружающих соблазнов. Я говорю только то, что религиозное сознание есть главное условие успеха"(82.103), то есть победы в земной жизни.
Такая Вера определяет смысл жизни человека. Не цель ее, а смысл.
"Цели нашей жизни мы не можем понять. Цель эта понятна только для той воли, которая послала нас в жизнь. Или, скорее, цель есть понятие человеческое и для высшей воли, для Бога ее не существует, как не существует пространства, времени и причинности. Так что смысла нашей жизни, определяемого ее целью, нет и не может быть; смысл ее только в исполнении той Воли, которая послала нас в жизнь, и определяется не целью, а верой в существование этой высшей Воли, Отца Небесного по христианскому выражению".
И здесь же:
"Знание отличается от веры тем, что знаем мы одним рассудком, и поэтому можем определить словами предмет знания; верим же всем духовным существом нашим и, хотя более уверены в предметах веры, чем в предметах знания, не можем словами определить предмета веры"(73.305).
Вера – знание, но знание сверхразумное: в то, например, что есть высшее Начало и есть бессмертная душа у человека. Такая Вера есть то сверхзнание души о себе и Боге, на основании которого и по указанию направления которого человек живет свой век на земле и устанавливает смысл своей жизни.
"…вера каждого верующего человека (я говорю – верующего в очень тесном смысле, так как очень много есть людей, считающихся и сами себя считающих верующими, не будучи таковыми) слагается из сложных, невыразимых духовных процессов, посредством которых человек становится в единении с высшим существом – с Богом, и что поэтому всякое вмешательство людей в такое отношение человека с Богом не может иметь никакого иного влияния, кроме оскорбления самых важных и святых для него чувств. Вследствие чего я думаю, что обязанность истинно верующего человека заключается в уважении к искренним верованиям других людей, в особенности в воздержании от вмешательства в личные верования, определяющие жизнь всякого другого человека. Если я когда отступал от этого правила, то я всем сердцем каюсь в этом и прошу прощения у тех, чувство которых я оскорбил этим(79.240-1).
Эти покаянные слова записаны весною 1909 года, то есть за полтора года до смерти. Мало известно, что в последнее десятилетие жизни Толстой стал вполне веротерпимым человеком. По его мысли всякий человек духовно раскрывает себя по стадиям. Так что все стадии этого процесса законны.
«Я очень счастлив тем, что стал совсем по-настоящему веротерпим. – Читаем мы в Дневнике 1902 года. – И научили меня неверующие люди»(54.163).
В 1906 году, когда Софья Андреевна настолько плохо чувствовала себя, что "пожелала священника", Толстой "не только согласился, но охотно содействовал. Есть люди, которым недоступно отвлеченное, чисто духовное отношение к Началу жизни. Им нужна форма грубая. Но за этой формой то же духовное. И хорошо, что оно есть, хотя и в грубой форме»(55.243).
Объяснение этой точки зрения находим в записи Дневника 1909 года: "Всякое Богопочитание, какое бы оно ни было, возвышает человека. Возвышает тем, что выражает сознание своей зависимости и отношения (хотя бы понимание этого отношения и было ложно) с Высшим, ни от чего независимым существом – Богом"(57.133).
Старинная знакомая Толстого и его ровесница Мария Михайловна Дондукова-Корсакова летом 1909 года (за два месяца до своей смерти) написала сестре Льва Николаевича Марии Николаевне, гостившей в то время в Ясной Поляне, письмо, в котором выражала самые добрые чувства Льву Николаевичу и сожаление о том, что он не в лоне Православной Церкви. Толстой прочел это письмо, растрогался и ответил ей сам.
""Из письма Вашего видно, как из многих писем, которые я получаю от добрых, религиозных, православных лиц, сожаление о том заблуждении, незнании истины, в котором я нахожусь. Вот это-то мне и больно. Ведь то, во что человек верит, чем живет, как Вы это хорошо знаете, для него дороже всего, дороже матери, жены, детей, дороже самого себя. И вот люди, веруя иначе, чем тот, к которому они обращаются, прямо говорят или дают ему чувствовать то, что он – во лжи, а они – в истине. Ведь больнее этого нельзя делать оскорбления…
Милая Мария Михайловна, я не говорю, что я один в истине и что все верующие иначе заблуждаются, но прошу и всех других относиться ко мне так же. Не de gaiete de coeur*) или из тщеславия я отделился от Православия, а с болью и страданием. Отделился потому, что не мог иначе. Основа моей веры – в тех написанных стихах послания Иоанна, которые прилагаю. Внешние же проявления моей веры все в одном – в старании проявления любви: в делах, словах и мыслях, как я выразил это тоже в прилагаемой краткой молитве. Я не говорю, что вера в божественность Христа, в искупление им грехов, в таинства и пр. несправедлива или ошибочна, я знаю только то, что всё это мне совершенно не нужно, когда я знаю заповедь любви, как единую заповедь закона Бога, и все силы моей души употребляю на ее исполнение… Очень может быть, что другим нужны при этом еще другие верования, мне же они только мешали, и потому будем уважать верования друг друга, а главное, любить друг друга, что мне по отношению Вас легко испытывать, даже невозможно не испытывать"(80.83).
*)без причины – Франц.
4
Творческая биография Льва Толстого изучена вдоль и поперек, но в ней немало белых пятен. Вот одно из них.
Весь 1878 год и начало 1879 года Толстой активно собирал материалы к роману "Декабристы" и уже трудился над текстом.
"Дело это для меня так важно, – пишет он в письме конца января 1878 года, в начале работы над романом, – что, как Вы ни способны понимать все, Вы не можете представить, до какой степени это важно."(62.384).
В середине марта того же года он "весь ушел в свою работу".
В апреле: "Кажется, все ясно для начала"(48.186).
В мае: "Нейдет от того больше, что нездоровилось. Но кажется, что полон до края, и добром"(48.69).
К концу лета общество в столицах знало, что Толстой пишет новый роман, и издатели уже обращались к нему с просьбами о печатании.
В октябре, как пишет Софья Андреевна, Лев Николаевич "теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно неспособен думать"*).
*) Цитирую по книге Н.Н.Гусева «Лев Николаевич Толстой». Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М. 1963г. с.521
В ноябре: "Левочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, типы все оживают, он нынче работал и весел, верит в свою работу"*). Это значит, что в творческой воле писателя роман состоялся и, казалось бы, теперь должен быть создан.
*) Гусев, там же, с. 523
"Работа моя томит и мучает меня, и радует и приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения; но ни днем, ни ночью, ни больного, ни здорового мысль о ней ни на минуту не покидает меня". И ниже: "…прошу верить, что дело, которое занимает меня, для меня почти так важно, как моя жизнь…"(62.399-400).
Это сказано в конце декабря 1878 года. Н. Н. Страхов, бывший в те дни в Ясной Поляне, свидетельствует, что Толстой "сам говорил, что никогда работа так не занимала его, как эта"(62.510).
Прошел всего месяц. Настроение Льва Николаевича резко изменилось. Получив от В. В. Стасова посылку с материалами для "Декабристов", Толстой отвечает ему:
"Из того, что Вы предлагаете и за что очень Вам благодарен, мне ничего не нужно теперь"(62.473).
Где-то в первой половине февраля 1879 года Лев Толстой вдруг на полном ходу остановился, прервал свою столь для него важную работу над "Декабристами", работу, на которую потратил так много сил и год жизни, и тотчас начал другой роман, первые наброски к которому датированы уже 15 февраля.
Два месяца до этого, в последних числах декабря Толстой просил А. А. Толстую найти ему доступ к секретным делам декабристов.*) Теперь, в конце марта, у него к ней другая просьба:
*) Известно, что до конца января 1879 года Толстой пытается получить доступ к секретному делу декабристов.
"Другая моя просьба к Вам, чтобы мне были открыты архивы секретных дел времен Петра 1, Анны Иоанновны и Елизаветы. Я был в Москве преимущественно для работ по архивам*) (теперь уже не декабристы, а 18-й век, начало его – интересует меня), и мне сказали, что без высочайшего разрешения мне не откроют архивов секретных, а в них все меня интересующее: самозванцы, разбойники, раскольники…"(62.477).
*) Толстой был в Москве несколько дней 19 – 24(?) марта 1879 года
17 апреля – Фету:
"Декабристы мои Бог знает где теперь, я о них и не думаю…"(62.483).
Что произошло? В чем причина этой в высшей степени странной перемены? – Удивленные друзья в письмах спрашивают его, но Толстой упорно не отвечает или отговаривается.
"По какой-то причине он как бы стеснялся говорить об этом" . – Констатирует Н. Н. Гусев*). И действительно,такая расточительность по отношению к самому себе и своей творческой жизни трудно постигаема. Впрочем через 13 лет Толстой все же объяснял, что он оставил работу над романом потому, что не нашел в ней "общечеловеческого интереса"(17.514). Запомним это высказывание Толстого.
*) Гусев, там же с. 531
И прежде, лет пять назад, в творческой биографии писателя был случай прекращения работы над романом о Петре Первом, долгое время занимавшим Толстого. Но происходило это не так внезапно и по причинам известным, веским и ясным. Не то с "Декабристами". До конца дней своих Толстой восторгался декабристами, во всяком случае никогда не разочаровывался в них*), как это произошло с восприятием личности и дел Петра Великого и его окружения. Да и задуман был роман далеко не только о декабристах.
*) "Это были люди все как на подбор, – говорил Толстой в 1905 году, – как будто магнитом провели по слою сора с железными опилками, и магнит их повытаскивал. Мужицкого слоя магнит этот не дотрагивался" (Д.Маковицкий "Яснополянские записки" кн. 4 с.148 М. 1979г.).
"Декабристов" из души Толстого вытравил замысел другого произведения – самого, пожалуй, амбициозного в его творческой жизни.
Льву Николаевичу всегда важно было оттолкнуться от реального события. Где-то Толстой наткнулся на упоминание о своем дальнем родственнике из рода князей Горчаковых, который сделал блестящую карьеру, но был уличен в темных делах и судим во времена Павла. Лев Николаевич даже не знал имени князя, но знал, что "это лицо – узел всего"(62.463) и попытался разведать о нем все, что возможно. Выяснив кое-что, он тотчас, – не прекращая работу над "Декабристами", – начал повесть, которую в последнем из начатых вариантов назвал "Труждающиеся и обремененные".
В повести действуют "два Василия" (вспомните "двух Алексеев": Каренина и Вронского). Это князь Василий Горчаков и в один день с ним родившийся другой Василий, взятый в господский дом подкидыш, который обучался вместе с князем и впоследствии стал на правах слуги спутником в его, князя, жизни. Слуга Василий – человек трудящийся душою, стремящийся подняться над собою. Душа же князя Василия обременена страстями, погоней за почестями и богатством, завершившейся преступлением и позором. Мы чуть выше упоминали о такого рода противостоянии двух позиций в жизни. Эпиграф к повести говорит сам за себя: "Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем". Слова эти обращены Иисусом ко "всем труждающимся и обремененненым"(Мф. Х1,28-29).
Как из повести о старом возвращающемся из ссылки декабристе некогда выросла эпопея "Войны и мира", длящаяся двацать лет, так и теперь из повести о "двух Василиях" возник замысл другой «книги бытия», грандиозной эпопеи, простиравшейся на сто лет. Роман так и назван Толстым: "Сто лет".
По форме замысел "Ста лет" напоминает "Фальшивый купон", но составлен не из ряда коротких эпизодов, а из множества отдельных повестей. "Все пухну замыслами" (то есть замыслами этих повестей) – сообщал Толстой 1 марта 1979 года не понимающему, что происходит, Н. Н. Страхову (62.474). Софья Андреевна, узнав о новом художественном проекте мужа, ахнула: "Этому, стало быть, конца не будет"*).
*) Гусев, там же, с. 555
Толстому наверняка было жаль "Декабристов" и жаль потраченного труда, но он не мог откладывать реализацию замысла "Сто лет". То, что предстояло сделать ему, требовало многих и многих лет, возможно, всего оставшегося ему срока жизни.
Один из смыслов, заложенных в "Сто лет", Толстой раскрывает в своего рода Предисловии, напоминающем "Исповедь" и, возможно, сначала написанном, как и она, для самого себя.
"Каких бы мы ни были лет – молодые или старые, – куда мы ни посмотрим вокруг себя ли, или назад, на прежде нас живших людей, мы увидим одно и одно удивительное и страшное – люди родятся, растут, радуются, печалуются, чего-то желают, ищут, надеются, получают желаемое и желают нового или лишаются желаемого и опять ищут, желают, трудятся, и все – и те, и другие – страдают, умирают, зарываются в землю и исчезают из мира и большей частью и из памяти живых, – как будто их не было и, зная, что их неизбежно ожидают страдания, смерть и забвение, продолжают делать то же самое".
И далее:
"Для того, чтобы продолжать жить, зная неизбежность смерти.., есть только два средства; одно – не переставая так сильно желать и стремиться к достижению радостей этого мира, чтобы все время заглушать мысль о смерти,*) другое – найти в этой временной жизни, короткой или долгой, такой смысл, который, не уничтожался бы смертью".
*) конечно, не только в буквальном смысле "страха смерти", но и в широком смысле, включающем все, о чем выше говорит Толстой: забвение, тщета, страдание, старение.
"Два Василия", надо полагать, олицетворяют у Толстого еще и эти два пути жизни.
"Везде, всегда, сколько я видел и понимал в моей 50-летней жизни, сколько я мог понять в изучении жизни далеко живущих от меня и прежде живших, я видел, что люди не могут жить и не живут вне этих двух путей жизни"(17.226-7).
В начале 1879 года Лев Толстой нашел новый и в высшей степени продуктивный взгляд на человека и проблемы его жизни. Это свое прозрение о человеке он и перевел в художественный замысел "Сто лет".
"С бесчисленных сторон можно рассматривать жизнь человека и народов, – пишет Толстой в черновике Предисловия к "Сто лет", – но я не знаю более общего, широкого и заключающего в себе все, чем живет человек, как тот взгляд на него, при котором главный вопрос составляет эта борьба между страстями и верой в добро. В отдельном человеке борьба этих двух начал производит бесчисленные положения, в которые он становится, точно так же и в народах".
"В этой борьбе всегда и везде выражается жизнь человека и народов".
"И об этой борьбе между похотью и совестью отдельных лиц и всего русского народа я хочу написать то, что я знаю".
И здесь же зачеркнутое (но не потому, что ошибочное, а потому, что затем развито в отдельную главу):
"Я буду писать о частных лицах, о государственных лицах, но и тех я буду описывать и буду судить о них только в отношении того вечного вопроса всякого человека, насколько он служит Богу или маммоне".
Замысел новой громадной эпопеи Толстого, похоронившей замысел "Декабристов", таков:
"Хочу описать эту борьбу за 100 лет*) жизни русского народа. Для этого я буду описывать жизнь многих людей разных положений"(17.228-9, 233).
*) Видимо, в запальчивости Л.Н. сначала написал "150 лет", но потом благоразумно сузил рамки задуманного произведения.
"Сто лет", как видите, основываются на представлении, что в народе, в его внутреннем мире, существуют и действуют два саможивущих начала его национальной Общей души. В Общей душе народа есть свое начало "страстей и похотей" (ужас перед которым чувствуется и в "Анне Карениной") и соборное начало смысла и добра в народе.
Борьба "этих двух начал" определяет движения жизни народной души. Такая же борьба в отдельном человеке определяет течение и достоинство его жизни. "Но в народах в продолжении известного времени, как во всех явлениях, переносимых от частного к общему, различие положений этих, бесконечно видоизменяющихся в отдельных лицах, упрощаются и получают известную правильность и законченность. Так в последние два столетия жизни русского народа при бесконечно разнообразных положениях к вопросу о вере, во всем народе в это время ясно выразилось одно продолжительное и определенно ясное движение"(17.229).
Цель нового произведения Льва Толстого – уяснить для себя и показать всем это "ясное движение", этот вектор духовного и душевного развития русского народа и тем самым дать этому народу критерий всей общественной и религиозной деятельности. Замахнувшись на такую задачу, Толстой не мог ждать неблизкого завершения работы над "Декабристами" и, захваченный другим замыслом, потерял интерес к этому роману.
5
В главе 37 «Учения Христа, изложенного для детей»(1908 год) сказано:
«Вера не в том, чтобы верить в награду, а вера в том, чтобы ясно понимать, в чем жизнь».
Последняя книга Толстого – "Путь жизни"(1910 год) – открывается словами:
"Для того чтобы человеку жить хорошо, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того чтобы знать это, нужна вера. Вера – это знание того, что такое человек и для чего он живет на свете"(45.19).
То же самое Толстой говорил и 30 лет назад, во времена, непосредственно предшествовавшие его духовному перелому. Но здесь – особый поворот мысли:
"Точно так же, как желания и страсти, не дожидаясь нашего выбора, втягивают и влекут за собою, точно так же, не дожидаясь нашего выбора, известное объяснение смысла жизни, – такого, который не разрушается смертью, – передается нам вместе с нашим ростом и воспитанием. Объяснение это называют верой, именно потому, что оно передается от одного поколения к другому в детском, юношеском возрасте – на веру. Оно не доказывается, не объясняется, потому что ребенку нельзя доказывать и объяснять, а передается как истина – плод несомненного знания, имеющего сверхъестественное происхождение… Всегда и везде так же неизбежны желания и страсти человека, как и передача ему известных верований, объясняющих для него невременный смысл жизни"(17.227).
В одной из заготовок к "Сто лет" Толстой любовно описывает, как трогательно бабушка учит внука молиться, "прежде еще, чем он знал как зовут отца и мать и место, в котором он живет".
"Каждое утро, как только его будили, он спал с бабушкой, – когда на печке, когда на коннике, когда на полу в холодной, – бабушка разглаживала ему волосы, становила его лицом к Богу и, показывая, как складывать крест тремя маленькими его пальчиками, она водила его ручонкой не ко лбу, а почти к маковке, к правому плечу, левому, к пупку, пригинала низко его голову к пупку и заставляла повторять молитву "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас", а потом "Богородице дево, радуйся" и опять пригинала его голову, а потом уже мыла его лицо, застегивала ворот, оправляла поясок, разбирала, когда был досуг, расческой волосы и обувала и надевала шубенку и пускала на улицу. – Бога Аниска знал так давно, что не мог вспомнить, когда он узнал про Него".
"Бабушка так глядела на образа, как она ни на кого и ни на что другое не глядела и, понимая этот взгляд, Аниска сам смотрел на Икону и свечку всегда с тем же чувством, которое он видел на лице бабушки. Бабушка была самое главное и близкое лицо во время первого детства Аниски"(17.244).
Писатель, создавший такую сцену, несомненно, всей душою старался жить духовной жизнью своего народа – общедуховной жизнью нации.
«Война и мир», говорят, – роман о народной жизни. Хотя тогда Толстой ставил перед собой, прежде всего, художественные задачи. И вот теперь, через 8 лет после завершения «Войны и мира» Лев Николаевич начинает новое произведение, размах которого, даже в сравнении с «Войной и миром», огромен. В поражающем воображение замысле «Ста лет» – апогей художества Льва Толстого и, следовательно, всего человечества. Толстой ясно видел перед собой вершину вершин художественного творчества как такового, знал в себе силы одолеть ее и, как гениальный писатель, наметил ее достижение в качестве одной из задач жизни. Но теперь и над ней главенствует другая задача, несущая в себе тот «общечеловеческий интерес», которого, по разъяснению Льва Николаевича, не было в «Декабристах».
Зенита художественного творчества можно было бы достичь и на огромном материале истории декабристов. Толстой отступился от работы над «Декабристами» именно потому, что теперь он поверх художественной поставил другую и грандиозную сверхзадачу: исследование души народа и его судеб и, более того, исследование общедуховной народной жизни и тенденций ее проявления в конкретной Истории.
Зачем это стало так нужно Льву Николаевичу? Я думаю, что за многие годы создания «Сто лет» и посредством этой художественной работы Лев Толстой хотел, в конечном счете, ввестись в самые глубины духовной жизни своего народа. Где он – по особым качествам своего чувства жизни – не мог не быть нацелен на восхождение к вершинам национальной общедуховной жизни. В тексте «Сто лет» писатель, бесспорно, был намерен показать и низы, и самые верхи общедуховной жизни. Лев Толстой – человек такого масштаба, что если ему удалось подняться на вершины Общей души, то он и других бы повел за собой. Толстой, разумеется, знал это.
Смею думать, что вся огромная эпопея «Сто лет» для Толстого в большой мере имела смысл лишь в сочетании с его вхождением в духовную жизнь народа и с восхождением его собственной духовной жизни. Процесс создания этого произведения должен был стать особым путем Льва Толстого к верхам общедуховной народной Веры. Художественное творчество предполагало движение по этому пути и не могло быть продолжено без или вне личного восхождения автора. Как только Лев Толстой отошел от исторически возникшей народной веры (и, значит, от движения к вершинам общедуховной жизни), так прекратилась и его работа над «Сто лет». Так что специально и сознательно Толстой в 1879 году не отказывался от венца своего художественного творчества. Это произошло само собой, когда место народной Веры и вершины общедуховной жизни в его душе заняла другая вершина духовной жизни, о которой мы ниже будем рассказывать подробно.
6
У человека в жизни, говорит Толстой, два пути: путь страстей и похотей, и путь смысла и совести – он же путь Веры.
"Страх смерти отбивает охоту жизни. – Пишет Толстой в заметках, названных им "Конспектом" новой «книги бытия». – Одно спасение – или забыть смерть или найти в жизни смысл, не уничтожаемый смертью. Забыть смерть можно, отдаваясь страстям, возбуждая их. Смысл жизни, не уничтожаемый смертью – вера и подчинение ее учению своей жизни. В борьбе между этими двумя направлениями воли – весь смысл и интерес как всякой частной жизни, так и жизни народов"(17.233).
Для Толстого времени его духовного перелома всякая Вера есть дело святое потому, что именно в Вере самовыражается и действует высший пласт души народа.
Высший пласт души русского народа выражается в Христовой Вере. Вера эта хранится Церковью. И потому Русская Православная Церковь есть носительница высшего пласта души русского народа. В ней может что-то не нравиться, что-то даже отталкивать, но это не меняет сути дела. Послушайте как думал Толстой в то время. Из письма Н. Н. Страхову от 27 января 1878 года:
"Об искании веры. Вы пишите, что "всякие сделки с мыслью Вам противны". Мне тоже. Еще пишете, что для "верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием (я бы заметил: лишь бы проникнуто было верою, надеждою и любовью). Они в бессмыслицах, как рыба в воде, и им противно ясное и определенное". И я тоже… Но рассчитывая на Вашу способность (необычайную) понимать других, пытаюсь в этом же письме сказать, почему я думаю, что то, что Вам кажется странным, вовсе не странно.
Разум мне ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко выразить одним: что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые дает мне это чувство, мутны, неясны, невыразимы словами (орудием мысли).
Но я не один искал и ищу ответов на эти вопросы. Всё живущее человечество в каждой душе мучимо было теми же вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе. Миллиарды смутных ответов однозначащих дали определенность ответам. Ответы эти – религия. На взгляд разума они бессмысленны"(62.380).
Вера во Христа – общедушевная народная Вера, возникающая не в человеке, а в интердушевном пространстве людской жизни и составляющая основу духовной жизни Общей души народа. Это вера – "следствие усилия воли, про которую можно сказать: я велю верить, я хочу верить, ты должен верить"(24.795). Такова вера-доверие, вера-верность и вера-вверение себя. В ней вполне может быть заложена и иллюзия или выдумка, которая, тем ни менее, обретает подлинность в общедуховной жизни народа.
Другое дело своя личная вера, про которую пишет Толстой Страхову. Она основывается на смутном предвидении, на первичном узнании, на готовности личной души к прозрению "своей истины", как сказал бы Толстой впоследствии. Вера такого рода религиозно никак не обязывает остальных людей. Но без нее невозможна вполне свободная духовная жизнь отдельного человека. Чаще всего эта личная вера включает и любовь к тому, и веру в того, чей образ, мысли и установки жизни влекут тебя на твоем собственном Пути восхождения.
Лев Николаевич Толстой любил евангельский образ Иисуса и верил Иисусу Христу. Это и есть та вера-любовь, из которой, когда пришло время, выросла его Вера как "внутренняя неизбежность убеждения, которая становится основой жизни"(24.795)*) – основой всех установок жизни Льва Толстого. Если же в этом основании содержится фикция, иллюзия, или, тем более, обман, то и вся жизнь отдельного человека (и результат ее!) становится фиктивной или обманной.
*) Специально отмечу, что все тексты Толстого, приводимые далее в этой главе, написаны в конце 70-х годов, в пору его "духовного перелома".
У самой по себе личной веры (веры по личной любви и основы своей особенной духовной жизни) нет оснований для проповеди в качестве всеобщего религиозного учения. Но если считать, что глубинный пласт души – один во всех, то и ответы на главные вопросы человеческой жизни для всех одни и те же, и Веру общедуховной жизни можно совмещать с верой одиночной духовной жизни и переводить одну в другую. Так думал тогда Толстой.
"Как выражение, как форма, они (ответы на главные вопросы жизни, даваемые общедушевной Верой – И. М.) бессмысленны, но как содержание они одни истинны. Смотрю всеми глазами на форму – содержание ускользает; смотрю всеми глазами на содержание – мне дела нет до формы… Все те верования, которые я имею, и Вы, и весь народ, основаны не на словах и рассуждениях, а на ряде действий, жизней людей, непосредственно (как зевота) влиявших одна на другую, начиная с жизней Авраамов, Моисеев, Христов, святых отцов, но внешними даже действиями: коленопреклонениями, постом, соблюдением дней и т. п… И потому для меня в этом предании нет ничего бессмысленного… Одна проверка, которой я подвергаю и всегда буду подвергать эти предания, это то, согласны ли даваемые ответы с смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания (о котором я говорил прежде). И потому, когда мне это предание говорит, что я должен хоть раз в год пить вино, которое называется кровью Бога, я, понимая по-своему или вовсе не понимая этого акта, исполняю его. В нем нет ничего такого, что бы противоречило смутному сознанию… Я так убежден в том, что я говорю, и убеждение это так для меня отрадно, что я не для себя желаю Вашего суждения, но для Вас"(62.380-1).
Да, через три месяца – как Толстой рассказывает в "Исповеди" – ему стало "невыразимо больно" на причастии(23.52). Но он продолжал считать себя верным Православной Церкви. Еще через полтора года, в Киеве, его резануло то, что "киевский метрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников"(23.478). Но и не это отвратило его от Церкви.
"Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов Церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с Православием"(23.53).
Первый ряд вопросов Толстого к Церкви – о правомерности (с точки зрения христианской веры) ее союза с государством: отношение Церкви к войнам, отношение Церкви к государственному насилию и к смертной казни. Дело не только в моральной стороне вопроса, а в кощунственной, на взгляд Толстого, подчиненности Церкви государственной власти.
"1/ Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему, – птица живая та, что летает.
2/ Вера отрицает власть и правительство – войны, казни, грабеж, воровство, а это все сущность правительства. – И потому правительству нельзя не желать насиловать веру. Если не насиловать – птица улетит."(48.195).
Кощунственный союз Церкви и государственной власти означает погибель Веры.
Второй ряд вопросов внутренне связан с первым – "это явление насилия в деле веры"(23.476).
Знакомый вопрос:
"В самом деле, как, зачем, кому может быть нужно, чтобы другой не только верил, но и исповедовал бы свою веру так же, как я? Человек живет, стало быть, знает смысл жизни. Он установил свое отношение к Богу, он знает истину истин, и я знаю истину истин. Выражение их может быть различно (сущность должна быть одна и та же – все мы люди). Как, зачем, что может меня заставить требовать от кого бы то ни было, чтобы он выражал свою истину непременно так, как я?" (там же).
Ответ, который находит Толстой на заданные вопросы, в том, что с Никейских соборов "понятие Церкви… стало для некоторых власть. Оно соединилась с властью, и стало действовать, как власть. И все то, что соединилось с властью и подпало ей, перестало быть верой, а стало обманом"(23.481).
Церковь соединилась с государственной властью, и сама стала властью. Церковь и вступила в союз с государственной властью потому, что сама возжелала быть властью – духовной властью.
Вера и духовная Власть (точнее, душевная похоть несвободы, подвластности духа в человеке) для Толстого вещи разные, несовместимые, взаимоисключающие. Выход Толстого из Церкви и борьба против нее была вызвана тем, что до определенного момента (до осени 1879 года) Церковь была для него олицетворением Веры, но затем стала олицетворением духовной Власти. Более того, понятие Церкви в его сознании с этого момента навсегда отождествилось с понятием духовной власти.
Толстой ополчился не на Церковь-Веру, а на Церковь-Власть.
Борьба Льва Толстого с Церковью – это борьба за Веру против духовной Власти. Первоначальная задача Толстого: охранить начало Веры, защитив ее и очистив ее от начала духовной власти. В этой борьбе и для этой задачи Толстой использовал все орудия своего таланта и разума.
Есть и еще одна причина отхода Толстого от Церкви в том году.
Во "В чем моя вера?" Толстой рассказывает, как он "не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабостей и, хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно незнаком с ее учительской литературой". И вот ему попался издаваемый для народа "Толковый молитвенник". "Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского, содержание молитвенника было сознательно распространяемое в народе Церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные Синодом или "с благословения" его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их".
То, что он прочел, поразило Толстого. В то время, когда он учился Закону Божьему, то есть в 40-х годах XIX века, грамотных людей в народе почти не было, и катехизисы составлялись для образованных. Теперь, в конце 70-х, катехизисы составлялись "для детей и народа" и в них было немало нововведений. Например, в части "о любви" излагались не заповеди Христа, а Декалог. "И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы не исполнять их и поступать противно им". Так, "после пятой заповеди – почитать отца и мать – катехизис научает почитать Государя, отечество, пастырей духовных, начальствующих в разных отношениях"; и о почитании начальствующих – три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. "Начальствующие в училищах, начальники гражданские, судьи, начальники военные, господа в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют".
"И это печатается, – заключает Толстой, – и насильно в сотнях тысяч экземплярах и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения"(23.434-6). Могла ли такая Церковь исполнять роль высшего пласта народной души? Ответ на этот вопрос и определил окончательное отношение Толстого к Церкви.
На практике оказалось, что вершина общедуховной жизни – не вершина Веры, а вершина духовной Власти. Активно жить общедуховной жизнью означало жить в системе духовной Власти и продвигаться к ее вершине, что для Толстого значило восходить к той же вершине Наполеона, только выставленной иначе и не столь откровенно. Вся толстовская критика Церкви есть опровержение мотива духовной власти в душах людей, разоблачение мотива этой власти и ее мнимости.
Бурная противоцерковная деятельность Толстого изначально была вызвана его стремлением дать русскому народу такую очищенную евангельскую Веру (очищенную от обманов веры, вызванных претензиями на абсолютную духовную власть), которая бы соответствовала вектору его, народа, развития. Но в отличие от Церкви-Веры, Церковь-Власть не могла быть представлена носительницей высшего пласта Общей души народа. Толстой разуверился не в евангельском жизнеучении, а в том, что Церковь способна и далее устанавливать направление духовного развития народа, не губя и не извращая.
Как только в душе своей Толстой лишил Церковь статуса высшего слоя народной души, так эпопея "Сто лет" потеряла опору. Тем самым Толстой отказался не только от задуманного творения, но отлучил себя от художественной работы.
Что-то в это время произошло в душе Толстого и произошло такое, что заставило его переключиться на деятельность, которой он никогда до этого не занимался, никогда до этого и не мыслил заниматься – перетолкованием всего корпуса Евангелия. В результате это привело к переориентации всей его духовной жизни.
*)Для разрешения "вопросов жизни" Л.Н. специально ездил в Москву, где беседовал с московским метрополитом и викарном архиереем, и в Троице-Сергиеву лавру, где он долго разговаривал с наместником лавры.
7
Чаще всего человек выбирает себе одно из поприщ духовной жизни и в дальнейшем растет и трудится на нем. После духовного перелома, за последние 35 лет жизни, Лев Толстой прошел последовательно четыре поприща духовной жизни. Поприща эти не вполне совпадают со ступенями или этапами Пути духовного восхождения Толстого. Это именно – поприща его работы, то есть поля духовной жизни и соответствующие им виды духовного делания.
Лев Толстой – человек русский. Это отчетливо обозначено и в его образе мысли, и в его моральных переживаниях, и в его характере. Это очевидное обстоятельство сейчас особенно подчеркивается в литературе. Надо полагать, что о "русскости" Толстого будут говорить все больше и громче. В этом, конечно, есть резон.
Мы видели, что духовный перелом Толстого второй половины 70-х годов неразрывно связан с его обращением к народной душе и служением ее духовным истокам. Это – первое – поприще духовного развития Толстого того времени мы с полным правом можем назвать общедуховным. Субъект духовной жизни на первом поприще – народ.
Первое поприще народной духовной жизни длилось примерно до 1880 года, когда Толстой в процессе работы над "Соединением и переводом четырех Евангелий" стал трудиться на другом поприще духовной жизни. Толстой не отступился от народной духовной жизни и не изменил ей, а перешел на рельсы всечеловеческой духовной жизни, которая, очевидно, включает в себя и духовную жизнь всех составляющих человечество народов. Субъект духовной жизни на этом новом поприще – мистический «Сын человеческий» (в трактовке «Соединения и перевода четырех Евангелий»). Это второе поприще его духовного развития после перелома можно так же назвать этапом "Царства Божьего на Земле". Он длился всего несколько лет.
Со второй половины 80-х годов Толстой постепенно меняет установку духовной жизни. Теперь он поглощен личной (частной, приватной) духовной жизнью отдельной человеческой души. Это поприще его духовного развития можно назвать этапом "Царства Божьего в себе". Субъект приватной духовной жизни – «Бог свой», высшая душа каждого человека.
С конца 90-х годов Толстым все более и более завладевает стремление к вселенской духовной жизни. Этот последнее четвертое поприще его духовной жизни можно назвать этапом "Царства Божьего в Самом Себе". Субъект духовной жизни на четвертом поприще – «Бог Сам», «Я» Господа и Его Жизненность.
В этой книге мы постараемся проследить все эти поприща духовной жизни Льва Толстого.
Скажем сразу, что, переходя из одного пространства духовной жизни в другое, Толстой нигде и никогда не ломался. Он духовно рос, а не выламывал себя. С 40 лет в его душе было место и для общедуховной, и для всечеловеческой, и для личной духовной, и для вселенской духовной жизни. Достаточно вспомнить, что Платон Каратаев одновременно и символ вселенской духовной жизни и символ русской народной духовной жизни. С другой стороны, вселенская духовная жизнь Толстого в 900-ые годы это высший род личной духовной жизни и продолжение ее в духовной биографии Льва Николаевича. Так что все четыре арены духовной жизни Толстого как бы сочленены в непрерывности его жизни и мысли. И все же соотносить воззрения Толстого одного и другого поприща его духовной жизни надо осторожно. Во избежание недоразумений (которых так поразительно много в восприятии взглядов Льва Николаевича), желательно показывать, к какому пространству духовной жизни приписаны те или иные толстовские мысли и какой смысл эти мысли или представления имели или не имели на другой плоскости духовной жизни Толстого.
Часть 1. Евангелие от Толстого
"Основа всего – это понять, откуда взялась жизнь – дух человеков"
(«Соединение и перевод четырех Евангелий» – 24.455).
1 (8)
Обретение Веры недостаточно для духовного перелома. За рождением Веры, что легко случается с людьми, должен следовать порыв собственно духовного рождения, что значительно труднее и что редко бывает. Духовное рождение пятидесятилетнего Толстого – это, во-первых, рождение в нем неподдельного чувства-сознания Веры как таковой, во-вторых, некое трансперсональное переживание и, в-третьих, создание основ нового, собственно толстовского жизнепонимания.
В памяти человечества Лев Николаевич Толстой остался как "человек могучий". Мощь, всяческая мощь – и мощь гения, и мощь духа, и даже плотская мощь – стержневая характеристика этого редкостного человека. К 1878 году этот могучий человек достиг вершины земных сил и несколько лет находился в полном рабочем напряжении на этой вершине. Само переживание пика земной жизни звало Толстого к величайшим свершениям.
Свершения эти Толстой все годы эти вынашивал в себе. Пик своей жизни он не праздновал, а мучился, и мучился родами. Первый год потрачен на грандиозное полотно "Декабристов". Следующий год – на гигантский и, видимо, непосильный для смертного человека замысел "Ста лет". И, наконец, еще три года – на тетралогию религиозных трудов. Это "Исповедь" – предыстория духовного перелома в его личной жизни. Это "Исследование догматического Богословия" – огромный по масштабам опыт церковной критики. Это "Соединение и перевод четырех Евангелий", где на материале и на переосмыслении евангельских текстов всего за год создано и развито мистическое учение в сочетании с всеобъемлющим учением о принципах жизнепрохождения человека и его спасения (несмертия). И это "В чем моя вера?", где новорожденная религиозная позиция незамедлительно переводится в проповедь и предъявляется миру для исполнения.
"Соединение и перевод четырех Евангелий" создавалось "для себя", не приводилось в пригодный для опубликования вид. Однако именно на это произведение Лев Толстой потратил всю ту мощь своей души и своего гения, которая проявилась в нем на вершине земной жизни. По грандиозности замысла толстовское Евангелие не уступает замыслу несостоявшейся эпопеи "Сто лет". Это, пожалуй, самое масштабное и могучее дело, которое Лев Толстой свершил за свою жизнь, плотно заполненную разного рода громадными деяниями.
В "Соединении и переводе четырех Евангелий" есть в зародыше многое из того, что Толстой разовьет в продолжение оставшихся ему 30 лет жизни. В одних случаях это вскользь брошенное упоминание, в других намек на мысль, в-третьих, нечто автором еще не понятое, оставленное на потом. Да и само мистическое (и уже тогда спиритуалистическое) учение о Боге и Сыне человеческом, несмотря на чудеса образного воображения, художества мысли и интеллектуально-лингвистической изворотливости в трактовке того или иного места Евангелия, еще сыро, незрело и фрагментарно.
Лев Толстой не видел себя философом и никогда не стремился создать закругленную систему мысли и представлений о Боге и человеческой жизни. Такого рода устремления Толстой вообще не жаловал и в отношении Божественной реальности даже считал кощунственными. И потому сознательно не давал себе воли, ограничивал себя и свое творчество в этом отношении.
В недлинном ряду гениев человечества величие Толстого – особого рода. И вот почему.
В искусстве и науке человек всегда служит своему гению. Здесь это естественно. Эстетическое чувство любит игру гения в человеке и требует от художника демонстрации свободного полета его гения. Такие места достаточно редки у Толстого. В поздних редакциях Толстой обычно очищал текст от них.*) Одна из тайн художественности Толстого – в его сдержанности в отношении к своему гению. Возможно, что эта сдержанность создает мощь, глубину и неисчерпаемость текстов Льва Толстого.
*) Так, блистательное описание бала, на котором по первоначальному варианту выводились герои «Войны и мира», заменено Толстым сценой в салоне Анны Павловны Шерер.
Служит гениальный человек своему гению и в философии и в Богословии, хотя здесь и не так очевидно. Великий Богослов невообразим без подлинности и глубины религиозных чувств, но они часто наполняют содержанием и обрамляют его гений, предоставляя ему максимально продуктивное поле деятельности. Великий философ создает систему мысли и взглядов для значительной части человечества, но для него самого эта система по большей части работает на наиполнейшее выявление и выражение его гения. Гений, вселяясь в человеческую душу, становится в ней полным хозяином. Исключения чрезвычайно редки.
Толстой держал свой гений на коротком поводке. Гений в Толстом словно попал в плен. Он относился к своему гению, как к работнику, даже как к своему слуге. Правда, иногда он отпускал поводки, давал гению волю, на время отпускал его на свободу и сам поддавался ему, иногда блаженствовал вместе с ним, но никогда не становился обслугой гения, не делал его господином над собой. Так было во все периоды его жизни, не только после духовного перелома, в последние 30 лет жизни. Гений Льва Толстого всегда служил не "Льву Толстому", а тому, кого Лев Николаевич называл Богом в себе, "Богом своим", своим духовным Я – служил даже тогда, когда Лев Николаевич отчетливо не осознавал в себе это независимое от гения и параллельное ему существующее духовное начало. Толстой никогда не придавал своему гению статус высшего духовного начала. Гений человека для Толстого не "из того же источника" (вспомним предсмертные слова Тургенева к нему), из которого духовное начало в человеке.
Положения мировоззрения Толстого, установленные им в основании своих работ, нечто совсем иное, чем исходные умозрения мыслителя, признанные им перспективными для самостоятельной философской разработки. У Толстого они плоды не умозрения, а прозрения и того духовного состояния, в котором он жил в тот или иной духовно рабочий момент своей жизни. И предназначены его прозрения не для теоретизирования или прикладных дел, а для руководства в делах жизни и смерти. «Какая огромная разница, – отмечает Толстой, – между таким философствованием, при котором играешь словами, и таким изложением мысли, при котором готовишься жить и умереть на основании тех слов, которые высказываешь»(67.266-7).
Вот как Толстой писал о трудах известного поэта-символиста и философа Н. Минского:
«Ошибка его, как и всей многоречивой и праздной философии, в том, что он рассуждает о том, что есть мир и начало его и т. п., тогда как этого так же мало нужно знать, как и то, сколько пуговиц на жилете вашего дворника; нужно знать одно, как мне жить? Не то нужно узнать есть ли у меня свобода воли или нет, а то, как употреблять ту силу, которую я сознаю как свободу воли. Он и другие скажут, что для этого нужно прежде узнать с помощью Аристотеля, Канта, Минского, что такое этот мир и что такое я? Но это неправда, это хитрый и коварный софизм ленивого раба*)»(86.284).
*) евангельской притчи
Столь жесткие фразы не могли не вызывать соответствующие ответные реакции. Неприязнь значительной части культурной публики к Толстому вызывается отчетливо чувствуемым в нем неприятием любого вида разговорного интереса*) к мысли, к жизни, ее мукам и вопросам. Это его неприятие чрезвычайно напористо и особенно задевает ту часть культурной толпы, которая живет такого рода интересами и сама знает в себе тайный порок отсутствия живой заинтересованности в чем-то самом важном в себе и в человеке вообще. Такие люди неосознанно существуют под страхом разоблачения (или саморазоблачения) и потому любые ростки живого интереса – своего или чужого – немедленно переводят в интерес разговорный, спешно оскопляют живое или под видом оживления мертвят его. Душевные движения Льва Толстого столь оживленны и искренни, что он, желая того или не желая, каждым словом своим отвергает все то, на чем держится их внутренний мир, лишает их опоры самоуважения и самодостоинства.
*) Одна из работ Н.Минского так и называлась: "Религия будущего: (Философские разговоры)" СП б, 1905.
В основе всего у Толстого не умственный (интеллектуальный) экстаз, как у философов, и не творческий экстаз, как у художников. В творческом отношении наиболее продуктивное из высших состояний Льва Толстого это состояние нравственного вдохновения, идеал которого постоянно светил в его душе и ждал своего часа. Все последние тридцать лет жизни Толстой жил на вершине нравственного вдохновения*) и стремился осуществить в своей жизни и в жизни других то, на что указывает идеал свободного нравственного чувства. Людей всего мира покоряет в Толстом не столько восхищающая сила его таланта, сколько духовная сила подлинности, полноты, чистоты, цельности и искренности его нравственного экстаза. Толстой нравственно возвышает человека, переносящегося в него душою. Соприкасаясь с Толстым, высшая душа человека подзаряжается, испытывает те духовные наслаждения и духовные страдания, которые ей свойственно переживать.
*) Это как раз то, что лично незнакомые с таким вдохновением люди приняли за «панморализм» Толстого.
Нравственное вдохновение есть и источник мистических откровений Льва Николаевича. Как правило, читатель мало вникает в мистические представления Толстого, а загорается от огня души Льва Николаевича и получает от него духовный заряд искренности, нравственной чистоты и, особенно, чистоты любви. Любовь для Толстого высока, значима и ценна сама по себе, независимо от того, как ее необходимость или важность объясняется религиозным или еще каким-либо учением. Душою пришедшему к Толстому читателю совершенно ясно, что Лев Николаевич сначала поверил в любовь и полюбил евангельскую любовь, а потом осмысливал и обосновывал ее мистически и метафизически. "Жизнь настоящая состоит только в любви. Она исходит из любви и продолжается только любовью"(24.732). Вот та вера в любовь, вера в необходимость любви и первоважность дел ее, на которой Лев Толстой основывает – пусть и еще вчерне – свое религиозное учение.
2 (9)
До самого последнего времени текст "Соединения и перевода четырех Евангелий" был практически неизвестен. В 80-ые и 90-ые годы Х1Х века по рукам широко ходил другой текст – "Краткое изложение Евангелия", который называли "Евангелием от Толстого". Этот текст был составлен В. И. Алексеевым по рукописи автора и в дальнейшем несколько раз редактирован самим Толстым.
Слово «Евангелие» в переводе Толстого означает «Возвещение о благе», для благой воли – возвещение для Веры.
Введение "Евангелия от Толстого" названо "Разумение жизни" – так Толстой толковал на русском языке Логос. Введение открывается словами:
"Евангелие есть возвещение о том, что начало всего не есть внешний Бог, как думают люди, но разумение жизни. И потому на место того, что люди называют Богом, по Евангелию становится разумение жизни".
Это положение подтверждается вольным переводом стиха 1 главы 1 Евангелия от Иоанна:
"В основу и начало всего стало разумение жизни. Разумение жизни стало вместо Бога. Разумение жизни есть Бог"(24.816-17).
Речь идет, конечно, не о "разумении" человека, а о "Разумении жизни". При чем под словом "жизнь" понимается не плотская или животная жизнь (которая по Толстому не жизнь вовсе, а "умирание", "смерть", "подобие жизни", "жизнь в гробах своих" или, в лучшем случае, "временная жизнь"), а жизнь несмертная, истинная, Божественная, жизнь духа. Так что Разумение это нечто, лежащее в основании высшей и несмертной Жизни как таковой. Более того:
"Только в Разумении сила, основа, власть жизни"(24.36., еще с.177-8).
Понятие Логоса во введении Евангелия от Иоанна, доказывает Толстой, вернее всего переводится как "смысл жизни"(24.26). Толстовское Разумение жизни – это тот смысл или, лучше, тот Замысел, который для своего исполнения заключен в несмертной жизни, включенной в человека.
Если «Разумение жизни» – это смысл и Замысел жизни, то Вера – сверхзнание этого смысла и Замысла, то есть некое откровение: свое собственное или взятое из откровений, ранее добытых человечеством.
Разумение жизни по Толстому есть Свет, в который надо верить и которого надо быть сынами (24.33). Вот этот Свет, это Разумение жизни по переводу Толстого "стало за Бога" – "слилось с Богом, выразило Бога". В каком смысле? В самом прямом:
"Иисус объявил, что Бога Творца, Законодателя и Судьи никакого никто не знает и не знал, а есть только в человеке дух, исшедший из бесконечного начала – сын духа, Свет разумения, и в нем жизнь"(24.174).
Обратите внимание на то, что Разумение жизни не "было", а стало за Бога. Когда же стало? Тогда, когда произошло "воплощение Разумения", "когда разумение вселилось среди нас"(24.39). Случилось это не в начале времен, а с приходом в жизнь Иисуса, конкретно – после искушения в пустыне, где "дух обновил его и он познал то, что Бог уже пришел к нему и всегда в нем"(24.96).
"По прежнему учению Бог был отдельное существо от человека. Небо – обиталище Бога, и сам Бог был закрытым для человека. По учению Иисуса небо открыто для человека. Общение Бога с человеком установлено… Человек из себя познает Бога"(24.90). Слова Исайи исполнились: "… отныне Бог уже не будет тем Богом неприступным, каким он был прежде, отныне Бог будет в мире и в общении с людьми"(24.99). Сразу же отметим, что когда Толстой говорит о "Боге в мире" или о "Боге и мире", то он всегда имеет в виду мир людей.
Толстой призывает читателя не относиться к словам Евангелия "как к волшебной сказке, отыскивая в нем чудеса и пророчества"(24.59). Был или не был Иисус тем Христом (Мессией, Машиахом), которого ожидали евреи, – вопрос для Толстого совсем ненужный: "Был ли Иисус сын Божий по понятием иудеев, для нас, не иудеев, совершенно безразлично"(24.86). Слова Иоанна: "Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (Ин.1,18). Толстой переводит: "Бога никто не постигал и не постигнет никогда, однородный сын, будучи в сердце отца, он указал путь"(24.43).
Так как "всё, что рождено, рождено разумением", то "сын" у Толстого – "жизнь, живой человек". Отсюда "сыны Бога те, которые признали, что они рождены разумением". "Однородный сын значит такой же, как отец. Будучи в сердце отца – значит, что жизнь, живой человек, будучи в сердце, то есть, не выходя из разумения, сливаясь с ним, указывает только путь к нему, но не являет его".(24.44).
Сын Божий – тот, кто "зачат Богом с неба"(24.159). Бог – это "начало духа в человеке"(24.167). Сын человеческий – зачатый Богом в человеке сын Света разумения.
И по Толстому "Бог послал – дал сына в мир, родил сына миру (миру людей – И. М.). Никто не входил на небо, а только сошедший сын человеческий. Всякий человек рожден от Бога. Стало быть, тот дух, который есть в человеке и который рожден от Бога, и сын человеческий, сошедший с неба, и сын Бога, данный миру (людей – И. М.), и свет, пришедший в мир (людей – И. М.) – все это одно и то же… И потому надо помнить, что все эти названия: 1/ Бог, 2/ дух, 3/ сын Божий, 4/ сын человеческий, 5/ свет и 6/ разумение – имеют одно и то же значение и употребляются соответственно отношения, в котором находятся с предметами речи. Когда говорится о том, что есть начало всего – оно называется Бог; когда говорится, что оно противоположно плоти, – оно называется дух; когда о нем говорится по отношению к его источнику, – оно называется сын Божий; когда говорится о проявлении его (в человеке – И. М.), – оно называется сын человеческий;*) когда говорится о соответствии его разуму (то есть Замыслу и смыслу высшей жизни – И. М.), оно называется свет и разумение"(24.168).
*) Иногда понятие сына человеческого употребляется Толстым в отношении людей, которые "исповедуют в себе сознание Бога" (напр. 24.416).
О чем, в сущности, речь?
"И спросили у Иисуса фарисеи: – переводит Толстой стих 20 и 21 гл. XVII Евангелия от Луки – Когда и как придет царство Бога? И он отвечал им: Царствие Божие не приходит так, чтобы его можно было видеть. И нельзя сказать про него: вот оно здесь, или вот оно там, потому что вот оно Царствие Божие, оно внутри вас"(24.157).
Внутри вас – значит там, где обитает сын духа, сын Божий, сын человеческий, сын Света разумения, где в человеке помещено его неплотское и неживотное начало, то есть там, где место высшей души человека.
Выбирая общее направление мысли на многие годы вперед, всякий мыслитель видит перед собой как бы перепутанный клубок, из которого торчит множество концов. Чрезвычайно важно, за какую ниточку потянул мыслитель в самом начале своей работы. Большая часть концов клубка ведет в никуда. Другие ведут, но окольными путями. Верное направление, скорее всего, одно. Его нельзя угадать невзначай.
Начиная изложение своего жизнепонимания, Толстой, опираясь на текст Нового Завета, потянул за ниточку понятия Логос, с которого открывается Евангелие от Иоанна. В дальней перспективе, в перспективе всех 30 лет его неустанного дальнейшего религиозного восхождения, с точки зрения тех истин, которые Толстой постиг к концу жизни, выбор этот, как мы еще увидим, на удивление верен. Впечатление такое, что вступив на предназначенное ему поприще, Лев Толстой далеко вперед смотрел в свою жизнь.
Но с точки зрения проповеднической деятельности ближайших пяти лет его жизни такой выбор исходного направления развития мысли не представляется особенно продуктивным. Для развертывания толстовского учения в первой половине 80-х годов оптимально было бы выстраивать учение от понятия сына человеческого, сына Бога в человеке или, что то же самое, с откровения о высшей и низшей душе человека. Возможно, что недопониманий, связанных с восприятием учения Толстого, было бы тогда меньше.
Надо отметить еще и то, что через 15 лет, в 1994 году, подмена Бога «Разумением жизни» представлялась Толстому недоразумением, вызванным первичным увлечением:
"Я прежде видел явления жизни, не думая о том, откуда эти явления и почему я вижу их. Потом я понял, что все, что я вижу, происходит от света, который есть – разумение. И я так обрадовался, что свел все к одному, что совершенно удовлетворился признанием одного разумения началом всего. Но потом я увидел, что разумение есть свет, доходящий до меня через какое-то матовое стекло. Свет я вижу, но то, что дает этот свет, освещающий меня, который я не знаю, но существование которого знаю, есть Бог"(52.156).
*)Смотри специальное толстовское разъяснение на этот счет при анализе Ин. III, 17(24.167).
3 (10)
Для внешнего наблюдения духовное рождение (как, впрочем, и рождение любого рода) совершенно загадочно. Человек жил-жил по сути в одном состоянии жизни, не видя откуда и зачем он и мир, и вдруг без особых вроде бы причин прозревает и вступает в совершенно другое состояние жизни, в котором он бросает или отвергает то, что прежде составляло ценность его жизни и, как случилось с Толстым, отказывается от грандиозного и в высшей степени значимого художественного замысла "Сто лет" (который ведь только ему и под силу!) и ради которого он, профессиональный писатель, совсем недавно прервал любимую и в значительной части уже сделанную работу над романом "Декабристы". Что произошло с Толстым в 1879 году? Какой взрыв потряс его душу?
В какой-то особый момент Толстому открылось, что "всё, что я вижу", исходит из одного Источника, от одного Света. Это – момент озарения истиной мира, прозрение обо Всем существующем и себя во Всем, прозрение Света, который был принят за Начало Всего, за Самого Бога. Несомненно, это прозрение Света совпало с тем, что Толстой считал своим духовным рождением, и что в 1879 году произвело в нем переворот.
Сам этот момент прозрения и духовного рождения нигде не зафиксирован Толстым. Судя по некоторым словам «Исповеди», Лев Николаевич намеривался описать его в дальнейшем, но не сделал этого. Не исключено, что Толстой тогда не совсем понимал сущность того, что происходило с ним. И окончательно понял только через четверть века, на 76 году жизни.
В ноябре 1903 года в дневнике Толстого появилась мысль, которую мы в своем месте намереваемся привести полностью и прокомментировать. В соответствиии с этой мыслью человек живет двумя жизнями: одной – телесной и животной, и другой – "вечной, истинной, неумирающей духовной жизнью". О чем Толстой и прежде говорил множество раз. Новое же в этой записи то, что "проживая свою телесную жизнь, человек раньше или позже соприкасается с вечной жизнью, и переносит в нее свое я… Как скоро человек достиг до настоящей жизни, он бросает уже ненужную ему жизнь телесную".
И далее – наиболее важное для нас здесь:
"Слияние телесной жизни с вечной, достижение посредством телесной жизни, жизни вечной, иногда совершается*) незаметно, иногда порывами, иногда рано, иногда поздно… Думаю, что слияние это совершается для каждого человека. (Вот и все. Как умел сказал, но знаю, что это так)»(54.197-8).
*) сначала Толстой написал "достигается" (какими-то усилиями), но потом переправил: не достигается, а "совершается" – самопроизвольно, как роды.
После слов "иногда рано, иногда поздно" Толстой через какое-то время и другими чернилами сделал вставку:
"У меня было порывом. Блаженное время".
Таким образом в своем духовном рождении Лев Толстой впервые реально пережил трансперсональный опыт соприкосновения земной жизни с жизнью вечной. Это произошло в нем "порывом", прозрением. Порыв слияния с жизнью вечной был достаточно мощным, чтобы совершился кардинальный переворот в его душе и изменилась вся его жизнь.
В момент духовного рождения Толстой познал какой-то Свет. Толстой решил, что он узрел Свет вечной жизни и понял, что в Свете этом заключен Замысел жизни как таковой, ее разгадка и ее Закон. Он мучительно искал название для этого Света. Испытал "весь труд и напряжение и отчаяние и восторги"(49.75) этого искания. И нашел: "Разумение жизни", которое в толстовском переводе Евангелей призвано представлять Свет жизни вечной. Впоследствии он редко пользовался понятием "разумение" и считал его "орудием освобождения" сущности человеческой души (см., например, 56.19) и свойством Бога. Вместо понятия "разумения" Толстой уже в 80-х годах предпочитал использовать понятие "разумное сознание", употребляя его не в смысле разумности, разумонаполненности сознания, а в смысле, выявленности сознания жизни на глубине ее свыше заданной смыслонаполненности.
Порыв соприкосновения земной жизни с жизнью вечной произвел и переворот в представлениях Толстого о человеке.
Мы уже говорили выше, что незавершенная повесть Толстого -"Труждающиеся и обремененные" – построена на общем представлении о двух путях, которыми разные люди идут по жизни и которые в первом приближении можно назвать "путем страстей и похотей" и "путем смысла и совести". Но это еще не представление о двух "жизнях", о двух общих началах – "начале страсти и похоти" земной жизни (животной личности) и "начале смысла и совести" вечной жизни (Боге в себе, "Боге своем"), – всегда борющихся в одном и том же человеке. От одного представления до другого, формально говоря, всего шаг. Но шаг этот – шаг извне в глубь человека, шаг, совершенный Толстым в акте духовного рождения, – огромен.
В результате духовного рождения внутренний мир человека для Толстого разделился надвое, на две души – высшую душу, носительницу истинной вечной жизни, и низшую душу, носительницу смертной земной жизни.*) Это решает проблему Структуры человека и, значит, закладывает основы учения о человеке и в конечном счете определяет общий взгляд на стратегию прохождения человеческой жизни.
*) На двудушевный состав человека в учении Толстого впервые обратил внимание профессор А.А.Козлов, издававший во второй половине 80-х годов философские журналы в Киеве и Санкт-Петербурге. В 1889 году он опубликовал в четырех номерах "Вопросов психологии и философии" свои рассуждения о религиозной философии Толстого и 1895 году издал их отдельной книжкой. Это единственный, насколько мне известно, развернутый анализ философии Толстого, появившейся в Х1Х веке. Профессор А.А.Козлов – первоисточник расхожих мнений о Толстом-философе. Именно А.А.Козлов впервые обосновал ставшие впоследствии общим местом упреки Толстому в непомерном рационализме, панморализме и в его несостоятельности как философа. Следы чтения А.А.Козлова (со ссылками и без ссылок на него) можно обнаружить у широко известных русских мыслителей ХХ века. К профессиональной чести А.А.Козлова он сразу же обнаружил, что "собирательное существо, называемое человеком, состоит, по гр.Толстому, из различных реальных, или предполагаемых таковыми, существ» (А.А. Козлов. "Религия гр.Толстого, его учение о жизни и любви С-Птб, 1895г., с. 190). И, разумеется, будучи персоналистом, не согласился с этим: "Не можем мы признать в человеке двух начал, животного и человеческого, по той простой причине, что таких начал вовсе не существует в действительности… Мы не видим никакой пользы для мысли о составе человека из двух начал и в соображении о внешнем и внутреннем способе познания себя человеком» (там же, с 151). Ниже мы еще не раз вспомним о А.А.Козлове.
Соединяя, переводя и толкуя Евангелия, Лев Толстой, по сути дела, опирался на то, что произошло с ним самим в результате соприкосновения в нем земной и вечной жизни, его духовного рождения. Он считал, что с евангельским Иисусом произошло то же самое, что и с ним. И потому он может верно понять Христа и имеет право сам толковать Евангелие.
"В Иисусе Христе Разумение слилось с жизнью"(24.43), – сообщал Толстой.
Духовное рождение Иисуса из Назарета произошло в пустыне, куда он, "исполнившись духа"(24.61) – духа Разумения – удалился для того, чтобы очистить, испытать и понять себя. Выйдя из пустыни, Иисус, по Толстому, говорит людям, "что в нем дух, что отныне небо отверсто, и силы небесные соединились с человеком, наступила для людей жизнь бесконечная и свободная, что люди все, как бы они ни были несчастны по плоти, могут быть блаженны"(24.818-19).
4 (11)
Толстовское изложение Евангелий открывается проповедью Иоанна и, затем, искушениями Христа.
Искушение в пустыне "особенно замечательно тем, – замечает Толстой, – что составляет камень преткновения для толкования Церкви, так как самая мысль о Боге, искушаемом Дьяволом, сотворенным Богом, составляет внутреннее противоречие, из которого нельзя выйти"(24.65).
Для толкования Толстого тут трудностей нет. Иоанн-предтеча сообщает о необходимости "очищения духом". Иисусу "надо найти этот дух, который должен очистить мир (напомню: мир людей. – И. М.), и этим духом очистить себя". Ему надо "изведать этот дух". Но голос этого духа, его высшая душа оказалась в борьбе с "голосом плоти"(24.74). "Сын Бога духа" столкнулся с "сыном бога плоти"(24.821.) Ничего необычайного. Все три искушения Христа, по мнению Толстого, "суть самые обычные выражения внутренней борьбы, повторяющейся в душе каждого человека"(24.74). Без этой внутренней борьбы "немыслим живой человек"(24.73), то есть человек, живущий духовной жизнью.
Анализ этого места Евангелия Толстой, как он часто здесь делает, предваряет опровержениями:
"Церковные толкования любят представлять это место как победу Иисуса над Дьяволом. Победы ни по какому толкованию не выходит никакой: Дьявола можно считать столь же победителем, сколько и Иисуса. Победы нет ни с той, ни с другой стороны; есть только выражение двух противоположных друг другу основ жизни. И ясно выражена и та, которую отрицает Иисус, и та, которую он избрал. Оба хода рассуждений поразительны тем, что философские системы, системы морали, религиозные секты, различные направления жизни в той или другой исторический период имеют в основе только различные стороны обоих этих рассуждений. В каждом серьезном разговоре о значении жизни, о религии, в каждом случае внутренней борьбы отдельного человека повторяются все те же рассуждения этого разговора Дьявола с Иисусом или голоса плоти с голосом духа".
"В самом простом виде рассуждение таково:
Дьявол: Сын Бога, а голоден. Словами хлеба не сделаешь. Толкуй, не толкуй о Боге, а брюхо хлеба просит. Хочешь быть жив, так и работай, запасай хлеба.
Иисус: Человек жив не хлебом, а Богом. Человеку дает жизнь не плотское, а другое – дух" (24.79-80).
О чем спор? Спор о двух разных жизнях: жизни смертной "плоти" и жизни высшей и вечной души человека. "Плоть" говорит, что человек живет для удовлетворения ее требований, и он, хочет или не хочет, принужден служить ей – это эмпирический факт.
"И эту-то самую несомненную истину Иисус берет в основание своего рассуждения и с первого же слова, признавая всю истинность этого рассуждения, переносит вопрос на другую точку зрения. Он спрашивает себя: Что такое во мне эта потребность соблюдать плоть – эта похоть и эта внутренняя борьба с этой похотью? И отвечает: Это сознание жизни во мне. Что же такое это сознание жизни? Плоть не есть жизнь. Что же такое жизнь? Жизнь – это что-то такое неизвестное, но что-то непохожее на плоть, совсем другое, чем плоть. Что же это такое? Это что-то из другого источника. И потому, признавая первое положение о том, что есть плоть, и есть потребность соблюдать ее, он говорит себе, что, однако, всё, что он знает о плоти и ее потребностях, он знает только потому, что в нем есть жизнь, и говорит себе, что жизнь не от плоти, а от чего-то другого, и это-то другое, противоположное плоти, называет "Бог" – и говорит: Человек жив не потому, что ест хлеб, а потому, что в нем есть жизнь. А жизнь эта происходит от чего-то другого – от Бога"(24.82).
В отрывке этом третье лицо, "он" (Иисус) вполне может быть заменено первым, "я" (Толстой).
Не только жизнь духовная, жизнь высшей души человека, но и плотская жизнь – всякая жизнь – от Бога. Но все же истинная жизнь – это жизнь высшей души, жизнь сына человеческого. "И если я не могу сделать из камней хлеба, то это значит, что я не сын бога плоти, а сын Бога духа. Я жив не хлебом, а духом. И дух мой может пренебречь плотью"(24.821). Таков первый вывод из духовного рождения и Иисуса, и Толстого.
И высшая душа живет, и "плоть" живет, и та и другая жизнь – от Бога. Но это разные типы жизненности. Высшая душа живет своей несмертной и истинной (подлинной) жизнью. "Плоть" живет смертной (то есть неистинной) жизнью. Сын человеческий и "плоть" живут в совместности, но различно. Различие это прежде всего проявляется в том, что высшая душа понимает "плоть" и ее потребности, тогда как последняя не способна понять высшую душу и потребности ее.
"Непонимание Дьяволом Христа начинается со второго вопроса и ответа", – пишет Толстой.
"Дьявол: А если не плотское дает тебе жизнь, то человек свободен от плоти и ее требований. А если свободен, так бросься с крыши, ангелы подхватят тебя. Убивай свою плоть или сразу же убей ее.
Иисус: Жизнь в теле от Бога, и потому нельзя роптать на нее и сомневаться в ней"(24.80).
Высшая душа понимает, что жизнь "плоти" – от Бога. По воле Бога человек рожден духом в плоти. Такова общая ситуация жизни человека. И она зачем-то нужна Богу. Она законна. И тут, следовательно, не должно испытывать Его. Таков второй вывод из духовного рождения и Иисуса, и Толстого.
Дьявол не понимает, о чем толкует Иисус. По третьему искушению бог плоти (то есть бог земной жизни) предлагает почтить его, за что обещает человеку все блага Земли. Такого рода предложения бога земной жизни постоянно звучат в человеке.
"Иисус говорит: Правда, я всегда буду во власти плоти, она всегда будет заявлять свои требования, но кроме голоса плоти я знаю еще голос Бога, независимый от нее. И потому как в этих искушениях в пустыне, так и во всей жизни голос плоти и голос Бога будут входить в противоречие, и мне надо будет насильно, как работнику, ожидающему плату, работать тому или другому. Голоса будут звать меня и требовать работы одному или другому, усилия я буду делать в таких противоречиях – Богу и от Него только ждать платы, то есть в случае борьбы избирать всегда усилие для Бога"(24.82-83).
"Плоть" предлагает блага всех земных Царств, на что высшая душа отвечает: "Среди тех благ, которые не я себе дал, я должен почитать одного своего Бога и работать должен ему одному"(24.84-85). Таков третий вывод из духовного рождения и Иисуса, и Толстого.
Искушающий Иисуса "голос духа плоти" обладает, по Толстому, и интеллектом, и воображением, и волей. Правда, волей несвободной. Только сын человеческий (сын Бога в человеке) есть "то, что человек сознает в себе свободным"(23.380) и обладает свободной волей. Голос сына духа, сына человеческого Толстой, как мы выше говорили, вполне мог уже тогда назвать "Богом своим", высшей (глубинной) душою в человеке. Ровно так же он уже тогда мог назвать "голос духа плоти" так, как это принято в его позднейшем учении – "личностью", "животной личностью", низшей (наружной) душою человека. Во времена работы над "Соединением и переводом четырех Евангелий" Толстой еще не выработал эти понятия, но представление о двух разных душах человека уже содержится здесь.
Диалог высшей души и низшей души во всевозможных видах то и дело встречается в учительских работах Толстого разных лет. Искушения Христа в "Соединении и переводе четырех Евангелий" – самый первый из этих диалогов. И в нем утверждается, что нельзя жить одной низшей душою, животной личностью, плотью, как живут люди. Нельзя жить и одной высшей душою, духом, Богом своим, потому что высшая душа человека обитает в теле, высеяна на животной личности. От животной личности не должно освобождаться, убивая себя, так как высшая душа живет в теле по воле Бога. Так человек поставлен на Земле Самим Богом. Каков же выход из этого положения? – Жить в теле и животной личности, как того хочет Бог, но служить не потребностям низшей души, а требованиям высшей души (см. также 37.100).
Таков вывод из ситуации человеческой жизни, ее решение. Но отдадим себе отчет, что этот вывод и это решение правомерно только тогда, когда в Структуре внутреннего мира человека признается существование хотя бы двух сочлененных вместе, но и автономных, саможивущих душ. Если же признавать существование только одной души, в которой идет борьба духа с плотью, то такую ситуацию человеческой жизни надо решать либо в пользу психофизиологической жизни (сколь угодно расширяя ее границы), либо в пользу духа, – в аскетизме, скажем, или приемами особых телесных или психических тренировок.
Все дело в том, как в том или ином учении структурно решен человек. От этого зависит и решение общего вопроса смысла (назначения) человеческой жизни, и ответ на основной практический вопрос: как нужно человеку жить и как ему прожить всю свою жизнь.
*)Все эти мысли отчетливо напоминают приведенные выше положения, положенные в основание замысла "Сто лет".
5 (12)
Как раз в те дни, когда Толстой прервал работу над "Декабристами", он в письме к А. А. Толстой задает знаменательный вопрос:
"Что значит: возьми крест свой и иди за Мною? Если у Вас есть короткое и ясное объяснение, то напишите мне, как Вы это понимаете. И очень ли важные это слова? И какой Ваш крест, как Вы понимаете?"(62.475)
Показательно, что слова Христа, обращенные ко "всем труждающимся и обремененным" и, следовательно, евангельскую фразу, вынесенную в эпиграф одноименной повести, Толстой в "Соединении и переводе четырех Евангелий" приводил в одной связке с мыслью о "несении креста своего". "Крест свой" и "иго Мое" у Толстого везде вместе:
"Как удивительно определение евангельское жизненной деятельности – не радость, не наслаждение, не достижение какой-либо цели, а крест или, лучше всего, – иго – место в работе"(51.71).
"Возьми свой крест" имеет у Толстого значение необходимой для духовного роста борьбы жизни.
Борьбы внешней, с миром людей: "Христианин всякий неизбежно должен нести свой крест, т. е. посредством борьбы с миром вносить в него Божью истину, – тем более тяжелый, чем более он христианин"(68.195).
И борьбы внутренней, с самим собой, борьбы, которая определяет человеческую жизнь: "И еще вспоминаю при этом стихе, что жизнь по определению Христа, т. е. истины, не есть нечто мое, не включает в себя никакой задачи для меня, никакого цельного дела, исполнимого здесь, а что жизнь есть иго или крест, есть нечто, чем я везу, или нечто, что я несу, и что все мое внимание должно быть устремлено не на то, чтобы сделать что-то, а на то, чтобы не переставать делать дело Божье, вечно нескончаемое и неохватываемое, и не понимаемое моим разумом, но участие или неучастие в котором всегда сознается мною"(87.42).
В контексте синоптических Евангелей (см. Мф. Х,38-39;16;24. Лк.14;26-27. Мк. VIII,34-35) словам о несении своего креста сопутствует мысль самоотречения, по которой следует "потерять душу" дабы "сберечь душу" ("нечто, чем я везу"). По Толстому, речь тут идет об отречении от "животной личности" и сберегании высшей души. Смысл же "несения креста своего" у Толстого тот же самый, что и смысл третьего искушения Христа. Нести свой крест, по Толстому, – значит, жить в теле с животной личностью, но служить не ей, а высшей душе.
"Нести свой крест" у Толстого везде и всегда имеет значение несения креста низшей души. Это именно "свой" крест и "на каждый день" потому, что – своей низшей души, той, с которой живешь ежемгновенно.
"Тот, кто хочет по мне идти, пусть откажется от самого себя, возьмет крест свой и следует за мной. – Переводит Толстой текст Мр.8:34-35. – Потому что кто хочет свою земную жизнь спасти, тот погубит истинную жизнь, а кто, если и погубит земную жизнь из-за меня и истинного блага, тот спасет ее"(24.609).
В продолжение всей дальнейшей жизни Лев Толстой будет все уяснять и уяснять ответ на вопрос, который он в 1879 году задал А. А. Толстой. Через четверть века он напишет Черткову: "Яснее стало значение очень любимого мною стиха из Луки: "отвергнися себя, возьми крест свой на каждый день и следуй за мной". Боюсь потерять это настроение: оно так разрешает всё, дает такую свободу и радость"(88.240).
"Возьми свой крест" не просто связано с основными положениями толстовского учения, но именно с такими положениями, которые возникли "порывом" духовного рождения, когда внутренний мир человека в представлении Толстого разделился на две души: низшую и высшую. В конце февраля 1879 года этого еще не произошло, но то обстоятельство, что Толстой спрашивает своего друга о смысле "креста своего", означает, что в душе Льва Николаевича уже начали созревать те мысли, которые станут краеугольным камнем его учения, построенного на его видении состава внутреннего мира человека.
6 (13)
Статус "души" Толстой устанавливает только для высшей души человека. Низшая же душа – не "душа" вовсе, а "животная личность" (или просто "личность"), на преодолении которой растет истинная душа.
Животная личность у Толстого – это и весь психофизиологический состав человека, все "похоти" его плоти и "страсти" животной души. Но это и собственно человеческая животная личность, которая включает в себя не только животное или, шире, природное начало в человеке. Если животное начало непосредственно включено в течение жизни, то человеческая животная личность способна видеть действительность как бы со стороны. Обладает она и творческой волей, и воображением, и интеллектом. Человеческая личность называется Толстым "животной" для того, чтобы не смешивать ее с истинным "Я" человека, его высшей душой или духовной личностью, с его духовным Я. Непонимание толстовского жизневоззрения в этом пункте приводило к самым разным недоразумениям. Вот одно из них.
По широко распространенному мнению, наша цивилизация и культура отвергались Толстым потому, что то и другое находится в противоречии с требованиями собственно родового природного начала в людях и произведена на свет вследствие чего-то самовольно надстроенного человеком. На самом деле культурные и цивилизаторские способности человека, напротив, вводились Толстым в состав животной личности, тем самым совмещались с природно-человеческим началом и затем отвергались в пользу духовной жизни высшей души.
Представления о высшей душе могут возникнуть не только в результате духовного рождения толстовского образца, но и непосредственно; скажем, при осмыслении различий человека и животного. К этому же заключению всякий приходит при достаточно упорном вникновении в себя. Когда я сужу самого себя судом совести, то надо зажмуриться или специально извернуться, чтобы уверить себя в том, что судят меня во мне без меня или из источника надо мной. Кто от кого отрекается в акте самоотречения? "Я" от себя? Так как отречься человеку от высшей души нельзя, то отрекается человек от низшей души: "Я", перенесенное в высшую душу, отрекается от себя в низшей душе. То же и в акте покаяния: перенося себя в высшую душу, человек очистительно переживает то, что совершил он, когда был во власти низшей души.
Но если считать, что душа в человеке одна, то неизбежно стремление раскрыть то, что в истоках души, в подсознании, в бессознательном (додушевном) состоянии или в экзистенции, – по сути, найти то, что заменило бы высшую душу, взяло на себя ее роль в человеке. Будь-то воля к власти, воля к жизни, воля к смерти, просто воля, либидо, саморазворачивающийся дух, дух жизни, коллективное бессознательное, психическое существо и прочее и прочее.
Если душа в человеке одна, то в поисках рабочего места внутреннего мира человека необходимо искать то, что "над" ней, что "под" ней, что "сбоку" от нее, то есть что "вне" Структуры человека. Вынесенное из Структуры собственно человека его главное дело жизни требует привлечения потусторонних сил и побуждает к поиску их. И человек занят не делом жизни, а поиском каких-то сил, начал или инстанций, которые на правах ведущих должны исполнять вместе с ним его дело жизни – в том числе (и не прежде ли всего?) дело спасения его от уничтожения в смерти.
"Вы говорите: "спастись". От чего спасаться? – Спрашивает Лев Толстой в одном из писем 1892 года. – От того положения, в которое нас поставил Бог, Бог любви? Какое бессмысленное кощунство! Отец наш не губил нас и не ставил в такое положение, от которого надо спасаться. Напротив, Он поставил нас в самое твердое и безопасное положение, в котором нам не от чего спасаться, а нужно только исполнять Его волю. От чего нам спасаться, когда мы от Него изошли и к Нему идем? В роде как когда мать, чтобы выучить своего ребенка ходить, только выпустила его из своих объятий. То же с нами делает Отец, пуская нас в жизнь. Так и не от чего нам спасаться "(66.123).
В 1910 году, за полгода до смерти, Толстой еще так отвечает на вопрос магометанина о спасении:
"Спасаться можно только от беды и опасности, а в жизни человеческой нет никакой беды и опасности. Жизнь дана людям на благо, и надо не спасаться от нее, а исполнять в ней волю Бога"(81.17).
Впрочем, и сам Толстой иногда использовал понятие "спасение души". Но в особом смысле:
"…на свете есть только одно нужное самому, всем людям и Богу дело: жить по-Божьи. Для людей же, как Вы и каков я был в свое время, дело это получает другое значение и название: спасти душу. Так вот это дело, одно важное, одно радостное на свете предстоит Вам, милый брат. Радостно это дело потому, что чем больше отдаешься ему, тем больше узнаешь в себе и сознаешь забытую, забитую, загаженную Божественную, любящую душу, лучше которой ничего нет и не может быть на свете. Для того же, чтобы узнать, сознать в себе эту спасенную душу, нужны самые простые даже не дела, а воздержание от дел/…/ Я знаю, что Вы настолько любите меня, что сделаете усилие, чтобы не посмеяться над этим письмом, но сделайте еще усилие: скажите себе: а что как это правда? Душа есть у меня, и мне тяжело прислушиваться к ее требованиям, если они и слышны иногда. В самом деле, не погибает ли она? И нельзя ли в самом деле спасти ее? (Какое чудное понятие и выражение). Ведь задушить ее совсем нельзя, несмотря ни на какие придуманные в нашем мире для этой цели приспособления. Задушить нельзя потому, что она Божественна, но проснется она поздно, перед смертью, и вместо радости ее постепенного спасения будет только страдание раскаяния"(77.6-7).
«Спастись» для Толстого значит то же, что достичь некоторой вершины жизни. Но только вершины не мнимой, а подлинной и жизни не земной, а тоже подлинной, то есть несмертной.
Человек любой духовной культуры, осознав присутствие в себе высшей души (как бы она ни называлась – пневма, нешама, буддхи, духовное существо, внутренняя Божественность, Божественная искра), склонен определенным образом решать задачу своей жизни. Он ищет рабочее место Структуры где-то "между" высшей и низшей душою, а не в том, что "над" или "под" душою. Для того чтобы, скажем, стать бессмертным или получить благо высшей жизненности, ему надо как можно глубже внедрить в себя высшую душу (или себя, своё "я" – в высшую душу), полнее задействовать ее в себе или переместить центр тяжести своей жизни в нее, предоставив низшую животную душу ее земной участи.
"О жизни будущей я думаю так, что в нас есть две половины: Божеская и животная. – Писал Толстой в середине 90-х годов. – И что если мы в этой жизни признаем собою свою Божескую половину, и ею будем жить, то мы с нею и уйдем к Богу, а что если мы будем жить в свое животное и собой считать это животное, то с ним и умрем"(69.100).
И еще цитата из Дневника Толстого 1901 года:
"В будущую жизнь можно смотреть через два окна: одно внизу, на уровне животного: в окно это виден один ужасный мрак и страшно; другое окно выше, на уровне духовной жизни, и через него открывается свет и радость»(54.101-2).
В традиционном христианстве понятие высшей души отчасти заменяется понятием «дух». Дух одухотворяет душу, но способен ли человек жить духом как душой? Высшая душа отличается от духа хотя бы тем, что в высшую душу можно перенести центр тяжести своей жизни, оставаясь при этом земным человеком. Ставить перед человеком задачу стать духом значит предлагать ему выйти из земной жизни и, следовательно, лишиться рабочего места, на которое поставил человека Бог.
Перенести (или только стремиться переносить) себя в высшую душу для подавляющего большинства людей – дело непосильное, да и возможное ли? Это задача всегда элитарной личной духовной жизни, о которой у нас вскоре пойдет речь. Религия же масс, общедушевная религия, должна обращаться ко всем и каждому, вне зависимости от проявленности высшей души в нем. "Спастись" нужно всякому или, на худой конец, всем вместе.
Но надо же отметить и очевидное: грешить способна только низшая душа. Так что и Адамово грехопадение может иметь отношение только к низшей душе человека. Разве высшая душа может быть смертной? Разве её можно помыслить в Аду? Божественная высшая душа есть в человеке. Пусть она далеко не всегда проявлена в нем (для чего обычно нужен труд и труд) и даже не всегда видна в его глазах, но она не может грешить или не грешить, не может быть грешной, и тем более не может быть освобождаемой от совершенного не ею греха. Да и воскресать в земной плоти человек способен только той душой, которая непосредственно связана с земной плотью, то есть своей животной личностью.
Когда Божественная жертва и заслуги адептов к услугам каждого и всех вместе, то всякий продолжающий жить жизнью низшей души человек живет как будто высшей душою и как будто обретает то, что обретает тот, кто совершает в своей краткой жизни огромный труд по перенесению себя в поле жизненности высшей души. Отдадим себе отчет, что такое решение главных вопросов человеческой жизни более всего выгодно низшей, животной душе, которая в этом случае не беспокоится за свою участь. Привилегированной для обыденного сознания оказывается именно животная душа, которая, в угоду этому сознанию, обеспечивается всеми мыслимыми и немыслимыми благами в будущей загробной и в будущей земной (повторной) жизни. Нет ничего удивительного в том, что как только Церковь на нашей памяти потеряла власть в обществе, так тотчас низшая душа открыто заявила свои духовные права на доминирующее положение в человеке. И без особого труда добилась своего.
*)Надо ли разъяснять, что противостояние "души" и животной личности у Толстого есть, прежде всего, внутридушевная проблема, которую не следует смешивать с толстовской критикой ныне очевидных извращений во внешней антиприродной цивилизаторской деятельности людей.
7 (14)
"В каждом из нас живет два человека: один человек духовный, а другой телесный»(58.161).
В человеке есть высшая душа и есть низшая душа, но при этом он един и целостен. Структура человека может связываться в единое целое по-разному. Например, единством плоти (природной и духовной), единством сознания, единым разумом, действующим в различных инстанциях Структуры, единством Сознавания, единством воли. У Толстого целостность человека обеспечивается единством жизни.
Жизнь для Толстого – одна и та же и в высшей и в низшей душе. Но одна жизнь подлинная, истинная, другая подобие ее, жизнь смертная. Ее, как уже было отмечено, нельзя и называть "жизнью".
"Жизнь животную Иисус называет смертью, и потому так называет, что она и точно только момент, кончающийся вечной смертью. И потому не надо думать, что человек со своими руками, ногами весь живой. Живое только то, что сознает свое Божество. Люди не должны смотреть на себя, как на живые существа, только потому, что они движутся, едят, но только потому, что они сознают себя сынами Бога"(24.325).
Есть жизнь и есть то, что носит жизнь. Носителя жизни можно уничтожить, умертвить, но еще вопрос: уничтожается ли при этом самая жизнь в нем? Смерть – лишь нарушение жизни, свойственное земному существованию. Нарушение это влияет на действие жизни, но не влияет на ее существование как таковой. Жизнь как таковая – без нарушений, то есть несмертная, вечная, вернее, вневременная. Жизнь плоти и земной животной личности – не жизнь вовсе, а подобие жизни, ущерб жизни. Ущербную земную жизнь можно называть смертной жизнью или смертью. Как и сказано в книге Бытия: "смертью умрешь" (Быт.2:17) – станешь жить жизнью-смертью.
Жизнь-смерть возможна лишь в изолированном существе, отделенном и от всего того, что живет подлинной, истинной, несмертной жизнью, и от других таких же внутренне и внешне отграниченных существ, то есть возможна лишь в существовании "личности". "Животная личность" у Толстого – это все то в человеке, что живет жизнью-смертью.
Истинная жизнь проявляет себя верой, любовью, добром и совестью, неистинная – страстями и похотями. Животная личность живет не подлинно. Духовное рождение и состоит в том, что человек сознает эту подлинность и неподлинность жизни в себе. Предметом Веры Толстого могла стать только высшая душа, живущая подлинной жизнью в человеке. Вера Толстого – это Вера в высшую душу человека, способную на духовное рождение.
Понятие «духовного рождения» у Толстого подразумевает наличие двух душ в человеке. Духовное рождение – это рождение высшей души в автономную жизнь. В гл.10 «Учения Христа, изложенного для детей» (в некотором смысле наиболее ответственной работе Толстого) сказано:
«Иисус сказал ему: Родиться снова – значит родиться не плотским рождением, как родится ребенок от матери, а родиться духом. Родиться же духом – значит понять то, что дух Божий живет в человеке и что, кроме того, что всякий человек рожден от матери, он рожден еще от духа Божьего.*) Рожденное от плоти – плоть, оно страдает и умирает, рожденное же от духа – дух и живет само собой, и не может ни страдать ни умирать».
*) Человек как таковой рожден и от плоти и от духа Божьего; духовное же рождение не в том, что он рождается от духа Бога, а в том, что он понимает, что у него не одна, а две души, что в нем есть вторая душа, которая есть дух Бога, сын Бога. Такое понимание вопроса само по себе переводит высшую душу на иной уровень существования
"Идет борьба между духовным и животным я. И все, что я приобрету для первого, на всё это я ослаблю второго. С одной чаши весов перекладываю на другую"(53.190).
"Из погибели физического Я вылупляется невольно Я духовный" (51.14).
Чем дальше жил Толстой, тем лучше он понимал, что в мире существует жесткое противостояние мирских людей, людей низшей души, и Божьих людей, людей высшей души. Вот что сказано об этом в гл. 36 все того же «Учения Христа, изложенного для детей»:
«В жизни этой люди должны страдать, если живут для Царства Божьего, потому что мир любит своих, а Божьих ненавидит. Всегда было так, что мирские люди мучили тех, кто исполняет волю Отца».
"Человек есть соединение двух начал: телесного, животного и разумного, духовного. – Напутствует Толстой вступающего в жизнь сына. – Движение жизни совершается в животном существе, оно движет жизнь и свою и продолжает эту жизнь в дальнейших поколениях; разумное, духовное существо направляет это движение"(68.228).
В трудную минуту жизни (1897год):
"Мне помогает одно: отделение, в эти минуты упадка, своего истинного, вечного духовного я от ложного, временного, животного. Я физически трясу головой, чтобы разделить эти слипшиеся я и не только не дать животному властвовать над духовным, но, напротив, покорить его под ноги"(88.8).
В хорошие минуты духовного благосостояния:
"Испытываю странное чувство духовного благосостояния, как только начинаю думать хорошо. Точно лег, когда устал, или пью воду, когда жажду. Так что в этом, стало быть, нормальное состояние духовного существа"(54.53).
В 1897 году Толстой читал Шри Шанкара:
"Очень хорошо. Всё та же общая всем великим учителям мысль, что заблуждение только от смешения своего Божественного, неподвижного вечного "я" с изменяющимся, страдающим, умирающим телесным "я". И что стоит человеку просветиться мудростью, и это вечное "я" само собою проступает"(88.18).
В конце 70-х и начале 80-х годов у Толстого еще не столько две души, сколько два полюса внутреннего мира человека. Сначала Толстой только полюсует Структуру человека. Потом, с середины 80-х годов он уже определенно делил ее на две части: две души, душа и личность, две части души, два "я", два сознания, два разных существа в человеке, иногда говорит о двух началах, и пр..
Можно подумать, что духовное начало, высшая душа человека во всей чистоте являет себя только на вершине духовного совершенства "освобожденного от тела" человека. То есть высшую душу являет человек, уходящий из земной жизни. Но это не совсем так. Наиболее ярко и зримо высшая душа сияет по Толстому во входящем в земную жизнь человеке – в младенце, в малом ребенке. «Любовь это – сознание своей истинной жизни, единой во Всем. Дети, приходя ОТТУДА, еще ясно чувствуют эту жизнь и ее единственное вполне доступное нам проявление в любви"(56.165). Затем высшая душа в человеке забивается хотениями низшей души и меркнет.
Всю человеческую жизнь от рождения до смерти Толстой представляет как параллельное развитие двух существ или двух душ в человеке. Но и в детстве, когда низшая душа развивается быстрее, чем высшая, но и в зрелости, когда развитие их идет "почти вместе"(88.263), человек – не в умозрении, а самом чувстве жизни, – не в состоянии различить их в себе, "разделить эти слипшиеся я". И все же впечатление такое, что представление о двух человеческих душах неоформленно жило в Толстом еще со времен "Детства". Именно такое представление о человеке, придавая объемность художественному взгляду Льва Толстого, составляет основу характерно толстовского вникновения и проникновения в человека. Таинственная художественная сила толстовской "диалектики души" многим обязана его особому взгляду на Структуру человека.
*)Надо отметить, что само по себе понятие "низшей души" редко встречается в работах Толстого. Хотя все же и встречается. Запись в день 80-летнего юбилея: «Юбилей – много приятного для низшей души, но трудное сделал для высшей души»(56.150).
8 (15)
Толстой – не человек возвышенных чувствований и самоумилительных разговоров, стремящийся наслаждать себя ими; он – человек работающей души, на практике воплощающей то, что несешь в себе и знаешь (сформулировав или нет) религиозной истиной. И если в человеке две души и все его дело в том, чтобы перенести центр тяжести жизни из смертной жизни низшей души в несмертную жизнь высшей души, то, при чем тут ад, рай, воскресение в плоти, благодать и чудо спасения верой-доверием. "Спасти" человека, то есть ввести его в жизнь вечную, способна его же высшая душа.
В "Соединении и переводе четырех Евангелий" Толстой отказывается от понятия благодати и везде, где встречает его в текстах Евангелий, переводит как "Богоугождение" или "Богопочитание". Практику своего учения Толстой строит не на получении благодати, а на добывании, работе "Богоугождения делом", которую он объясняет так:
" Исполнение воли Бога, возможно, только тем, чтобы отдавать свою плотскую жизнь в пищу жизни духа… В этом различие между тем, что закон дан Моисеем, а Богопочитание делом дано Иисусом Христом, в этом служение Богу в духе и делом"(24.418).
"Сказано, что жизнь мира подобна свету в темноте. – Продолжает Толстой переводить первую главу Евангелия от Иоанна. – Свет светит в темноте, и темнота его не удерживает. Живое живет в мире, но мир не удерживает жизнь в себе"(24.35).
Учение "Богоугождения делом" в Евангелии от Толстого – это учение "живого служения" (24.125), которое открывает путь к жизни в Боге. Царство Божие берется усилием возрастания жизни высшей души.
В "Соединении и переводе четырех Евангелий" Толстой говорит, что в Евангелии нигде не сказано, что "Бог любит каждого человека", а "именно сказано, что Бог любил мир, то есть людей вообще, и хотел им дать жизнь, и потому дал миру сына, и тем дал миру, то есть людям вообще, жизнь и возможность вступить в Царство Божие". И далее, в комментарии к притче о сеятеле: "Сеятель, любящий пшеницу, заботящийся о пшенице, выражает Бога, любящего мир, заботящегося о мире, и как севец не заботится о каждом зернышке, так и Бог не заботится о каждом отдельном человеке. Как севец заботится об урожае, зная, что, несмотря на пропажу многих зерен, урожай будет, сеет всюду; так и Бог сеет всюду, зная, что, несмотря на погибель многих, урожай будет. И Бог не вступает больше в дела мира…*) Как земля самородно родит, как квашня сама поднимается, так и жизнь разумения самородно живет и не прекращается… Зерно каждое имеет возможность прорасти и принести плод; и каждый человек имеет возможность стать сыном Бога и не знать смерти"(24.174-5).
*) Надо ли говорить, что такого рода утверждения затрудняют применение учения Толстого для нужд Общей души, для использования этого учения в качестве всеобщего общедушевного религиозного учения.
Впрочем, одни люди, согласно Евангельскому тексту, высеяны (в толстовском понимании высеяны на животной личности, конечно) удачно, "попали на добрую землю", другие неудачно: попали в камни, в репьи или на дорогу. Последние "как будто предопределены на погибель", первые – "на жизнь с избытком"(24.177). Это так и не так. В словах Иисуса, объясняет Толстой, не только констатация исходных духовных и волевых возможностей человека, но и предупреждение, относящееся к каждому, как бы он ни был высеян.
Семена, упавшие на дорогу, это и духовно равнодушные люди, и само духовное равнодушие, против которого предостерегает Иисус. Человек может и должен делать усилия духовного роста, чтобы не допустить пренебрежения к своей высшей душе. Семена, упавшие на камни, это и слабые люди, и слабость в человеке. Иисус, по Толстому, предупреждает, "что человек должен делать усилия, чтобы не поколебаться от обид и гонений". И, наконец, репьи – "это заботы мирские, и Иисус предостерегает и указывает на то, что человек должен сделать усилие, чтобы откинуть их. Хорошая земля – это понимание и исполнение, несмотря на обиды и заботы. И Иисус указывает на то, что кто сделает это усилие и исполнит, тот получит жизнь с избытком"(24.189-190).
Это еще очень сырые мысли. Вряд ли они уже тогда удовлетворяли Толстого. Допустим, что слабый человек может стать сильным человеком (конечно, опираясь на какие-то другие свои качества), что мирской человек может отринуть свои заботы (конечно не без мощного влияния извне), что особые обстоятельства жизни заставят кого-то из духовно равнодушных людей пробудиться в толстовском смысле этого слова, но вряд ли успехи неудачно высеянных людей, кроме самых исключительных случаев, сопоставимы с тем, чего смогут добиться люди, которых Христос сравнивал с семенами, попавшими на хорошую землю. Так или иначе, получается, что кто-то из нас уже изначально предназначен, а кто-то изначально не предназначен к спасению. Что тут сделаешь? Ответ на этот вопрос Толстой получил только через 15 лет и предъявил его в учении об ускорении духовного роста. В своем месте мы поговорим об этом подробнее.
Высшая душа в человеке – не частица и не эманация Бога, а Его семя (то есть то, что предназначено вырасти и дать плод) или то, что рождено ("произведено") Им для жизни в человеке, – Его сын, сын человеческий. Бог, по Толстому, это "не Творец всего и не отдельный от мира Бог", а есть "Бог и отец только тех, которые признают себя Его сынами. И потому для Бога существуют только те, которые удержали в себе то, что Он дал им".
К общедуховной жизни эти положения уже не имеют отношения.
"Царство Бога надо понимать не так, как вы думаете, что для всех людей в какое-нибудь время и в каком-нибудь месте придет Царство Бога, а так, что во всем мире всегда одни люди, те, которые полагаются на Бога, – делаются сынами Царства, а другие, которые не полагаются на Него, – уничтожаются"(24.193).
Бог не правит людьми на Земле и не придет сюда царить над ними. Он только сеет высшие души (сынов "Разумения жизни") в людях. Царство Божие принадлежит только тем, кто возьмет и взрастит это семя в себе. Остальные же – "обман времени". В этом смысле: "Кто держит, тому дается многое, а кто не держит, у того последнее отнимется"(24.195).
Человек рождается и умирает. "Пока люди живут, Бог не вступается в их жизнь", так как высшая душа сама живет в человеке "и составляет Царство Бога"(24.194). Это Царство Бога – Царство высших душ – есть в людях и не подвержено смерти. "Бог дух – источник жизни, сеет жизнь и собирает жизнь… Жизнь одна нужна, она одна остается, а остального нет для Бога духа"(24.182-3). "Бог блюдет то, что нужно Ему, – то, что Его; а что не от Него, того нет для Него"(24.195). И потому для Самого Бога и для Его сына в человеке нет ни смерти, ни зла. "Смерть и зло есть для людей, а не для Бога"(24.194).
Важно понять, что высшая душа для Толстого не только носитель истинной жизни, но и источник всякого рода жизни человека, – в том числе и той неистинной жизни животной личности, которая похожа на жизнь, но кончается смертью.
"Сын человеческий дает жизнь и знает только жизнь в разумении (то есть в Божественном источнике жизни. – И. М.), и потому всякий человек, перенеся свою жизнь в сына, в духа, не может знать зла и потому не может противиться ему". Для сына Бога в человеке зла нет, и "он не может желать уничтожить его. Желание уничтожения зла есть зло и может быть только в людях (то есть в животных личностях. – И. М.), а не в нем"(24.183). Зло только в том, что Свет приходит в мир людей, а люди уходят от него. По своей свободной воле люди, сами, удаляются от Света высшей души в себе, уходят в погибель.
В "Соединении и переводе четырех Евангелий" непротивление злу не есть спасительный закон общественной жизни, а есть верный показатель того, что приверженец непротивления живет истинной жизнью высшей души. Таких приверженцев среди людей, конечно, мало. Такими Иисус считал своих первых учеников, апостолов. "Надо не забывать, – предупреждает Толстой, начиная толковать Нагорную проповедь, – что Иисус говорит народу, но речь свою обращает к ученикам"(24.198), для которых зла уже нет и которые поэтому вполне могут понять его слова.
Перенести свою жизнь в сына, жить высшей душою – значит не заботиться о земной жизни, отрешиться от всех форм жизни животной личности и жить как Птицы Небесные. "Человек, отрекшийся от благ земных, есть нищий". Из этого высокого понимания "нищего" Толстой выводит то, что провозглашается в заповедях блаженства Нагорной проповеди: "Блаженны нищие – их есть царство Божие"(24.206). Слова эти "не суть цветы чувствительного красноречия, какими представляются слова: блаженны нищие духом и т. д. по Матфею, а страшная, ужасная истина для людей, признающих хорошим то положение общества, которое они себе устроили"(24.211).
Толстой переводил и сводил вместе Евангелия до того, как решил выйти к людям с проповедью. И заповеди Нагорной проповеди для Толстого того времени ещё напутствуют только "нищих", которые могут жить одной высшей душою, то есть в Царстве Божьем.
Входящий в Царство Божие должен исполнять некоторые правила Царства Божьего, вытекающие из жизнедействия высшей души. Это правила Нагорной проповеди. Они сводятся в одно поведенческое правило, которое заявлено Толстым еще в «Соединении и переводе четырех Евангелий»: "то, что ты желаешь, чтобы делали тебе другие, то самое делай другим"(24.254).
"Вся молитва, – по словам Толстого, – должна состоять в желании Царства Божия и в исполнении его (Царства. – И. М.) правил, а все правила в том, чтобы не считать никого виновным, а всех любить и прощать"(24.260).
Таким образом, заключает Толстой, "Иисус не говорит ни о семье, ни об обществе, ни о государстве; он говорит только об одном, что составляет предмет его учения, о том одном, что есть свет людей – о Божественной сущности человека, о его душе. Но он прямо отвечает на естественный вопрос о том, что же будет с плодом моих трудов, с сокровищем, с капиталом, который я собрал. Он отвечает: "Человек в жизни может приобрести два богатства: одно богатство – духа в Боге, и другое – то, что вы называете богатством. Ваше богатство гибнет… Богатство в Боге, жизнь духа, – одно не погибнет и не подлежит земным переворотам. Копите то, которое не гибнет"(24.271-2).
9 (16)
Через 5 лет после окончания работы над "Соединением и переводом четырех Евангелий" Толстой пишет одному из своих корреспондентов в ответ на его замечания:
"Вообще в переводе моем грубых ошибок не думаю, чтобы было (я советовался с филологом, знатоком и тонким критиком), но много должно быть таких мест, как те, которые Вы указали, где натянут смысл и перевод искусственен. Это произошло оттого, что мне хотелось как можно более деполяризировать, как магнит, слова церковного толкования, получившие несвойственную им полярность. Исправить это – будет полезным делом"(64.62-3).
Еще через два года, в феврале 1889 года, перечитывая свой труд, он записал в Дневник:
"Мне многое не понравилось: много ненужных натяжек… Помню то доброе чувство, по которому я не боялся, что меня осудят за ошибки"(50.36).
Весной 1902 года толстовское исследование Евангелий готовилось к печати В. Г. Чертковым, и Толстой в письме к его жене написал нечто вроде предисловия к книге:
"Книга эта была писана мною в период незабвенного для меня восторга, сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное мучившее меня своими противоречиями учение, в котором оно преподается Церковью, а есть ясное, глубокое и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека.
Под влиянием этого восторга и увлечения я, к сожалению, не ограничился тем, чтобы выставить понятные места Евангелия, излагавшие это учение, пропустив все остальное, не вяжущееся с основным главным смыслом, а попытался придать и темным местам подтверждающее общий смысл значение. Эти попытки вовлекли меня в искусственные и, вероятно, неправильные филологические разъяснения, которые не только не усиливают убедительность общего смысла, но ослабляют ее. Увидав эту ошибку, кроме того, что я весь был поглощен другими работами в том же направлении, я не решался опять переделывать всю работу, отделяя излишнее от необходимого, так как знал, что работа комментария на эту удивительную книгу 4-х Евангелий никогда не может быть закончена, и потому оставил книгу так, как она есть, и теперь в том же виде предлагаю ее к печатанию»(88.259).
Состояние нравственного вдохновения – одна из вершин человеческой жизни. Лев Толстой хорошо знал это состояние и умел передавать его другим. Особенно в свое "блаженное время", в пору своего духовного рождения. Такой же заряд нравственного вдохновения несут в себе и многие места Евангелия. Этический пафос Евангелия нередко совпадает с толстовским моральным сознанием. Но что касается общего взгляда на Бога и человека и богочеловеческих задач жизни, то тут совпадений почти нет. Евангелисты, как бы их ни понимать, явно имели в виду не то, что провозглашал Лев Толстой. Но не правы и те, кто утверждали, что Христос как бы призван Толстым к себе, к "своей религии".
У Толстого никогда не было намерения использовать Евангелия в своих целях – для обнародования и авторитетного подтверждения своего учения. Еще раз повторяю, что Лев Николаевич искренне и твердо верил, что два тысячелетия назад Иисус переживал то же, что и он, и Иисусу открылось то самое, что открылось ему. Главная задача Толстого – раскрыть глаза людям на ту истину, которая, по его глубокому убеждению, заложена в евангельских текстах и которая до сих пор не предъявлена миру из-за корысти духовных властей, огрехов в переводах с греческого и недопонимания самих евангелистов. Евангельские смыслы и понятия Толстой перетолковывал в другие, непересекающиеся с ними смыслы и понятия. И совершал это не на каком-то отдельном эпизоде, ряде мыслей или положений, а по всему корпусу Евангелия. Столь грандиозного переосмысления всего евангельского текста не предпринимал никто. Исполнение такой задачи определенно потребовало бы от любого другого, даже умственно изощренного человека, усилий многих и многих лет жизни. Напомню, что Толстой всю эту неподъемную работу выполнил менее чем за год. Непостижимо!
Авторитета великого писателя вполне хватило бы Толстому для того, чтобы от своего имени, без евангельской (или иной) опоры, развить свое учение о смысле жизни, Боге, человеке.*) Он не сделал этого только потому, что любил евангельскую образность и евангельские изречения и – более всего – свято чтил Иисуса из Назарета. Чтил и любил так, что не мог относиться к Христу "как к личности", которая, как и всякий другой человек, имеет свои человеческие слабости. Иисус для Толстого – человек, но человек в духовном смысле идеальный.
*) Излагая свое учение в последнее десятилетие жизни, Толстой ссылается на самого себя равно так же, как и на многих других великих учителей человечества. И это не выглядит претенциозно.
"Вы спрашиваете меня о моем отношении к Христу. – Пишет Толстой летом 1908 года в ответ на вопрос о его отношении к личности Христа. – Должен сказать вам, что мое отношение к Христу, как Вы и знаете, такое же, как и ко всем тем великим учителям, которые помогли мне найти свет, но никак не как к личности. Не то что я не хочу этого, но я прямо не могу относиться к нему, как к личности. Различие моего отношения к нему от отношения к другим святым и мудрецам мира в том, что он ближе для меня всех других. Он именно привел меня к той истине, которой я живу, и только благодаря ему я постиг и значение всех тех других просветителей, которые для меня только подтверждали то, что было открыто им. Таково мое непосредственное чувство по отношению к Христу и поэтому особенная любовь к его учению и даже к формам выражения его. Рассудочное же для меня объяснение этого особенного отношения к нему в том (что для меня несомненно), что из всех великих учителей человечества Христос был последним. Только Христос объяснил нам вполне смутно предчувствованное прежними учителями значение любви, любви духовной, Божеской, независимой от всех человеческих условий, любви к врагам, к ненавидящим и ни в каких случаях не допускающей исключений"(78.194).
Толстой не выставлял себя вместо Христа, как казалось многим его недоброжелателям.*) Скорее уж, толкуя Евангелия в своем смысле, он отрекался от авторства своего учения и своих прозрений. Лев Толстой ставил себя и свой гений на службу тому, кого любил.
*) Отсюда некогда возникла идея выставить Толстого Антихристом.
Если Иисус Христос воплощенный Бог-Сын, то толстовская опора на Евангелия совершенно незаконна. Если же Иисус не был Господом, а был смертным человеком, то он вполне мог быть человеком одноцентричного Толстому строя и опыта духовной жизни. Так Христос, что бы ни говорил сам Лев Николаевич, и воспринимался Толстым – и в силу любви к нему, и в силу гениальной художественной проницательности, позволившей Толстому распознать в Иисусе духовно родственного себе человека и адекватно понимать его фразы и поступки. Если доверять могучей интуиции Толстого в отношении человека, то почему не признать за великим писателем права трактовать образ и слова Иисуса так, как он понимал. Лингвистическая точность его перевода в таком случае не имеет значения. Другое дело, что именно для исполнения своей задачи непосредственного обращения к мудрецу Иисусу Толстому было необходимо разрушать церковные толкования, на которых основывается общедуховная Вера во Христа Господа Бога. Из-за этого, как мы слышали от него самого, в мыслях Толстого оказалось много ненужных натяжек, и они получили "несвойственную им полярность".
Толстой был уверен, что он выходит к людям с убежденностью такого же рода, с какой некогда в древней Иудее выходил к людям Иисус:
"Иисус Христос открыл свое учение не для того, чтобы сообщить людям, что он Бог, не для того, чтобы улучшить жизнь людей на земле, не для того, чтобы свергнуть власти, а потому, что в душе своей, как в душе каждого человека, пришедшего в мир, он знал, что лежит сознание Бога (то есть Разумение жизни – И. М.), которое и есть жизнь, и которому противно всякое зло. Иисус Христос знал и постоянно повторял, что не он говорит то, что он говорит, а что говорит то Бог в душе каждого человека"(24.295-7).
Толстой не ставил перед собой задачи создания новой религии или нового учения. Иисус, пишет Толстой, "знал, что его учение – не учение, но искра, которая зажигает сознание Бога в сердцах людей и, раз загоревшись, не может потухнуть… И он томился желанием видеть скорее пламя, которое охватит всех".
Нет сомнения, что это Толстой говорил и о самом себе.
Работа Толстого по переводу и соединению четырех Евангелий с точки зрения "истины о том, что есть человек, в чем его жизнь"(24.296) чрезмерно масштабна и произведена не без издержек. Как Толстой осмысливал каждый эпизод евангельского повествования, или каждую притчу, или каждую мысль, может быть интересно с точки зрения его критики Евангелия и важно с точки зрения изучения эволюции толстовских взглядов на тот или иной вопрос; но для первичного ознакомления с основами собственно толстовского жизнепонимания знать это читателю, я думаю, не обязательно. Приведем примеры.
10 (17)
Притча о талантах всегда притягивала Льва Николаевича. Содержание ее в первоначальном изложении Толстого таково.
Хозяин удалился из своего дома и раздал своим рабам "кому пять гривен, кому две, кому одну, каждому по его силе", и велел пустить их в оборот. "Тот, у которого было пять талантов, стал работать на них и нажил еще пять талантов. Так же сделал и тот, кому даны два таланта. А тот, у кого был один, зарыл в землю хозяйское добро". Были и такие, которые вообще не желали хозяина и отказывались от его власти над собой.
Хозяин, вернувшись и потребовав отчета, похвалил тех, кто в его отсутствие приумножил данное им богатство, и оставил их при себе. Тот же, кто зарыл талант в землю, пришел к хозяину и возвратил ему его деньги, сказав, что он боялся хозяина, который берет, где не клал, и жнет, где не сеял. "И хозяин сказал ему: глупый раб! Твоими словами буду судить тебя. Ты говоришь, что от страха передо мною спрятал свой талант в землю и не работал над ним. Если ты знал, что я строг и беру там, где не давал, так зачем же ты не сделал того, что я велел тебе сделать? Если бы ты работал на мой талант, имения бы прибавилось, и ты исполнил бы то, что я велел тебе. А теперь ты не сделал того, зачем тебе дан был талант, и потому тебе нельзя владеть им. И велел хозяин взять талант у того, кто не работал над ним, и отдать тому, кто больше работал. И тогда слуги сказали ему: господин, у тех и так много. А хозяин сказал: дайте тем, кто много работал, потому что тому, кто блюдет то, что есть, тому прибавится, а у того, кто не блюдет, и последнее отнимется. Тех же, что не хотели быть в моей власти, выгоните вон, чтобы их не было".
Хозяин, удалившийся из своего дома, – Бог, который оставляет людей одних жить на земле. Слуги – люди. Таланты – их высшие души, оставленные Хозяином для прироста. Возвращение Хозяина и требование отчета – "это уничтожение жизни плотской и решение судьбы людей: имеют ли они еще жизнь кроме той, которая была дана им".
В этом отношении люди разделяются на три категории. Люди, исполнившие волю Хозяина и прирастившее богатство высшей души, "спасаются", то есть "становятся участниками жизни отца и получают жизнь, несмотря на уничтожение жизни плотской". Люди, закопавшие данный им талант, не использовавшие его в своей земной жизни, "скрывшие серебро господина своего" (Мф.25;18), "лишаются той жизни, которую имели, и уничтожаются". Люди, "которые не признавали власть хозяина, тех для хозяина не существует; он их изгоняет". Это "люди тьмы", которая не существует для Бога. (24.322-4, 854-5)
Возникает множество вопросов. Разное количество талантов, оставленное в распоряжение каждого, свидетельствует о разном исходном достоинстве (или хотя бы разной силе) высших душ в разных людях. Что вроде бы очевидно. Но почему достоинство и сила высшей души в одном человеке изначально (от Бога) выше и больше, чем у другого? Чем это вызвано?
Толстой говорит, что это только так "кажется" нам:
"Тот, кто сознает в себе сына человеческого, будет жить жизнью истинной, тот приобретет жизнь истинную. Жизнь же истинная не может быть ни больше, ни меньше. Если в жизни земной нам кажутся одни люди имеющими больше, а другие меньше, одни пять гривен, другие две и одну, то для жизни истинной они все равны, они все существуют в радости хозяина"(24325).
Людям может казаться все, что угодно, но по тексту Евангелия от Матфея хозяин сам по-разному распределил богатство среди людей. И потому Толстой, редактируя через полгода составленное В. И. Алексеевым "Краткое изложение Евангелия", излагает притчу о талантах не по Евангелию от Матфея, как прежде, а по Евангелию от Луки. У Луки (Лк.19;13) сказано, что хозяин "призвав же десять рабов своих, дал им десять мин (фунтов серебра – И. М.)". Что дало возможность Толстому сказать, что хозяин "раздал им десять талантов – каждому по одному"(24.854).
Но в этом месте Евангелия от Луки для Толстого возникает другое затруднение, которое не так явно у Матфея. Сколько мин исходно дано каждому, у Луки не сказано, но сказано, что у одного его мина принесла десять мин, а у другого – пять. Хозяин одобряет и того и другого, но одному дает в награду десять городов, а другому пять. Выходит, что в Царстве Божьем, "для жизни истинной" не все равны. Опять в Царстве Божьем возникает неравенство. В первом случае, у Матфея – исходно, во втором, у Луки – в результате. Одно – неравенство первичных возможностей в Царстве высших душ, а другое – различие статуса в Царстве Божьем. Более того, выходит, что вошедшие в Царство Божье, в жизнь истинную, в радость Хозяина награждаются по-разному в соответствии с заслугами, по справедливости. Что не соответствует тезису о том, что "жизнь истинная не может быть ни больше, ни меньше".
Притча о талантах, объясняет Толстой, "выражает еще и то, что людские понятия о справедливости не приложимы к вопросу жизни и смерти. Понятие ветхозаветное о том, что за такие-то дела Бог награждает, за такие-то наказывает – ложно. Нет ни наград, ни наказаний… Не люди живут для себя. Если бы они жили для себя, то были бы награды и наказания для них. Не люди живут для себя, а Бог в людях живет для Себя. Если человек живет для Бога, то он живет. Если он живет для себя, без Бога, то он не живет, и как жить нельзя ни меньше, ни больше, так и не жить нельзя ни меньше, ни больше, человек живет или не живет. Тут нет ни наказания, ни награды, а есть жизнь и смерть. Учение Христа есть только учение о том, что жизнь, что смерть"(24.325-7).
Толстому приходится соединять и ретушировать две редакции притчи о талантах так, чтобы сделать нужный ему вывод:
"Семя духа Божия посеяно равно во всех сердцах, и каждый человек может увеличить в себе это семя духа. Каждый предоставлен самому себе. Бог дал каждому духа. Одни, получив этот дух, полюбили его, взрастили в себе, удвоили и дали плод каждый по силам"(24.324).
Задача человека – исполнить волю Бога, взрастить в себе высшую душу и дать плод. Что это значит? Еще не ясно. Ясно только, что воля Бога в том, чтобы жить не для себя. Вот почему люди, получив жизнь, обязаны понимать, что "жизнь есть воля Отца и должна служить жизни других". В отличие от людей, "которые исполняют только свою волю, а не волю Отца, и не служат жизни других"(24.855). Служение жизни других приравнивается "к служению жизни" и, следовательно, к служению Богу. Что позволяет Толстому уйти здесь от решения мистических вопросов, неизбежно возникающих "в учении о том, что жизнь, что смерть".
Именно тот раб, которому, по Матфею, дан "по его силе" всего один талант, прячет его в землю. Толстой, разумеется, опускает этот момент. Ему важно, что "кто держится жизни, тому дается еще больше; кто не держится жизни, у того последняя отнимается". Но эта "последняя" не только жизнь земная, жизнь животной личности, но и жизнь истинная, жизнь высшей души – тот один талант, который первоначально дан ему. И по Матфею, и по Луке, единственный талант не просто отнимается у "ленивого раба", а передается тому, у кого образовалось десять талантов и у кого теперь стало одиннадцать. У Матфея есть точное объяснение этого. Возвратившийся господин говорит лукавому и ленивому рабу, что "надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью" (Мф.19;27). О чем идет тут речь с церковной точки зрения понятно, но с позиции Толстого – необъяснимо. Как можно свою высшую душу (свое разумение жизни, своего сына человеческого, Бога своего) отдать другому человеку для взращивания? "Никто не может передать своего блага другому"(24.354), – сказал Толстой.
Когда спрятавший свой талант раб говорит, что хозяин его жнет, где не сеял, то имеет в виду хозяйское требование приращения таланта. Но Толстой объясняет иначе. У Толстого раб говорит сам себе: "Хозяин хочет взять у меня то, чего он не давал мне, – плотские радости: так не дам же их ему, а буду жить для них. А жизнь разумения, какая есть, такая и будет". Или в другом варианте: "За что отдам я плотскую свою жизнь, плотские наслаждения ради жизни духа, который не мой. Он хочет, чтобы я ради этого духа отдал ему то, чего он не давал мне, – плотскую мою жизнь. А лучше я спрячу этот зародыш духа, данный мне, и буду жить плотью. Но он потерял и последний зародыш духа Божия, и плотская жизнь его кончилась смертью"(24.324-5). Есть у Толстого и другое объяснение: "Царю все равно, у кого гривны, только бы они были"(24.352).
Наблюдать и далее за тем, как Толстой бьется с евангельскими текстами, непродуктивно. Отметим только, что если "семя духа Божия посеяно равно во всех людях", то как с точки зрения Толстого понять существование тех "сынов тьмы", которые отказались признавать хозяина? Они, в соответствии с другой евангельской притчей, – плевелы, сжигаемые после жатвы, то есть окончательно уничтожаемые, полностью выводимые из существования после плотской смерти. Почему же они живут среди нас?
По Толстому, они и не "живут", а "умирают", то есть живут не истинной жизнью высшей души, а неистинной жизнью животной личности. А что же в таком случае, делает их высшая душа? Зарыта, скрыта и не трудится? Нет, так сказано не про них, а про лукавого и ленивого раба. Эти же, по мнению Толстого, "для хозяина не существуют", их "нет для отца"(24.855). Что применимо только по отношению к тем, которые не несут в себе высшую душу, в которых высшая душа отсутствует. Толстой сам называет их не людьми, а "человеческими существами", которых есть "много"(24.326). А если без стеснения, то – большинство. Зачем они? Как быть с ними? С общественной и общедушевной точек зрения обойти эти вопросы никак нельзя. Но с точки зрения человека как такового, с всечеловеческой точки зрения вопросы эти могут быть сняты с первого плана и переведены на периферию учения о человеке. Ведь ясно, что "кто взялся за соху, да назад глядит, тот не годится в Царство Бога"(24.358).
11 (18)
В толстовском изложении Евангелия к притче о талантах примыкает притча о свадьбе царя по Евангелию от Матфея.
Царь звал на брачный пир для сына своего, но званые не пришли, а некоторые даже убили звавших их на пир; тогда царь позвал на пир других, и те пришли. По всей видимости, речь у Матфея идет об отвержении евреев и призвании язычников. Такое толкование кажется Толстому мелкотравчатым, понижающим значение слова Христова. "Мне кажется, что мысль эта так проста и бедна, что если бы такая мысль и была у Иисуса, он бы не дал себе труда разъяснять ее притчами"(24.371).
Смысл притчи о свадьбе царя, по Толстому, таков:
"Притча о свадьбе царя особенно близка к притче о талантах. Новое в ней то, что притча о талантах разъясняет стих о том, что "воля Отца та, чтобы не погубить ничего из того, что он дал мне", а эта разъясняет мысль о том, что "никто не может прийти ко мне, если бы Отец не тянул его к себе". Отец тянет к Себе, как царь зовет всех на ужин, и желает иметь как можно больше гостей. Отец призывает к себе, тянет к себе всех. Если не придут одни, то придут другие. Если одни зерна упадут на дорогу, камень и терние, то другие попадут на добрую землю, и плод будет. Отец мало того, что посеял поле и ждет, но он приготовил благо и зовет на него. Но одним людям кажется, что те дела, которые занимают их, важнее этого, и они не идут просто, а другие, как те жители города в притче о талантах, которые вовсе не хотят признавать царя, – даже ругаются над работниками и убивают их. Тех царь уничтожает и наполняет ужин свой теми, которые хотят прийти"(24.372).
Церковь и Толстой словно на разных полях толкования. Что важно для Церкви, то совсем неважно для Льва Толстого. Христиане оспаривают у иудеев их "избранность", и потому для Церкви жизненно важен итог вероисповедальческого противостояния между христианами и иудеями. Толстому это совершенно безразлично, хотя бы потому, что Иисус у Толстого отвергает весь Ветхий Завет и возвещает новое Богопонимание и новое жизнесознание, которые не нуждается ни в религии евреев, ни в религии язычников и может существовать само по себе, без предшествующих религий. Слова Иисуса, по Толстому, обращены к человеку всех времен и народов и имеют высокий, всеобщий и вечный смысл, а не конкретно-исторический смысл, связанный с обстоятельствами места и времени плотского рождения Иисуса. Церковь стоит, как ей и положено, на кофессионально-общедуховной позиции; Толстой же – на всечеловеческой.
В притче о богатом и Лазаре (Лк.16;14-31) сказано: "что высоко у людей, то мерзость пред Богом". Богач при жизни все время "пиршествовал блистательно", тогда как Лазарь до последней степени нищенствовал. Когда они умерли, то первый попал в Ад, а второй в Рай, рядом с Авраамом. Богач попросил Авраама послать Лазаря помочь в его мучениях, на что Авраам ответил, что между Адом и Раем непроходимая пропасть, да и "ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь".
По толкованиям Церкви, здесь "подразумевается, что этот богач не был сострадателен к бедному и не хотел его успокоить и облегчить страдания его, а жил себе в свое удовольствие". Церковь (по словам Толстого) считает, «что Лазарь блаженствует потому только, что страдал на земле, а богач терпит мучения потому только, что благоденствовал в земной жизни. Но, без сомнения, здесь ответ необходимо дополнить той мыслью, что Лазарь при своих бедствиях был праведен, а богач при своем богатстве был нечестив, не умел надлежащим образом употреблять богатства своего"(24.386-7). Это чисто общедушевная точка зрения.
Лев Толстой толкует ту же притчу с всечеловеческой точки зрения:
"Смысл притчи теоретический тот, что время жизни дано для того, чтобы получить жизнь истинную. Придет смерть и человек лишиться этой возможности. Христос в самой грубой, насмешливой форме выражает, с одной стороны, ту мысль, что когда кончится жизнь, придет смерть, то все житейское окажется ненужным, и с другой, что воротить эту возможность жизни, уже нельзя".
И далее:
«Смысл притчи практический тот же, но сказано, что именно надо делать, чтобы получить жизнь истинную. Отдавать плотскую жизнь, отдавать ее не на словах, можно только тем, чтобы не держать за собой богатств, когда есть нищие, голодные. И потому держание собственности, когда есть нищие, несовместимо с жизнью. Чтобы отдавать жизнь, надо прежде всего отдавать собственность, а кто не отдает, тот не может получить жизнь"(24.389).
Толстой убежден, что "держание собственности" несовместимо с истинной жизнью и ведет к смерти. Вопрос собственности у Толстого не социальная и не моральная проблема и не только предмет для проповеди, а "практический" вопрос жизни и смерти, вопрос "спасения". В том числе своего спасения от смерти и смертной жизни, спасения своей жены, своих детей. Буря непонимания, которая поднялась в его семье (а затем и в обществе) по поводу его намерения раздать имение, ставила Толстого в драматическое положение: он желал спасти, а его винили в том, что он губит. Всю мощь людского противодействия его пониманию Евангельского завета Толстой в полной мере испытал в своей семье и на своей собственной судьбе. Многие вопросы (в том числе и вопросы собственности), поставленные его учением на основании Евангельских текстов, Толстой разрешал не за письменном столом, а в мучительном опыте своей жизни. Он был не только великим учителем и пророком, но и великим страдальцем своего учения.
Учению Иисуса, говорит Лев Толстой, "нельзя следовать немножко… Если же оно истина, то истины немножко не может быть – истина или ложь"(24.403). Только такими глазами Толстой читал и понимал Евангелия.
Сказано, нельзя служить двум господам, Богу и маммоне, – значит, нельзя. Сказано: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие" (Мк.10;25). Для церковных толкователей тут говорится не о богатых людях вообще, а о тех, которые пристрастились к богатству. Правящая Церковь, имеющая дело с тем обществом, которое есть, иначе и толковать не может.*) Для Толстого же житейские и общественные соображения не имеют силы. Христос – не политик. "Иисус Христос нигде не велит отдавать бедным, чтобы бедные были сыты и довольны", так как "Иисус не только не говорит о пользе материальной, он не знает ее"(24.410).
*)В тексте притчи о богатом юноше сказано, что следует раздать имение, "если хочешь быть совершенным", то есть вопрос выносится из категории общественно-политической жизни в область личной душевной жизни.
12 (19)
Основополагающий для Христианства 28 стих главы 20 Евангелия от Матфея:
"Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих",
Толстой переводит так:
"Так как сын человеческий не затем объявился, чтобы ему служили, а затем, чтобы служить и жизнь свою отдать, как выкуп за большое"(24.515).
Здесь "Сын человеческий" это не столько высшая душа, сколько "единая сущность Божества, находящаяся во всех людях", то есть та грань (или, если угодно, ипостась) единого Источника, Единого Бога, которая, оставаясь единым целым, разделилась сама в себе и в таком виде размещена в отдельных людях, дана каждому человеку в отдельности в качестве его высшей души. В этом смысле Сын человеческий (о ком, видимо, следует писать уже с большой буквы) есть своего рода состоящая в Боге маточная сущность, из которой происходят высшие души людей. Или такая сторона Всевышнего, которая способна делиться в себе, чтобы становиться высшими душами людей.
Памятуя о том, что Толстой претендует на раскрытие первоначального смысла слов Христа, можно отметить некоторое сходство толстовского "Сына человеческого" со многими идеями, издревле бытующими в разных концах света. Сошлюсь на авторитетное мнение Е. А. Торчинова по этому вопросу. Он пишет об архетипе Космоантропоса и в этой связи вспоминает об Антропосе гностико-герметической традиции, о библейском Первочеловеке (Адаме Кадмоне каббалы), "частицы которого образуют индивидуальные души-сознания, и в будущем, в момент полного исправления творения (гемар-тиккут) они вновь объединятся в его вселенском теле". "Если говорить о мифологических аналогах Адама Кадмона, – замечает Е. А. Торчинов, – то сразу же вспоминаются Вират-Пуруша Ригведы и Пань-гу китайского космогонического мифа (заменяемый в некоторых даосских текстах образом божественного Лао-Цзы как одного из ликов или ипостасей Дао-Пути)". В ведантической традиции брахманизма, рассказывает Е. А. Торчинов, существует представление о Золотом Зародыше, Хираньягарбхе. "В упанишадах Хираньягарбха – космическая вседуша, начало, находящееся между Богом (Ишвара) и душой человека… В философской системе адвайта-веданта Шанкары Хираньягарбха – не только Бог в аспекте его наделенности тонкой силой иллюзии (майя), но и (прежде всего) единая душа (джива), отражение Абсолюта (Брахмана). Индивидуальные души, в свою очередь, являются образами или отражениями единой души – Хираньягарбхи".
Различия между всеми этими космоантропологическими представлениями и толстовским "Сыном человеческим", конечно, существуют; они значительны и могут послужить предметом специального исследования. Но прежде надо уяснить позицию самого Толстого.
Зачем Бог послал Своего Сына человеческого в человека? Какова цель и каков смысл существования "единой сущности Божества" в разделении? Вот первые вопросы Толстого.
"Существование сына человеческого, – отвечает Толстой, – только и состоит в том, чтобы возвращаться к Источнику, к Богу". При таком возвращении к Единому Сын человеческий и сам восстанавливает свое единство, опять становится "единой сущностью Божества". Но полностью и вполне ли? Приводя притчу о заблудшей овце, Толстой устанавливает, что "сын человеческий пришел спасти гибнущее",*) так как "Отец ваш на Небе желает, чтобы не пропал ни один из этих маленьких людей"(24.517), то есть чтобы Сын человеческий возвратился к Отцу в той полноте своей, в которой он послан в человечество.
*) Стих 10 гл. 19 Луки: "Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее", то есть совершившего грехопадение человека. Толстой переводит: "Потому, что в том дела сына человеческого, чтобы отыскивать и спасать то, что погибло и погибает"(24.408), то есть спасать все те высшие души, которые посланы Богом в человека. "Потому что в том вся жизнь человека, чтобы отыскивать и спасать в душе своей то, что погибает"(24.429).
У Бога, пославшего Сына человеческого в человека, есть "одно неизменное желание"(24.517) – возвращение к Себе того, кого Он послал в земную жизнь, возвращение обратно Сына человеческого. Отсюда заповедь любви к Богу.
Другое основное стремление Сына человеческого, живущего в земном человеке, направлено на восстановление своего единства. "Из этого вытекает любовь людей между собой", заповедь любви к ближнему. Когда человек любит и жалеет не одну свою душу, но и души других, то он тем самым работает на единство Сына человеческого и любит его самого. Сын человеческий "един во всех людях и для того, кто возвеличил в себе дух Сына человеческого, кто постиг его сущность, неизбежно вытекает единение со всеми людьми; единение неизбежно вызывает сострадание и любовь. А сострадание и любовь проявляются только делами… Самое глубокое учение о единстве Сына человеческого во всех людях сводится с самыми простыми признаками выполнения любви к ближнему… Для жизни духа нужны дела добра. Для дел добра нужно сознание в себе духа"(24.562).
В качестве высшей души Сын человеческий является носителем истинной (несмертной) жизни Бога в человеке. Но что ж такое земная жизнь и зачем она? "Жизнь земная, – отвечает Лев Толстой, – состоит только в том, чтобы отдавать ее как выкуп за жизнь истинную"(24.516).
Это, собственно говоря, есть та самая мысль о несении креста своего, с осмысления которой, по нашей догадке, и начало воздвигаться здание учения Толстого.
Дело искупления жертвой Христа-Бога для спасения людей заменено у Толстого выкупом жизни истинной за жизнь земную – некоторого рода жертвой земной жизнью, которую свободно приносит человек для Бога.
"Людям дана жизнь плотская затем, чтобы отдавать ее за жизнь невременную"(24.528). Без этого выкупа вся жизнь человеческая превращается в бессмыслицу.
По одной из евангельских притч (Мк. гл. 12), которые рассказал Христос в Храме, хозяин (Бог) насадил виноградник и послал в него работать виноградарей. Затем, по прошествии времени, послал к ним одного и другого и третьего слугу принять плоды от виноградника. Но виноградари ничего не дали и избили посланцев. Тогда хозяин послал сына. "Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника?» (Мк.12;7-9) – спрашивает Иисус. По Матфею, Иисусу отвечают слушатели притчи (иудеи): хозяин, конечно, казнит злодеев, а виноградник отдаст другим добросовестным работникам. Тогда Иисус говорит им: "неужели вы никогда не читали в писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит "(Мф.21;42-44).
Последнюю фразу Толстой опускает (без каких-либо объяснений) и переводит:
"И сказал им Иисус: или вы никогда не читали в писании: тот, что выбросили камень строители, тот и стал державой свода. Держава эта от Бога и удивительна на наш глаз. Поэтому говорю вам: вы лишитесь Царства Бога, и дастся оно тем, которые творят плоды его"(24.525-6).
Смысл притчи, по каноническому тексту Евангелия, в том, что Царство Божие отнимается у евреев и передается христианам. Что, по Толстому, лишь "частное значение", в силу которого утрачивается "глубочайшее значение" притчи. Значение же этой притчи в том, что она разъясняет те условия жизни, в которых человек поставлен на земле.
"Положение людей в мире подобно положению работников в чужом саду. Работать нужно, жить нужно. Хочешь, не хочешь, будешь работать, будешь жить; и будешь жить не для себя, а как ни живи, как ни работай, всё будешь работать на других, как в чужом саду. Если не признаешь хозяина сада, того, кто послал тебя сюда, и не сделаешь того, что он велел, то хозяин прогонит, убьет и пришлет других".
Мысль эта так важна, что Толстой тут же еще раз повторяет ее:
"Севец сеет*): одни семена пропадают, другие растут. Точно так же в мире людей. Те люди, что не исполняют воли Бога, гибнут и заменяются другими. Главное значение притчи отрицательное. Иисус живо представляет бессмыслицу жизни, если нет хозяина и нет определенной воли хозяина. Как только люди забудут хозяина или не захотят знать его, так жизнь становится какой-то безумной игрой. Работать всю жизнь на чужого, мучиться, слышать какие-то требования совести, ни к чему не ведущие, заглушать их и потом погибнуть. И если не признавать хозяина, нет и не может быть другой жизни. Жизнь – бессмыслица. Только тогда эта жизнь получает смысл, когда люди признают хозяина и отдают ему плоды его, только когда люди признают Бога, работают ему и сливают свою жизнь с волею Бога"(24.527).
*) Припомните ранее высказанное основное положение человеческой жизни у Толстого: "Бог сеет, а человек жнет"(24.328)
"Все земное – чуть ниже продолжает Толстой свою мысль – есть как начало постройки дома, который мы не можем окончить, и значение ее есть только возможность жизни в Боге, которая не уничтожается. Надо пользоваться этой возможностью; в этом одном – жизнь истинная. Хорошо ли, дурно ли это, нравится ли нам это, или не нравится, находим ли это, по нашим понятиям, справедливо или нет, – это все равно, это так, и другого ничего нет"(24.531-2).
Но для того, чтобы "признавать хозяина" и "пользоваться возможностью", надо верить.
Христианство держится на Вере. Ученики просят Христа увеличить в них веру. "Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас" (Лк.17;6). Толстой утверждает, что тут неправильно переведено и искажен смысл, что зерно горчичное тут не образ самого малого, а образ Царства Божьего, которое внутри людей.
"Вера, подобная зерну горчичному, есть вера в то, что самое незаметное в вас – жизнь, дух – есть зародыш*) жизни истинной. Если бы вы верили в это, то есть знали так же несомненно, как то, что из зерна горчичного вырастает дерево, вы бы не просили увеличение веры. Вера есть несомненное знание"(24.530), и знание вполне мистическое. "Вера в том, чтобы понимать свое положение, и то, в чем спасение"(24.567), – писал Лев Толстой.
*) Отсылаю к "Золотому Зародышу", о котором говорилось выше.
Как же человеку узнать, когда он в Царстве Божьем и достиг несмертной жизни, а когда нет? Тогда, видимо, когда для него наступает «блаженное время», происходит «соприкосновение» с высшей жизнью, и он в самом себе постигает жизнь настоящую.
"Никто не может знать, когда и где случится это с человеком. И показать и доказать этого нельзя. Одно, что вы можете знать, это то, когда это совершится в вас, вы почувствуете в себе жизнь настоящую"(24.568).
Конечно, при особом на то желании любой – сам или с помощью опытных помощников, мастеров по этому делу – способен уверовать, что он чувствует в себе "жизнь настоящую". Однако результат работы, ее итог или ее цель, никогда не были для Толстого критерием исполнения учения. Основной пафос учения Толстого – процесс достижения, само движение к цели, подъем, произведенная внутренняя работа. Главное не в том, что "показать и доказать этого нельзя", а в том, что "никто не может знать, когда и где случится это с человеком", что произойдет это "всегда и никогда"(24.557) – и потому каждый всегда, в любой момент времени должен бодрствовать, как сторож, и, как девы со светильниками, всегда быть в готовности встретить "жениха".
Не ждать, а искать, стремиться, работать. В Евангельском стихе: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" (Лк.11;9) поставлено ударение на результате действия, на том, что "будет дано", что "найдете", что "отворят вам". В толстовском переводе этого стиха: "Просите, и дастся вам; кто ищет, тот найдет, кто стучит, тому отворят"(24.545), ударение сделано на необходимости действия самого по себе, на том, кто просит, ищет, стучит.
Теоретически "спасение человека в нем самом, в его сыновности Богу"(24.624). Практически спасение человека – в его руках. "Нельзя же ожидать, чтобы Бог дал вам духа, спасающего от смерти, когда вы и не ищете, не просите Его"(24.568). Спасение – не вопрос Богословского рассуждения, а практический вопрос дел жизни каждого человека. Смысл ответа Иисуса на обращенный к нему вопрос о том, многие ли люди спасутся (Лк.13;23-27), Толстой разъясняет так:
"Для сына человеческого нет ни места, ни времени, и потому ни много, ни мало. Во всех брошено семя… Не рассуждать нужно о том, кто и как спасется, а нужно работать, биться, силою входить в двери, потому что те, кто будет рассуждать, те не войдут. Было время входить (то есть время земной жизни. – И. М.) – не вошел, дверь затворилась. И никакие рассуждения помочь не могут. Не рассуждать надо, а делать*)"(24.557).
*) Это общий принцип, по смыслу совпадающий с любимым Толстым правилом: "Делай что должно, пусть будет". "Рассуждения" тут понимаются в самом широком смысле: "Если я буду соображать, что мне опасно или не опасно, буду думать о том, что в плотской жизни выйдет для меня из моего поступка, то я уйду от света во тьму, и тогда только я погибну, потому что кто ходит при свете, тот не спотыкается… То, что выходит разумным по нашим плотским соображениям, только это и есть тьма"(24.608-9). Вот так!
И окончательный вывод:
"Люди все разделяются тем, как они служат Сыну человеческому. И своими делами они разделяются надвое, как делят в стаде овец и козлов. Одни будут живы, другие погибнут. Те, которые служили Сыну человеческому, те и получат то, что принадлежало им от начала мира – жизнь, ту, которую они сохранили. Сохранили же они жизнь тем, что служили Сыну человеческому: голодного кормили, голого одевали, странника принимали, заключенного посещали. Они жили Сыном человеческим, чувствовали, что он один во всех людях, и потому любили его. Он один во всех. Те же, кто не жили Сыном человеческим, те не служили ему, не понимали, что он один во всех, и потому не соединялись с ним и потеряли жизнь в нем и погибли"(24.570).
Греческое слово, которое в тексте Евангелия переводится как "воскресение" в смысле оживления после смерти и повторного земного существования, Толстой везде переводит либо словом "пробуждение", либо словом "восстановление". Например, слова: "А о воскресении мертвых, не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы" (Мф.22;31-32, Лк.20;38) Толстой переводит: "О мертвых же, что они пробуждаются, разве не читали слово Бога к вам? Он сказал: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Потому что Ему все живы"(24.612-13).
Другое место: "А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения" (Лк.20:35-37). Перевод Толстого: "Те же, которые сделаются достойными той жизни и восстановления к жизни от смерти, не женятся и замуж не выходят, потому что они и умирать уже не могут, потому что они делаются волей Божией, делаются сынами Бога и сынами восстановления"(24.611).
Человек "мертвый", то есть живущей смертной жизнью, обладает своей волей, самоволием животной личности. Человек "живой", то есть живущей истинной (несмертной) жизнью, вместо вольности своей животной личности устанавливает своей волю Бога – и сам делается волей Бога. Впоследствии Толстой пользовался и понятием "воскресения", но всегда понимал его "как пробуждение жизни истинной в жизни плотской и соединение ее с Богом". То есть как духовное рождение.
"Для Бога нет времени, и потому, соединяясь с Богом, человек уходит от времени, следовательно, от смерти. Если умерший Авраам соединился с Богом, то он и остался с Богом. И если есть Бог, – то есть и Авраам. И если Иисус, как он сказал в беседе Евангелия от Иоанна гл.10, соединился с Богом, то он мог сказать, что прежде, чем был Авраам, он есть"(24.617).
*)Е.А. Торчинов. Религии мира. Опыт запредельного. СПб. Центр "Петербургское востоковедение", 1997г., с.312-13
13 (20)
Теперь, зная религиозные мысли Льва Толстого, мы сможем по-новому взглянуть на знакомый текст его рассказа о жизни и смерти Ивана Ильича. При таком чтении рассказа Толстого во всем видно намерение, которое автор и не скрывает, но это почему-то не мешает, не портит общение с писателем.
Толстой пишет о повседневной жизни так, что сквозь ее суетность проступает ее сокрытая существенность, и вся она обретает высоту и серьезность, которую человек обычно не ощущает в ней. С нами говорят о самом серьезном и мучительном, что есть в человеческой жизни, и говорят так, таким голосом, который не оставляет сомнений в праве писателя говорить с людьми об этом предмете. Толстой просто, легко и как бы без усилий раскладывает жизнь, которой мы все живем, и смерть, которой мы умираем. Это участь каждого в жизни, участь человека как такового. И как герой рассказа Толстого ощущал, что "что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем", так и мы, читая, сознаем, что при нас совершается что-то новое и такое значительное, чего значительнее нет в человеческой жизни. Вот что так завораживает всех нас, читателей рассказа Льва Толстого.
Впрочем, тут не обошлось без некоторого рода аберрации читательского взгляда. Толстой пишет не только и не столько о том, что всегда бывает, с чем нельзя смириться и нельзя не смириться – о смерти в результате прожитой жизни, а о том, что должно быть с человеком по его учению – о восстановлении истинной жизни в смерти. Толстовский рассказ "Смерть Ивана Ильича" точнее было бы назвать "Восстановление (жизни) Ивана Ильича". И если Толстой назвал: "Смерть Ивана Ильича", то потому, что в рассказе речь идет о том, как Иван Ильич умирал и не умер, о том, как не стало смерти Ивана Ильича. Первые наброски к рассказу были сделаны Толстым как раз в то время, когда он завершал работу над "Соединением и переводом четырех Евангелий". Завершил же рассказ Толстой тогда, когда готовился работать над трактатом "О жизни", который первоначально и назывался "О жизни и смерти".
Иван Ильич у Толстого воскресает из мертвых. Иван Ильич постоянно искал в жизни легкости, приятности и приличия, но вдруг объявились смертные страдания, и он нежданно нашел в смерти жизнь.
Рассказ недаром начинается с того, как людьми встречена смерть героя. Все было "как всегда", и это всегдашнее течение "смертной" жизни состояло в полном несоответствии с тем, что произошло в последние мгновения жизни с Иваном Ильичом, и что никто из людей не заметил.
Уже на первых порах болезнь Ивана Ильича привела к тому, что и он, и его жена, и их дочь стали жалеть самих себя. Чувство жалости особенно нагружено Толстым в рассказе. Вследствие лжи остающихся жить "мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели". Один сын Вася "понимал и жалел" его. Да еще Герасим "жалел исчахшего слабого барина". Жалеть себя для Толстого – признак закостенения человека в животной личности. Жалеть другого для Толстого – пробуждение жизни Сына человеческого в человеке.
Ивану Ильичу казалось, что свет жизни уходит от него и наступает мрак. Смерть все больше и больше завладевала им. Дошло до того, что от тоски и мучений Иван Ильич звал смерть, но спохватился.
"Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Всё лучше смерти!"
Вошла жена и целует мужа. "И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней". Вошла дочь – "сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью", – и вид полуобнаженного молодого тела дочери заставил его страдать.
Такова экспозиция того, что происходит в рассказе.
Как-то раз, еще за месяц до смерти, Иван Ильич находился в мучительном забытьи.
"Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается со страданием. И он боится и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся". Исхудалые ноги в чулках на плечах Герасима и та же боль. "Ему стало жалко себя". Он "не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. "Зачем Ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?…" Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: "Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал Тебе, за что?"
Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем".
Иван Ильич услышал голос своей души, голос Бога своего, Сына человеческого, своей высшей души, которая вступила в диалог с его животной личностью.
"– Чего тебе нужно? – было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. – Что тебе нужно? Чего тебе нужно? – повторил он себе. – Чего? – Не страдать. Жить, – ответил он.
И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его.
– Жить? Как жить? – спросил голос души.
– Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.
– Как ты жил прежде, хорошо и приятно? – спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но – странное дело – все эти лучшие минуты своей приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда".
Так что же: вся жизнь – бессмыслица? Тут что-то не так:
"Если точно она так бессмысленна и гадка была, так зачем же умирать и умирать страдая?" И Толстой дает ему верный ответ:
"Может быть, я жил не так как должно?" приходило ему в голову. "Но как же не так, когда я делал все, как следует?" говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное".
За три дня до смерти Иван Ильич понял, что совсем пришел конец.
«Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, не смотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще более в том, что не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешало признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его».
Но какая-то невидимая сила заставила его хоть в последнюю минуту сделать работу жизни, признать то, что он не желал признавать – что «все то, чем ты жил и живешь, есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». За час до смерти он все-таки признал это, и «там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление".
На последних страницах рассказа Толстой постоянно подчеркивает необходимость отречения от себя в прожитой жизни, самоотречение от того, чем и как всю жизнь жила животная личность, признание того, что вся прошлая жизнь – неистинная, смертная жизнь – "не то". Если такое отречение от жизни животной личности происходит свободно, то это означает перенос ударения сознания жизни на высшую душу, восстановление единого во всех людях Сына человеческого.
Иван Ильич увидел свет, признал, что вся жизнь его была "не то", и понял, "что это можно еще поправить". Пришедший на работу последним в евангельской притче получил ту же плату, что и работники, которые много работали прежде него. Можно, оказывается, во весь земной срок жизни так и не прийти на работу Бога, прийти хотя бы в последний момент земной жизни – и спастись.
«Да, все было не то, – сказал он сам себе, – но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что же «то»? спросил он себя и вдруг затих».
"Кто не живет на корне, тот отрезается и погибает"(24.732) – сказано в «Евангелии от Толстого». Не уничтожается только то, что приносит плод.
Евангелист Лука рассказывает, что в то время, как один из распятых вместе с Иисусом разбойников злословил его, другой разбойник пытался урезонить своего товарища и сказал: «помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». На что Иисус ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в Раю» (Лк., 23.42—43). Последние слова Толстой перевел: «и сейчас же ты со мной блажен» (24, 39). По Луке, разбойник спасся тем, что покаялся в последнюю минуту и, главное, уверовал на кресте во Христа Бога; по Толстому, разбойник получил жизнь и благо оттого, что раскаялся в своей прежней жизни в предсмертную минуту и, главное, пожалел человека Иисуса, что для него, безжалостного, было громадным нравственным скачком.
«Разбойник сжалился над Иисусом, и это чувство жалости было проявлением жизни. И Иисус говорит ему: ты жив»(24,781).
За час до смерти Иван Ильич сделал "то" – как раз то, что, по Толстому, сделал разбойник на кресте. Тут в тексте Толстого нельзя пропустить ни строчки.
"Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. "Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру". Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. "Впрочем, зачем же говорить, надо сделать", подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:
– Уведи… жалко… и тебя… – Он хотел сказать еще "прости", но сказал "пропусти", и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймет тот, кому надо.
И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. "Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?" Он стал прислушиваться. "Да, вот она. Ну что ж, пускай боль". "А смерть? Где она?" Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было,*) потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет".
*) Сравните толстовский перевод стиха 18 первого Послания Иоанна: "Жизнь наша стала любовь, и мы освободились от страха и всех страданий"(24.937).
Он только пожалел семейных своих, и «как хорошо и просто» стало. После целой прожитой ложной жизни, после недель страданий и ненависти к остающимся жить ближним достаточно было в последнее мгновение одного этого истинно доброго движения в душе, и смерти не стало.
" – Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!
Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого момента уже не изменилось.*) Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотание и хрипение.
*) Ровно теми же словами Толстой описывал пробуждение князя Андрея от земной жизни перед его смертью.
– Кончено! – сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. "Кончена смерть, – сказал он себе, – ее нет больше".
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер".
И Иисус, готовясь к смерти, по Толстому, "чувствует себя освобожденным от смерти" и в прощальной беседе увещевает учеников "так же проснуться и освободиться от смерти". "Вот приходит смерть, – говорит он у Толстого, – но во мне уже ничего нет подвластного ей"(24.730).
Слово "Кончено" для Толстого – знаковое слово. "Со словом "кончено" кончено и Евангелие"(24.790) – начинает Толстой свое "Заключение к исследованию Евангелия". Но в Евангелиях этого слова нет.
По Иоанну, "Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух" (Ин.19;30). "Совершилось" то, что назначено Богом, свершилось приношение Жертвы Бога-Сына – свершилось центральное мистическое событие в существовании Мира и человека.
Толстой соединяет это место со стихом 46 главы 23 Евангелия от Луки и переводит:
"И когда вкусил уксуса, Иисус сказал громким голосом: Отец, в руки Твои отдаю дух мой. Кончено! И, склонив голову, предал дух"(24.782).
Такими же словами Толстой, как видите, завершает и свой рассказ о "воскресении" Ивана Ильича в последнюю минуту перед смертью.
Слово "совершилось" евангельского текста Толстой заменяет словом "Кончено" именно потому, что, по его мнению, на этом эпизоде вся евангельская история Иисуса кончилась, что дальше никакого "воскресения из мертвых" не могло быть и не было, как, собственно говоря, и не было "смерти" Иисуса. Это-то свое понимание Евангелия и человека вообще Толстой и сообщил читателю в финале рассказа об Иване Ильиче.
Часть 2. Новое жизнепонимание
"Созревает в мире новое миросозерцание и движение
и как будто от меня требуется участие,
провозглашение его. Точно я только для этого
нарочно сделан тем, что я есмъ с моей репутацией –
сделан колоколом"(50.69).
Из Дневника Льва Толстого 1888 года
«Было пшеничное зерно, оно лежало тысячи лет в египетских гробницах,
и оно ничего не знало про себя. Для него самого – для зерна – было всё равно, что его не было.
Ученые раскапывали гробницы, и найдя в них зерна пшеничные, чтобы испытать их,
взяли несколько и покрыли землей и стали поливать водой. И вот зерно, которое было,
но ничего не знало про себя, вдруг узнало про себя, что оно есть,
и есть в одно и то же время и зерно, и росток»(57.121).
Из Дневника Льва Толстого 1909 года
1 (21)
Прозрение присутствия высшей души в каждом отдельном человеке раскрыло перед Толстым горизонты иной духовной жизни. Если это не общедуховная (общенародная духовная) жизнь, то – какая же? Высшая душа – капля Сына человеческого в человеке, и потому духовная жизнь высшей души есть жизнь Сына человеческого, то есть всеобщая, всечеловеческая духовная жизнь. Толстой вышел из рамок Общей души и общедуховности (духовной жизни русской Общей души) и вышел на просторы всего человечества и всечеловеческой духовности. Это всему человечеству Лев Толстой – как в эсхатологические времена! – предвещал конец века сего и наступление нового века.
Если завтра конец света, то сегодня естественна проповедь сверхземного состояния души: всепрощения, вселюбви, ненасилия и прочее. Так жила Иудея две тысячи лет назад, во времена Христа. Но что ж Россия конца прошлого века? Откуда в ней эсхатологическое нетерпение, приведшее к катастрофам ХХ века?
Все российские катаклизмы только что ушедшего века (а, я думаю, и многие исторические катаклизмы везде и во все времена) зачинались с изменения сознания течения исторической жизни и исторического времени. В Х1Х веке, в 70-е, 80-е и 90-е годы, – на совершенно ровном месте Истории – в русском культурном обществе стали заметно преобладать взгляды, которые предвещали скорое и победное завершение Истории или, по крайней мере, светлый всеобщий ее перелом. Людей культурной толпы охватила легковесная, поэтико-лозунговая, декларативная эсхатология, пародийно контрастирующая с грозной эсхатологией двухтысячелетней давности. Чтобы подбодрить Историю, движущуюся прямиком к правде и счастью, культурные люди того времени совершали разные подвиги и, конечно, говорили, говорили, говорили, обещали и заговаривали себя.
Почему это было так – сказать трудно. Но Лев Толстой – в высшей степени самобытный и самостоятельный человек, в некотором отношении оказался сыном своего века.
В начале 80-х годов, в пору работы над "В чем моя вера?", Толстой переживал современную ему историческую жизнь как "таинственный процесс рождения", который "совершается на наших глазах"(23.448). Послушайте, как художественно:
"Только что родившийся ягненок и глазами и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он всё знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия – плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он – в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери.
То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают всё, что они делают и зачем они всё это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают всё, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность – всё полно жизни. Но всё это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и*) они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им.
*) И потому, отметим мы про себя, возвратились, уже в наше время, в церковное лоно.
Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс питания"(23.449).
Миру необходимо новое религиозное жизнепонимание, и Толстому кажется, что достаточно раскрыть глаза миру на его подлинное состояние, и Царство Божье на Земле осуществится – пришла его пора.
У всечеловеческой духовной жизни должна быть и своя Вершина и своя Вера. И эта Вера всеобщей духовной жизни должна работать на Вершину всеобщей духовной жизни.
Новую Веру и новую Вершину всеобщей духовной жизни Толстой открывает там же, где прежде – в Евангелии. Вершину всечеловеческой духовной жизни Лев Толстой видит в образе Иисуса Христа. Веру же устанавливает на основаниях Нагорной проповеди, которая всегда была особенно близка Льву Николаевичу.
Евангельская Нагорная проповедь произнесена, по-видимому, в убеждении (вере) что по Воле Господа Царство Божье вот-вот наступит и потому в ожидании конца света человеку следует превзойти общедуховную праведность книжников и фарисеев – ни на кого не гневаться, со всеми скорее мириться, не вожделяться на женщину, не разводиться с ней, не клясться, не противиться злому, любить всех /даже врага/, не копить богатства, не судить, жить настоящим днем и прочее. Толстой же повторял слова Нагорной проповеди для того, чтобы указать людям, как надо жить им, чтобы их усилиями осуществилось Царство Божье. По Толстому, человечество в Истории само уже дожило до Царства Божьего на Земле, и теперь для его практического осуществления необходима вера в действенность Евангельских заповедей и прежде всего заповедей Нагорной проповеди. В «В чем моя вера?», над которой Толстой работал с 1882 по 1884 год, он и провозглашал эту Веру.
«В чем моя вера?» это не «В чем моя вершина духовной жизни?», как может показаться. В книге этой Толстой выставил заповеди Нагорной проповеди не как вершину нравственной жизни человека как такового, а как этическую норму для человечества. Этим он не возвысил значение Нагорной проповеди, а, напротив, понизил вершину духовной жизни, сделал ее должной и доступной всем и каждому. Для учителя духовной жизни (а не для общественного деятеля или философа) это – тупик. Или временное отклонение, промежуточный этап. Так оно и было в духовной биографии Толстого.
Основная ценность, достоинство и сила учения Христа, по "Соединению и переводу четырех Евангелий", в том, что оно наполняет жизнь смыслом. В "В чем моя вера?" утверждается, что "сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него – в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это все одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа – в приложении этого метафизического учения к жизни"(23.451).
И еще: "Напрасно говорят, – убеждает Толстой на первых страницах "В чем моя вера?", – что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных"/23.317./.
Первейшая задача Толстого состоит уже не в том, чтобы развить метафизическое учение, а в том, чтобы выявить правила, которыми принципы такого учения прилагаются к общественной жизни. Эти-то "самые простые, легкие, понятные правила приложения" и найдены Толстым в Нагорной проповеди /63.117 и сл./.
Издержки при трансформации вершинных принципов (заповедей) Нагорной проповеди в общественный закон, разумеется, неизбежны. Этическая тирания Толстого, на которую сетуют многие его критики, – образчик такого рода издержек.
"В чем моя вера?" более, чем другие книги Толстого, дает критикам возможность видеть учение Льва Николаевича в нужном им общественно-политическом или религиозно-политическом свете. Поэтому-то религиозная и философская критика учения Толстого и до сих пор почти всегда основывается на анализе слов и фраз этой книги. От некоторых немаловажных положений "В чем моя вера?" Толстой, как мы расскажем, впоследствии отказался, другие в значительной мере переосмыслил, третьи опустил или затушевал. Изучая учение Толстого по "В чем моя вера?", надо помнить, что это раннее и далеко не зрелое произведение его как учителя духовной жизни, что впереди у Льва Николаевича четверть века продуктивнейшей работы над своим учением и своей проповедью.
2 (22)
"В чем моя вера?" прославилась проповедью ненасилия.
Но, как мы теперь знаем, ненасилие ненасилию – рознь. Одними людьми ненасилие возвещается по слепой и односторонней ориентации в жизни или по склонности к простым и грубым решениям. Другими – декларативно и мнимодушевно, по «наклеенной совести», как говорил в таких случаях Толстой. Для третьих, как для Ганди, ненасилие – явление общедушевное, сила общедушевного жизнеощущения и жизнечувствования, и в таком качестве может быть использована для политической борьбы. Ненасилие же у Толстого изначально связано с его нравственным вдохновением и с его реальным переживанием абсолютной нравственной вершины жизни. Однако в «В чем моя вера?» ненасилие имеет свое особое звучание.
Пятая заповедь Нагорной проповеди – четвертая по толстовскому счету, – заповедь ненасилия, поставлена Толстым в этой книге в центр внимания, во-первых, потому, что насилие "всегда противоположно любви"(23.313), и, во-вторых, потому, что это место Евангелия, по заявлению Толстого, "было для меня ключом всего"(23.310). На первых страницах "В чем моя вера?" даже утверждается, что непротивление злому есть "основа учения" Христа.
"Положение о непротивлении злому есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон. Оно есть точно ключ, отпирающий все, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка"(23.515).
Мысль непротивления и в "Соединении и переводе четырех Евангелий" звучала несколько раз, но как-нибудь особенно не была выделена и не была представлена в качестве спасительного закона всеобщей жизни, а выставлялась для демонстрации проявления истинной жизни, жизни высшей души. Да и вся Нагорная проповедь, по «Евангелию от Толстого», обращена не столько к народу или ко всем людям, сколько к ученикам Иисуса, к апостолам, для которых зла нет, и которые только и могли правильно понять слова Иисуса. Кроме того, Власть и всегда связанное с ней насилие того или иного рода есть родовой признак общедушевной жизни, и ненасилие – естественное оружие против некоторых грехов её.
"Положение, связующее все учение в одно целое" в "Соединении и переводе четырех Евангелий" это учение о "Разумении жизни", о Сыне человеческом, о жизни и смерти, но никак не ненасилие. Конечно, надо верить Льву Николаевичу, когда он сообщает, что заповедь непротивления злу "была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл остальных"(23.362). Но верно и то, что непротивление злу насилием было нужно проповеди Толстого и стало ударным орудием, ударной мыслью именно в его проповеди, обращенной ко всем и каждому.
Проповедь "В чем моя вера?" направлена на установление мира с помощью "заповедей мира". "Все пять заповедей имеют только одну цель – мира между людьми". Я подчеркиваю в этой фразе слово "между" потому, что слово Толстого тех лет более всего нацелено в интердушевное пространство. Точку приложения духовных сил Толстой устанавливал тогда не в человеке, а между людьми – где, на взгляд автора "В чем моя вера?", главные соблазны и корень зла.
В "В чем моя вера?" Лев Толстой переводит разговор с идеала внутридушевной жизни в плоскость правил интердушевного бытия. На глазах читателей он производит сложнейшую операцию: превращает сугубо личный принцип непротивления в основной принцип нового общественного учения о "неуступании злу силою".
Заповедь непротивления потому и стала для Толстого "ключом", открывающим все учение, что с нею им произведена первая операция такого рода, открывшая саму "возможность приложения" установок еще не провозглашенной и не поставленной в центр жизнепонимания личной духовной жизни в качестве обязательных для исполнения законов всеобщей жизни, в правила поведения, действительные для всеобщей жизни. Ключ, о котором говорит Толстой, открывает дверь из жизни единичной души в жизнь общечеловеческую.
По прошествии некоторого времени взгляды Толстого существенно изменились. Этап всечеловеческой духовной жизни оказался в духовном развитии Толстого переходным этапом, ведущим от общенародной духовной жизни к приватной духовной жизни, к жизни лично-духовной.
"Христианское учение тем отличается от всех других и религиозных и общественных учений, – пишет Толстой в 1894 году, – что оно дает благо людям не посредством общих законов для жизни всех людей, но уяснением каждому отдельному человеку смысла его жизни: того, в чем заключается зло его жизни и в чем его истинное благо»(67.257).
Не осталось без изменений и учение о непротивлении злу насилием. В конце концов Толстой приходит к выводу, что "мое утверждение о невозможности допущения противления злу при исповедании закона любви относится к личной жизни отдельного человека, т. е., что каждый, следовательно и я, не имею права ни в каком случае употреблять насилие, всегда могущее привести к самым злым преступлениям, даже к убийству. И как только вопрос поставлен так, то не может быть никакого вопроса о том, выгодно ли это воздержание от насилия или невыгодно"(79.110).
В 1909 году Толстой еще так объясняет свою позицию:
"Всякий нравственный закон указывает, как компас, только абсолютное направление, приближение к которому составляет задачу деятельности человека. Как закон око за око, так и закон непротивления, так и всякий нравственный закон не может быть всегда исполнен. Важно и нужно наибольшее приближение к исполнению его"(80.187).
Запись в дневнике от 11 июля 1910 года:
"Я не ожидал того, что, когда тебя ударят по одной, и ты подставишь другую, что бьющий опомнится, перестанет бить, и поймет значение твоего поступка. Нет, он напротив того, и подумает, и скажет: вот как хорошо, что я побил его. Теперь уж по его терпению ясно, что он чувствует свою вину и все мое превосходство перед ним. Но знаю, что несмотря на это, все-таки лучшее для себя и для всех, что ты можешь сделать, когда тебя бьют по одной щеке – это то, чтобы подставить другую. В этом «радость совершенная». Только исполни. И тогда за то, что кажется горем, можно только благодарить"(58.78).
Если во времена "В чем моя вера?" Толстой упирает на мир между людьми и отвергает насилие прежде всего по той причине, что оно производит вражду и разъединяет людей, то в его работах 90-х и 900-х годов насилие есть зло прежде всего потому, что с его помощью осуществляется лжеединение государственности, что на нем держится ложное общественное жизнепонимание, которое правит в мире и не дает осуществиться единению людей на основах любви. "Закон насилия" – закон лжеобщедуховной государственной жизни. "Закон любви" – закон подлинной духовной жизни, жизни по Воле Бога, преследующего Свои, нам неведомые цели.
Говорят, что любовью нельзя победить злодеев, совершивших преступление. «И они правы, – отвечает Толстой, – но дело только в том, что любовь есть такое огромное в сравнении с обычными рассудочными делами действие, что последствия никогда не видны тому, кто его производит. Любовь не победит тех двух-трех злодеев, которых мы знаем, но победит тысячи, которых мы не знаем»(53.146-7).
Отсюда:
«Для практических целей всегда кажется выгодным насилие. Но достижение этих целей обманчиво. Для духовных целей нужно непротивление злу, и достигаются невидимые цели»(55.288). В главе 7 "Учения Христа, изложенного для детей" (1908 год) сказано, что заповеди Нагорной проповеди даны не для того, чтобы жизнь стала лучше, а для того, чтобы "мы имели жизнь истинную".
Ненасилие – не правило, не предписание, а то, что дано Богом в качестве идеальной цели.
"(Очень важное). Непротивление злу насилием – не предписание, а открытый, сознанный закон жизни для каждого отдельного человека и для всего человечества – даже для всего живого… Закон этот, как всякий закон, есть идеал, к которому само собой бессознательно стремится все живое и должен стремиться каждый отдельный человек. Закон этот кажется неверным только тогда, когда он представляется требованием полного осуществления его, а не (как он должен пониматься) как всегдашнее, неперестающее, бессознательное и сознательное стремление к осуществлению»(56.75-6).
В 90-х годах, на поприще личной духовной жизни, Толстой отчетливо различает "учение Христа вообще" и "проявление его в общественной жизни непротивлением злу"(28.147). В 900-х годах, на поприще вселенской духовной жизни, закон ненасилия имеет для Толстого метафизический смысл: ненасилие поглощает зло. На эту тему и написан "Фальшивый купон".
Начиная с середины 90-х годов учение Толстого различает в человеке три пласта укоренения злого и ложного: первый – самый глубинный (духовный) пласт ложной веры, суеверий, второй – пласт соблазнов, душевных ловушек, ложных представлений об отношениях между людьми, и третий – пласт деятельности, грехов, поступков. В 1908 году, когда Толстой составлял "На каждый день", ненасилие принадлежало к числу суеверий, укоренялось на духовном уровне человека, вместе с суевериями церкви, государства и науки. В 1910 году, в "Пути жизни", Толстой понижает статус ненасилия, выводит его из числа суеверий и вводит его в состав двух соблазнов: "соблазна устроительства, т. е. ложного представления о возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь других людей" и "соблазна наказания, т. е. ложного представления о праве одних людей ради справедливости или исправления делать зло людям"(45.14). Одним этим тема ненасилия разжижается и неприметно отодвигается на второй план.
Такой поворот мысли был в большой мере предрешен в конце 80-х годов, когда Толстой переосмыслил само понятие "заповеди" в Нагорной проповеди.
В феврале 1891 года Лев Николаевич так пишет В. В. Рахманову:
"Когда мы (Толстой и Чертков. – И. М.) прочли то место, где вы говорите о том, что у Христа нет заповедей (вернее бы сказать, что учение его не в заповедях) и Христос научил достижению Царства Божьего, которое сделает невозможным нарушение заповедей, когда я прочел это, я напомнил ему то, что я говорил ему то же вчера. Именно, что учение Христа состоит в постановке идеала Царства Божьего, для достижения которого надо быть совершенным, как Отец, т. е. идеал совершенства внешнего и внутреннего, а что заповеди, 5 заповедей, суть только зарубки на этом бесконечном пути того места, ниже которого в настоящий период жизни человечества не следует, желательно, можно не спускаться…»
И далее:
"Христианское учение тем отличается от всех других, что оно не в заповедях, а в указании идеала полного совершенства и пути к нему, и это стремление заменяет для ученика Христа все заповеди и оно же указывает ему все соблазны… В прежней вере и вообще в нехристианских верах заповеди стоят впереди (они так стояли для нас по "В чем моя вера?" – отчасти*)), в христианстве заповеди стоят назади, т. е. в известный период развития человечества сознание его говорит ему – стремись к полному совершенству, но, стремясь вперед, не спускайся ниже известных ступеней… Христианская жизнь не в следовании заповедям, не в следовании учению даже, а в движении к совершенству, в уяснении всё большем и большем этого совершенства и все большем и большем приближении к нему. И сила жизни христианской не в различной степени совершенства (все степени равны, потому что путь бесконечен), а в ускорении движения. Чем быстрее движение, тем сильнее жизнь. И это жизнепонимание дает особую радость, соединяя со всеми людьми, стоящими на самых разных ступенях, и не разъединяя, как это делает заповедь. Разбойник на кресте и Закхей живут более христианской жизнью, чем апостолы и т. п."(65.261-3).
*) В том же письме: "Не думайте, что я защищаю прежнюю точку зрения в "В чем моя вера?". Я не только не защищаю, но радуюсь тому, что мы пережили ее. – Вступив на новый путь, нельзя не обрадоваться тому, что первое увидел впереди себя. И простительно принять то, что на начале дороги, за цель пути. Но, подойдя ближе, и только благодаря тому, что видел сначала, нельзя не радоваться тому, что увидел впереди бесконечную даль".
Мысли этого письма станут в центр учения, изложенного Толстым в "Царстве Божьем внутри вас".
*)Да и в борьбе со злом Толстой в последнее десятилетие жизни более уповает на воспитание детей, чем на успех проповеди ненасилия.
3 (23)
Всечеловеческой духовной жизни нет, во всяком случае, нет ещё. Пока реально существуют две сферы духовной жизни человека: общедуховная (совокупная, соборная, конфессиональная) жизнь и жизнь личная духовная, заключенная не в какой-либо общности душ, а проистекающая из самой по себе единичной обособленной души с заключенными в ней силами. Трудность в различении двух этих сфер духовной жизни состоит в том, что общедуховная жизнь, абсолютно доминируя в человечестве, не дает приватной духовной жизни вполне явить себя. Всё, что, так или иначе, принято считать духовной жизнью (вероисповедание и культ, культура и мораль и пр.), всё, что веками накапливается и передается в наследство другим поколениям, – все принадлежит жизни общедуховной. Своей собственной духовной жизнью человек считает не свою обособленную, а свою особенную, отличную от других, но все же общедуховную жизнь.
За общедуховные устои люди тысячелетиями кладут жизни, ей они служат, только ее и разрабатывают, ею вдохновляются и на нее уповают. Личная же духовная жизнь не отчленена от общедуховной жизни, не достаточно вычерчена в осознании и не принята людьми как самостоятельная духовная жизнь. Люди склонны рассматривать свою личную духовную жизнь исключительно с позиций и во благо общедуховной жизни. Как будто опыт частной духовной жизни ценен лишь тогда, когда этим опытом можно воспользоваться для общедуховной жизни.
Неосознанные потребности лично-духовной стороны души смутно заявили о себе совсем недавно – тогда, когда общедуховная жизнь стала размываться и терять прежнюю устойчивость. Человек нашего времени догадывается, что в его приватной духовной жизни заключены огромные невостребованные возможности и вот-вот настанет пора, когда они реализуются. Частная духовная жизнь стремится наравне с общедуховной стать правящим началом жизни. Все более и более ударение духовной жизни перемещается с общедуховной стороны на личную духовную. Уже возможно признать и увидеть самодеятельность двигателя личной духовной сферы. На него-то век назад указывал людям Лев Толстой.
Двое могут быть общедуховно солидарны и при этом несовместимы по складу личной одухотворенности. И наоборот, чувствовать близость друг друга в приватной духовной жизни, но, принадлежа, скажем, к разным вероисповеданиям, отвергать друг друга в общедуховной жизни. Так что есть личная одухотворенность /обусловленная "Богом своим", как сказал бы Лев Николаевич/ и есть одухотворенность, обусловленная сочлененностью душ в составе определенной духовной сплоченности. Последняя, хотя и в разной мере, доступна всем, взывает к каждой душе, которой нужно лишь внедриться в нее, чему люди охотно обучают друг друга. Обучить жить приватной духовной жизнью никого нельзя. Хотя, конечно, можно помочь тому, кто может и желает. В этом деле Лев Толстой, безусловно, великий мастер.
Общедуховная жизнь любого рода допускает изучение со стороны. Личную духовную жизнь трудно постичь, самому не живя ею. Но еще труднее, даже зная ее в себе, зафиксировать опыт частной духовной жизни, передать его другим или сохранить этот опыт для будущего. Людям издревле свойственно закреплять и хранить память только об общедуховных явлениях и именах, чаще всего оставляя в безвестности носителей высшей личной духовной жизни.*) Лев Толстой – счастливое исключение. При всех замалчиваниях и намеренных искажениях критиков его опыт личной духовной жизни сохранен и через воспоминания о нем, через его художественные произведения и статьи и способен стать всеобщим достоянием.
*) "Хороша бы история неизвестного Христа", – читаем мы в Дневнике Толстого за 1890 год.
Без учения о личной духовной жизни нельзя понять ни жизнь Толстого, ни его личность, ни его художественные произведения – начиная с "Детства" и кончая "Посмертными записками старца Федора Кузьмича".
Все герои Толстого*), близкие сердцу автора, обитают в лично-духовной сфере жизни. – Даже отец Сергий, который по статусу не может, казалось бы, не участвовать в жизни общедуховной. Когда читаешь "Холстомера", создается впечатление, что даже лошадь у Толстого силится жить обособленной духовной жизнью. Апофеозом художественного выражения приватной духовной жизни должна была бы стать повесть о старце Федоре Кузьмиче /императоре Александре 1/ – последнее крупное художественное произведение, начатое Львом Николаевичем в 1905 году. Личная духовная жизнь – основная и постоянная тема всего художественного творчества великого писателя.
*)В отличие, скажем, от героев Достоевского, которые, несмотря на их специально отчерченную исключительность, живут преимущественно общедуховной жизнью.
4 (24)
Лев Толстой – гениальный художник мысли, создавший новую, до сих пор не оцененную форму трактата, в которой личная духовная жизнь способна адекватно предъявить себя в ряду последовательных аккордов мысли.
"Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения. В сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, выдаться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти; отдельно же выраженная, ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны"(52.51).
Форма мудрых изречений, над которой десятилетиями трудился Толстой, доведена им до совершенства в "Пути жизни" и "На каждый день". Показательно, что в этих произведениях наиболее широко использованы изречения людей именно личной духовной жизни: Паскаля, Марка Аврелия, Эпиктета, отчасти Эмерсона и Амиэля. И конечно, Иисуса Христа, который предстал у Толстого не столько основателем мировой религии, сколько страстным проповедником личной духовной жизни как таковой.
Толстой не верил в благую весть воскресения и искупления, но всей душой верил в благую весть любви, которую, как он полагал, принес в человечество Иисус. Это – Вера, и ничего, кроме Веры, хотя и нельзя сказать, что вера общедушевная. Три последних десятилетия своей жизни Толстой шаг за шагом устанавливает понятие Веры в личной духовной жизни.
Лев Толстой – не ересиарх*) и не сектант. Его речи и дела обращены в другую сторону – от какого-либо исповедания. Он – учитель сугубо личной, приватной, принципиально внеконфессиональной духовной жизни отдельно взятого человека. Лев Толстой стремится перевести ударение духовной жизни в человеке с общедуховности в область личной одухотворенности. Задача эта была поставлена им во времена абсолютного правления общедуховности, которая перекрывала пути самоосуществления личной духовной жизни. Личная духовная жизнь могла быть поставлена на рабочее место во внутреннем мире человека только при пробое общедуховной жизни в нем.
*) "Толстовство и другие учения суть вариант древних ересей и ничего больше" /Полный православный богословский энциклопедический словарь, СПб. изд. Сойкина, 1914 год, стр.870/
Ненасилие у Толстого носит антиобщедушевный характер. Это – ударная сила, с помощью которой Толстой пытается разрушить правящие Общей душою суеверия ("ложные веры"), прежде всего суеверие духовной Власти и ее институтов и суеверие государства, государственной Власти. Но это не разновидность антигосударственного общественного учения, не анархизм. О чем не раз говорил сам Толстой (см. 81.235).
Толстой бьет по общедушевности как таковой, бьет, может быть, не всегда правомерно, но делает это для того, чтобы освободить в душе человека место для частной духовной жизни и впустить ее на освободившееся место.
Все евангельские понятия, изречения, притчи (как и некоторые изречения священных книг других религий) Толстой сумел переосмыслить для нужд учения о личной духовной жизни. Толстовское "христианское учение" и церковное вероучение разнонаправленны в душе человека и, по сути дела, не имеют прочных точек соприкосновения. Конечно, установки личной духовной жизни и установки общедуховной жизни не следует сталкивать друг с другом, как это получалось у Толстого. Конфронтация между общедуховной и приватной духовной жизнью незаконна. Более того, внеконфессиональная личная духовная жизнь может служить мостом между конфессиями. Толстой пытался делать и это.
Общедуховная жизнь так или иначе привязана к Природе, Миру, мирам и потому активно пользует магическое сознание, которое вовсе не задействовано в личной духовной жизни. Поэтому в частной духовной жизни нет и не может быть религиозного культа и его служителей. Личная духовная жизнь существует только тогда, когда в человеке образовалась непосредственно действующая связь с "Богом своим" (с духовным Я) и только в силу этой связи. Общедуховная жизнь проистекает так и в такой связи с объектом религиозных переживаний, что между человеком и Всевышним оказывается неизбежным "посредничество", против чего так активно восставал Толстой. Посредничество духовенства столь же законно в общедуховной сфере, сколь не нужно и невозможно в сфере лично-духовной.
Общедуховный человек чувствует ответственность перед Кем-то или кем-то над собой. Личнодуховной человек сознает ответственность в себе, перед кем-то в себе.
В отличие от общедуховной жизни молитва в личной духовной жизни не просьба, не "мольба" и не воспевание, а удовлетворение настоятельной душевной потребности "молвить", дабы ответно вызвать на себя из своих глубин свет Бога своего. "И такая молитва бывает не праздное умиление и возбуждение, которые производят молитвы общественные с их пением, картинами, освещениями и проповедями, а вызывает в себе наиболее ясное сознание Бога и своего отношения к Нему"(73.12). Молитва личной духовной жизни не приурочена к определенному часу, дню и месту, а совершается только "в минуты высшего душевного настроения", "в лучшие минуты", которыми "человек должен дорожить как высшей драгоценностью и пользоваться ими для все большего и большего уяснения своего сознания, потому что только в эти минуты совершается наше движение вперед и приближение к Богу". Такие минуты редки, но "находят на каждого человека, иногда вызываются страданиями или близостью смерти, иногда же приходят без всякого внешнего повода. .."(39.185 и сл.).
Самостоятельность как таковая и самостояние как таковое претят общедушевной стороне души. Для приватной духовной жизни самостоятельность и самостояние суть родовые признаки, достоинство которых есть показатель ее достоинства.
Общедуховная жизнь в значительной мере обращена в прошлое, к истокам традиции, и в будущее, к осуществлению чаемого. Личная духовная жизнь проистекает, и проистекает только в минуту настоящего. Прошлое в ней имеет значение следа в настоящем, будущее же не имеет значения, так как не будущее устанавливает в ней направление движения. Личная духовная жизнь вдохновляется не грядущим, а нынешним, направлена так и туда, как и где Богу своему нужно явить себя сейчас. А это определяется чувством себя заданного, в совершенстве выраженного – того, что Толстой называл "религиозным чувством".
Религиозное чувство личной духовной жизни порождается Богом своим и есть, по определению Толстого, "такое явное представление того, что должно быть, что это представление служит руководством жизни" в минуту настоящего /52.51/. Личная духовная жизнь движется не от подлинника к подобию и не от подобия к подобию, а от подобия к подлиннику, которого не было и не будет, который есть сейчас в чувстве провидения себя должного.
Между общедуховной и частной духовной жизнью существуют и этические различия. Общедуховность диктует чувство долга, моральной ответственности. Личная духовная жизнь озарена свободным нравственным чувством, выражающим активную свободу души, а не ее этическую подотчетность. Отсюда парадокс: "Зло можно делать сообща. Добро можно делать только поодиночке"(52.274).
Свободное нравственное чувство не бывает ригорично, ибо оно основано не на непреклонности, как общедушевное моральное сознание, а исключительно на духовной чистоте и Искренности. Искренность – необходимое условие полноценности приватной духовной жизни.
Общедуховная жизнь держится на приверженности и непреклонности, устанавливаемой верой-доверием. В личной духовной жизни нет вопроса приверженности вере – есть вопрос мнимости душевной жизни и ее подлинности, душевного лицемерия и искренности. Неискренний человек не способен на личную духовную жизнь так же, как неверующий не способен на жизнь общедуховную. Искренность в личной духовной жизни столь же могучая осуществляющая сила, что и духовная сила любви или разума. Единственный культ, существовавший в толстовском кругу, был культ душевной Искренности /с большой буквы/ и честности перед собой.
Особое одухотворение духом честности и искренности в частной духовной жизни происходит само собой.
Быть может, личная духовная жизнь ныне задействуется для того, чтобы общедушевная сторона человека могла взглянуть на себя со стороны и осознать тупик, в который она попала. В этом смысле личная духовная жизнь призвана выручить современного человека. Недаром импульсы личной духовной жизни останавливают "живого" человека, чрезмерно разогнавшегося в движениях общедуховной жизни. Про эту благодетельную (с личнодуховной точки зрения) "остановку жизни" много раз писал Толстой. Современники Толстого, как лишний раз показывает критика Толстого, и не представляли, что можно вести речь о духовной жизни единичной души самой по себе. Духовная жизнь в те времена все еще исключительно общедуховная жизнь; она могла быть внецерковной, внеконфессиональной, но никак не лично духовной.
В отличие от общедушевной жизни в личной духовной жизни нет определенных правил или заповедей, устанавливающих исполнение. "Пределы того, что может произойти, даны сознанием. Но от чуть-чуточных изменений, которые совершаются в области сознания, могут произойти самые невообразимые по своей значимости последствия, для которых нет пределов". Сознание выявляется не столько высшим или низшим пределом возможностей нравственной воли человека, сколько тем "максимальным нижним пределом, ниже которого вполне возможно не спускаться" ему – то, что данный человек по его уровню сознания «имеет полную возможность уже не делать»/27.280./. Конкретное указание на эту максимальную отметку нижнего предела нравственного поведения, которую должен устанавливать себе человек и ниже которой он в настоящее время может не спускаться, Толстой и называл заповедью – заповедью своей, личной, установленной собою и только на ныне переживаемый этап собственной жизни.
Толстовское неприятие общедуховности, как мы уже говорили об этом, по большей части было вызвано одним корневым и неустранимым ее свойством: духовной властью. Даже самого сознания власти и подвластности нет и быть не может в частной духовной жизни. «Богу своему» незнакома власть, так как не он внедряет себя в душу человека, а душа сама ищет вместить его в себя, осуществить его в себе. Это предполагает совершенно свободные усилия человеческой души.
Готовя биографию Толстого, П. И. Бирюков спросил его о том, как он в начале 60-х годов воспринимал все происходившее вокруг него. Ответ Толстого чрезвычайно важен для нашей темы:
"Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию всего общества, то должен сказать (и эта моя особенная хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что если тогда я был возбужден и радостен, то своими особенными, личными внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом.
Вообще я теперь узнаю в себе то же чувство отпора против всеобщего увлечения, которое было и тогда, но проявлялось в робких формах. Кажется, я не так отвечаю на Ваш вопрос. Если не так, то не взыщите. Я хочу сказать, что во мне всегда шла такая внутренняя, не скажу работа, а тревога, волнение, борьба, что я не замечал внешнего современного настроения и был равнодушен к нему"(76.100-1).
Письмо П. И. Бирюкову написано в начале 1906 года. Понятно, против какого "всеобщего увлечения" Толстой узнает в себе "то же чувство отпора". Этим чувством проникнуто написанное за месяц до того письмо к сыну Льву:
"…вся эта общественная деятельность не только никогда не содействует улучшению состояния людей, но самым решительным и верным способом ухудшает ее. Ухудшает тем, что, как мы это видим теперь, страшно понижает общий уровень нравственности. А понижение уровня нравственности выгодно и удобно всем людям безнравственным, а потому, чем безнравственнее люди, тем они усерднее занимаются общественными переворотами. Что же делать? Людям не религиозным ничего другого нельзя делать, как то, что они и делают, пристать к какой-нибудь партии и бороться, ненавидеть, вредить… Людям же религиозным – жить своей жизнью, стараясь исполнять перед Богом свой долг, в который входит обязанность жалеть людей, любить их, служить им, чем можешь, но никак не устраивать ту или иную думу или учредительное собрание и тому подобные глупости"(76.71).