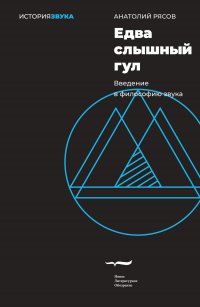Читать онлайн В молчании бесплатно
- Все книги автора: Анатолий Рясов
© Рясов А., 2020
© Дизайн обложки Вертинский В., 2020
© Издательство ООО «АрсисБукс», 2020
© Дизайн-макет ООО «АрсисБукс», 2020
В молчании
Повесть
§ 1. Отпечаток
Скоро он станет различим. Обомшелый ствол увит диким виноградом. Поднимаясь выше, лозы исчезают в кроне, пестрые листья начинают теряться в разбросанной зеленовато-бурой толпе. К тому же цвета размывает солнце, делая листву какой-то особенно яркой, слепящей на фоне серого камня. И еще горящие лепестки сливаются в размеренном шелесте – однообразном и едва слышном. Его не нарушают даже редкие вскрики птиц, летящих мимо и моментами присаживающихся на ветви. Но с деревом что-то не так. В полусне оно чуть заметно выгибается. Ствол блекло колеблется; вздрагивая, начинает казаться жидким, мнимым, чужим. И вдруг от кроны отделяется одна из веток. Тонкая, прежде неприметная, из самой глубины листьев она начинает выдвигаться в сторону. Вот уже перестает быть частью дерева, зависает в воздухе, сперва черной полосой перечеркивая опускающиеся к земле облака и вскоре окунаясь в густые, гибельные хлопья. А еще через мгновение в сечениях и вращениях исчезает и дерево. Бросается в самый центр круговорота – то ли чтобы спасти несмышленого, своенравного ребенка, то ли чтобы погибнуть вместе с ним. Дробясь, оно пропадает в вихрях метели, в кружении которых только что поспешила скрыться отделившаяся ветка. Изображение теряет всякую четкость в искрящейся, пронзительной белизне. Не остается ничего, кроме наслоенных друг на друга снежно-серебряных кружев. Клочья вращаются и размывают все вокруг в мутную, беспокойную бесцветность. И в тот момент, когда пейзаж начинает казаться размытым и навсегда исчезнувшим, дерево вдруг выныривает из лавины – колышущиеся складки снова расплескиваются зелеными ветвями. Они все еще изгибаются, словно ищут собственные пропорции, но через мгновение дрожь стихает, и крона вспоминает привычную, устойчивую форму. Снега как не бывало. Дерево опять безмятежно, в листве ютятся птенцы и солнечные лучи. Но разумный покой знакомой природы невозвратимо попран: все дело в том, что отделившаяся часть по-прежнему парит в воздухе и, кажется, продолжает удаляться дальше и дальше в сторону. Забыть об этом уже невозможно. Рядом с тростинкой по небу проплывают огромные свертки иссохших листьев, зеленовато-коричневые обрывки коры и белые перья каких-то гигантских птиц. Одно из них приближается к жидкому дереву и почти уже ныряет в листву, словно собираясь занять место беглянки, но перу это не удается: листья сразу начинают дрожать, вмиг признав в белом цвете свою смерть – посланца снежной лавины, едва не проглотившей их несколько минут назад. Все дерево уродливо искривляется, готовясь к пронзительному крику. И вдруг из самого центра дробящейся кроны высвобождается слепящая вспышка – настолько яркая, что уже не видно ничего, кроме этого огня. Происходящее длится лишь мгновение. Через секунду на месте искривленного взрыва опять появляются листья, но уже освобожденные от огромного пера – белая стрела медленно летит в сторону от сутулого ствола, испугавшись цели, в которую метила еще миг назад. Как будто встретила нечто во много раз более белое, чем она сама. Как будто вместо оглушительного крика дерево выпростало из себя режущий свет. Кажется, теперь и солнце светит иначе. Словно растратило слишком многие силы на ту отчаянную вспышку. К счастью, уже вечер. Листья больше не бликуют, стали прозрачными. Наконец становится ясно, что ветка не отделялась от ствола, что она никогда не принадлежала дереву и, как и перо, ни за что не смогла бы слиться с кроной. Да, снова эта путаница между поверхностью и отражением. И еще теперь заметно, что сквозь рябящий ствол просвечивает что-то другое. И это не только камни скалы, скрывающейся за листьями и заразившейся их прозрачностью, но что-то тревожно-живое. Мутная, запеленатая в клочья теней, колышущаяся масса водорослей, плавников, клешней и тины. Там все кишит склизкими существами, холодом, темнотой и опасностью.
§ 2. Вода
И только. Да, оно никогда не переставало изливаться. Едва заметно шевелилось даже при полном безветрии. Это немного роднило его с грязью: та же податливая тягучесть, головокружительная и омерзительная, но только ни малейшей надежды на опору, на отвердение. Когда у самого берега пена, смешиваясь с песком, скукоживалась и вроде бы умирала в лопающихся волдырях, она до последнего мига продолжала дрожать, сохраняла все отвратительные судороги, биения и пульсации. И казалось, что наросты пузырей, их слепые шевеления не исчезали, а множились, дробились на еще более мелкие, бесконечно меняя форму. Как будто из них состоял и влажный воздух. Да, туман длил их копошение. Даже погибнув, оно продолжало выплескивать ослепляющий яд. Сохраняло свою растительную, враждебную волю. Не останавливалось, продолжало обволакивать. И мертвая опухоль опять превращалась в догоняющие друг друга белые полосы, они беспокойно извивались на воде и закручивались в расхристанные кружева. Прозрачная грязь. Каждая капля сбегала по камню, как проворное насекомое – словно головка гусеницы, чье тело невидимо или навсегда потеряно, но и эта прозрачная бусина тоже становилась все меньше и меньше, пока, изничтожив себя, не исчезала совсем, лишь изредка успевая слиться с зеленеющей жидкостью, вернуться в брызги у самого подножья скалы, чтобы снова и снова ударяться о нее. Проводил целые часы, лежа на прибрежном холме, прислонившись щекой к засыпанному песком камню. Песчинки приклеивались к коже и смешивались со щетиной (даже так же поблескивали на солнце). Лежал и наблюдал, как у самого берега волны, наслаиваясь друг на друга, соскальзывают обратно, оставляя на мокром песке темные оттиски, тонкий слой влаги. Но уже через мгновение и эти высыхающие тени сужали контуры, догоняли своих хозяев, устремляясь в погоню за ними, что, впрочем, почти никогда не удавалось, потому что навстречу им поспешали новые зыби. Проводил так целые недели, следя, как убегают друг от друга стеклянные горбы, как они превращаются в силуэты самих себя, а потом смешиваются с новыми тенями, утаскивают за собой мелкие камни и обрывки листьев. Из-за того, что оно продолжало шевелиться, все знакомые мысы, ракушки, расколотые панцири – все это тоже становилось изменчивым и непривычным. Часами лежал, вслушиваясь в крики морских птиц, прислонившись щекой к теплому камню, и смотрел, как в воду падают сухие, скрученные в рваные трубочки листья, следил за их порхающим, нервным полетом, за пятнами теней, ползущими по валунам и песку, за текучими отражениями. Подолгу разглядывал мерцающие маски. Они немного избавляли мир от скуки, лишали его обманчивой простоты. Но как будто и отвлекали от чего-то, скрытого под ними. Оно всегда показывалось как нечто, чем само не являлось, поспешая скрыться в бликах и дроблениях, завораживающих своими переливами. Эти шумные отражения можно было разглядывать всю жизнь, в них невозможно было разобраться, от одного многообразия сочетаний и преломлений можно было сойти с ума, но за ними скрывалось еще что-то, теряющееся в темноте. Что-то, что они старались утаить. Куда более неясное, чем они. Что-то, дозволяющее им множиться. Тихое, прячущееся безумие. Его темный гул. Конечно, иногда вода впускала в себя свет. В безветренную погоду у берега можно было разглядеть дно – колыхания водорослей, снования мальков, черные иглы морских ежей, поблескивания камней, – всю эту видимую часть незатейливой подводной жизни. Но четкость сохранялась лишь до определенного предела, дальше все сгущалось, мутнело и оставалось скрытым. Как будто бы даже твердело. Да, казалось, что там, в самой глубине воду придется раскапывать, разрывать руками, чтобы продвинуться дальше. Продвинуться дальше? Разодрать пальцы в кровь, почувствовать, как соль обжигает раны, заползает в бороздки царапин, прокрадывается под кожу. Только вот в сумрачной массе все равно нельзя будет разглядеть ни ям, ни прорешин. Как будто у берега вода впускала свет именно затем, чтобы не дать ему проникнуть глубже, – как лакея или привратника, которому дозволено входить лишь в прихожую. Да, даже эта близкая, нарочитая прозрачность тоже была притворством. Конечно, он не раз нырял внутрь и обнаруживал, что дно там немногим отличалось от прибрежного, разве что было более вязким. Но это ничего не проясняло. Блеснув смертью, волны могли без труда забрать его, но почему-то не делали этого. Каждый раз, погружаясь под воду, он ловил себя на мысли, что находит не то. Наталкивается на какую-то другую, ненастоящую жизнь моря. Даже если бы ему удалось раскопать скрытые корни, они тут же превратились бы в дрянной реквизит, в скверные копии. Чем больше упрочнялась уверенность в том, что он вплотную приближается к искомому, тем безвозвратнее терял его. Как если бы складки воды подогнулись сами под себя, скрыв изнанку. Как если бы он купался в шелесте отражений, а самое существенное по-прежнему оставалось скрытым. Погрузившись на глубину, цепляясь руками за водоросли, он поднимал голову и видел, как облака, проступающие сквозь жидкую патину, смешиваются с хлопьями пены, а льющийся с неба свет встречается с отражениями дна. Да, ему казалось, что дно тоже могло отражаться с обратной стороны поверхности. Даже думалось, что так, в виде плавучей гравюры, его можно лучше рассмотреть. А до этого целыми неделями лежал на берегу, вспоминая обволакивающие блики. Но не прикасаясь к воде. Первое время даже не решался подходить к ней, потом почти привык, но ощущение чуждости не исчезло. Ни о каком приятии не могло быть и речи. Он любил не медленно заходить в море, а спрыгивать в него, так чтобы очутиться в прозрачной западне сразу, в одно мгновение. И в этот момент вдруг исчезали все звуки – ни ветра, ни плеска, ни вскриков птиц. Только странный, похожий на шелест костра гул, в котором он почти готов был почувствовать себя веткой или сухим листом, травинкой, щепкой – чем угодно неживым. Да, притронуться к воде было куда тягостнее, чем обнаружить себя уже внутри. Он медленно подносил пальцы к морской поверхности и в последний момент отдергивал руку. Пока не изобрел новый способ – сперва провести по волне ногтями, этой полуживой частью тела, чтобы почти не чувствовать прикосновения, и только потом погрузить в воду всю руку. Он наклонял голову и наблюдал, как кривая линия прозрачной кромки отрезает его пальцы, как они, напоминая вытянутые вечерние тени или длинные щупальца, искривляются в воде, словно уже отделенные от руки, как становятся рыхлой мякотью, одним из склизких морских организмов. Разжиженные, почти мертвые, они уже не принадлежат ладони. Как глубоко вросшие в запястья длинные, полугнилые когти. Как что-то не относящееся к нему, вроде тростинки или лапки жука. Что-то, чем он пока не успел стать. Он вырывал руку из воды. В первую секунду нельзя даже было понять, поддалась ли она усилию или безвозвратно вросла в море. Прозрачная кожа по-непривычному медлительно сползала с ладони, и глаза следили, как капли, срастаясь друг с другом, силятся зацепиться за пальцы. Они упорно отказывались разделяться, словно были не жидкостью, а волокнистой тканью, перепонкой. Но все же в какой-то момент поток разрывался, и лишь немногим ненадолго удавалось повиснуть на фалангах, как стеклянным, бесцветным улиткам. На их прозрачных выгнутых панцирях переливались отблески света. Когда же последние упрямцы соскальзывали с кончиков пальцев и разбивались о камни, он как будто не замечал этого, продолжая рассматривать собственные кисти – покрытые разводами соли родинки, морщины, царапины, рябые пятнышки, бледно-розовые пластинки ногтей. Но и это спокойное созерцание было странной пыткой, чем-то вызывающим отвращение. Тонкие волоски виделись ножками пауков, чьи головы вгрызлись глубоко в кожу. Он снова думал, что ногти, волосы, зубы – это какие-то посторонние наросты на телесном, слишком твердые, безжизненные. Да, что-то наподобие засохшего песка, который можно отскрести от кожи, смыть. Еще более инородной и чужой казалась только слизь глазной мякоти. Свои глаза он не раз видел в отражении моря. Может быть, поэтому они часто представлялись ему застывшей водой – мутной слепотой, лишь иногда, в самые непонятные часы способной излиться семенем зрения. Прозрачный офорт копировал все его черты, он знал, что, когда отводит взгляд или поднимает голову к небу, вторая пара глаз смотрит в ту же сторону. И все же когда всматривался в жидкий, изменчивый отпечаток, ему уже не удавалось думать о глазах, начинало увлекать другое: он понимал, что лицо показывается перед собой не по частям, а все целиком. Хотя и эта целость была какой-то размывающейся, вязнущей в изгибах волн и клочьях пены. Иногда здесь, в бухте, вода почти застывала, но сколько бы он ни замирал, смазанный, теряющий черты оттиск на зыбкой поверхности продолжал двигаться. Помимо него. Казалось, его собственная жизнь абсолютно ничего не добавляла к миру, во всяком случае – не больше, чем этот тусклый портрет. Когда смотрел на щербатые отражения на воде, то представлялся себе сливающимся с силуэтами деревьев и камней, а когда подносил лицо близко к жидкой глади, то, казалось, видел отражение моря в рисунке собственных глаз. Как если бы одна вода отражала другую воду. Он стыдился себя, ему хотелось слиться с этим дрожащим оттиском. Поэтому прижимался еще ближе к воде. Так растворял себя в мире, пока какая-нибудь плывущая по течению травинка не напоминала о том, что все это – только поверхность задремавшего колыхания. Одно, пусть и мучительное прикосновение, даже ненароком капнувшая слеза способны были разрушить всю картину, принудить ее извиваться неровными кругами, пока приближающаяся волна не спрячет портрет-пейзаж в своих складках. Отражения рябили светом: одни лучи преломлялись о поверхность и слепили глаза, а другим удавалось прорезать гладь и устремляться ко дну. Снова эти отблески, прозрачность и темнота. И они не складывались в одно. Часами глядел на воду и не мог понять, как ей удается не просто допускать разные взгляды, но единовременно сочетать в себе отражения, поверхность и глубину, как это возможно, что он сразу видит листья, плывущие по воде, скалы, которые она отражает, и водоросли, колышущиеся у дна. Впрочем, не надо забывать: настоящего дна он не видел, как будто все эти беглые блики, круги, мерцания поверхности и заслонявшие их обрывки листвы специально стремились сделать так, чтобы ему казалось, что ни глубины, ни дна нет, что поверхность – важнее. Что он сам – одно из отражений на этой дышащей глади, в лучшем случае – один из сухих листов. Нет, он так не думал. Он немного узнавал себя лишь благодаря тому, чем не являлся. Чувствовал, что поверхность, а не глубина дает ему возможность заметить себя. Наверное, он должен быть благодарен ей. Или наоборот – обязан проклинать ее. Потому что одновременно она отдаляла его от собственной вероятности, отсрочивала ее, заменяла чем-то иным. Но в отличие от глубины, к поверхности по крайней мере можно было как-то относиться. Придумывать признательности или предавать анафеме. Она хотя бы допускала к себе. И все же то, о чем он действительно мечтал, – это помыслить воду до разделения на отражения, поверхность и глубину, как пейзаж – до разделения на небо, сушу и воду. Когда он смотрел на мокрый песок и потоки, сползающие по нему обратно в море, ему казалось странным, что граница между землей и водой существует. Удаляющаяся и приближающаяся, она была неопределима, изменчива, неустойчива, но все же неотменима. И желание убрать рубеж всегда порождало в нем чувство отчаяния. Ему раз за разом продолжало казаться, что это не он вырывает из воды руку, а море выпрастывает ее как что-то чужое, лишнее, мешающее, не нужное даже в виде отражения. Мир никогда не нуждался в том, чтобы из него извлекали смыслы. Не подчинялся этим попыткам, высмеивал их как жалкие, негодные кривляния. Но ведь это еще не означало, что в мире не было смыслов. Молчаливое отчаяние выматывало, но в нем же он умудрялся черпать новые силы. Все опять переменялось, и он начинал представлять, что это не он думает о мире, а наоборот – мир вспоминает о нем. Что миру часто нет до него дела именно потому, что он перестал быть для мира новостью. Правда, с чего он взял, что когда-то был чем-то подобным. Но, может быть, мир знает о нем что-то, чего никогда не расскажет. Вслушивался в трепетный шум неба, пытаясь разгадать эти полумысли. Часами лежал с закрытыми глазами и, казалось, наконец становился шуршащим плеском, повторением одного и того же, но всегда разного звука. Да, волны рассыпались, как глыбы сухого песка. Мгновенно, одним выдохом, не отыскивалось никакой возможности понять, как же всего секунду назад они могли быть цельными, крепкими и почему столь же неразрушимыми продолжали казаться их братья-преследователи. Раз за разом повторяющиеся взрывы, такие похожие, но все же другие. Но наконец он терял способность различать их. Вслушивался в шипящий гул, пока не переставал понимать, что же именно звучит. Слушал звучание как нечто, уже не принадлежавшее волнам, уже лишенное значения. Проваливался в звук, как в воду. Не постепенно, а разом. В коротком прыжке. В эти мгновения ему опять начинало казаться, что он перестает мыслить море, потому что море начинает мыслить его, что только оно и способно по-настоящему думать, что именно оно немного научило мысли и его. Он снова путал море и мир. Он вслушивался во внутреннее шипение, в тихий скрежет. Погружался в шум, пока тот не переставал быть шумом. Может быть, потому что он сам становился его частью. Раскалывался на шуршащие песчинки беспокойного шепота. Ему хотелось в это поверить. Засыпал под шум моря, прислонившись щекой к влажному песку. Лежал так, пока вода наконец не будила его, добравшись до лица. Он вздрагивал и опять начинал слышать гвалт, повторяющиеся удары, невнятное морское бормотание, нечленораздельную речь, похожую на его собственные бессвязные мысли. Этот шепот пробуждал в нем странную скорбь. Что-то неотступное, приходящее помимо его воли. Не та болтовня, от которой можно было легко оградиться. Не стоит путать болтовню с этим шепотом, рушащим любые ограды. Да их и не было. Он никогда не смог бы их построить. А со стороны мира было что-то другое. Не похожее на забор, но еще меньше напоминавшее распахнутые ворота. Какая-то другая, не впускающая граница. Может быть, за нескончаемым шепотом крылась боязнь всей этой прозрачной крови, невесть откуда продолжавшей и продолжавшей выплескиваться наружу, страшившей своей мертвенной живостью, отсутствием истока, колышущейся неспокойной темнотой. Может быть, ему мерещилось, что это изливается его собственная кровь. Но с ним же ничего не происходило? Нет, все события касались только его одного. А он беспечно и безрадостно лежал на берегу, прислонившись щекой к мокрому песку, сгребая пальцами крупинки и плоские камни, рассматривая покрывшие их следы водных растений, когда-то вросших в твердое тело, но, конечно же, не сумевших пережить его, и теперь сохранившихся лишь в виде прошлых шрамов – кривых царапин, посмертных масок, иероглифов, напоминающих иссохшие ручейки. А их потомки, тоже уже мертвые, похожие на выцветшие птичьи перья, разбросаны на берегу рядом с черствыми камышовыми стеблями и пучками травы. Влажным исподом они пробуют склеиться, слиться с пока не принимающей их землей, вжаться в изнанку собственных барельефов. Изображений, которых никто не увидит. И тут же неподалеку – настоящие перья, оброненные суетливыми чайками, забрызганные тиной, почти не отличимые от выгоревших водорослей. Между беспорядочно рассыпанных камней, которые он рассматривал месяцами. Вглядывался в царапины, сколы, пятна соли, темно-синие крапины. Сжимал плоские камушки в ладонях и силился почувствовать режущую боль. Бросал их, снова просыпал сквозь пальцы сухой каменный пепел. Слышал бесконечное шуршание, с которым песчинки падали на мерцающие плиты, на невидимую мостовую. Свет окунался в воду. Обратно лучи возвращались помутневшими и тусклыми. Казалось, сам воздух бледнел – чем ближе к морю, тем туманнее. Но одновременно в глубине что-то начинало искриться, наверное – та часть света, которая не вернулась в отражении. Может быть, самая яркая его крупинка, но у нее не хватало сил высветить подводную хмурь. Поэтому свет вновь довольствовался поверхностью, обливал ало-серебряной краской всех ее обитателей. И он опять принимался разглядывать эти обломки коры, сор и былинки, дрейфующие по тихим волнам. Стертый пейзаж, пересекаемый пустотой. Всматривался в их сквозистые очертания и скрещения, пока цвета и линии не исчезали. Вглядывался, пока не начинали болеть глаза. Тогда менял способ смотреть, и вода переставала быть фоном, а вот листья и все, что его загораживало, начинало восприниматься как нечто случайное, сопутствующее главному. Все изменялось. Снова складчатая поверхность без пыли и царапин. Абсолютно чистая. Нет, опять загрязненная. Всматривался в пену, пока цвета и формы не исчезали. Всматривался, пока не начинали болеть глаза. Закрывал их и продолжал видеть что-то в темноте. Закрывал уши руками, но звуки все еще просачивались. Сглатывал слюну и продолжал чувствовать привкус соли. Старался не дышать и ощущал влажный воздух. И опять отражение, расстояние до которого казалось отрезком, отдаляющим его от тела. Разрываясь, тело присутствовало повсюду, окружало со всех сторон и при этом ускользало, казалось неясной копией. Если отражение подражало телу, то почему бы телу тоже не отражать что-нибудь. Может быть, отдаленно напоминающее без конца стирающийся и вновь возникающий след на воде, может быть – совсем не похожее. Момент появления следа был неуловим. Наверное, он имел в своем истоке абсолютное отсутствие. Какая-то нелепость, курьез, случайность. Готовый вот-вот исчезнуть прозрачный эскиз неизвестно чего. Может быть, нового тела. Но при этом – не пропадающий, все еще заметный, настаивающий на различимости. Включенное в мир неимение. Почти состоявшееся. И странное, безосновное ощущение принадлежности миру при очевидной отделенности от всего. Еще угадывание чего-то, предшествовавшего изгнанию. Всматривался в зиготные, муаровые складки, думая, что опять обознался. Ныряя внутрь стеклянного изображения, не объединялся с ним, а разбивал портрет на жидкие осколки. И раз за разом проскальзывал сквозь него. На секунду разбившись, брызги опять собирались над головой в изображение. Мгновенно. Портрет восстанавливал себя на поверхности. Помимо него. Сидя на пепельном дне, он закрывал уши руками и слушал далекий плеск моря. Вернее – старался не слышать. Всматривался в черные дыры, полувкопанные в песок камни, последние булыжники центральной площади древнего, давно смытого, ненужного города. Теперь его остовы годились разве что на то, чтобы служить убежищами для пугливых рыб. Отводил взгляд. Наполнял глаза соленой водой. Кто-то подцеплял тонкой спицей его мысли, словно вытягивал шипом кожу на пальцах, глядя, как она бледнеет и готовится стать тускло-алой. Он не претерпевал пытку. Скорее изумлялся тому, что пытка существует. Радовался. Нет, вряд ли. Просто пытка была необъяснимой тайной. От этого кружилась голова. Не от того, что все так, как оно есть, но уже от самой мысли о том, что все может быть таким. Даже если бы оно было другим, даже если бы пытки не было, изумление коснулось бы чего-то еще. Изумление бы осталось. Почему-то он был способен свободно отделяться от себя в этом недоуменном восторге. Отдаляться настолько, что оказывалось возможным все потерять. Расставаться с этими почти что мыслями, натыкаться на новые, такие же неразличимые, наслаивающиеся, наплывающие друг на друга. Каждая из них отходила от своего тела – им тоже нужно было взглянуть на себя со стороны, чтобы осмыслиться, а потом увидеть себя отстраненно смотрящими, и так до бесконечности, все тонуло в отражениях, раскалывалось на хлопья дыма и холодные брызги. Мир двоился задолго до его появления здесь, двоился сам по себе. Как-то быть со всем этим. Как-то избавляться от всего этого. Часами сидел на дне. Обхватив голову руками. В безмятежном волнении. Врастая в мокрый песок. Но знал, что очень скоро опять вынырнет на поверхность дня и примется раскалывать стекло, разрисованное бледными, несуществующими красками. Снова и снова проваливался в отражение, на губах которого мерещилась тлеющая полунасмешка. Лишь иногда происходило нечто странное. Появлялась пелена, заслонявшая отпечаток. Еще один, все усложняющий слой. Как если бы лицо спряталось за вуалью, и, глядя сквозь нее, уже нельзя понять, кому принадлежит отражение. Может быть даже, оно и правда исчезало. Замещалось чем-то другим. Он наклонялся над водой и замечал над прозрачным офортом какой-то тревожный, мутный полог. Словно поверхность, подражая глубине, тоже обзавелась заслонами, чтобы стать незаметнее. Он находил какой-то покров покрова, тонкую, изощренную затемненность. Не над землей, но над водой. Пытаясь прикоснуться к пропавшему отражению, он дотрагивался до черной пленки, препятствующей не только слиянию, но даже созерцанию. Да, спрыгивая в воду, он ударялся о собственную тень.
§ 3. Парк
Был пуст. Когда-то. Давно, еще в аллее. Худые, искривленные стволы и готовые надломиться ветки. По утрам – обтянутые тонким инеем. Их вычурный звон, их бесшумье. В полумгле, под мелким дождем они казались лакированными скульптурами. Смирившись с наготой, окаменелые побеги научились обходиться без листьев. Шел по коридору заброшенного музея меж однообразных экспонатов. Залитые водой ковровые дорожки. В лужах отражались темные, тощие ветки и небо. И непрерывный дождь. Казалось, что когда-нибудь мутная вода заполонит все, и парк исчезнет в океане. В потоках утопнут не только неразборчивые подписи к экспонатам, но и сами скульптуры. Все станет неприметным осадком, крохотной частью тревожного, сырого мира. Ложился рядом с одной из луж, без боязни испачкать пижаму. Подставлял дождю холодные ладони. Прислушиваясь к сиплому дыханию. Затылок на мокром песке. Широко открытые глаза. Черные линии на сером фоне – скрещивающиеся, тонкие, кривые. Как изысканный узор заиндевелой паутины. В дымящейся тишине. Утолял жажду дождем. В пустом зале тихой галереи. Закрытой на бессрочный ремонт. Нет, в мастерской мертвого художника, превращенной в дом-музей, единственным посетителем которого стал его страж. Замкнулся в собственном молчании и все же пытался охранять. Иногда привратнику даже казалось, что экспозиция музея посвящена его собственной жизни. Его работы, безразличные ему и не нужные отсутствующим посетителям. Может быть, это не музей, а мастерская. Может быть, скульптор просто утратил вдохновение. Отшельник ощущал себя последним хранителем мира. Не было никого, кто посягнул бы на покой утомленного, полусонного сторожа. Даже животных и птиц. Даже пауков. Как если бы над парком был водружен стеклянный купол. Или плотная сетка замершей, замерзшей паутины, впускавшей только дождь. Как будто даже – притягивавшей его потоки. Вода мерно сочилась сквозь трещины в хрустальном небе. Я лежал в тишине. Никого больше. Насколько можно доверять дымным сумеркам. Лишь иногда – ее обритый череп. Впрочем, не так уж редко. Да, не так уж редко. В парк выходили только мы двое. Неторопливо шли по тропинкам, держась за руки. Молча, всегда молча. Или что-то шептали. Чаще – она. Почти никогда – я. Нет, это не было разговором. С ней можно было молчать без боязни быть непонятым. Может быть, произносили молитвы. Монотонным, отсутствующим голосом. Или тихие проклятия. Кажется, и то и другое. Не чувствуя разницы между хулой и стихирой. Настолько вместе, что почти перестали замечать друг друга. Воздевая глаза к куполу храма, расписанному прозрачными паучьими фресками. Без всякой надежды на ответ. Любой отклик даже разочаровал бы. Кроме дождя. Если можно было расценивать его как знак. Отходили в сторону, чтобы уступить место невыговариваемому. Одухотворенные молчанием, ложились рядом с лужами, прислонив головы к воде. В одинаковых темно-серых, почти черных пижамах. Умывали глаза. Утоляли жажду дождем. Проводили так целые часы. Прильнув к мокрой земле. Пили дождь, утопали в воде, но никак не могли напиться. Этого никто не способен был понять. Но почему-то не осуждали. Наверное, столь небывалая странность не входила в список запретов. Не важно. Любовались потрескавшимися фресками. Паутина даже украшала их. В немом молебствии подставляли руки под потоки прозрачной краски. Превращались в худые лакированные скульптуры. В экспонаты музея. Влажная пижама прилипала к коже. Но это не доставляло неприязни. Стояли без движения. В полумраке, на фоне темного неба казались почти такими же черными, как деревья. Стылые, безжизненные. В ладонях мерцали слезы. Какие-то редкие мысли, вперемешку с дождем. Нескончаемое говорение без звучания. Как в торжественно-немом кино. Это могло продолжаться долго. До тех пор, пока не приходило время принять снадобья. Знали, что они бесполезны, даже не представляли, чем они могли бы помочь, но нелепые обряды нужно было соблюдать. Только благодаря им снова могли сбежать в парк. Может быть, снадобья еще сильнее замедляли время, успокаивали покой. Во всяком случае, нам хотелось верить в это. Кстати, врачи их тоже принимали. Минута всеобщего шуршания. Мы запивали бесцветные облатки горьким настоем, завершали изнурительный ритуал и снова ложились в лужи, без меры проговаривая все то, что можно было излить только в безмолвии. Вновь и вновь. Еще неслышнее, еще обнаженнее. Записывали что-то на песке – для дождя, который тут же все стирал. Странно, земля не была холодной. На нас проливались звуки несказанной прозрачности и чистоты. Смутный стон, сквозивший меж искрящихся влагой ветвей, походил на монотонно-прекрасное пение церковного органа. Пролежав час-другой, поднимались, стряхивали с пижам мокрый песок и продвигались в глубь парка по тонким тропинкам. Разглядывали постылые экспонаты, их неспокойную худобу. Пытались отыскать отличия между ними. Может быть, находили. Сложно вспомнить. Но точно никогда не хотели вернуть таблички с названиями. Хотя и не знали, куда они подевались. Не у кого было уточнить. Иногда сходили с тропинок и бродили меж деревьев. Это дозволялось. Блестящие черные тропы рассекали серый песок, точь-в-точь как ветки разрезали небо. Становились все уже, неуемно истончались. Продолжались в отражениях, перетекали в стволы деревьев, устремлялись наверх, к самому куполу. И мы гуляли по огромному прозрачному шару, наполненному серебристо-черными спицами мерзлых паутинок. Проводили так целые часы. В ночной прозрачности, в сгущавшейся, отчаянной тишине. Пока не приходило время принять пищу. С разочарованием возвращались в подвал столовой. Ненавидели эти мгновения. На подносы швырялось что-то полужидкое, водянистое, напоминавшее внутренности лягушки. Закрывали глаза. В неизъяснимо проникновенной немоте. Вспоминали серебряные потоки, прозрачные ноты, их бледную красоту. Ускоряли время. Безмолвно радовались этому умению. А кругом продолжался тот же самый странный спектакль, где актеры говорят так тихо, что, кажется, только притворяются, и даже беззвучный шелест их одежд больше походит на речь, вернее, на то неразборчивое однотонное шушуканье, которое изображают мрачные мимы, коварно приоткрывающие рты. Мы старались не разверзать глаз, так сильно эти лживые перешептывания контрастировали с любимым нами молчанием. Иные сидели, словно тряпичные куклы. Головы свешивались сухими венчиками увядших цветов. И полустертые, еще более мертвые лица врачей. Их застывшие, рабьи жесты. Их мертвенность. Одежды и коридоры, которые когда-то были белыми. А мы снова бежали в сквер, к ломким скульптурам. Подражавшие друг другу, почти неотличимые, еще недавно до смерти надоевшие нам, они вдруг обнаруживали неподдельное величие, вновь удивляли и наполняли жизнью. Гладкие стволы. Хотелось обнять их, извиниться. Безумцы, замерев от стыда, мы не решались на это, прикрывая набухшие слезами глаза. А они все равно прощали нас и принимали в свои неподвижные игры, поворачивали к нам обнаженные головы, сколотые края своих немыслимых ликов. Казалось, их глаза способны сверкнуть, как старинные керосиновые фонари, как внезапные крылья, как неслышный смех, как нервный покой. Вспыхнут и уже не остановят своего тусклого мерцания. Станут освещать нам путь. Обнявшись, лежали под тяжелым дождем. В твердом тумане. В беззащитной, нагой темноте. Вдыхали влажное небо, оседавшее синей изморозью на наших губах. Вечерний фон, на котором все исчезало, нет – не исчезало, но почти сливалось. Вышептывали безмолвные клятвы. Наши руки срастались.
§ 4. Грот
Ничего другого. Вглядывался в темноту. Ничего не различал, но измышлял что-то невидимое. Нет, никаких представлений. В пещере они не нужны. Здесь не появлялась даже потребность воскресить их. Стоило только войти. Или вернее – обнаружить себя вошедшим. Представления тут же прерывались. Как свет, как шум, как тепло. Здесь он замыкался для всех голосов. Здесь все кончалось. Опадало у входа, как ссохшаяся листва, как срезанные локоны памяти. Разве что поначалу иногда закрывал глаза и снова вытаращивал их, чтобы осознать разницу. Когда закрывал, начинал что-то видеть. Появлялись ненужные представления. Поэтому большую часть времени сидел с открытыми глазами. Всегда сидел с открытыми глазами. Чтобы избавиться от вымысла. Чтобы забыть о проклятом воображении. О калейдоскопе его пыльных зеркал. Никакого света. Разумеется, никаких теней на стене. Только он и смутная, плотная тишина пустой пещеры. Никогда не пытался представить себе ее размеров, это даже не могло прийти в голову. Нет, не размышлял об этом. Никаких мыслей. Только тишина – будоражащая, чарующая, томительная, непереносимая, влекущая. Ничего больше. Или все же что-то еще. Скорее вслушивался, чем всматривался. Иногда глубина темноты казалась более темной, чем та ее часть, что была приближена к нему. Как если бы вдали сумрак еще больше сгущался. Как если бы своды пещеры были стенами темноты. Нет, никогда не сравнивал подвиды потемнения. Вообще ничего не сопоставлял. Здесь. Какая-то особенная ненужность, негодность аналогий. Лишь немного ощущал расстояние, отделявшее тело от скапливавших безмолвие стен, от черных ниш в глубине. Еще казалось, что темнота способна образовывать новые и новые углубления, ходы, целые коридоры, бесконечные катакомбы. Но никогда не вставал, чтобы пройти по ним. Ни за что не стал бы искать их. Даже не думал проверять, существуют ли они. Вдыхал воспоминания и прозрения, снова и снова расплескивал память, никогда не мог собрать вместе позабытые и воображаемые события, но что-то помнил, всегда что-то припоминал, что-то болезненно важное, хотя бы само ощущение вырванного из изнывающей памяти мгновения. Все это сгущалось невысказанными мыслями, разливалось молчанием, отражалось в полумраке. И суровая, нежная, тягостная тишина заполняла лакуны. Часами вслушивался в темноту. Может быть, ее всегдашнее отсутствие что-то говорило. Всверливал взгляд в плотный, неизменный покой. Но без цели прорвать завесу. Конечно, без цели прорвать завесу. Не пытался понять, как темнота сгущалась в стены, как в стенах появлялись ниши и коридоры, как они снова исчезали. Все равно ничего не видел. Всматривался и ничего не видел. Даже собственных рук. Все-таки вслушивался, а не всматривался. Но вслушаться тоже не получалось. Самой тишины он не слышал. Было что-то другое. Может быть, сиплое дыхание. Может быть. На всякий случай задерживал его. Кажется, это почти ничего не меняло. Призрачные звуки мешали не меньше, чем представления. Они тоже казались осколками вымысла. Вскрикивал. Резко, без перехода. Скрежет набухал в дребезжащем трепете и растекался по стенам, наполнял пространство, как будто даже стеснял его, забивался в альковы и закоулки. Оглушал, поражал взрывающимися лавинами и грохотом. Будто бы даже ослеплял, если здесь можно было думать об ослеплении. Нет, никаких мыслей. В пещере они не нужны. Никаких мыслей. Даже одной-единственной о том, что их нет. Даже робкой догадки, что наконец научился препятствовать их возникновению. Вообще ничего. Без усилий. Никаких умозаключений. Никаких выводов. Просто вслушивался. Проваливался в бесконечное ожидание тишины. Затихал. Превращался в безнадежность тишины. Становился темнотой. Сковывающая неподвижность. Безуспешная попытка разобраться с онемением. Угадывание в нем чего-то предельно важного, может быть – самого главного. Нет, никаких систематизаций. Покончить с ними. Потом вновь прерывал молчание. Резко, без перехода. Подолгу кричал. Пока не начинало болеть горло. Пока не уставала грудь. Пока не начинали трещать сжатые кулаки. Пока не начиналось еще что-нибудь. Пока не терял свое тело в колком, ворсистом звуке. Нет, тело невозможно было потерять, оно всегда оставалось отделенным. Снова это невосполнимое пространство. На этот раз между ним и криком. Вопль окутывал его своим колючим покрывалом. Он располагался в самом центре крика, прямо внутри, и все-таки вопль не принадлежал ему, не был даже изнанкой тела, но, может быть, чем-то похищенным, чем-то отрезанным от него. Но не окончательно. Наверное, не окончательно. Даже здесь не было уверенности. И все же в этом крике едва ли не впервые оказывалось возможным наткнуться на себя. Может быть, именно так он кричал когда-то, сразу после рождения. Может быть, каждый из этих криков был только воспоминанием о том, самом первом. О точке отсчета его будущей невыносимо длинной речи. Замолкал и слушал это бьющееся о стены эхо. Его полоскания. Его распад. Его обломки. Его затухание. Его увядший звон. Его зернистую пыль. Его пепел. Его вспыхивающее пламя. Его пожар. Надломленный голос распадался, дробился неровными паузами и опять возвращался в новом крике, отражаясь от стен и врезаясь в собственные осколки, воссоединяясь с ними. Шепот, разрастающийся в оглушительный хрип. Абсолютно неуловимый. Совершенно неясный. И такой знакомый. Почти родимый. Как волна, дробящаяся о камни и собирающаяся в отливе. Как ветер, ударяющий о скалу и просачивающийся в расселину. Нет, никаких представлений, никаких метафор. Разве он мог забыть? Открыть глаза. Да они и не были закрыты. Замолчать. Но он давным-давно молчит. Крик замирал, истаивал в одной из преклоненных ниш. Всегда в одной и той же. Там, в самой глубине. Запекшееся, неслышное эхо, неприметная царапина вопля. В углу у левой стены, если здесь есть стены и углы. В дальнем алькове, если здесь можно вести речь о нишах и о перемещениях в пространстве. Там, откуда таращилось чье-то безглазое лицо. Забивался туда. Перемежался своим отсутствием. Таял. Терялся. Исчезал. Наконец, кажется, наступала тишина – внезапная, волшебная. От крика она становилась еще более полновластной. Тишина, нарушаемая лишь предательским воспоминанием о звуке. Колышущиеся призраки, едва приметный треск и щелчки. Нет, никаких воспоминаний. В пещере они невозможны. Стоило только войти, и они исчезали. Здесь все заканчивалось. Нет, просто прерывалось. Впрочем, что-то и начиналось. Что-то, уже никак не связанное с прошлым. Может быть, его и не стоило называть началом. Да он и не называл. Имена здесь казались вдвойне бессмысленными. Он и за пределами пещеры воздерживался от именования. А уж здесь. Нет, он никогда не стал бы доверять этой мнимой опоре. Нелепые попытки удержать все в руках, думать, что властвуешь над природой – как раз в тот самый момент, когда окончательно потерялся в ее темноте. Смыслы никогда не делали мир более ясным, наоборот – заслоняли его, усугубляя, казалось бы, и без того непроходимую невнятицу. Определения могли множиться и наслаиваться друг на друга. Так сухие листья засыпают землю своими трескучими свитками. Книгами, которые никогда не будут прочитаны. К великому счастью. К великому счастью. К великому счастью. К великому счастью. К великому счастью. К великому счастью. Но вот только без имен было не лучше. Еще одна иллюзия – думать, что все вещи находятся от тебя на равном расстоянии, что твоя мысль не отделена от мира. Какой вздор. Неименуемое все равно ускользало, были определения или нет. Но не до конца. Не до конца. Именно поэтому вздором казалось и ускользание. Иногда – еще большим вздором. В темноте рассеивались все вещи, все видимости. Но ничего не становилось проще. И все же пещера была словно ближе к миру. Казалось, что там нет частей, а рядом – все сразу. Даже странно, что ему вообще приходило в голову искать мир не здесь, а снаружи. Да, в этом удушающем безразличии каждый раз что-то стрясалось. Но настолько безумное, что нельзя было запомнить, что именно. Никогда не помнил момента, определявшего решение отправиться в пещеру. Нет, такого решения не было, не могло быть. Во всяком случае, ему оно точно не принадлежало. Не знал, и как выходил отсюда. Просто обнаруживал себя выходящим. Выпадал из мира и выпадал в мир. Нет, никогда не выпадал из мира. На него нельзя взглянуть со стороны, выйдя за его пределы. Даже в смерти – выход из себя, но не из мира. Умираешь тоже в мире. Умерев, не находишь меры. Нет, хватит цепляться за эти игры. Проваливался в свет. Проваливался в темноту. Безо всяких усилий. От него ничего не зависело. Всматривался в темноту и ничего не видел. Но в пустоте прощупывался мир. Странно, именно когда все исчезало, мир еще больше настаивал на своем неотменяемом присутствии. Становился еще шире. И с этим ничего нельзя было поделать, нельзя было освободиться. Объявление происходящего случайным ничего не проясняло. Пожалуй, даже все усложняло. Мир всегда подстерегал, пленял до пленения, но удивительно – он же наделял какой-то беспредельной волей – той, за которой множатся новые и новые линии. Впрочем, это была свобода странного свойства: видеть любые дороги, но без всякой возможности пройти по ним, без силы даже пошевелиться. Необычное знание: пойдешь по одной из тропинок, и тут же запутаешься в траве, потеряешь из виду их все, включая и ту, которую выбрал. Свобода окаменения. А мир никуда не девался, продолжал хранить свою тайну. Он не мыслил мира и даже не мыслил благодаря ему, а скорее – им самим. Мыслил миром. И все же не сливался с ним. Кажется. Скорее все было наоборот – это мир мыслил его. Но от себя отвернуться было легче, чем от мира. Ненасыщаемая пустота, вмещающая любое количество заполнений, все возможные комбинации и варианты. В предельной непричастности и бездействии открывалась захваченность. В абсолютной неуместности обнаруживалось вместилище. К недоумению. К ужасу. К вящей скуке. К изумлению. Отгораживаясь, тело предавало его, выбрасывало наружу. Мир прикасался, охватывал, обволакивал. Сам мир. Его собственный. Настоящий. Воинственный. Хранимый им вопреки всему. Как изначальное настроение. Нет, никогда не выпадал из мира, только чередовал свет и темноту. Вернее, испытывал их чередования. Проваливался в них. Сейчас в темноте. Сейчас в темноте. Центр безразличия неожиданно оказывался сердцем мира. Вопреки чаяниям, апатия не отменяла мира, а наоборот – привлекала к нему внимание. Может быть, впервые открывала его. Да, в абсолютной незначимости, в полоскании пустоты он лучше раскрывал свое присутствие. В отказе от вещей распускалось нечто, ничего не предлагающее, безмолвствующее, но неотменимое. Еще более невыносимое, еще сильнее завораживающее. В отрешенности молчания. Невидимый, но от того не менее явный мир. Захвачен им. Или наоборот – выпущен в его сквозящую пустоту. Да, его телом оказывалась топкая опустошенность. Это было ошеломляющим открытием. Слишком удивительным, чтобы понять его. Просто ощущал настигнутость, внезапно обнаруживавшуюся на месте окружающих вещей. Но не как их сумма – как раз складывать, умножать и скапливать здесь было нечего. Наконец. Пустота и отсутствие не отменяли мира. Ужас, тоска, ненависть и все же – нескончаемый восторг молчания. Тихое безмолвие всего. Сейчас в темноте. Сейчас в темноте. Это отсутствие света казалось более ценным. Нет, нет, никаких оценок, никаких ценностей, никаких расчетов. Ни в коем случае. Просто темнота. Бесценная, неисчислимая. Ее присутствие. Итак, безо всяких образов, ничего. Открытые глаза и смутная, звенящая тишина. Ничего не отражающая. Отражений нет. В пещере они бесполезны. Как и жидкие тени. Даже отражения крика. В первую очередь – они. Но крики непроизвольны. Он и над ними не властен. Комната сама решала, когда зазвучать, а когда затихнуть. Вспыхивая, как молнии, вопли ненадолго освещали тишину, давали острее почувствовать ее присутствие. Клал голову на сырой камень. Но не закрывал глаз. И никогда не засыпал в пещере. Никогда не смог бы заснуть в пещере. Даже не задумался бы об этом. Никаких мыслей. Никаких идей. Запрещены. Бесполезны. Невозможны. Никакого сознания. Выветрено. Излишне. Вдыхал затхлый, мокрый воздух. Не испытывал неприязни. Не чувствовал дружелюбия. Проваливался в покой. Но не знал ни передышки, ни усталости. Никаких чувств. Невозможны. Здесь невозможны. Забивался в небольшую нишу у самой земли и лежал, прижавшись головой к камню. Влипал во влажную стену. Если там действительно была полость. Избавлен от догадок. Никаких стихов. Никаких жалоб. Никаких молитв. Никаких упований. Никаких анафем. Голова на камне. Вел счет падающим каплям. Их прикосновениям, столь тихим, что они кажутся вымышленными. Они падали со вполне ощутимой последовательностью. Нет, никаких исчислений, никаких подсчетов, никаких вымыслов. Конечно. Просто голова на камне. Без ощущения твердости. Без ощущения уюта. Избавлен от ощущений. Охваченный глухотой, кричал, потому что не выдерживал долгого молчания. Потому что не доверял даже тишине. Молчание опять обрушивалось воплем. И в крике вся с таким трудом накопленная немота опять разлеталась вдребезги. Ломал голос. Слышал, как разламывается голос. Покидал свой голос. Летел рядом с ним. Вслушивался в это крушение. Как будто кричал не он. Но крик царапал горло. Он слышал странный скрежет. Эхо, к которому примешивался утробный гул грота. Сотрясения пустоты. Какой-то частью этого шума был и его расщепленный крик. Может быть. Силился его расслышать. Не предназначенный никому. Ничего не значащий. Снова старался молчать. Не осознавая самого старания. Да. Винил во всем остатки представлений. Их эхо. Их неверные отражения. Потому не закрывал глаз. Все же надеялся на благость тишины. Не имел оснований не верить в эту благость. Но и не доверял ей. Не было причин доверять. Ничего похожего на ощущение убежища. Абсолютный покой без малейшего успокоения. Странный покой тревоги. Избавлен от ощущений. Почти. Заходился в беззвучном, немом приступе смеха.
§ 5. Призраки
Прошло сколько-то дней. Но когда именно они появились? Опять был неподвижным, изогнутым отражением, чем-то несуществующим и при этом – почти слитым со всем окружающим. Отпечатком, потерявшим всякую память о хранителе. Скрывшимся в стертый след, бликующий образ, за которым кто-то следил со стороны. Причем наблюдатель не отражался в воде, а лишь всматривался в нечто смутно-чужое. Но тоже как-то издалека, даже украдкой. В водянистых сумерках был почти незаметен, и, казалось, поручил все это своей тени, боясь превратиться в отражение и потому скрываясь в надежном убежище. Тень не отражалась, она обладала странной способностью ложиться на поверхность воды рядом с бледными отблесками, быть еще тусклее, чем они, и не добавлять к этим мерцающим пятнам ничего, кроме себя, но и это – чересчур ненавязчиво. Притворившись рисунком на дне. Да, его тень на воде вообще не была видна, настаивала на своем отсутствии. Не проникая в глубину, она не зависела от поверхности. Невероятно, еще один герой в этой – нынешней, а не прошлой – истории. Или даже несколько. Нет, не станем торопиться. Мысли не были отчетливы и, казалось, замутняли созерцаемое. Все рисковало с мгновения на мгновенье растаять, обрушиться – как шаткий мираж. Марево – вроде того, каким стал он сам, с тех пор как решил отделиться от родной возможности. Но вот он поворачивался к смотрящему. Без удивления. Без боязни. Но и без решимости. Ведь оборачивалось отражение. Как будто бы оно даже немного приподнималось над водой, высвобождая себе место в пространстве. Раздвоенные, эти незнакомцы сели друг напротив друга и не отводили взоров. Кажется даже, глаза отражались в глазах, продолжая множить мир, расщеплять его на обрывки смотрений. Нет, тень не отражалась. Может, и глаза были закрыты, или даже их не было вовсе. И все же встреча. В этой игре осколков, в просеивании тусклого света, в полуночной мякоти. Как два развернутых свитка со стертыми буквами. Прозрачный и серый. Их края еще продолжали загибаться, сопротивляясь невозможному прочтению. Образ, помысливший собственную отдельность, забывший, что именно силился отразить. Эта давно знакомая двойная прозрачность, высвечивающая небытие. И еще некто – до сих пор почти неизвестный, не решившийся принять собственное изображение и потому всматривавшийся сумрачными глазами в чужое. Два незваных гостя ощутили невозможную встречу. Безмолвную, неподвижную. Может быть, даже были очарованы ею. Нет, с этим тоже не стоит спешить. Тень смотрела так, словно хотела разглядеть не само отражение, а что-то позади него, какое-то беспокоившее ее неприметное отсутствие. А отпечаток продолжал всматриваться в сумрачные шевеления, в странную неосуществимость зеркала, подаренную событием встречи. Оба продолжали сохранять свою неотчетливость. Упрекали в этом природу и мысли. Старались не думать. И не обращать внимания на шум воды. Первые мгновения вызывали подозрения. Но это быстро прошло. Просто сидели друг напротив друга и смотрели. Очень близко. В иной ситуации можно было бы сказать: лицом к лицу. Почти вплотную. При этом не становились яснее. Но ни разу не попытались прикоснуться друг к другу. Об этом и речи не было. Почти не шевелились. Ощущали бестелесность. Наслаждались, упивались ею. Да, он чувствовал, как, превратившись в отражение, потерял тело, но каким-то чудом сохранял зыбкую рельефность, вмещался в предложенные очертания, почему-то соглашался принять их, одновременно сохраняя, словно заветную лазейку, возможность растечься, истончиться, исчезнуть. Научившийся отражать, но избавившийся от способности отражаться. И второй – в образе темного полога. Напарник, про которого совсем ничего не известно – кроме того, что он был способен прервать рождения отражений, существовать помимо них, не принимать их правил. Нет, все же сидели на безопасном расстоянии. Но не отстраняли глаз. Держались на некотором отдалении. Но не отрицали друг друга. То размытое пятно второго и освободившееся от воды изображение. Затворились в прозрачном склепе удвоенного одиночества. Встреча словно окутывала их какой-то странной, плотной пустотой, в которой они парили, которой доверялись. Избавившиеся от хранителей. Воплощенные невозможности друг друга. Пожалуй даже, испытывавшие крохотную зависть. Один – к завораживающей способности не отражать, второй – к чистой, неприступной прозрачности. Смотрели со странной, настойчивой пристальностью. Может быть, мечтали о времени, когда начнут путать себя друг с другом. Конечно, не произнесли ни слова. К чему это уточнение. Проводили целые дни в абсолютном молчании. Вслушивались в его неслышное шуршание. Сохраняли странную неопределенность и даже – непредсказуемость. Были рядом. Прозрачность и непроницаемость. И все же ускользали – как если бы подлинная встреча происходила далеко отсюда – там, где их не было и не могло быть. Невнятные, недоступные. Обнаруживали в этом различии, отрицании, разделении нерасширяемые пределы. Могли бы начать спор и, возможно, даже уже вели его, но заранее знали, что ни один не победит, не сумеет присвоить себе второго. И все-таки гости, заблудшие клевреты тумана в чужих владениях. Казавшиеся скверными копиями чего-то давно забытого. Да, в этой неизбежной разлуке близости оба они оставались частями одной и той же неподвижной, одинокой, гудящей мысли. Разумеется, не принадлежавшей им. Нужно ли это уточнение. Наконец тусклый силуэт первым отвел взгляд, поднялся и заковылял по песку. Не сделал ни шага навстречу. Разумеется, не стал приближаться. Хотя казалось, что отдавшееся иллюзиям отражение уже согласно слиться. Он ушел в глубь острова и не вернулся. Может быть, что-то понял. Но ушел без предупреждения. Едва ли желал поделиться с кем-то исчадиями своего понимания. Отражение смотрело вслед, пока тень не растворилась в деревьях. Ни следа удивления. Ни приметы разочарования. Но одновременно – никакой радости, никакого спокойствия. В попытке сблизиться было что-то болезненное, вернее, только оно и было ею. Нет, тени не было. Он ее выдумал. От скуки. От страха. Нет, только от скуки. Даже от безразличия. Может быть, желая вернее скопировать стылое равнодушие природы. Нет, не для того. Он не помнит зачем. Он пытается вспомнить. Не хочет вспоминать. Все равно почти ничего не приходит на ум. А того, что всплывает в голове, недостает для различения случившихся событий и фантазии. Что ему выпало. Ничего не было. Так будет правильнее. Да нет же. По острову всегда бродили безликие неспешные фигуры. Пора открыть эту тайну. Они угадывались почти за каждым камнем, за каждым деревом. От них нельзя было скрыться. Теперь это еще очевиднее. Их гибкие серебристые силуэты маячили вдалеке, как растерянные чешуйки огромной исчезнувшей рыбы. Они множили и без того казавшееся бесконечным одиночество. Худые, неотвратимые призраки повсюду расплескивали свою неуверенную жизнь. Сколько их. Они заполонили весь остров своим монотонным движением. Так много, что, кажется, невозможно не столкнуться с кем-нибудь. Каждый занят каким-то неясным делом. Протяни руку – и коснешься чужих, влажных пальцев. Но они никогда не встречались, не протягивали рук, даже не приближались друг к другу. Если бы вдруг одному пришло в голову броситься в сторону другого, второй, едва заметив это, успел бы скрыться в желто-сером дыму. Непременно. Без гнева. Без суеты. Без страха. Гладкие черепа мерцали в сумерках. Нет, неверно. Никто и не пытался нагнать другого, не пробовал даже шагнуть в его сторону, наоборот – старался отойти в полумрак, едва завидев вдалеке призрак чужого. Наверное, так сложилось со временем. Появился обычай или даже инстинкт – не подходить. Незыблемый дикарский этикет. Может быть, когда-то подходили. Но никто уже не помнил этих времен. Или просто никто не застал их. И потому не мог вспомнить. Все это прошло. К счастью. Несомненно, к счастью. Но откуда взялась сама фантазия, что возможно, не встречаясь с телом, приблизиться к тени или к отражению? Просто сочинял что-то от скуки, наполнял темноту новыми опасностями. Находил лазейки для представлений о встрече. Если запрещено сходиться телам, почему бы не встретиться телу и отражению? Или же, наконец, вообще исключить тело и осуществить долгожданную встречу отпечатка и тени. Эта насмешка над запретами не может не очаровывать. И все же она излишня. Без нее вполне можно обойтись. Нет, ничего не произошло. Конечно, никого не было. Никаких людей. Никаких скелетов. Кроме чахлых представлений. Да и эти нелепые домыслы тоже были крайне редкими. К тому же он не любил их. Может быть, поэтому и не мог до конца их забыть. Они возвращались, как неприятные сны, как вестники хрупкого молчания. На их синих черепах свет преломлялся в снопы бесцветных лучей. Может быть, возвращались и тени, и все они начинали лучше узнавать друг друга. Существовали они или нет – это не имело никакого значения. Пустынный мир все равно сохранял бесчисленные множества невозможных, запретных встреч.
§ 6. Река
Не приостанавливалась. Слишком кипучая для отражений. Слишком холодная для рук. Взъерошенная сумбурность, ее сверкающие, текучие грани. Иногда опускал в них голову. Словно сбрасывал колкую корону, избавляясь от мыслей. Утолял жажду их отсутствием. Прислушивался к шутливо-беспощадному молчанию мелодий, доносившихся со дна. В сиянии влажного тумана. Невнятная, мнимая речь. Он по-прежнему ни на шаг не приближался к ее пониманию. Что-то серое и еще синие складки гор, их тягучее эхо. Будоражащее, как оглушительный крик ересиарха в старинном зале заброшенной кирхи. Звенящие колыхания под зыбко-каменными сводами. Как неподвижные имена немоты, чернеющей меж слов и других нетерпеливых звуков. Величественные лохмотья длинной сутаны. В сизом безгневье. Шелест продолговатых листьев. Едва слышный говор природы, неразговорчивость непрозвучавшего. Снова внутри своей жизни. Что? Своей жизни? Наверное. Без этой оговорки не обойтись. Снова внутри жизни. Пусть так. Провалы. Без конца. Без времени. Без причины. Без понимания. Без лишних чаяний. Даже без слез. Порой. Изредка. Протяженность мысли. И ее провалы. Темные неровные тоннели. Их изгибы, их беспокойные повороты. Сквозящий в них ветер. Без озноба. Без уюта. Ледяные выщербины, кружевные пятна. Кропотливое колыхание. Почти неподвижное. Полутени, лучащийся шелест, похожий на шуршание переворачиваемых страниц. Неприметное мерцание вспышек, привычная чарующая внезапность. Их алое половодье. Не примыкающие друг к другу фрагменты. Лишь немота сможет сдержать всю эту неистовую словоохотливость. Переливы смутного света. Воспоминание о далеком представлении. О его неисчислимых обрывках. Постоянные неприметные изменения. Своя жизнь. Чья-то жизнь. Какая-то жизнь. Пусть так. Движущаяся прозрачность. На коже реки не было морщин, может быть, лишь несколько совсем неприметных, не идущих ни в какое сравнение со старостью моря. Все-таки набирал полные пригоршни воды, спешно прикасался потрескавшимися губами к прозрачности, вдыхал ее. И только тогда осознавал, насколько измучен жаждой. Чувствовал в груди пылающее мельничное колесо, оно вращалось медленно, и его края громко шипели, погружаясь в реку, в долгожданный водопад. Растягивался на земле. Протяженность без мысли. Огромные расстояния. Эспланады бесконечного равнодушия. Их неизмеримость. Их сумрачность. И нечто пугающее, исполненное бессознательного презрения к человеческому. Невозможные расстояния. Привычная удивительная протяженность. Пылкий трепет ее бесчувственности. Дление тающего безмыслия. Шепот дыхания. Внутри своей жизни. Что? Снова потребуются оговорки. Видел блестящий мох, бледно-желтую траву, сине-зеленые ягоды, тонкие иглы. Тщательно, словно детской рукой, склеенные листья. Сети из серых цветов, травинок и перьев. Казалось, птицы тоже могут иссохнуть и опасть. В любой миг. Не прекращая петь. Нет, щебет не исчезнет. Поросшие тиной лужицы, косой почерк улиток на линиях полупрозрачных, болезненно-молодых стеблей. Мертвые листья, хвоя, жуки, запах смолы и муравейников. Прохладная сухая трава. Выкрикивал одни и те же слова, не слишком много. Нет, не слишком много. Но каждый раз – в новом порядке, и каждое – с чуть-чуть иной интонацией. Этого было достаточно для бесконечности. Безумолчное мучительное заклинание. Вот только не знал, как именно оно должно подействовать и должно ли. Оно никогда не совпадало с собой – то опережало, то запаздывало, всегда раздваивалось. Дробилось под сводами серебряного купола. Или изредка все же сходилось с версиями своей тени. След в след. Может быть, но ненадолго. Готовясь распуститься огненным веером. Так ли уж это важно. Снова вопрошать ответом на ответ. Снова внутри. Здесь. Или не здесь. Не имеет значения. И все же есть какая-то неприметная разница. Говорит, потом замолкает, снова говорит, повторяет те же растрескавшиеся слова (слова?) в немного ином порядке, все тише и тише, ослабевая, пока они не перестанут быть слышны даже ему, пока каждое из них не вскроется трещиной, не обнажит внутри себя мягкую, влажную пустоту. Такая бывает внутри приложенной к уху ладони. Да, наконец несравненная тишина, долгая, бесконечно долгая, он подставит руки под ее водопады, настоящее волшебство, но и его спустя столетия опять прерывает хриплый шепот, и все сначала, вечная немота снова превращается всего только в паузу, в смешливый миг, и, значит, все возобновляется, повторяет нерасслышанные слова, переставленные в другом порядке, снова слова, снова их долгопротяжное эхо. Тоскливое и утешающее. То, что еще недавно казалось предельно тихим, внезапно обнаружит оглушительную громкость. Томление, беспокойство, полусон, смятенье, одиночество. И еще что-то. Какой-то невнятный, отдаленный, кошмарный рев. Лучистая желтизна на тщедушной, худосочной траве. Красная синева. Неподвижное, жуткое великолепие. Лепет бессмысленной молитвы, ее обрывки. Смотрит в темноту. Смотрит в свет. В сумеречную реку. В тени птиц. В пасти рыб. В овраг, в небо, в лес. Вглядывается в наполненные мокрым песком и тиной раковины своих полусогнутых ладоней. Смотрит на воду в свете. Смотрит на воду при темноте. На ее странное шевеление. Закрывает глаза. Кладет голову на траву. Слышит долгий мгновенный шелест. Не двигается. Не открывает глаз. В коварном, робком торжестве. Все неподвижнее. Все неизменнее. Молчит. Еще немного. В возвращении ускользающего события. В блеклой синеве. На дне старой лодчонки. В ее размеренных покачиваниях. И еще немного. И еще. Немного. Это длится жизнь. Все еще длится жизнь.
§ 7. Заново
– Сидеть в темноте?
– Да.
– Но что за шум?
– Море. Или чей-то плач. Может быть – и то и другое. Или что-то еще.
– Его почти не слышно.
– Здесь.
– Дрожь затихшей воды.
– Обрывки нечаянно начатых фраз.
– Их разделенность, их безропотная разлука.
– Рябь отражений.
– Глубь забвения.
– Неспокойное, почти грозное молчание.
– Его замшелые холодные своды.
– Его рдеющие изломы.
– Безупречное, изысканное.
– Тягостное и будоражащее.
– Благословенно-скверное.
– Однообразное, не повторяющееся.
– Скучное.
– Бесценное.
– И все же такое непрочное.
– Как раз хрупкость и придает ему сил.
– Если это силы.
– Если это хрупкость.
– Если это молчание.
– Если это правда.
– Если это хоть что-то.
– Пусть даже непостижимый вымысел.
– Да.
– Близорукие не могут разглядеть звезд, но не жалеют об этом.
– Точно так же дальнозоркие относятся к буквам.
– Потому что не до конца понимают разницы между далеким и близким.
– Предчувствуют, что черное небо и белый лист как-то связаны в своей неясности.
– Мы перескакиваем с одного на другое. Или вернее – перескакиваем с одного на одно и то же.
– Не страшно. То есть – не страшнее, чем что-либо другое. Или еще точнее – чем что-либо одно.
– Главное – не подпускать слова.
– Хотя бы не произносить их вслух.
– Пауза.
– Но где он на этот раз?
– На острове, как и всегда.
– Все еще? Но почему именно здесь?
– Не объясняется.
– А что это перед ним?
– Тусклая мга; прохлада непроговоренных слов; пелена; бело-прозрачные остовы; бледная завеса. Все – вполголоса.
– К чему эти бесконечные ответы?
– К счастью.
– К счастью?..
– Не важно.
– Так ищешь в сумерках что-то, имеющее огромное, может быть – решающее значение, но именно из-за сгущающейся темноты никогда не можешь найти. Разумеется, заранее знаешь об этом.
– Едва отыскав – выбрасываешь.
– Странное ощущение. Словно болезненный поцелуй с полузакрытыми глазами.
– Словно еще один провал. Сколько их будет?
– Бесконечно много. В этом почти можно быть уверенным. Все состоит из них.
– Волны. Их затягивающиеся петли.
– Их золотистая беспенность.
– Если, конечно, она принадлежит им.
– Гнилые сучья, красный мох, ящерицы, черепахи, трава.
– Долгообразное скуление ветра.
– Его разлитость, его неравномерный зной.
– Темно-бурые водоросли, горький смрад.
– Вся эта беспечно-равнодушная тарабарщина. Весь этот притихший смех. Все это.
– И наши неслышные голоса.
– И еще неподражаемость, неприступное величие расплесканной в воздухе скуки.
– Зачарованность ее равнодушной нежностью.
– Без коротания времени.
– Без излишнего гнета.
– Да.
– Без насыщения.
– Конечно.
– Скрипы и шорохи.
– Вполне может быть. Нет, не знаю.
– Лишь что-то в нас, вновь и вновь возвращающееся помимо нашей воли.
– В нас?
– Уверенность больше нельзя отличить от сомнения.
– Наконец-то.
– Что-то, что открывается как легкая тягота, как пугливое восхищение.
– Как спускающаяся по щеке беспечная и неторопливая кровь.
– Ее неприметный, тонкий шорох.
– Похожий на шелест длинной полупрозрачной вуали.
– Ее колыхание. Ее извечно-алое раздваивание.
– И врезающиеся в него мысли.
– Вкрадчивое, лукавое тиканье струящихся секунд (стрелки часов – как ломкие ресницы).
– Покачивания того, что никогда не произойдет.
– Темнота. Ее изгибы.
– Вещи, почти лишенные облика, но еще сохраняющие приметы обманчивого сходства с самими собой.
– Но что же кажется самым удивительным?
– То, что бесчувственность оборачивается слезами. То, что в отрешенности раскрывается неукротимая влюбленность. То, что в конце концов она даже может превратиться в нечто вроде автобиографии. То, что это возможно.
– Но когда начнется то, что обычно именуют памятью?
– Очень скоро. Ждать осталось недолго – всего несколько лет, не больше.
– Внезапно – необузданная, неуместная, дикая, предельная радость.
– Но и таинственная скука.
– Наверное. Но только иногда. Если это подходящее слово.
– Когда-нибудь все это прервется, как обрывается кошмар или веселье.
– Но может ли «прерваться» безумие?
– Да. Наверное, да. Не знаю.
– Останется шуршание камней.
– Словно развевающиеся, вернее – развеивающиеся обрывки.
– Чего – ужаса, радости, покоя?.. Только не нужно отвечать.
– И опять матово-золотистые волны. Их перекаты, их преломления, их эхо.
– Гулкие всплески мира.
– Текучее, переливчатое чудо.
– Этого будет достаточно.
– Могла бы эта жизнь быть другой?
– Была бы та другая жизнью?
– Что значит быть другой? Что значит быть жизнью?
– Почему нужно разыскивать это?
– А расскажите… Нет, не смогу спросить.
– Вы просто забыли: об этом уже молчалось.
§ 8. Безмолвно
Да. Еще раньше. В дрожащей дали, на которую смотрю сквозь дым костра и горящие лоскуты. Трескучий гомон, где сгорают последние лохмотья воспоминаний. Сижу в узкой пазухе между замшелым забором и спиной сарая, рискуя оцарапаться о торчащие из досок гвозди. Никому не пришло в голову их загнуть. Наверное, даже не могла зародиться мысль, что кто-то зайдет сюда и притаится в темной трухе. Но все-таки проем оставили. Как необходимую пустоту. А может быть, все наоборот, и эти шипы с самого начала призваны были выполнять роль отпугивающих стражей – второго эшелона, младших братьев ползущей по забору колючей проволоки. Странно, правда, пугать того, кто подходит к забору изнутри. Что ж, ржавые иглы вот-вот дотянутся до разбитых коленок, осталось лишь подождать несколько секунд. Кажется, они удлиняются прямо на глазах, да – вырастают, норовят уколоть. Но так и не дотягиваются. Нет, они не страшнее сидящей на цепи собаки. На земле какие-то помятые пробки, слипшаяся пакля, банки, змеящиеся пружины, бесконечные осколки и рухлядь. Может быть, проем сохранили лишь как запасной рукав заднего двора, почти целиком заваленного старыми корытами, битым стеклом, прохудившимися ведрами, обрезками труб и досок – этим год от года разрастающимся хламом. А тут, у забора, все еще вполне хватает места, чтобы спрятаться, и потому я с радостью перелезаю через бесформенные завалы, чтобы снова оказаться в неуютном убежище, готовом в любой миг раскрошиться и пропасть. Почему-то здесь, среди оскаленных гвоздями стен, где ясно ощущалась чуждость окружающим предметам, внутри тела обнаруживалось необъяснимое ощущение покоя. Ничего дружелюбного, ничего интересного – нет никакой возможности объяснить, чем притягивали эти сумрачные задворки, украшенные худыми, колкими прядями ржавой проволоки. И стена, и забор выкрашены в однотонный кисло-травяной цвет. Наверняка их обезобразили в один день и уж точно ни разу не перекрашивали с тех пор, ну или, может быть, лишь однажды. Все размылось и потрескалось, пришло в негодность. Но и окуталось той несравненной, очаровывающей паутиной тишины, бесподобной ветхости, какая возможна только на старых дачах, овеянных земляной золой и ароматом переспелых, словно загодя начиненных медом яблок. Тихо-тихо – так скажет потом (гораздо, гораздо позже) мой двухлетний сын. Наверное, эта тишина и будет лучшим ответом. В ней тонут даже далекие петушиные крики и гулкое эхо поездов. Она плотно обволакивает старые цветники, покосившиеся ступени, засыпанную сухими листьями беседку, поникшие гортензии, облепиху и лиственницы. Ни одна городская квартира не способна впитать столько воспоминаний. Квартира как будто заранее оказывается чем-то кочевым, чем-то, что скоро исчезнет. А в этом доме каждый закуток знает что-то о моей жизни, каждое дерево, каждая постройка на заросшем травой участке. Сарай сколочен из старых дверей. Они почти вплотную пришиты друг к другу, как множество заплаток на отсутствующей ткани. И все же кажется, что можно приоткрыть одну из них. Или даже все по очереди. Я не раз пробовал – ни одна не поддается. Может быть, потому что нет дверных ручек. Или просто не знаю какого-то тайного шифра. Хотя зачем заходить внутрь, если и так известно, что в темноте нет ничего, кроме поломанных инструментов и прочего старья. Нет, что-то сохранилось. Порой я забываю, что уже не раз говорил об этом неказистом строении, почему-то рассказ о нем не надоедает начинать заново. Никогда не смогу забыть эти ряды ящичков с неразборчивыми надписями. Казалось, написанные слова опали серой шелухой, и на их месте остались лишь контуры букв. Для того чтобы понять смысл ярлыков, всегда нужно было сперва увидеть содержимое задвинутых в стены коробочек. И тогда неясные каракули, казавшиеся иностранным или даже несуществующим языком, оборачивались знакомыми, простыми названиями: «молотки», «сверла», «гвозди». Правда, потом, с годами все смешивалось, и смысл табличек безвозвратно утрачивался. В ячейку, предназначенную для отверток, падали напильники и плоскогубцы, в банке с гвоздями обнаруживались шурупы, рассыпанные спички или даже невесть откуда попавшие туда зубочистки. Почему-то представлялось, что однажды на месте всего этого обнаружатся изъеденные мышами карточки с описью пропавших предметов. Да, я почти чувствовал себя посетителем заброшенной библиотеки, на полках которой от книг остались лишь остовы обложек, обрывки заголовков, не годившиеся даже на роль каталожных карточек. В самих ящиках что-то заедало, они с трудом задвигались на место и в конце концов так и повисали над головой выступающими, необломанными зубьями. Со временем этот архив, как и положено, увяз в бездействии и мог претендовать разве что на роль декоративного обрамления для коллекции полуполоманной садовой утвари. Путаный реестр, лишившийся не только привязки к алфавиту (ее, разумеется, не было), но даже самой потребности в упорядочивании. Конечно, можно надеяться на то, что когда-нибудь все будет исправлено, расставлено по своим местам, может быть даже, на ящиках появятся новые ярлычки с разборчивыми словами. Кстати, какие-то потуги на это упорядочивание возникают и сейчас. Но отчего-то они не вызывают доверия. Почему-то вера в разруху крепче. Даже самый незыблемый порядок украдкой осознаёт, что достаточно одного мгновения, малейшей случайности, чтобы рухнули стены смысла, чтобы сверкающие зеркала и золотые рамы рассыпались в труху, мелким подвидом которой, пусть и неловко это признавать, они всегда являлись. Здесь – как нигде еще – оказывается ясным, что неразбериха важнее порядка. Может быть, само желание заслонить путаницу мнимой организованностью происходит от неумения освоиться в беспорядке. Точно так же в комнатах старого дома каждая вещь покрывается пушистой прозрачной шерстью уже через мгновение после уборки. Эта мебель с рождения погружена в ветхий бархат, эти ковры бесполезно выбивать, эти зеркала противятся блеску. Нет, я никогда не мог понять, что будет вернее – поскорее сбежать от этой пыли, клоаки, липких досок и недомытой посуды или навсегда отдаться счастливому бездействию. Не знал даже, как эти противоположные желания могли столь свободно перетекать друг в друга. Священный миф и невыносимый хлам смешивались до неразличимости. Сбегал и возвращался (словно убийца на место преступления). Так есть ли разница, с какой стороны вступать в эту мягкую ветхость детства – через так называемый парадный вход или сквозь еще не открытый потайной лаз, если босые ноги, ступив на земляной пол, все равно окутаются серым холодным песком, а нос защекочет пыль? Да, чуть не забыл. Там было и окно. Но снаружи оно испокон веков было наглухо забито досками, крашенными в тот же обязательный цвет жухлой травы. Изнутри, по краям мутного, чудом не давшего ни одной трещины стекла невесть зачем были прилажены занавески. Побледнев от времени, едва приметные в темноте, они застыли в какой-то жалобной позе, как пыльные фартуки негодной, забросившей хозяйство, может даже, давно сгинувшей в небытии стряпухи. Так, наверное, выглядят платья потерянных кукол, оброненных в дорожную пыль. Пробраться через окно, разомкнув раму и раздвинув зольные шторы, – это был, пожалуй, самый легкий и потому не способный устроить меня путь. Нет, стены-двери наверняка никак не связаны с окном, ведут куда-то еще. Не сюда. Не сюда. Но, может быть, их нужно попробовать открыть не снаружи, а изнутри. И окажется, что попадешь на другую, незнакомую сторону – туда, где, кто знает, нет даже разделения на порядок и неразбериху, где они не противоречат друг другу. Двери. Сколько раз я безуспешно пытался сосчитать их. Сколько раз я рассказывал о них. К счастью, никто не помнит этих повествований. Может быть, все они должны открываться в разные стороны. Или же за ними окажутся длинные коридоры, а за коридорами – новые двери. Главное – открыть эти, первые неприступные створки. В конце концов, на некоторых даже были ржавые замочные скважины (прошли годы, а я так и не смог избавиться от навязчивого образа). Каково же было мое потрясение, когда в полустертых буквах, нацарапанных на одном из ящичков, я впервые распознал слово «ключи». Кажется, то – первое – изумление не прошло и сейчас. Я вновь и вновь разочаровываюсь, находя в сонных закоулках прошлого в лучшем случае гаечные и разводные. И никогда – того, что мне так нужен. Истертого, погнутого, неказистого – его по-прежнему нет. Опять выхожу наружу. Толкаю каждую из них с обратной стороны. Тоже не поддаются. Все-таки до крови прорезаю руку об один из гвоздяных когтей. Яркая рельефная точка зажигается на позеленелой доске. Как земляника, нанизанная на травинку (этих диких ягод так много на поляне за баней, целые заросли). В конце концов устаю (хотя и не совсем отказываюсь) от этой затеи и залезаю на крышу. Только благодаря возрасту не проламываю хлипкой кровли (сейчас подобная авантюра не придет в голову). Бороздки потрескавшегося, замшелого шифера засыпаны подгнившей листвой, шишками, сосновыми иголками. И еще почернелыми косточками от вишен, которыми я лакомился здесь несколько недель назад. Если поднять всю эту труху, столкнуть вниз, на шершавой серой складке останется мокрый, темный след. Почти такой же, как на поверхности моей памяти. Почти такой же. Подолгу лежал на крыше. Наблюдал. Ничего осмысленного. Закрывал глаза. Слушал стук дятла и какие-то далекие звуки. Хрип собак, гулкий шум электричек, шевеление листьев, странный тягучий свист на другом конце света. Все эти причудливые разновидности тишины. Голоса насекомых и еще – странные обрывки мелодии, какого-то пения, похожего на незаметную, робкую улыбку. Никогда не мог понять, что это. Воздух, опустошенный нескончаемым щебетом. Закрывал. Глаза. Потом снова подолгу смотрел на сияющие в сизой дали березы и сосны, на их широкие ветки и покачивающиеся, кивающие верхушки. Сверкающие, почти не отделенные от ослепительного неба и облаков, прогретых невидимыми лучами. Никуда не спешил. Тонул в завалах едва слышных призвуков, почти не скапливавшихся в воспоминания, – уже привычных, но еще не способных превратиться в архив. Кажется, все происходило у самых порогов речи – до того рубежа, где слова начинают становиться зримыми и большими. Может быть, именно это безречное дуновение и есть язык. Но почему-то только о том смутном времени, когда сознание себя еще почти не существовало, оказывается возможным писать в первом лице. Я думал, что двери тайны должны остаться закрытыми. Выход не будет избавлением. Как и спасение не станет выходом. Четкое, неоспоримое предощущение: как только заветная цель покажется – нельзя направляться в ее сторону. Ни в коем случае. Да, как-то так: мечтал об этом больше всего на свете, вот наконец это стало возможным, и потому не стану приближаться, не сделаю ни шага навстречу, почему-то отвернусь от самого важного. Отвернуться будет важнее. Разрушить то, что обнаружило малейшую примесь успеха. Так пусть ключ выскальзывает из рук, пускай падает в песчаную пыль, как ненужная, надоевшая игрушка. Забудем о нем. Все равно настоящий доступ в темные полости прошлого, в этот тесный чулан всегда будет закрыт. Лежал на крыше. Рассматривал проступавшее сквозь рыже-зеленые иголки небо. Запах влажной хвои, смолы, мха и почему-то – мяты, растущей на другом конце участка. Переворачивался на живот. Всматривался в непроглядные сплетения. Различал за ними рыже-бурые бревна стены, выбеленные окна второго этажа. Одно – то, что на веранде, – распахнуто. Теплый ветер подметает цитадель моего безделья. Ниже, за гигантскими кустами жасмина и сирени уже ничего не разглядеть. Крыльца не видно, но я и так, даже с закрытыми глазами узнаю два столбика, поддерживавших гладкие перила, их облупившуюся, словно старая кора, краску. И пять высоких ступенек, мои ноги легко угадают их и спустя десятилетия: столько раз сбегал и поднимался по ним, прислушиваясь к протяжному древесному скрипу, только нижняя – каменная, покрытая неясными пятнами-кругами, похожими на годичные кольца давно срубленных стволов, принадлежавших крохотным игрушечным деревцам. Свет, пробивающийся сквозь заросли. Я все еще его помню. И ландыши – их столько, что можно бегать босиком по вытянутым листам и белым точкам цветков, не боясь затоптать их (это невозможно). Наконец, где-то в глубине деревьев, в зияющем просвете между дубовыми и березовыми листьями замечал седину. Это мой дед, занятый своими делами. Окликает бабушку, занятую на кухне; она опять разбирает какую-то свою посуду, банки, коробки. Со временем доносится и ответ: «Сейчас! Только все доскладу!» Но кажется, она сама понимает, что обещание невыполнимо. Никогда не выйдет ничего доскласть, потому что даже само это нелепое слово, оставив лишь след восклицательного знака, едва успев произнестись, размельчается на мелкие осколки, как разбившаяся об пол керамическая плошка или солонка, и становится одним из тех бесчисленных предметов, которые непременно нужно досложить, связать, соединить, но уже никогда не удастся. Наверное, дед лучше догадывается об этом, потому что опять скрывается в зеленых зарослях. Может быть, он скоро позовет и меня. Или так и будет вечно увлечен чем-то своим. Он и сейчас, спустя многие десятилетия, все еще там. Единственный хранитель каталожного шифра, впрочем, давно успевший позабыть его. Поредевшая седина все так же мелькает за ветками высоких яблонь – у террасы, обвитой замшелыми эполетами винограда и клематиса, рядом с черными досками, которые все так же свалены там, у дровника, наполненного запахом свежих щепок и давней сырой трухи. Невероятно. Нет, здесь нельзя ничего менять. Я не уверен ни в чем, кроме этого постоянства. Все равно не хватит никаких сил, чтобы разрушить легенду. Пусть поменяется потом, после меня. Пусть кто-нибудь еще снесет старый дом. У забора колышутся деревья и сразу за ними – огромное поле, с обратной стороны которого еще одна упирающаяся в облака аллея. Каждый вечер там садилось, будет садиться солнце. И сегодня оно точно так же отражается в придорожных лужах. Пунцовые лучи, тянущиеся сквозь березовые ветки. Откуда-то эта прочная несобранность, эта ветхая выспренность, священно-безалаберная бессвязность. Бесконечно долго смотреть. Без понимания. Только тайна, только ее открытость. Рассматривал цветы и как будто проживал вместе с ними их белое цветение. Внезапно все исчезало. Мир имел странную способность удалять из себя предметы, превращаться в незаполненную залу. Есть в этом что-то от беспечного полувзгляда детей. Когда мы молча умоляем их простить нас, а они просто закрывают глаза и засыпают. Кажется, именно тогда я впервые почувствовал что-то, что через много лет буду вспоминать как любовь. Спускаться, спотыкаясь о корни, бежать еще глубже в лес. В журчащее разноречье птиц, ветра, ос и листвы. В тихие сверкания смолы. Мельком замечать среди всеобщей зелени выстреливающие малиновой краской стебельки ревеня. Сразу же вспоминаю приятно-кисловатый вкус его листьев. Отворять накренившуюся калитку, запертую на старый гвоздь. Отродясь никаких замков, даже шпингалетов, только эта толстая спица на желтоватой бечевке, завязанной несуразным узлом. Привычным движением вырывать длинный гвоздь из проржавелых полукруглых петель. И так же быстро возвращать на место – с той стороны калитки, поднимаясь на цыпочки, но попадая в лунку с первого раза. Не думать о том, что еще минуту назад боялся оцарапаться, но все же поранился о почти такой же. Враги и союзники узнаются как-то сами собой. Несмотря на их свойство меняться местами. Увертываясь от объятий ежевики и крапивы, мчаться по перечеркнутым корнями дорожкам, по которым когда-то мы с дедом каждое утро перед завтраком катались на велосипедах, по песчаным просекам. Совсем не помню наших тогдашних разговоров (а может, их и не было), только сам восторг от этих ежедневных прогулок. Потом еще дальше – пробираться на ощупь по заросшим, несуществующим тропинкам. Бежать, не слыша больше ни звука. Кроме разве что ветра. Деревья начинали расступаться и снова теснились за спиной, едва я успевал миновать их. Наконец пауза. Наконец упасть на траву у красных стволов и замолкнуть. Целые часы затишья. В лесу, где ничто не различимо. Лес, как и море, способен вплотную приблизить к самой первой тишине. Молчание стало непрестанной молитвой. Как будто через немоту получил возможность соприкосновения с миром. Как будто слияние было возможно только в языке тишины, никак иначе. Как будто речь обдавала холодом горло. Как будто каждое слово сокращало жизнь. Зная, что это бессмысленно, зачем-то пытался запомнить молчание, записать его в памяти. Высвечивалось что-то другое, никогда не сама тишина. Ее нельзя было ни нарисовать, ни пропеть, ни записать. Больше не буду пытаться. Обещаю. И опять обманываю, опять вырисовываю ноты и слова. Нет, это будет огромный забор, камни, скалы, которые я воздвигну вокруг себя. Больше до меня не достучаться, не докричаться, как нельзя дозваться ребенка в утробе. Нет, не совсем так. Даже совсем не так. Хромые, негодные сравнения. Оставить их. Просто никогда не произносить ни звука. Забыть, стереть все. Никакой ненужной болтовни. Никакой памяти. Забыть в молчании все. Ни рисунков, ни фотографий, ни записей. Никакой иной памяти. По правде сказать, сколько-нибудь продолжительное прошлое еще и не успело тогда скопиться. Только я еще этого не осознавал. Как будто в воспоминаниях еще не было нужды. Когда прошлого толком нет, от него легко отрекаться. Потом оно просто перестает обращать внимание на твои отказы. И все же окунаться в океан. Укутываться в тишину, как укрываются в слова. Быть в молчании. В самом его центре, согреваться его ветром. Присутствовать при начале мира, при всем, что может быть сказано. Звери и птицы не умеют молчать. Природа не умеет молчать. Лишь затихает на время. А я замолчу. Замолчу навсегда. Забью рот землей. Да. Вам не заставить меня заговорить. Я не оскверню мир болтовней. Вы не добьетесь ни правды, ни лжи. Допрос потеряет всякий смысл. Да. Но эти клятвы, как и любые другие, легче давать, чем исполнять. Увы, словоотсутствие в любой момент может прерваться, будет не раз прерываться, собственно говоря – от человека тут мало что зависит, я еще об этом не знаю и наброшусь с кулаками на любого, кто посмеет сказать такое (конечно, этих людей не будет). Так продолжал лежать под внезапным дождем, в раскатистой тишине, заполненной непроизнесенными словами, неслышным свистом вечерней флейты. Зачем-то держась пальцами за длинные, кривые корни, словно боясь быть смытым. Насквозь промокал. Потом дождь прерывался. В далеком эхе кукушки почти переставало слышаться слово «скука». Смыкающиеся под небом ветви образовывали своды, арки, бесконечные зеленые анфилады. И снова крупинки били по листьям, как по клавишам старого рояля. Шелест немой, околдовывающей музыки. Слушать ее. Вдали от холода речи. В безымянной толпе. Среди полупрозрачных призраков. Под бесконечным дождем. Ничего. Кроме плача. Лучащаяся тишина. В серебристых разломах. Тягучая, вязкая, как невидимый мед.
§ 9. Гул
В другой раз. В глубине острова. Под еще более отсутствующим небом. Очень смутный. Как шорох неуместного снега под закрытыми веками. Его кружение над ледяным, серебрящимся морем. Его успокаивающая неясность. Беззвучный звон замерзшей пены. Его неминуемая невозможность. Внезапно стихает. И умолкает все остальное, все сразу. Нет, ничто не унимается. Продолжает шуршать. Только еще тише. Там, в буром тумане, где почти не слышно волн и, учитывая сгустившуюся темноту, почти ничего не видно. К вечеру тени становились длиннее, и еще длиннее, пока, словно цепкие паутинки, не накрывали наконец всю поверхность земли. Шарил руками в непроглядных сумерках. Как будто невесть зачем ловил мрачные пылинки. Ночь, еще недавно прятавшаяся между бурыми стволами, теперь – вся сразу – рядом с ним. Прикасаясь к клочку темноты, притрагивался ко всей ночи. Но почти ничего общего с темнотой пещеры. Здешняя мгла была наполнена пестрыми, двоящимися звуками, от которых никуда не скрыться. Далекие крики голодных птиц, хор их падающих голосов, их печальная монотонность. Да еще треск цикад, шуршание листвы, вечный хруст под ногами – сухой треск сродни шуму костра, шелесту выдуманного снега. Десятки, сотни других звуков формировали пространство: дребезжание полусонных стрекоз, мычание жаб, смех ящериц, раскалывающиеся под ногами капли, нескончаемый мелкий дождь – все наслаивалось друг на друга. И еще был какой-то далекий, шаткий вой. Казалось, что в конце концов он поглотит все остальные звуки. Потом снова вслушивался в стук, с которым листья тихонько бились друг о друга, как крылья ночной бабочки или птицы, наугад пытавшейся взлететь в темноте. Сотни бабочек, тысячи голодных птиц. Целые стаи, подобные тем, что еще несколько мгновений назад косым движением спускались вниз, к земле, чтобы окунуться в вытянутые лужи теней. Уже тогда их почти не было видно, какие-то сгустки серых точек на сером фоне. А теперь, когда совсем стемнело, им зачем-то понадобилось снова взлететь. Может быть, как раз эти силящиеся оторваться от веток жуткие птицы и проклевывали темноту своими острыми, пронзительными криками. Только хлопанье крыльев почему-то слышалось поблизости, а гомон – издалека. Но ведь в такой темноте все смешивалось, все могло исказиться. Чему тут удивляться. Он не мог разглядеть даже очертаний собственного тела и не стал бы торопиться утверждать, что руки не обросли перьями, не превратились в крылья. Что и он не сделался одной из многих птиц. Или, может быть, отчаянно бившиеся птенцы были привязаны к деревьям и потому не могли вырваться из плена шуршащей листвы – странного проклятия, ниспосланного на них ночью. В отчаянии у них оставался только этот протяжный щебет, напоминавший детские всхлипывания. Словно птицы выкрали у него голос. Но кроме жалобного шелеста он снова и снова слышал и еще что-то: какой-то неумолкающий звук, казалось, исходивший от самой земли. Похожий на ветер, сквозящий меж прутьями ненадежных гнезд. Впрочем, это могли быть и отголоски моря, он не был уверен. Наверное, даль разделяли два шума: шушуканье волн и шелест листвы. Здесь, на самой границе, они сливались в один. А может быть, к этим отголоскам разбивающихся волн все-таки примешивался странный утробный вой, и вот все они сливались в сплошной, еле слышный, но не замолкавший, не способный стихнуть стон. Наверное, его он слышал и в пещере, даже она была несвободна от этого меланхоличного воя. Не только там, но даже под водой. Невнятный звук, который, однако, нельзя было ни с чем спутать, вызывал необъяснимое волнение. Длящийся, колышущийся неуют, спрятанный за чем-то привычным. Невозможно было понять, приближался зов или удалялся. На его фоне все это изобилие шорохов казалось каким-то ненужным, неуклюжим излишком. Лопнувшим яблоком хмурой природы. Да, наверное, ему было страшно, но он продолжал вслушиваться в размеренное ночное гуление. А ничего другого и не оставалось. Пленник огромной раковины. Он знал, что, даже если закрыть уши ладонями, это не помешает темноте звучать. Хотелось воспитать равнодушие к раскатистому шелесту, но он упрямо вызывал тихое любопытство, даже какое-то подозрение. Ему редко приходило в голову как-нибудь определить его, выяснить, что он такое. И одновременно втайне от себя он только этим и занимался. Думал о невозможном снегопаде. О треске внутри пламени. Будто вслушивался в поток приблизительных, неразборчивых реплик, которые лишь почудились, потому что не было никого, кто мог бы их произнести. Пытался запомнить их невнятный смысл. И как будто бы ему заранее было дано знание о том, что это невозможно. Нечто сходное с тонущей в отражениях глубиной, обреченной остаться случайной кажимостью, но при этом упрямо невписываемой в привычные ориентиры. Сливался со скучающим лесом, казалось, становился одним из сухих, невзрачных растений. Превращался в мертвое дерево, в холодную персть. Принимал это как данность и одновременно – пугался ее. Природа насмехалась над его фальшивым безразличием, обнаруживала прятавшийся внутри ужас, перечеркивала все другим, неведомым ему – диким, неподражаемым равнодушием. Тем самым, до которого ему никогда не добраться. Ведь чем больше он старался избавиться от эмоций, тем сильнее они переполняли тело. Внезапно – перенасыщенность цветом в самой сердцевине пресного бесцветия. Отсутствие всяких чувств и нарочитая опустошенность предательски выражались слезами, потоком воспоминаний, предельным надрывом, непроизвольным смехом, даже необъяснимой влюбленностью – всем сразу. Странная переполненность эмоциями в миг, казалось бы, абсолютного избавления от них. Откуда-то все это изобилие. Нет, ему не удавалось. Мир готов был существовать после него, без него. Нет, мир не вступал в диалог, не подавал никаких знаков. Непонимание, безумие – может быть, это единственные формы связи с ним. Как если бы он был заперт в каком-то преддверии мира. Как если бы перед ним висела мокрая паутина, очерчивающая границы существования, – пределы, за которые не дозволялось выходить. Или вернее – куда его не впускали. Эти серые клочья не скрывали недоступную территорию, нет, нельзя было даже сказать, что они искажали ее, хотя несомненно делали созерцание почти невозможным. И все же что-то просвечивало сквозь сетчатый занавес. Но он так и не смог научиться смотреть на мир, не обращая внимания на паутину. Существовало нечто, не оставлявшее никаких шансов не то что прорвать завесу, но даже прикоснуться к ней. Нет – даже к ней приблизиться. Он не помнил, всегда ли так было и почему это было так. Он снова тонул в нескончаемой, беспричинной, бесцветной скуке. Не в том смысле, что ему было тоскливо. А потому что он пребывал внутри обволакивающего уныния – неприступного, грандиозного, протяженностью в две-три вечности. Но было еще что-то тревожное. Все это узорочье звуков, плясавших внутри рыхлой природы и сливавшихся в неспокойный гул, напоминало лишь о том, что сам мир всегда сохранял каменное, неприступное, печальное молчание. Оно переполняло лес, переливалось через зыбкие края, сметало любые преграды, царственно растекалось между деревьями, поднималось к их вершинам, расплескивалось до облаков. Да, все звуки неприметными волнениями, паутиной падающих снежинок пульсировали внутри абсолютной, всеохватной тишины и никогда не выплескивались наружу. Мир не выпускал их. Он молчал.
§ 10. Шторм
Шипел, переливался, подбегал ближе. Брел по побережью. Не отводил глаз. Потом ветер полоснул по щеке песком. Странно, буря не пугала. Или не только пугала. Но все же делала дыхание более частым. В торопливых порывах упрямые обрывки листьев казались прочно приклеенными к ветвям. Брызги смешивались с пульсирующими точками и снежными лоскутьями, он вдыхал водянистый воздух. Шквал изгибал косые линии в дуги, делал их похожими на свинцово-серые волны, и казалось, дождь становился солоноватым. Море расширялось, все становилось жидким. В просветах молний ему мерещилось, что вокруг на песке, как на поверхности воды, вспыхивают, порождая друг друга, холодные отражения. Крохотные, огромные зеркала. Всматривался в их озлобленную растерянность, продолжавшую множить нереальное, делать безумное еще более безумным. Осколки были разбросаны повсюду, выстраивались в ряды тлеющих, почти готовых к прочтению букв, но быстро смывались дождем, распадались, исчезали под новыми знаками, еще более яркими и меркнущими еще быстрее. И очень скоро вместе с клочьями наконец растерзанных листьев, галькой и разлохмаченными щепками пена сползала обратно в грязную слякоть. Помутнелая, исхлестанная вода возвращалась, утаскивая за собой все, что попадалось на пути, – камни, раковины, песок. Среди сверкающих, неровных глыб поблескивали раздробленные кости. Песчинки казались непосеянным, размокшим зерном, пытавшимся достичь земли; с каждой новой волной его все дальше отбрасывало от берега. Поверхность и глубина ежесекундно менялись местами. Между ними больше не было разницы. Схема, которая раньше давала пусть и не понимание, но возможность шага в его сторону, хоть какое-то подобие опоры, теперь обнаруживала свою несостоятельность. Разделение, которому он придавал (и все еще не способен был перестать придавать) столько значения, внезапно оказалось не менее условным, чем любое другое. Даже хуже многих. Но он не собирался от него отказываться. Потому что не был способен изобрести ничего лучше. Перед тем как разбиться, волны успевали на мгновение застыть, будто стеклянные скобы, но очень скоро шагающие следом сталкивали своих предтеч вниз, любуясь, как в телах отцов разверзаются кривые трещины. Как толпы безжалостных призраков, они нагоняли и растаптывали друг друга. Порой, впрочем, первым удавалось перехитрить вторых, и перед тем как умереть, они отскакивали назад от ссутуленных утесов, словно громадные сверкающие алебарды, врезались в соперников лезвиями тонких конечностей и погребали их тела под собой. Но даже не успевали отпраздновать победы, ведь за их разломленными спинами уже громоздились, внахлест маршировали безликие силуэты новорожденных воинов. Мрачно спортретированных растущими изгибами, еще более бесстрашных, еще менее привязанных к жизни безымянных бойцов. Едва приняв присягу, они уже устремлялись в самую стремнину побоища, к раскрытым крышкам прозрачных гробов. В упоении. Как каменные изваяния или своды зловещего, готового обрушиться храма, они выстраивались в стройные, бесконечные шеренги, укутанные сетчатой метелью. Так, плечом к плечу, преданно чеканили шаг те, что уже через считаные секунды принимались стрелять в спины марширующих впереди, вновь и вновь обрушивая мосты полумертвых тел. Величественный парад, способный в любое мгновение смениться пляской пьяной солдатни, поножовщиной, вырыванием глаз, варварским поеданием друг друга. Эти головорезы, лишь мгновенье назад певшие гимн и притворявшиеся бравыми юнкерами, теперь вцеплялись в горло идущим рядом и кусками вырывали мясо из-под вспоротой кожи, широко раскрывали глотки, подставляя их под потоки хлещущей крови. Наконец их рвало темной, волокнистой жижей. Давясь, многие продолжали петь, в какой-то бесконечной, застывшей, радостной ярости. В резком мраке они метались и исчезали, продолжая извергать нескончаемую нотную рвоту. Приходили новые, не отличимые от предшественников и так же достоверно повторявшие их гибель, едва успевая присвоить себе грязные, покрытые запекшейся кровью трофеи. При свете молний становилось заметно, что это сражение издевательски, с жутким весельем копируют и отражающиеся на скале тени. Сполохи делали их гадкую игру похожей на конвульсии обугленных птиц с вывернутыми крыльями. Сорванная листва, сломанные ветви, сверкающая грязь, плевки пены на лоснящихся лицах – все извивалось в уродливом, непристойном танце. Бурые шелушащиеся холмы, их подвижная изнанка, их вытянутые силуэты, их тяжелый грохот. Море продолжало корчиться под пляшущими вереницами туч, под топотом широких копыт. В серебристой пурге искрились взлохмаченные космы, разорванные одежды, взрывы снежных хлопьев. Проколотый яркими спицами, весь остров превращался в изувеченное тело, в лужи разлитой крови, торчащие обломки костей, визгливый вой. Пена в воздухе становилась похожей на застывших над водой разорванных медуз. Прозрачные сердца выгибались в громадные линзы, сквозь которые побоище виделось еще более гротескным и жестоким. Он падал, сбитый с ног твердыми потоками, и вдруг, изнемогая от отвращения, ловил себя на мысли о невероятной, неподражаемой красоте этой бойни. Размолотая, перемешанная масса продолжала жить, колыхаться, кричать, как будто даже исцелялась в этой омерзительной резне, превращая войну в роды. Ему нравилось замечать движение раздробленным на застывшие, притворяющиеся мертвыми паузы – тревожные разломы в ускользающем времени, прорези, сквозь которые он мог различить очертания мира. Ощущая бессмысленность страха, он словно замечал другую его сторону. Молнии высветляли спасительные разрывы, делали их более явными, но одновременно в согревающем прояснении присутствовало что-то еще более жестокое и уничижающее. Как если бы оно было единственным намеком, последней вспышкой ясности перед окончательным затемнением. Очертания предметов, шевеления жидких складок, белое цветение – все это на мгновение выныривало из темноты, чтобы вскоре еще сильнее скрыться. Взрывы, короткие паузы между ними. Клочья тишины, недолгие затишья. Нет, даже не затишья, а какие-то обломки пауз, каждая из которых угрожала (оставляла надежду) скопиться в бесконечное молчание. Он видел, как последние остатки света растворяются в темной воде, и не мог угадать момент угасания. Точно так же ему никогда не удавалось определить границы света и темноты. Удаляясь от солнца и заходя в пещеру, он лишь в какой-то неизвестный, неуловимый миг осознавал, что покинул пределы света. Вошел в грот не потому, что бежал от шторма. Как всегда, просто оказался внутри, без всякой причины, без всяких объяснений. Снова ничего, кроме едва приметного, знакомого гула. Все привычно. Но и никакого спокойствия. Впрочем, и ни малейшего волнения. Что-то другое. Всегда что-то другое. И на этот раз – новая странность. Вместо привычной пустоты внутри заплескались искаженные, неуместные воспоминания. Парк, сад, лес, – все эти возвращающиеся тени, но и что-то казавшееся напрочь стертым: очертания давно брошенного дома, жуткие силуэты, даже запах старого подъезда, снова дверь лифта, запавшие кнопки, вырванные из сна пощечины – то, от чего он давно был избавлен, тем более – в пещере, вдруг обрушилось без предупреждения. Его потрясло, что прошлое – те его эпизоды, о которых, казалось, он успел навсегда забыть – вернулось само собой. Как если бы выброшенный балласт вновь обнаружился на прежнем месте, а сил снова перекинуть бесполезный груз за борт больше не было. Он не представлял, как быть с этим непристойно огромным наследством, которое уже никогда не удастся растранжирить. Можно было не кричать: звучное, незамолкающее эхо прошлого и так было разлито повсюду. Оно и было тревожным хрипом. Его память мерцала перед ним тусклыми, но не гаснущими до конца огоньками. И он чувствовал себя единственным зрителем огромного амфитеатра, присутствующим на репетиции собственной жизни. Да, вся эта буря, все эти смутные эпизоды напоминали наброски так и не нарисованных картин. От этого он все меньше совпадал с тем, за что прежде принимал себя, но, казалось, лишь благодаря нестерпимой незавершенности способен был немного продолжаться. Раз за разом утверждал себя как нехватку, недоделанность, недостаток. Ничего не удавалось, и даже его упрямое молчание было жалкой пародией на величественное безмолвие мира – не вторившее, не сливавшееся с ним, отслаивавшееся как ненужная шелуха. Его невзрачная немота могла быть лишь потрескиваниями углей в обжигающем костре подлинной тишины, лучившейся всем тем, чего так недоставало его молчанию. В пещере можно было избегнуть теней и отражений, но не присутствия давящей, густой, неприступной немоты. Настолько непереносимой, что нужно было выдумывать гул, крик, даже шторм. И потому под закрытыми веками снова маршировали толпы. Зловещая людская масса затапливала пустые площади, мосты, проспекты, прилегающие к ним улицы, набережные, все крохотные проулки. Узкие коридоры, на которых, казалось, не разойтись и двум прохожим, теперь были залиты бессчетными смуглыми силуэтами. В порывах ветра слышались сиплые, сдавленные, царапающие голоса. Несмолкающий гомон разом напоминал брань, звон бьющихся стекол, скрип дверей, топот, лай – всю бесконечность звуков. Конечно, нельзя было разобрать ни слова, потому что ветер смешал все фразы. Казалось, от их поступи тряслась земля. Дождь не прекращался, потоки хлестали из водосточных труб, заполняя рытвины и канавы, наслаиваясь на стены, сверкая на рукавах длинных плащей и скапливаясь в искривленных полях шляп. Струи смывали со стен даже окна, не говоря о названиях улиц и номерах домов. Ускользали все имена и значения, лики улиц растворялись в бледном бесцветии. Тем временем узловато марширующие толпы заполонили крыши. Тела перепрыгивали с карниза на карниз, и лишь их иссохшие лица своей бледностью выдавали всепронизывающее отчаяние. Он в толпе. Почему-то он тоже среди них, погружен в зловещий бег. Плечи терлись друг о друга, казалось, нечто неживое прикасается к чему-то еще более мертвому. С покорностью и беспощадностью погруженных в работу механизмов. Готовых надломиться. В жутком скрежете. Мчались так быстро, что только ветер мог перегнать их. Пытался вжаться в темноту, чтобы стать менее заметным или еще зачем-то. В жуткой давке было трудно дышать. И вот внезапно все прекращалось, он снова сидел на скамье заброшенного парка. Стихли даже отдаленные, едва слышные стуки последних шагов. Поразительно: они забылись так быстро, что сложно было поверить в их существование. Совершенно один. На внезапной окраине. Под проливным дождем. В сизом дыму. Всматривался в разливы темноты, в грязевые узоры, в переплетения веток и прутьев черной ограды. Набирал в легкие холод сумерек. Лишенный слов. Разрозненные мысли не складывались в мир, который по-прежнему показывался только в виде этих мерцающих обрывков, никогда – целиком.
§ 11. Город
Еще когда-то. То, что совсем невыносимо вспоминать. Непрерывный, изрезанный шум, прерываемый оглушительными зияниями. В толчее зданий, в лохмотьях холодного света, в фабричном дыму, под ледяными мостами, в окалине серо-алой слякоти. Тряска резких вспышек, головокружение, роение полусонной толпы. Мельком замечает собственное отражение в зеркале заднего вида. Видит в глубине глаз усмешку отца. Какое-то неприятное чувство от этого узнавания. Короткий пронзительный вскрик, и снова – долгое шевеление неразборчивых звуков, вся эта какофония истеричных шептаний, непреклонный лязг. Застывшая суета, в которой навсегда теряется что-то, некогда казавшееся ценным. Как ночные мысли, позабытые поутру. Все хлюпает, изгибается, не поддается узнаванию, гаснет, не угасая до конца. Но вот она. Посреди кипящей ворчбы. Как всегда – перед перекрестком. Сейчас начнет тихонько постукивать грязными ногтями по стеклу. Далеко выступающие за кончики пальцев, неровные, подгибающиеся под себя скребки станут соскабливать капли, как прозрачную кожу. С тихим и оттого лучше слышным скрежетом. Губы примутся бесшумно шлепать, а за мутными стеклами очков заблестят пьяные глаза. Не разбирая, что именно произносится, он все же услышит сам хриплый тембр ее голоса, заплетающиеся интонации причитаний. Не сможет не то что протянуть монету, но даже взглянуть в ее сторону. Потому что снова вспомнит о матери. Он уже ее вспоминает. Соскребает еще одно пятнышко заледенелой серой пыльцы с перегородки, которая когда-то вроде бы была прозрачной. Может быть, она уже выглядит совсем по-другому. Наверняка даже не слишком похожа на эту нищую старуху. Хотя нет, чем-то все-таки похожа. Но это мало что меняет. Все равно – ничего не знает о ее жизни. Почти ничего. И любой ценой хочет сохранить незнание, даже – преуменьшить его. Недавно опять снилось, как он, обманутый, выкрикивает «зачем?» и дает ей подряд три-четыре пощечины. Нет, он не бьет ее, он пытается защититься, дать сдачи. Ему продолжало казаться, что вошла настоящая мать, пока вдруг не проступили мутные, чужие, вечерние глаза. Как скребущиеся ногти посреди лица. Но невозможно представить ужас, который охватит его, если он случайно откроет окно. Если она прикоснется. Нет, конечно, даже не взглянет через стекло. Так будет безопаснее и для этой старухи (впрочем, и она не такая уж старая). Пусть считает его скрягой, стыдливо вжавшимся в спинку водительского сиденья. Из-за нее он никогда не подает нищим. Впрочем, она и не вспомнит его уже спустя мгновение. А вот он не сможет забыть. Не ее. И та – не она – тоже не сможет забыть: не его. Два призрака будут связаны насильной памятью. От прошлого можно отворачиваться, можно делать вид, что оно потеряло свою важность, но это ничего не меняет в его всеопределяющем значении и в безнадежности нашего опоздания к тому, что мы называем жизнью. Одна, напиваясь, станет плакать над фотографией, а другой будет встречать позабытую химеру во сне и давать ей пощечины, которые нереальны вне сновидения (или все-таки нет? не так давно ему ведь и правда хотелось ударить ее, когда она орала на бабушку своим отвратительным писклявым голосом). У них нет ничего, кроме этих тревожных мифов друг о друге. Дыра продолжает зиять. Да, именно то, что он собирался навсегда забыть, нарочно вспоминалось – назло любым намерениям. Хотя не совсем так: очень многое все же удалось стереть. Или вернее – закрасить. Или, вернее, все заретушировалось само собой. Даже посчастливилось встретить тебя, у которой нет ни одной общей черты с моей матерью. Это казалось невозможным, ведь сходство обнаруживалось буквально в каждом женском лице. В тебе ее черт не было. Ни одной. Я знаю, с другой у меня никогда не родились бы дети. Дети, которых она никогда не увидит. Я приложу все силы, чтобы не допустить этого (откуда-то же берется пафос для этих нелепых клятв, которые, кстати, уже были однажды нарушены, когда бабушка тайком показала ей мою дочь). Это не месть, ведь внутри не осталось уже почти никакого зла. Скорее пугает сама возможность общения. И все же, едва вынося сны, не представляет, что будет, если они увидятся. На похоронах, например. Не исключено, что она может там появиться. Неужели им придется разговаривать? Кратко перечислят друг другу события последних двадцати пяти лет? Посудачат, как попутчики в поезде? Был и тот странный звонок. Он (я) ответил, бросать трубку показалось еще большей фальшью. И все же он ожидал чего угодно, но только не неумелого налета деловитости, только не этой скверной роли, которая не удавалась ей и много лет назад. Нет, без фиглярства они не смогли бы проронить и слова, но, кажется, невозможно было отыскать более нелепую, более неприятную маску. Расстояние до нее дальше, чем до самого чужого человека, дальше, чем до врага. Ему не кажется, что он преувеличивает. А потом (спустя несколько лет) – еще один звонок, слегка испуганные, полупьяные интонации, странное признание в том, что ей послышался голос. Звонила, чтобы уточнить, что это не он сейчас говорил с ней сквозь стену. Странно, почти ничего в этом безумном предположении не показалось ему жутким. Больше никаких новостей о ней. Но ясно, что ее мозг продолжает распадаться. Нет, впрочем, еще какие-то мелочи он узнавал из редких рассказов. Слушал, отводя глаза от кивающего лица. Бабушка всегда чувствовала неловкость, заговаривая на эту тему. К тому же толком и не могла ничего рассказать – так, повторяла по несколько раз одни и те же слова. Казалось, она молчала. А губами шевелила, лишь чтобы притвориться говорящей. Совсем не так, как в далеких воспоминаниях из детства беспрерывно говорит за столом дед – тогда обед растягивался на лишний час из-за того, что он не мог остановить повествования, длившегося помимо его воли. Быть может, он и сам не слышал себя, не думал, о чем именно говорит, ему просто нужно было зачем-то продолжать и продолжать рассказ. Говорил, словно репетируя монолог или набрасывая тезисы отсутствующего доклада, вернее даже – пытаясь сформулировать его тему. Как будто рассказ был способом сбежать от всего остального (зловещей пародией на это красноречие станут потом пьяные монологи матери, ее безумные споры с самой собой в темной комнате, затихающие и возобновляющиеся, тихое кипение ее отвратительной болтовни, о которой он будет знать только по рассказам деда; впрочем, в детстве что-то подобное тоже случалось). Так вот, казалось, тому, что дед мог сказать, всегда недоставало еще одного, последнего слова, ожидание которого и заставляло его продолжать. Истории могли перетекать друг в друга, повторяться, обрываться, начинаться сначала. А внук с бабушкой слушали водопады речи, словно не решаясь вставить ни звука. Может быть, она и не слышала, а думала о чем-то своем. Скорее всего. Ведь большую часть времени им совсем нечего было сказать друг другу (но отнюдь не потому, что все сказали; между ними всегда простиралась эта пустота невыговариваемого). Зато она в совершенстве освоила искусство кивания. И дед продолжал что-то рассказывать, освобождаться от переполнявших его слов, отдаваться их потоку, нанизывал обрывки на обрывки, призвуки на призвуки, отголоски на отголоски, пока наконец не замолкал. Но и это формально завершавшее долгую речь, застывавшее на его губах веское слово никогда не было последним – казалось, эхо голоса еще продолжает биться о потолок террасы, застревать там, завиваться, как сухие ветки винограда, висящие с той стороны стекла. Затихает, но не прерывается, просто перестает быть разборчивым. Как едва затухшие угли, которые подкравшийся ветер легко может снова превратить в огонь. Старые рейки стен прятали в своих резонансах все его интонации. Дед вставал, точь-в-точь как, внезапно затихнув, вскакивает маленький ребенок, лепетавший что-то над игрушками – сам с собой, без слушателей. И потом старик надолго прерывал свои рассказы. Словно переставал бояться тишины. Не зная его, а наблюдая лишь в этот момент, наверное, вы не смогли бы даже представить, что он способен на долгие повествования. Да, теперь он неподвижно сидел на скамейке. В его молчании не было пренебрежения к речи, оно могло настать только как итог – уже после столь многих слов, когда все они уже были выговорены. Хотя, казалось, он так и не произнес самого главного. (Помню, как однажды во время шумного застолья мой отец вдруг сказал, что часто думает о том, что же человек должен сделать перед смертью: может быть, сказать что-то должен или завещать точную надгробную эпитафию – непонятно; я не могу забыть этой неуместной, простодушно-отчаянной фразы.) Так долгими часами дед сидел с полузакрытыми глазами, словно думая, что именно нужно сказать. Как будто разучивал еще не написанную, бесконечно-однозвучную поэму. Наверное, будущему молчанию внук тоже научился у него. Или путает с другим своим дедом. Да, конечно. Если представить, что их можно спутать. Второй старик прекрасно формулировал мысли, но никогда не произносил лишних слов. Это завораживало. Он мог часами всматриваться в природу, опершись руками на свернутое вопросительным знаком навершие трости. Иногда читал – сосредоточенно и отрешенно. Порой пересказывал что-то беспокойной бабушке – у нее к старости совсем испортилось зрение, поэтому она перестала заглядывать в книги (прежде ее было не оторвать от них) и посвящала почти все время кухонным хлопотам (она с трудом ходила, но при этом – никаких признаков помутнения сознания). Изредка дед даже читал ей вслух, как правило – газеты. Впрочем, она говорила, что больше не способна запомнить содержание книг, особенно романов. Кажется, внук понимает ее. Недавно, читая один роман, он только странице на двухсотой осознал, что узнаёт повествование. Потом случайно нашел свои забытые записи об этой книге – впечатления почти совпадали с нынешними. Но настоящий страх в другом: книга была прочитана им четыре года назад. Не двадцать, не десять, а четыре. И он не помнил ни слова, даже из собственных заметок о романе, на которые случайно наткнулся. Успокоил себя тем, что это был не особенно важный текст, таковым и остался, заурядной сюжетной чушью, не роман, а лишь изложение выдуманных событий. Но ведь были и еще менее важные – значит, они забыты еще больше? Такое возможно? А откуда эта уверенность в том, что запоминается важное? Не раз ловил себя на том, что это не так. Все важное тоже испещрено неузнаваемыми пятнами, соответствующими пробелам в воспоминаниях. Не помнить, а забывать – вот главное свойство памяти. И старики знают об этом все. Вот о чем стоит писать романы. Этим он и пытается сейчас заниматься. Написать о том, что не может вспомнить. Пока не очень получается. Не больше десяти страниц в год. Кстати, бабушка все время спрашивала, что он пишет. Забывая свои признания о том, что потеряла связь с книгами, просила принести почитать ей что-нибудь. Он отделывался какими-то нелепыми отговорками. Прекрасно понимал, что им не надо читать его книг. Что он не сможет прокомментировать написанное. Удивительно, но от первого – разговорчивого – деда он до последнего времени не скрывал своих текстов. Даже бабушка, кажется, что-то прочла. До последнего времени. А теперь пусть будут только газеты. Так вот, дед (второй дед, хотя вообще как раз он был старше всех, и определение «первый» больше подошло бы ему) читал бабушке, но чаще пропадал где-то в саду, за домом, скрывался там от празднословия. Внуку поначалу казалось, что на второго – молчаливого – деда он похож больше. Потом уже осознал, что оба присутствовали в нем в равной степени. Или, может быть, они не так уж сильно отличались – деятельность и апатия. Их лица, такие разные, оказались одним. Лицом самого разговорчивого в мире молчуна. Внезапно дед вставал и принимался за работу, словно труд тоже был разновидностью высказывания (то есть я, конечно, хочу сказать: молчания). Более того – главной его формой. А теперь так же, прервав долгое безмолвие, с внуком говорила бабушка, в сотый раз протирая стол и попутно делясь давно сообщенными известиями о его бедной матери. У нее самой новостей было ничтожно мало, но, наверное, бабушке казалось, что, повторяя, она увеличивает их количество. Когда же, в какой именно момент эта бесконечная ретрансляция перестала быть просто привычкой и начала все явственнее обнаруживать примеси безумия, приметы внутреннего распада? Можно ли зафиксировать час перехода? Вторая его бабушка – та, что больше не читала книг (да, у многих с детства нет никого старше родителей, а ему всегда приходилось уточнять, о какой бабушке или о каком деде идет речь, ведь он помнил даже своих прабабок и прадедов; невероятно, что можно жить так долго – и то, что он считает почти прожитой жизнью, может оказаться лишь меньшей половиной), так вот – вторая бабушка, пережившая почти всех своих младших братьев и сестер (десять детей в семье), тоже любила многократно повторять одно и то же, но ее речи были полны жалоб – до смешного мелких, даже казавшихся странными на фоне той силы, которую он всегда чувствовал внутри нее, или они и были изнанкой этой силы. Слушая, уже всерьез не мог припомнить, бывали ли такие годы, когда бабушкин сад приносил урожай (а ведь каждую осень от овощей и фруктов нельзя было спрятаться); дни, которые она не считала чересчур душными или наоборот – невыносимо холодными (притом что нигде в мире не было такой потрясающей теплой прохлады, как в ее загородном домике); часы, в которые бабушка не чувствовала недомоганий (как правило, она до захода солнца не уходила с огорода, прерываясь только на кухонные заботы); минуты, в которые тишина не нарушалась до смерти надоевшими соседскими криками (он их ни разу не слышал). Во всяком случае, из этих исповедей все, способное приносить радость, оказывалось вычеркнутым, словно ее улыбки привиделись во сне, а ее застольное пение (кроме нее, в семье никто не умел петь) было выдумкой. Но он так привык к причитаниям, что в какой-то момент перестал перечить им, внезапно понял, что то, что он считал поддержкой, никогда не являлось ею. Бабушке совсем не нужны были его переубеждения и подбадривания, вернее всего – они тихонько ранили ее, а не помогали, даже если она соглашалась с этими доводами, в глубине себя она хотела, чтобы ее сетования просто выслушивали, ничего больше, даже жалость ей была не нужна, казалась ей чем-то вроде еще одного лишнего подарка, который она поставит в угол за трюмо (там неизменно скапливались все свертки, полученные в праздничные дни). Может быть, именно это и делало ее сильнее. Но все равно вздрагивал, когда она произносила: «Теперь уже – все почти» (эту же фразу в конце жизни стала повторять и вторая бабушка, которая недавно сказала во сне: «Скоро умру, наверное – завтра»). А в остальное время – просто слушал, вглядываясь в красоту ее глаз. Да, она любила, когда он так слушает, это было известно абсолютно точно, как-то само собой. Так он иногда вглядывается в потрескавшиеся черно-белые фотографии из старого альбома (с парусником на обложке) – тогда еще нужно было приклеивать карточки к серым картонным страницам, теперь многие из них оторваны, потеряны – он разглядывает те, что остались. Вот прабабушка, которую он учил читать; другая, которую он никогда не видел; бравый прадед в военной форме (к нему – девяностолетнему – он приезжал в гости); молодые, неузнаваемо молодые дед и бабушка (им ведь теперь тоже девяносто). Фотографии, снятые много лет назад, в другой стране, в другом времени, и даже глаза почти нельзя узнать (неужели это те же самые люди?), он пытается вслушаться в вырванные из общего шума голоса, вернее, в их немоту, в то, что они хотели бы сказать, в тот несостоявшийся разговор, который является суммой всех действительных или, вернее, конечно, чем-то куда большим, чем простое собрание. Чаще всего они листают этот самый старый альбом, всматриваются в свою молодость, но ведь есть и другие, с фотографиями, снятыми намного позже, и за последние сорок лет с ними тоже произошло очень много, немыслимо много событий, которые и я немного помню, если, конечно, это можно назвать памятью. А вторая бабушка все продолжала рассказывать, как они опять возили его мать в больницу (нет, он не станет исполнять просьбу поздравить ее с днем рождения; он будет стараться помогать им, если эти недостарания вообще можно назвать помощью, – помогать им, но не ей; что-то всегда будет мешать этому; не упрямство – какая-то неформулируемая и непроходимая преграда; что же тогда такое его нелепая помощь, если главное, в чем нужно поддержать стариков, – это помочь им разобраться в их отношениях с дочерью; а именно здесь он феноменально беспомощен в роли помощника; и все, что ему остается, – это делать их безумие чуть более комфортным, и толку здесь удивительно мало, не хватает смелости признаться, что его нет вовсе; а разбитый алкоголем мозг дочери (матери) продолжает рушиться, и мозг матери (бабушки) тоже рассыпается – от нервов и от старости; недавно позвонил дед и сразу передал трубку бабушке, чтобы я успокоил ее; она снова ищет свою мертвую мать, на которую становится все больше похожа, а потом спрашивает, где же дед, где ее муж, который минуту назад передал ей телефон и стоит рядом с ней, выслушивая эти сумасшедшие вопросы, – что он чувствует? как мне помочь ему? – но вот она уже успокаивается, вслушиваясь в мой голос, в рациональность доводов, перестает всхлипывать, говорит: «Прости меня, со мной что-то случилось, со мной что-то случилось»; через пару часов к ней вернется полупамять, и она снова сможет делиться со мной скудными новостями, повторять их), да, она продолжала пытаться рассказать мне что-то про мою мать, а я слушал, только не смогу понять – внимательно или нет. Текучие, перемежаемые паузами репризы выстраивались в странный, не столь уж понятный рокот. А другая бабушка как-то раз, когда ему было еще лет шесть, невольно сказала то, что он так и не сможет забыть. Твои родители поженились, толком не зная друг друга, все как-то наскоро, вот почему ничего из этих отношений и не вышло. (Короткая пауза.) Ну, кроме тебя, конечно. (Минутная, нет, многолетняя пауза.) Подумал тогда: кроме меня? А этого недостаточно? Кроме меня. Бабушки говорили, говорили. Да, их голоса превращались в мерный шелест, в рокот волн. Ему казалось, что он вспоминает то, что помнить уж точно не может. Разве что благодаря давно потерянным подсказкам – слайдам и беззвучным кинолентам, на дальнем фоне которых всегда было море – ничего, кроме него. Скрежет камней и ракушек, принесенных пеной, шелест песка, сползающего вслед за потоками. Крабы, мечущиеся по берегу и, едва почуяв опасность, ныряющие в крохотные норы. Вновь разворачивающиеся свертки волн (всегда – слева направо), запах водорослей, мокрый песок, засохший мусор, легко превращаемый в игрушки, – все это уже не могло никуда деться. Коварно-торжественное замирание природы. Прикрыв ладонью глаза, он куда-то смотрит. До конца не мог вспомнить и все-таки помнил. Вернее – не терял этот последний шанс вспомнить. Впрочем, и это, наверное, было подвидом забвения. Все невычеркиваемые падения во время – в них почти умираешь. Забвение многократно превышает память, сохраняя ее как странную дрему, как указание на себя, как уведомление о ничтожности любых воспоминаний. За всем их испаряющимся месивом, за всей их беспорядочной суетой царит неподвижный, каменный покой. И письмо тоже всегда определено мерой великого забвения, оно плещется и обретается в его недрах – алфавит рождается там. Только забвение и позволяет разворачиваться истории (если угодно – Истории). Родители, едва ребенку успел исполниться год, отправили его с какими-то малознакомыми людьми к бабушке и дедушке (рассказывали, что я кричал на протяжении всего полета; ты сочла, что это было главное событие моей жизни, предопределившее все; и я уже почти готов согласиться). Но именно там впервые – столько разлитой воды, сразу. В очень далекой стране, которой больше нет. На побережье, у волн. Их шум, их запах. Не помнил и все-таки помнил. Во всяком случае, раньше этого воспоминания не было ничего. Оно раньше родителей. Там же еще через несколько лет (я дважды вернусь туда – один раз четырехлетним, второй – двадцатилетним; даже найду дом, где мы жили) пережил и возможность исчезновения, когда застрял в складках волны и, открыв глаза, следил за ее прощальными вращениями; его кружило, он уже готовился задохнуться и соскользнуть в самую глубину, как вдруг обнаружил себя над водой, а ноги снова доставали до дна, это показалось чудом (может быть, тогда и появилась эта привязчивая морская игра: его, единственного выжившего матроса с разбившегося в буре корабля, выбрасывает на незнакомый берег). Позже он начнет бессознательно отшатываться от бесконечного опыта мира. Но, наверное, оттуда и всплывает неприступный образ – просторы водной пустоты, которую никогда не удастся застроить, заселить, сделать сподручной. Здесь, как и в пространстве памяти, подобные начинания выглядят как-то по-особенному беспомощно и сомнительно. Море по-прежнему неприручаемо. Море – это и есть забвение. Море – это и есть письмо. С ним нельзя вступить в сговор. Обступая островки, укачивая в тревожном полусне целые континенты, лишь по таинственной, неведомой милости оно не смывает с карты мира их очертаний. Или еще: помнишь, как в другой чужой стране (граничащей с той, в которую меня отправили в детстве) мы забрались ночью в чью-то лодку и сидели, свесив босые ноги в воду, болтая о какой-то ерунде? Ведь тогда с нами уже случилось все, что много позже должно было сложиться, определиться, обрасти деталями. Это были уже мы, хотя и не совсем мы, а какой-то поразительный горизонт нашей жизни. Но как будто те мы тоже никуда не девались и продолжают сопровождать нас сегодняшних, так поменявшихся. Что означает интервал между нами нынешними и тогдашними? Это не укладывается в голове, всегда проговаривается негодными, неподходящими словами, которым не удается ничего, кроме как взбаламутить поток тишины, внести скверную фальшь в величественные аккорды молчания. Выступать контрапунктом здесь способен лишь монотонный плеск. И сейчас они (словолны) опять развертываются с тем же звуком. Бабушка продолжала говорить что-то, а он все молчал и молчал, и безмолвие в считаные секунды утрачивало весь горделивый ореол – он понимал, что просто не может высказать то, что его мучило. Как в детстве иногда замолкал лишь потому, что не способен был сформулировать противоречивые мысли, а вовсе не из-за того, что считал слова неважными. Да, его упрямое безречье можно было разоблачить лишь несколькими фразами или даже жестами – выявить всю шаткую двусмысленность его молчаливого голода, различить в нем лишь неловкую заминку, лишь пепел тощего слова, застрявшего в робком горле. Кажется, он и не вырастал. Стоит перед бабушкой, словно провинившись. Она вовсе не ругается, и все равно как-то совестно. Знакомое чувство стыда, от которого никуда не скрыться. Стоит, погруженный в свое презренное, косноязычное молчание, так не похожее на блаженное спокойствие деда. А сны про бабушку еще невыносимее, чем про мать. Вот самый недавний: какой-то праздник, за столом – родственники, знакомые и даже совсем посторонние люди; бабушка суетится над тарелками, старается уследить, чтобы всем всего хватило; вдруг замечает, что кто-то не попробовал суп, говорит, что сейчас нальет, непременно нужно попробовать; только суп почему-то в кофейнике на дальней полке, где-то наверху; одной рукой бабушка держит на уровне лба плошку, а другой наклоняет высокий кофейник, пытаясь попасть в миску струйкой супа; но это не удается, и бульон льется ей на голову, стекает по волосам, плечам, вся блузка в пятнах; лужа на липком полу, тут же, прямо на столе, какие-то неуместные, покрытые жиром тазы и ведра; бабушка приговаривает: «Ничего-ничего, ничего страшного», упорно пытаясь наполнить супом плошку, которую придерживает лбом; и он – словно один из гадких гостей, пытающихся превратить происходящее в шутку, – замерев, сидит за столом; даже не пытается сдвинуться с места, в ужасе молчит. И это его молчание еще хуже, чем самая пустая болтовня. Так же и сейчас, в застывшем прошлом, он просто слушает ее монолог. Она еще не в лечебнице. Она еще не исчезла. Я еще не сижу рядом с ней в машине скорой помощи, перевозя из реанимации одной больницы в другую, бессмысленно глядя на показания аппарата искусственной вентиляции легких, положив руку на ее живот, чтобы убедиться, что она дышит. Мы с дедом еще не склонились над ее кроватью в надежде, что она услышит то, что мы говорим, что изменит свой стеклянный полувзгляд, не дающий возможности понять, слышит ли она нас (мы, конечно, догадываемся, что не слышит). Что будет кипеть в этот моме