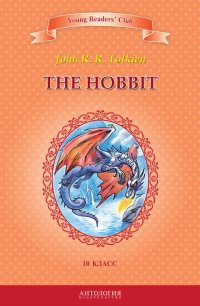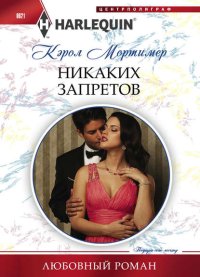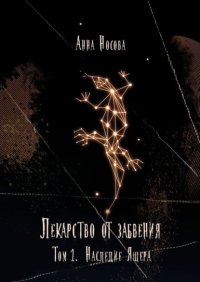
Читать онлайн Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера бесплатно
- Все книги автора: Анна Носова
Пролог
Матерь звезд Сферы неспешно и величаво завершала свой ежедневный обрядный танец над той частью древнего мира, что была вверена ей самим Прародителем. Мягкий вечерний свет, струясь легкой газовой вуалью в чистом морском воздухе, ложился косыми лучами на хранимую богом Огня землю Харх. Необъятный остров, возвышающийся над таинственным морем Вигари, в закатные часы выглядел особенно царственно – в том смысле этого эпитета, где он проходит опасную границу со словом «грозно». Отбросив излишнюю осторожность, можно было бы взять это слово в руки в виде горящей воинственным пламенем короны и увенчать им землю Харх – вот истинная мера величия острова огненных воинов и их подлинного короля Каффа.
Конечно, необразованное, далекое от семантических (как и прочих других) изысканий население острова не знало о значении названия своей родины. Этот сильный телом и духом народ исстари служил лишь одной науке – тактике ведения боя, и если какое-либо из существующих на Сфере искусств могло пленить его сознание – это было военное искусство. Однако если бы главный военачальник Харх – Рагадир Твердокаменный – был знаком с древними языками, то на ежедневных военных учениях, дабы укрепить и без того высокие патриотические чувства подчиненных, не упускал бы возможности напоминать им о происхождении названия защищаемой ими земли.
– ХА! – горным эхом с левой стороны строя раскатывался бы по равнине у подножия королевского замка первый слог, отпечатываясь в сердце каждого воина словом «огненная».
– РХ! – звучно выдыхали бы бесчисленные, идеально ровные ряды с противоположной стороны, заключая в этот грозный рык всю свою воинскую мощь и ярость.
«Ярость» – именно так переводится второй слог в названии острова с древнего языка, преданного забвению в заброшенной библиотеке королевского замка, где паутина траурной каймой обрамляла летописи о военной доблести и чести легендарных предков хархи.
Ибо бездна прошлого, словно ненасытный зверь, поглотила и события, и героев той летописи, и сам ее язык. Жизнь же, давно ставшая размеренной и безмятежной, с каждым днем все больше отдаляла островитян от прежних потрясений. Полчища сменяющихся поколений перепахали собою пески огненной земли, Матерь звезд озарила ее бессчетным множеством рассветов, а череда созвездий будто бы соскоблила острыми лучами часть небесной бирюзы. Во всяком случае, так поговаривают старцы, и нет ни единой причины им не доверять. Но даже они, седовласые северные долгожители, на вопрос о правдивой истории Харх и ее священных заветах лишь задумчиво покачивают белыми головами, не в силах ни вспомнить, ни разгадать наследия давно ушедших времен. Лишь самые дряхлые из них порой что-то неразборчиво шепчут о памяти Каменных голов, упрятанных высоко в горах Убракк. Однако происходит это, как правило, в тот торжественный и скорбный миг, когда с умирающим уже начинают говорить боги. Неужели кто-то воспримет эти слова всерьез и не сочтет их предсмертным бредом? Задумается ли сын или внук такого старца: «А не попытать ли мне удачу на Севере?»
Особенно нынче – в столь спокойный, безоблачный век. Счастливое мирное время…
Как и у яркого дневного света есть сводная сумрачно-отрешенная сестра ночь, темная сторона его сущности, так и мирное время – благо двуликое. Одной рукой оно озаряет нас пленительными надеждами на будущее, а другой окропляет зельем беспамятства. Укрощает оно демонов темных времен, которых за спиной мы носим в зной и стужу; заклинает оно змей, уже смыкающих кольца отчаяния на шее нашей; целительным сном изгоняет видения и призраков; дарует мужество поджечь погребальную ладью и отпустить ее в море.
Так и поступили хархи много звездных оборотов назад. Не в силах противиться дурманящему действию этого зелья, они закрыли глаза на грозные события прошедших лет. Их цивилизация значительно упростилась, сбросив с себя чешую исторических и культурных ценностей, и, даже не дав себе труда должным образом сохранить летописи о подвигах предков, огненные воины взяли курс на создание мощной державы, готовой отразить любое нападение на священную землю Харх. Вся многовековая династия их королей следовала трем главным принципам управления, передававшимся наследникам вместе с опаловым венцом власти: «Сильные воины – безопасность»; «Крепкие стены – защищенность»; «Всем, что не усиливает безопасность и защиту, – пренебречь во имя бога Огня и подлинного короля Харх». Почему пренебречь и от кого защищаться – этого уже не помнили ни короли, годами наблюдавшие за военными учениями с высоких дворцовых террас, ни народ острова, всегда находивший себе занятие в упражнениях с оружием, многочисленных турнирах и поединках, да и просто в цикличном водовороте хозяйственной жизни средневекового уклада.
Но какое-то смутное, не имеющее лица и физического образа видение времен седой старины все же неизменно колыхалось в свежести хвойно-соленого воздуха Харх. Оно упрямо оседало пепельными клочьями на утесах огненных опаловых гор, заставляя каждого из королей возводить стены еще выше и следить за учениями еще зорче. Огненный народ существовал подобно улью, монотонно и слегка тревожно жужжащему в тишине летнего зноя, но готовому в любой момент впиться ядовитым жалом в руку, потянувшуюся за медовыми сотами.
Не успев скрыться за пурпурным горизонтом, Матерь звезд всеми гранями своего рдеющего тела ощутила, как та самая тишина вдруг задрожала. Натянулась вибрирующей скрипичной струной на острие фальшиво взятого аккорда. Повисела несколько секунд в закатном воздухе, сея мелкую рябь на воде. Выдержала паузу длиной в два лихорадочных вдоха человека, ожидающего оглашения приговора. Еще один резкий, судорожный, хриплый вдох, подхлестывающий и без того бешено колотящееся сердце.
Это раздувались узкие ноздри, привыкшие дышать и придорожной пылью, и мшисто-грибным запахом пещер, и эфиром невесомых облаков. А когда-то давно – воздухом совершенно иного рода.
Под шершаво-глянцевой кожей уже накопилась убийственная доза яда. В голодных желтых глазах отражались хаотически вьющиеся спирали. Вертикальные зрачки расширились в злорадном предвкушении, требовательно, но вместе с тем вопросительно косясь вверх.
– Не сейчас, – властно ответила Всадница.
Глава 1 На Перстне
Утро застало остров в том же круговороте повседневных забот, что и последние несколько спокойных, как штиль, звездных циклов. Прошла церемониальная смена королевской стражи и часовых, равномерно распределенных вдоль высокой каменной стены, опоясывающей замок-гору надежным графитовым кольцом.
Выстроена эта стена была еще в эпоху короля Гимеона – прадеда нынешнего короля Каффа, которому в глубокой старости открылся дар видеть в снах легендарные события из прошлого Харх. Хоть и монархическая власть на острове издревле считалась священной, а королевские приказы – неоспоримыми, все же многие и во дворце, и в народе узрели в возведении немыслимо высокого укрепления лишь воплощение «игр старческого разума». Дословно же требование гласило: «Окольцевать огненную опаловую гору таким перстнем, чтобы любая змея состарилась, прежде чем вспорола бы чешую о зубцы его верхушки». Поэтический указ произвел тогда немалое впечатление на безграмотных подданных Гимеона. Письменность к тому времени успела полностью исчезнуть из обихода хархи, поэтому фраза вихрем разнеслась по острову, передаваемая из уст в уста. В несколько дней она стала крылатой, позже – частью народного фольклора и неиссякаемым источником шуток, которыми то и дело шепотом перебрасывались по тавернам, лавкам и постоялым дворам простосердечные и слегка грубоватые в своей жизнерадостности хархи:
– Гляди, Далида, король-то на старости лет окольцевать гору свою вздумал. Песок-то уж сыпется, а все туда же! Мало ему королевы нашей подлинной, еще и гору-невесту подавай!
– Гимеону, видать, яблоко червивое после обеда попалось, так он стеной до неба решил от червяков защититься!
Долго еще жители огненной земли упражнялись в остроумии, наблюдая, как, вопреки их насмешкам, стена с каждым днем растет и приближается по высоте к окружаемой ею горе. На строительство Перстня – так окрестили городское нововведение хархи – были брошены огромные силы. Несмотря на то что на острове не ощущалось недостатка в искусных ремесленниках, плотниках и гончарах, первому советнику Гимеона пришлось приложить немалые усилия, чтобы заручиться достаточным количеством рабочих рук для выполнения столь масштабного приказа. Требовались ежедневные объезды дворов, мастерских, домашних хозяйств с призывом немедленно бросить все дела и прибыть к рабочему лагерю, разбитому у подножия стены, чтобы подключиться к строительству и «достойно послужить своему подлинному королю Гимеону во имя Огненного бога». Крепкие, выносливые, неприхотливые в быту и покорные любым проявлениям монархической власти хархи смиренно следовали за советниками и глашатаями, готовые приступить к выполнению королевской воли.
Лагерь под Перстнем разрастался пропорционально размерам стены вокруг замка-горы. Лояльный к своим подданным, король Гимеон до сего момента не отличался подобными актами эксплуатации жителей Харх, но теперь лицо его каждый раз довольно сияло, когда с высоты своей обители монарх бросал взгляд на панораму строительства. На закате лет, как ни странно, острота зрения не покинула Гимеона. Так что в погожие сумерки он нередко выходил на свою террасу, где подолгу полулежал на кушетке, украшенной коваными завитками и крупными оранжевыми рубинами, вглядываясь в происходящее внизу.
Королю было по-отечески отрадно смотреть в лица жителей острова – воинственные, словно вырубленные в скале и обточенные ветром. Каждая черта этих лиц говорила о твердом характере, жизнелюбии и стойкости духа. Скромный рост хархи компенсировался недюжинной физической силой как у мужчин, так и у женщин. Их не знающие отдыха мышцы скульптурно проступали под льняными рубахами и туниками. Бронзового цвета кожа идеально гармонировала с жесткими густыми волосами, рыжеватые вкрапления в коих напоминали всполохи закатного светила на морской глади.
Как сталь несгибаемы,
Как пламень огненны —
Страх давно уж забыл к сердцам их дорогу,
Мечом и огнем венчаемы
Короля горы подданные —
Дети звезды-матери и Огненного бога.
Так поется в песне, что древнее самих огненных опаловых гор. В песне, которая порой витала и над рабочим лагерем у подножия стены, нестройным многоголосием доносясь до слуха старого Гимеона; вызывала тихую улыбку на морщинистом лице, успокаивала тревожные мысли, которые приносила ему ночь на своем черном бархатном палантине. Ибо были то мысли, леденящие душу и сковывающие плоть. Они наполняли разум образами существ, которых не видел никто из живущих на острове, которые не фигурировали ни в легендах, ни в трактирных байках. Каждую ночь, шурша по каменному полу, они подползали к королю и сдавливали его виски тесными рядами смертельно опасных бус… И сон Гимеона лишался безмятежного покоя, необходимого для сохранения душевного равновесия в наступающем дне.
Ночь за ночью.
Подобно черным волнам безумия, мысли набегали друг на друга, разрушая песочные замки здравого смысла, которые еще несколько лет тому назад казались незыблемыми твердынями.
Вскоре наблюдения за работой неутомимых хархи перестали приносить королю былое удовольствие. Его упорство сменилось лютой одержимостью. Властно взяв под руку седого Гимеона, она увела его под своды своих сумрачных чертогов, не дав даже оглянуться, чтобы увидеть отчаяние в глазах детей, королевы и всего двора. В несколько дней все происходящее вокруг, кроме растущей стены, обесценилось для короля. Пугающая бездна разверзалась внутри каждого, кто был с ним в его последние дни, пока всесильный бог Огня не подарил ему облегчение, укутав в белоснежный саван в королевском склепе напротив Святилища. Но даже когда с чуть слышным шипением погасла в воздухе последняя искра ритуальных факелов, король Гимеон продолжал смотреть на простившуюся с ним семью лихорадочно блестящими глазами, обрамленными черными кругами бессонницы и безумия. Какими благами и достижениями ни было ознаменовано правление ушедшего монарха, получилось так, что в память его окружения прочно впечатался именно такой образ: страдающий от мнимого удушья старик с трясущейся головой, перебирающий на шее невидимые бусы: «Еще каменный ряд. Еще один. Еще! Еще!»
Шли годы, часовые продолжали соблюдать установленную Гимеоном традицию – они вели наблюдение с Перстня и сменяли друг друга в установленном порядке. Утро семнадцатого дня Ящерицы1 не стало исключением. Утомленные бессонной ночью караульные спешили передать пост дневным дозорным, чтобы, набив желудки сытным завтраком в одном из лепившихся к стене трактиров, безмятежно заснуть под пахнущими сеном и шалфеем домоткаными одеялами в своих казарменных домишках из необработанных бревен.
– Какие новости, Дримгур? – поинтересовался низкорослый крепкий юноша, принимая оружие и шлем у своего напарника, готовящегося вкусить вышеперечисленные прелести жизни. – Море ночью, похоже, было спокойное, все равно что льдом покрыто.
– Ты-то откуда знаешь, как лед этот выглядит, Умм? – насмешливо глянул сверху вниз широкоплечий Дримгур, тряхнув рыже-каштановыми, словно смазанными маслом, вьющимися волосами, как будто пытаясь избавиться от преждевременных объятий сна. Поразмыслив несколько мгновений, он предположил: – Опять ходил истории безумного Тихха слушать? Говорил я уже тебе, что один вред от них! Побоялся бы хоть бога Огня и жрицы Йанги! Старик с разумом, как Гимеон-царь, давно попрощался, а вы слушаете, время от службы и отдыха отнимая. Тьфу! Вот тебе уже и море льдом каким-то покрыто, а завтра…
Распалившись на пустом месте, обессиленный ночным бдением Дримгур не смог расшевелить свою фантазию, чтобы привести достойный пример пагубного влияния вечеров «у оракула», полюбившихся островитянам.
– А завтра за ваши разговоры во время церемонии смены караула будете награждены отправкой в замок-гору, – раздался звучный голос командующего королевской стражей аккурат за спинами спорщиков. – Усиление стражи во время королевского совета – почему бы и нет?
Юноши вмиг умолкли, потупив взгляд, и даже не подняли головы в сторону начальника, выражая смирение и готовность понести наказание. Несмотря на свой молодой возраст и недолгий срок службы, Умм и Дримгур были хорошо знакомы со сводом военных правил на Харх и с последствиями их нарушения.
В течение своих первых созвездий в армии молодые стражники каждое утро на учениях громогласно повторяли за командующим Заповедь огненных воинов – древнейший кодекс поведения и внутреннего распорядка, передававшийся из поколения в поколение. Каждый последующий день учений добавлял новый раздел Заповеди, который будущим воинам предстояло выучить, присоединив ко вчерашнему отрывку. И поскольку грамота как форма культуры игнорировалась на Харх уже тысячи звездных циклов, у поступивших на службу не было возможности записать ни строчки из обширного свода правил. Приходилось запоминать – каждый день и помногу. И так уж вышло, что Умм должен был стараться больше других.
Имелись на то свои причины, коими юноше, увы, не приходилось гордиться.
В отличие от большинства товарищей, он смог попасть на учения у замка-горы в роли будущего служащего королевской армии с огромным трудом, сделав практически невозможное. Сложность заключалась не в недостатке физических способностей, выдержки или дисциплины. Нельзя было сказать, что юноша в глубине души тяготел к занятиям другого рода. О нет, напротив! Мечты о сияющих на солнце кованых доспехах и красно-золотом отличительном знаке королевского стражника не покидали его с самого детства. Вихрем носясь по окрестностям фермерских угодий деревни Овион, где жили и работали его родители, Умм упражнялся в боевых приемах с аккуратно обточенной отцом дубовой веткой, издалека смахивающей на деревянный меч, который действительно использовался на настоящих учениях. На груди мальчика в такие моменты обязательно развевался лоскут красного ситца, который по его просьбе мать каждое утро прикалывала к простой рубахе из небеленого полотна. Прямо напротив сердца.
К наступлению возраста призыва на учения Умм, не отличавшийся высоким ростом среди и без того низкорослого населения Харх, все же демонстрировал недюжинную силу, замечательную ловкость и сноровку в обращении с оружием. Понятное дело, его деревенское окружение, занятое возделыванием земельных угодий, уходом за скотом и молитвами Огненному богу и верховной жрице, о настоящем оружии могло только слышать. Или так, из праздного интереса бросить пару взглядов на ослепительный блеск клинков во время турниров. Истинной же тяги к военному искусству у потомственных земледельцев, предпочитавших жить «в труде во благо бога Огня» и «поближе к чреву плодородной земли-кормилицы», конечно, быть не могло. Не по годам смышленому Умму хватало сообразительности не винить в этом родителей и не искать с ними споров о собственном будущем. Он просто спокойно наблюдал за неспешным ходом жизни своей семьи, подчиненным двум календарям: сельскохозяйственному и религиозному. К его чести сказать, не только наблюдал, но и посильно помогал в поле, на скотном дворе и за прилавком на городских ярмарках.
Не реже двух раз в созвездие2 Умм с отцом и старшим братом Заккиром, нагрузив лошадей увесистой поклажей, отправлялся в ближайший город Нумеанн, чтобы обменять дары плодородной почвы на мешочек железных пластин с королевской символикой – горой, опоясанной легендарным Перстнем. Мальчику всегда было приятно становиться частью того магического процесса, в ходе которого аккуратно выложенные на некрашеных сосновых досках овощи, орехи, пряности и зелень постепенно исчезали, а пирамидки пластин с другой стороны прилавка – росли.
Было ли это искренней радостью крестьянина от реализации плодов его честного труда? Расценивал ли мальчик ярмарочную торговлю как один из способов борьбы за выживание? И да и нет. Все дело в толковании терминов.
Не секрет, что для односельчан Умма «выжить» означало не беспокоиться, чем прокормить семью, когда придет Скарабей3, и на что приобрести необходимые товары в спокойные созвездия года. Так что, возвращаясь с очередной ярмарки и звеня железными пластинами в подвязанных к поясу мешочках и полупустыми бутылками из-под дешевого янтарного вина, крестьяне действительно дышали полной грудью, ощущая приятную усталость вместе с чувством выполненного долга. Перед семьей, детьми, Огненным богом, жрицей Йанги и самими собой.
В выси послезакатного темно-лилового неба Матерь звезд обычно уже вела за своим подолом свиту мелких сияющих огоньков, когда группа удачно поторговавших крестьян с легким сердцем и потяжелевшими карманами въезжала в открытые ворота своего поселения. Некогда и Умм был частью этой группы, оставаясь при этом парадоксально одиноким.
Его внутреннее одиночество, никогда не демонстрируемое окружающим, происходило от несовпадения желаний и возможностей. Эти чаши весов всегда склоняются не в ту сторону, издревле терзая человеческие души, увеличивая своими колебаниями амплитуду земных страстей. Так случилось и с деревенским мальчишкой, который, работая с отцом в поле, ухаживая за скотом и торгуя на городских ярмарках, мысленно оставался частью другого мира. В этом далеком и прекрасном мире Матерь звезд отражалась не в серпе косы, а в до блеска начищенных доспехах. В нем Умма окружали не крестьянские дети, а огненные воины, одним из которых он, разумеется, видел себя в каждом цветном сне. Именно поэтому в железных пластинах с замком-горой и была запечатана мечта Умма, озаренная ореолом божественной недосягаемости. Вместе с тем пластины стали и физическим воплощением средства ее достижения. Чем старше становился мальчик, тем отчаянней он ощущал свое незавидное положение сына землепашца из провинции, для которого, согласно древней островной традиции, двери в мир блестящих доспехов оставались закрыты. Как говорится, ничего личного. Ведь принцип формирования войска из потомственных огненных воинов служил неприступным барьером для представителей всех прочих социальных групп: земледельцев, ремесленников, торговцев, кузнецов, рабочих.
Тем не менее вопреки своему «родовому предназначению», в которое свято верили хархи, вопреки устоявшимся военным традициям и вразрез с убеждениями семьи Умм твердо решил начать действовать. Цель, едва проблескивавшая на горизонте всполохами робкой надежды, властно тянула его к себе на аркане амбиций, юношеского честолюбия и непокорности судьбе. Тянула не по ровной проторенной дорожке, а грубо тащила по пересеченной местности: сдирала загорелую кожу ветками шиповника, жгла спину жаркими языками крапивы, кидала вдруг с размаху на жесткие булыжники. Но продолжала тащить.
Вероятно, этих сравнений все же будет недостаточно, чтобы отразить бурю противоречий в душе Умма перед лицом будущего. Ведь ему предстояло не просто переступить через условности местных обычаев, а перекроить линии жизни на своих ладонях, начерченные самим Огненным богом.
Не менее половины звездного цикла прошло в тяжких терзаниях. Они душили юношу пульсирующими тисками сомнений и не ослабляли хватку даже во сне после тяжелого трудового дня. А уж о том, чтобы открыто обсудить свои дерзкие мечты и авантюрные планы в семейном кругу, не было и речи. Рассчитывать на поддержку и понимание домашних? Каким надо быть глупцом, чтобы просто предположить такое! Стоит лишь представить глаза родителей – молнии гнева в отцовских и молчаливые слезы в материнских – и недоумение на лицах брата и сестры, чтобы навсегда оставить саму мысль о посвящении их в свои тайны. Умм сделался в родном доме до того скрытным и молчаливым, что, признаться, перестал узнавать сам себя. Друзья же, с которыми раньше он проводил почти все свободное время, довольно быстро превратились для Умма в недалеких деревенских парнишек, носа не кажущих за пределы уютного домашнего очага.
Понятное дело, совмещать ежедневные крестьянские заботы с тайными вылазками в кузнечную мастерскую – ближайшая находилась в маленьком портовом городке Доххе, граничившем с деревней Овион, – оказалось крайне непросто. Сколько раз эти планы срывались, отзываясь в Уммовом сердце приступами слепого отчаяния и ощущением собственного бессилия! Нужно ведь было не только успеть справиться со всем объемом хозяйственных работ и найти подходящий предлог для своей отлучки, но и, самое главное, застать в кузнице Дуффа.
Помощник кузнеца, с которым в начале Медведицы посчастливилось познакомиться Умму, вечно околачивавшемуся около связанных с оружием заведений, не видел ничего дурного в том, чтобы «немного подсобить бедному сельскому парнишке в обращении с венцом кузнечного искусства». Дуфф, королевский стражник в отставке, имел в виду, конечно, настоящий стальной меч. Правда, в его представлении, вынимать оружие из ножен «сельский парнишка» должен был исключительно для самообороны в случае нападения по пути с ярмарки.
Мог ли участливый, сердобольный Дуфф представить, что его помощь – это преступный спор с богами о судьбе, избранной ими для его юного подопечного? Разумеется, коли интуиция стражника в отставке соизволила бы вдруг пробудиться, то ни на какое обучение Умму бы не пришлось рассчитывать.
Однако, не иначе как волею тех самых богов, все вышло по-другому. И потому Умм ловил на лету наставления бывшего представителя элитных войск Харх, зеркально отражая все приемы и упражнения, которые тот методически и последовательно демонстрировал своему ученику. Интерес в этом обучении, стоить заметить, оказался обоюдным. Для Умма не было секретом, что Дуфф рано овдовел, а его двое сыновей давно завели собственные семьи и разъехались кто куда. Так что пожилой, но сохранивший военную стать и выправку стражник регулярно и с удовольствием делился плодами своего опыта с благодарным учеником. После каждой тренировки с деревянным мечом напротив кузницы юноша уходил домой со своей неизменной спутницей – мышечной болью. Выматывающей, но вместе с тем, как ни странно, постепенно вживляющей в тело новые силы. В голове он без устали, словно редчайшие на Харх драгоценности, перебирал усвоенные за вечер приемы. Что касается полуседого Дуффа, тот тоже возвращался в свой одинокий дом не с пустыми руками: обычно он сжимал в них мешочек ароматных специй или горсть орехов редкого сорта шицуб4. Отеческая гордость за юного ученика согревала душу вдовца, разливаясь внутри теплыми волнами ностальгии по своей давно миновавшей весне.
Но затем всегда наступало утро.
С некоторых пор Умм яро невзлюбил это время суток. Во-первых, приходилось призывать всю силу воли, дабы побороть сопротивление ноющих связок и мышц. Во-вторых, рассветный час предвосхищал долгий день работы в поле. Работы однообразной, тупой и скучной, отнимающей силы, которые ох как пригодились бы для занятий иного рода. Да и, что говорить, таскаться по полю за плугом Умму стало куда тяжелее, чем, с восторгом ловя каждое слово и движение Дуффа, подчинять себе поющую сталь меча. До чего муторно после этих увлекательных занятий было сосредоточиться на покосе сена, сорняках и удобрении «чрева земли-кормилицы»! Ну а монотонное, если не сказать медитативное, кружение по пастбищу с отарой овец, похожих на облако орехово-бурых завитков, плывущее по бескрайнему травяному ковру, превратилось для Умма в самую суровую каторгу.
Но даже эти трудности меркли на фоне поджидавшей его новой внутренней борьбы – безжалостной и одинокой. Потея и покрываясь гусиной кожей, он проваливался в ее бездну всякий раз, когда, как заправский карманник, незаметно тянулся на ярмарке под прилавком к той самой пирамидке гравированных железных пластин. Руку саднило от накатывающих волн стыда и вины перед ничего не замечающими отцом и братом. Однако так продолжалось лишь два созвездия. Позже Умму открылась новая истина, и она утверждала, что нет на бескрайнем Харх ничего такого, к чему нельзя привыкнуть, особенно если ты молод и сияние мечты слепит твой взор все сильнее день ото дня. А когда до наступления дня сборов оставалось последнее созвездие, волны стыда все же разбились о внутреннее упрямство и уверенность в себе. Они разлетелись на тысячи мелких брызг и постепенно растворились, на прощание плюнув пеной неприятно щекочущего осадка.
Взгляд молодости порой кажется единственно верным способом принятия решений на фоне клонируемых из века в век образцов устоявшегося миропорядка. Этот взгляд, быть может, дерзок, сверх меры категоричен, неоправданно ультимативен. Его принято осуждать, наскоро приговаривать к смертной казни, препарировать под увеличительным стеклом опыта прошлых лет. «Судьи» меж тем в пылу праведного гнева забывают о главном: что порой все же не грех смахнуть с собственных рассуждений вязкий ил предвзятостей, сбросить с плеч окаменелости архаики и поднять голову чуть выше.
Вряд ли Умм задумывался о таких вещах. Не стоит полагать, что, размышляя о собственной судьбе, он воспарял мыслями так высоко, что видел ее в контексте истории Харх. Ни на мгновение в голову юноши не закрадывалась сумасбродная идея о том, чтобы пойти наперекор этой самой истории, не говоря уж о священной воле богов. Откровенно признаться, ни до богов, ни до островной хронологии юному землепашцу попросту не было дела.
И все же одним прекрасным днем он, сам того не подозревая, восстал против того и другого.
Собственных, куда более искренних и незатейливых суждений Умму оказалось для этого достаточно.
В день сборов юных потомственных воинов босой и просто одетый крестьянский паренек уверенной походкой вошел в ворота портового городка Дохха и свернул на его единственную, а потому главную площадь. Рука этого паренька не дрогнула, привычным скрытным движением протягивая командующему группой отбора воинов собранную за полцикла созвездий стопку пластин в грубой холщовой тряпице. Умм не опустил глаза и выдержал тяжелый взгляд командующего из-под ржаво-белесых бровей. Сдержал он и крик фонтанирующего прямо из солнечного сплетения восторга, когда воинственный начальник – юноше не довелось даже запомнить его имя – незаметно кивнул Умму, в свою очередь не меняя каменного выражения лица. Ну а дальше опьяняющий вихрь первобытного возбуждения закружил юношу с мечом в поединке на смотре. И, вероятно, старый Дуфф был бы разочарован, узнав, что одержать победу в демонстрационной схватке его ученику помогли не проведенные у кузницы вечера тренировок, а ни с чем не сравнимый экстаз первого успеха. Еще бы! Ведь его, Умма, допустили до смотра наравне с сыновьями королевских стражников (каким-то чудом в захолустной Доххе нашлось двое таковых)! Остальные же юноши, в зависимости от выказанных умений, способностей и физической подготовки, были распределены по воинским частям Харх.
Задуматься только, ведь изначально судьба не могла предложить Умму и этого! Что до службы в королевской страже… Огненный бог свидетель: это стоило и потраченных пластин, и угрызений совести, и так тяжело давшегося решения бежать из дома! Да что там! Прикажи ему заново пережить все это ради места в почетном карауле на Перстне, Умм не задумываясь бы согласился.
Ибо он был уже не тот, что раньше. Многое, очень многое изменилось с тех пор, как мечты взяли над ним верх.
Лед невинности вместе с незыблемостью векового уклада крестьянской жизни и предрешенной судьбы дали глубокую трещину. Если внимательно прислушаться, можно было уловить глухое эхо скрежета ее расходящихся швов на поверхности исторического полотна.
Оно продолжало гулко пульсировать в ушах Умма, который в составе группы сборов под барабанящим градом впечатлений уже подъезжал на иссиня-черной лоснящейся кобыле к величественному своду трех обвивающих друг друга горных вершин. Перед слезящимися от морского ветра глазами распахнулся вид на грозное укрепление из графитового камня с тонущей в облаках зубчатой верхушкой. Казалось, она насмешливо скалится на приближающиеся ряды будущих молодых стражников, щерясь своими черными выступами с наростами морской соли и ползучего мха.
Однако все это не попало в фокус «взгляда молодости». Все мысли меркли перед той, которая перешагнула порог фантазий и сновидений Умма, найдя свое воплощение в реальном мире: «Я на Перстне…»
«Я на Перстне!»
Глава 2 Собирайтесь, собирайтесь…
Командующий королевской стражей Рубб вечером того же дня, за час до начала совета, отправился в замок-гору, чтобы, пройдясь по его залам, лестницам и коридорам, убедиться, что отличившиеся утром Умм и Дримгур находятся на постах.
Обычная рутинная обязанность – ничего более. Разыскать двух болтливых караульных да сообщить им о предстоящем взыскании за неуставное поведение. Или не сообщить и повременить с этим до вечера, чтоб не расслаблялись. Большой разницы, в общем-то, нет. Он, Рубб, уже неоднократно поступал с подчиненными обоими способами, но так и не определился, которому отдать предпочтение. В конце концов, это всего лишь очередной отрезок изъезженной вдоль и поперек дороги службы, которой, увы, ничем уже не удивить командующего. Он, признаться, на этот раз даже обнаружил в себе отголоски смирения с тем, что Святилище с недавних пор перехватило у него обязанность вершить суд над нарушителями военной дисциплины.
«Что так, что сяк – закончится все прижиганием плеча, которым эти мальчишки еще и гордиться станут, – бесстрастно рассуждал про себя Рубб. – Ну, это так, по молодости, по незрелости своей, разумеется. Пока не раскумекают, что за этими ожогами ничего-то и нет, что они там себе воображают. Одна кромешная пустота».
А уж о пустоте во всяческих ее проявлениях командующий знал не понаслышке. Подступала она к нему медленно, но неотвратимо.
Отец Рубба незадолго до смерти передал ему, вместе с тяжким грузом ответственности за всю их многочисленную семью, золотисто-красную эмблему командующего личной охраной монаршей династии. Рубб принял ее, торжественно склонив голову перед тогда еще молодым королем Каффом, на Ладони напротив замка-горы. Гордость переполняла нового начальника королевской стражи: близость к легендарному роду, причастность к истории Харх, блестящая возможность проявить себя… Именно такой представлял молодой Рубб вожделенную должность.
Но суждено ли было его мечтам исполниться?
Вступление Рубба в должность ровным счетом ничего не изменило в его судьбе: места для подвига в ней все так же не находилось. Он словно попал в хорошо отлаженный часовой механизм, заменив собой пришедшую в негодность шестеренку.
Сравнение, что называется, в яблочко. Действительно, став однажды частью этого механизма, любой королевский стражник, помимо высокого статуса и народного признания, начинал остро ощущать на своем лбу клеймо обезличенности. Не стал исключением и Рубб. Парадоксально, но служба в элитном подразделении армии огненных воинов зачастую горько разочаровывала стражников, и это несмотря на все ее преимущества: близость к королевской семье, внешний престиж, проживание в безопасности и комфорте пределов Перстня. Расхожим стало сравнение помпезности королевской стражи и истинной сути нахождения в ней с неправильно выращенным земляным орехом шицуб. Гладкая ароматная скорлупа с янтарными прожилками, внутри которой вместо вожделенного плода с экзотическим фруктовым вкусом оказывается только синеватая плесень. Усиливало такой эффект древнее предписание, не позволяющее служащим в замке-горе видеться со своими семьями чаще двух раз в звездный цикл. Сохраняя таким образом для стражников возможность продолжения рода, предписание тем не менее превращало хранителей королевского покоя в ряды одинаковых шариков кремнезема5, из которых состояли опаловые горы. Принцип наследственности в отборе стражников, их изоляция от турниров, учений и прочих возможностей проявить свои воинские качества дополняли ритуально-символический характер их службы.
Рубб, унаследовавший высокое воинское звание от отца, в конечном итоге научился воспринимать его трезво, не строя иллюзий относительно каких-либо особых перспектив для себя и своей семьи. Видеть истинную суть вещей – вот чему действительно научила его сияющая на груди эмблема в виде двух мечей, скрещенных над Перстнем. По счастью, за годы службы Руббу удалось выстроить мощный ментальный барьер, не позволяющий обратной стороне этого знака отличия давить на сердце тяжелым камнем нереализованного честолюбия, несыгранных турниров, неполученных одобрительных взглядов короля и его приближенных. Эмблема с мечами – предмет восхищения и зависти среди простонародья – стала восприниматься Руббом не иначе как крест, который он по праву рождения взял из рук умирающего отца и обреченно, но с достоинством понес дальше.
– Спину ровней. Полумесяцы алебард в один ряд. Полная тишина.
Как ни странно, команды напоминали не рявканье сторожевого пса, а негромкие умиротворяющие мантры. От мантр их отличали едва уловимые непроизвольные ноты обреченности.
Но, так или иначе, «часовой механизм», которым управлял Рубб, продолжал работать безупречно. Четверки закованных в бронзовые доспехи стражников были симметрично распределены по периметру замка. Застывшие каждый на своем месте, издалека они напоминали восковые фигуры. Рубб удовлетворенно отметил про себя, что стальные топорики алебард были в этот раз начищены раствором соли и пыльцы драккура6 с особой тщательностью.
«Побольше лоска и почтения традициям, поменьше черных мыслей».
Не один десяток звездных циклов миновал, прежде чем командующий смог в полной мере оценить этот прощальный совет своего отца. Однако, вспоминая его угасающий с каждой встречей взгляд, таящий неизбывную тоску о навсегда упущенных возможностях, Рубб пришел к выводу, что отец и сам оказался бессилен перед легионом тех черных мыслей.
– Явились. Рты чтоб были на замке у обоих, – не меняя интонации, бросил Рубб, проходя мимо Умма и Дримгура. Те подобострастно вытянулись в парадной стойке и будто бы даже не дышали.
Обездвиженные бронзовыми клещами доспехов и кодексом Заповеди, молодые стражники не имели достаточно свободы, чтобы хотя бы утвердительно кивнуть, заверяя командующего в своей готовности выполнить приказ. Не только этот, но и любой другой. Да и вообще, согласны хоть каждую ночь выходить в караульную цепь на Перстень, чтобы там, не издавая ни единого звука, охранять пределы замка-горы. Готовы до блеска начистить доспехи и оружие всему подразделению королевской стражи. Что угодно, лишь бы избежать наказания в Святилище.
Казалось, тревожные мысли стражников скоро обретут реальную физическую энергию и пустят трещину по шлемам, горделиво возвышающимся над их головами. Холодный пот, бегущий по разгоряченным под металлическими панцирями спинам, обжигал не хуже смоченных в кипятке прутьев.
Рубб видел все это. Читал мысли и чувства молодых стражников как открытую книгу.
Видел также, что вызубренная за годы службы Заповедь не позволяла юношам не то что высказать эти просьбы вслух, дополнив их искренним раскаянием за утреннюю минутную слабость, а даже устремить на своего командующего молящий взгляд. Что им оставалось? Пожалуй, лишь, мысленно сложив пальцы рук в ритуальном жесте, беззвучно просить Огненного бога избавить их от кары в Святилище. Или облегчить ее, насколько это возможно.
Однако командующий сделал свой выбор.
Та пара секунд, на которую Рубб задержался около Умма и Дримгура, ни на йоту не приподняла завесу тайны над их ближайшим будущим, как ни пытались они уловить хоть какой-то намек во взгляде или выражении лица командующего королевской стражей.
– Вы двое, поменяйтесь местами. Поправь забрало. Подбородок выше, – раздавались команды уже за спинами сокрушенных друзей и были адресованы не им, а другим стражникам.
Эхо шагов затихало, растворяясь в гигантской глотке трех сплетенных в единый природный конус гор. Застывшая над Уммом и Дримгуром тишина оставила их один на один с клубком тревожных мыслей, одновременно возвещая, что совет вот-вот начнется
Обычно в таких ситуациях юноши испытывали особую гордость и трепет, граничащий с восторгом. Стражники предвкушали момент, когда мимо них по очереди прошествуют все представители королевской семьи. Каждый раз – как в первый. Неспешно, будто бы нехотя, они прошагают по подвесному мосту в Грот заседаний, сверкая инкрустированными опаловыми венцами на головах. Как всегда углубленные в собственные размышления, венценосные особы, скорее всего, даже не бросят взгляда на стражников, слившихся с обстановкой замка, но сама возможность находиться в такой близости от легендарной династии согревала сердце. Но не в тот вечер.
Последние минуты до начала вечернего совета. Согласно древнему обычаю, он проводился в Гроте заседаний, в глубине королевского замка-горы. Далекие предки нынешнего короля Харх завещали своим потомкам соблюдать эту традицию из соображений безопасности: если мифические враги хархи дерзнут напасть на остров аккурат во время совета, то грот мгновенно превратится в надежное убежище для представителей политической и религиозной власти. Именно поэтому одной из воинских традиций Харх оставалось усиливать охрану замка в день заседания, чтобы обеспечить надежную защиту избранным хархи и в случае нападения защищать их до последней капли крови.
Пурпурные стены грота тускло мерцали слюдяными наростами, отражая тихое пламя свечей, расставленных по периметру огромной треугольной малахитовой плиты. Это пламя выхватывало из мрачной темноты искусно выкованный королевский трон, стоящий на небольшом возвышении напротив плиты. Словно посвящение стихии огня, сочетание металлов золотистого, медного и багряного цвета превратило спинку трона в устремленные высоко вверх языки пламени. На самой верхушке, недосягаемой для света коротких массивных свечей, три «огненных» столпа, повторяя строение замка-горы, сплетались в единое целое. Во влажном пещерном воздухе стоял насыщенный грибной дух. Из пазух черного наскального мха сочились тонкие струйки росы, называемые в народе слезами каменных великанов. Не успевая достигнуть земли, роса испарялась, так что полупрозрачный шлейф легчайшего тумана постоянно окутывал грот, стелясь по его низинам, присыпанным крошкой лимонно-желтого цитрина7.
Тонкие ленты тумана были разорваны суетливыми движениями перебирающих по мерцающему полу коротких ножек в сыромятных сапогах с бряцающими мелкими бубенчиками. Внутри бубенчиков перекатывались крошечные золотые шарики. Слегка хромающая походка их владельца создавала своеобразную нервическую мелодию, проигрываемую тремя инструментами: тонко дребезжащими бубенцами, нестройным скрипом подошв по цитриновой крошке и передразнивающим их глубинным эхом.
Великан мне подпевает,
Бог Огня цитрин подарит.
Скарабей придет уж скоро,
Ну а мне какое горе?
Поцелованный огнем,
Я не чахну над копьем,
Только знаю, что совет
Не укроет Харх от бед.
Знает Эббих, знает точно:
Перстень ровно что песочный.
Скарабей взойдет на трон,
Тихх поведал нам о том.
Собирайтесь, собирайтесь,
Напоследок поиграйтесь,
Жабий глаз и кочерга,
Заседайте до утра,
В танец искры не вмешайтесь,
Собирайтесь, собирайтесь…
Простая, незатейливая песенка – ни дать ни взять детская считалочка, – однако все дело в исполнении. Хриплый голос Эббиха, наполнял ее мрачноватой игривостью, превращая веселую мелодию в зловещее карканье.
Согнувшийся под тяжестью собственного горба, хромой Эббих все же умудрялся необыкновенно быстро перемещаться по давно знакомым ему коридорам замка-горы. Низкий даже по меркам хархи, с лысеющей головой сплошь в пигментных пятнах, увенчанной бронзовым обручем, горбун обычно производил противоречивое впечатление на окружающих. С одной стороны, его прихрамывающая походка, маленький рост, заискивающие мутно-желтые глазки, неиссякаемые песенки собственного сочинения вызывали умиление и могли бы обеспечить карлику самое нежное обращение. С другой – клеймо в виде треугольника на изрезанном морщинами узком лбу, клинообразная борода, доходящая до голенищ сапог, постоянное невнятное бормотание и тихий дребезжащий смех вызывали в душе смутное чувство тревоги.
Тревожиться по пустякам обитатели огненной земли не любили, а Эббиха предпочитали избегать.
Уникальное положение горбуна при дворе усиливал бытующий в сознании хархи приоритет физической силы перед прочими характеристиками. Стать, развитая мускулатура, блестящее владение оружием, умение постоять за себя и защитить других всегда были главными критериями, определявшими общественное положение. В сочетании с принципом потомственности наличие или отсутствие этих качеств позволяло делать выводы о будущем того или иного молодого хархи: карьера, перспективы личной жизни, близость к королю, возможность вступить в престижную гильдию.
Чего можно ждать от хромого карлика? На что этот горбун может сгодиться? Да ведь он первым бросится с высокой террасы замка, если враги начнут его осаду! Первый под пытками раскроет секрет убежища королевской семьи в гроте, не выдержав и минуты боли. Он не сможет защитить даже самого себя, не говоря уже о короле и его приближенных. «Всем, что не усиливает безопасность и защиту, – пренебречь во имя бога Огня и подлинного короля Харх», – гласит культовая Заповедь хархи.
Но так уж вышло, что Эббихом не могли пренебречь. Даже если бы захотели.
Обход Грота заседаний почти завершен. Неся перед собой подвешенный на железной цепочке небольшой фонарь из дутого цветного стекла со вставленной в него коптящей свечой, Эббих, по обыкновению, недоверчиво осмотрел помещение. Убедился, что металлические «языки пламени» королевского трона сияют достаточно ярко при тусклом освещении грота. Поправил одну из оплывших свечей на малахитовой плите – свеча нарушала правильную форму треугольника. Раздраженно нахмурил редкие клочки выгоревших бровей. Проверил расположение каменных стульев с высокими спинками, выполненными на манер королевского трона, но в более простом символическом стиле. Пощупал их сиденья из холодного камня: хорошо ли они утеплены верблюжьими покрывалами? И, довольный результатами ревизии, издал блеющий смешок, мгновенно размноженный горным эхом и окруживший саркастическим смехом его самого.
Напоследок поиграйтесь,
Собирайтесь, собирайтесь…
Эббих в последний раз проворчал свою стихотворную поговорку, вставая у тяжелой, окованной железом двери, отделяющей грот от внутреннего пространства замка. В его руках оказался металлический диск размером с три головы самого карлика и молоток с позолоченной рукоятью. Удар металла о металл высвободил резкий звенящий звук, будто рвущийся из самого сердца предметов. Звук заполнил собой все помещение, отразился от сочащихся росой пурпурных стен и наконец вырвался из грота. Громогласный глашатай известил о начале заседания.
К тому времени по другую сторону двери уже собрались участники совета. Здесь в торжественном молчании стояли король Кафф с женой, сыном и сводным братом Явохом, три королевских советника, главный военачальник королевской армии Рагадир, главы оружейной, аграрной, ювелирной и торговой гильдий, главный целитель и звездочет. Этих влиятельных персон нечасто можно было встретить в одном месте. И все они как один покорно стояли у закрытой на тяжелый засов железной двери, ожидая приглашения на заседание и сохраняя сакральное молчание.
– Рад всех видеть в добром здравии. Начнем совет, – без лишней помпезности и с искренней улыбкой поприветствовал своих подданных Кафф – подлинный действующий король огненной земли Харх.
Прозвучали эти слова только лишь после того, как утихло эхо оглушительного удара позолоченного молоточка по металлическому диску, а Эббих занял свое место на выступе в стене грота и заболтал ножками, обнимая стеклянные грани фонаря.
– Волей Огненного бога и милостью священного Пламени, – не то подсказывая нужные слова супругу, не то вознося молитву, полушепотом монотонно пробормотала жена короля Окайра.
Одетая в длинную бархатную черную тунику, королева воплощала собой образец духовного смирения. Свободный крой одеяния оставлял строение ее тела загадкой, а тяжелые складки капюшона хранили в секрете прическу монархини. Украшения? Нет, взгляду не за что было зацепиться и здесь. При том что королева, разумеется, могла позволить себе самые изысканные драгоценности, она ограничилась лишь узкими дорожками мелких изумрудов по краям рукавов и подолу туники. Мягкий свет карих, слегка раскосых глаз струился, казалось, в какое-то другое измерение. На тонких губах нельзя было уловить и тени одобрительной улыбки, но в то же время лицо Окайры не выражало и недовольства. Не глядя никому в глаза, она сложила руки в религиозном жесте: соединила крестом большие пальцы, указательный правой руки лег между указательным и средним перстами левой, остальные пальцы – согнуты к ладони. Получившаяся фигура напоминала не то три сплетенные горы, внутри которых и проходил совет, не то Эббихово клеймо.
Окайра, склонив голову, легка коснулась лба сложенными в «знак пламени» пальцами. Совет поспешил зеркально отразить ее движение. За ними последовал и король.
– Продолжим, – вернул Кафф подданных к насущным вопросам.
Пламя свечей яркой вспышкой отразилось в широком, доходящим до самого локтя золотом браслете короля, напоминающем рыцарские латы. Такое же украшение охватывало его вторую руку. Оба средних перста короля были закованы в металлические, с витиеватыми гравировками кольца, больше похожие на ястребиные когти, они полностью закрывали пальцы.
– Имит, будь добр напомнить господам членам совета, какой нынче с утра у нас день, – без долгих вступлений обратился король к звездочету.
– Нынче, – откашлявшись и церемониально положив одну узкую сухую ладонь на другую, отвечал седовласый Имит, – вечер семнадцатого дня Ящера. Ящерицы, если желаете, по новому толкованию. Звезды уже отчетливо сложились в хвост, часть брюха и задние лапы.
– Что скажешь нам о ее форме? Сейчас уже можно что-нибудь понять? – нетерпеливо спросил Кафф.
На несколько секунд в гроте повисла тревожная тишина, нарушаемая лишь тихим позвякиванием золотых шариков внутри бубенцов Эббиха. Тот, скрючившись и крепко обхватив свой разноцветный фонарь, продолжал сидеть на выступе.
– Ваше Величество, – почтительно ответствовал Имит, – я не смею сеять подозрения в ваших мыслях своими далекими от науки приметами… К тому же я обладаю основаниями, не подтвержденными какими-либо законами или хотя бы частными теориями. Как вы сами знаете, я опираюсь только лишь на годы наблюдений и свое субъективное отражение закономерностей…
Звездочет слегка дрожащими руками извлек из складок шерстяного хитона8 небольшой деревянный сундучок, пахнущий ладанной смолой и влажной почвой. С легким стуком, до которого не смогло дотянуться докучливое пещерное эхо, поставил его перед собой на угол малахитовой плиты. Члены совета переглянулись.
Окайра еще ниже опустила глаза. Королева, по своему обыкновению, все так же находилась в ином измерении, что, однако, не мешало ей отчетливо сознавать, что сегодня на совете откроется нечто. Окайра не была потомственной предсказательницей, каких часто можно встретить на городских ярмарках; не переняла у верховной жрицы способность смотреть в будущее сквозь пыльцу гаудра желтолистого. Да и вещие сны не были частыми гостями под шелковым балдахином королевского ложа. И все же напряжение, предшествующее перелому самого хода совета, королева ощущала физически.
Стаккато дыхания зарождающейся тревоги дотянулось и до короля. Оно прочертило узкую влажную дорожку пота по его мощной шее, прижгло плетью выпирающие на запястьях вены, заставив их пульсировать быстрей. Страху неизвестности безразлично, что носит его жертва: огненный опаловый венец или рабские кандалы. Однако тот, чью голову пока украшал опаловый венец, не имел права поддаться смутным предчувствиям, что уже заползали в его мысли черными злорадно шипящими змеями. Кафф чуть заметным движением стиснул кулаки так, что на ладонях отпечаталась гравировка колец-когтей. И, не меняя интонации, продолжил:
– До прихода Скарабея, судя по твоим словам, Имит, остается тридцать три дня. В этот срок мы должны завершить все начатые в Ящерицу планы: пополнить кладовые городов припасами, заготовить достаточно корма для скота, который временно не будет пастись на воле. Особое внимание должно уделить поселениям, наиболее отдаленным от нашей столицы, Подгорья. – Кафф многозначительно посмотрел на тучного Курхана, главу аграрной гильдии. – Изготовить достаточно капель регенерации для лечения пострадавших от вспышек слепящих смерчей.
Король медленно перевел взгляд на целителя Аннума. Тот смиренно кивнул, продолжая методично перебирать бусины черных сапфиров, продетые в несколько рядов тонких кожаных браслетов. Они украшали изящные руки лекаря, изборожденные дорожками зеленоватых вен.
– И, как вы помните, – безапелляционно провозгласил Кафф, – День обмена должен состояться не позднее чем за три дня до исхода Ящера. – Король специально употребил древнее название созвездия, чтобы подбодрить сникшего над деревянным сундучком толкователя звезд. – Не позднее.
В подтверждение своего приказа король легонько ударил по плите острым концом кольца-когтя.
– Все будет подготовлено в лучшем виде к визиту уважаемых гостей из моря, ваше сиятельство, – поспешил заверить правителя глава торговой гильдии. Он заискивающе склонил голову набок и сузил миндалины глаз болотного цвета, пытаясь – пока что безуспешно – поймать взгляд короля. – Каменная мантия уже увеличена в размерах как вширь, так и в длину, – с жаром отчитывался Гаркун. – Народ трудился день и ночь, но, – глаза толстяка просияли гордостью, – скажу прямо: в этот раз обошлись без использования рабов. У тех, от кого Огненный бог отвернулся, сами знаете какие руки, да и в прошлый звездный цикл умудрялись еще строительные камни на черный рынок по ночам стаскивать! Зато теперь какая красота!.. С любой высокой террасы замка видно! А если с берега поглядеть – ну просто в горизонт уходит! Не Перстень, конечно, тоже работа что ни на есть…
– Гаркун, тебе здесь кто-то разрешал говорить? – раздался тихий голос по левую руку Каффа. Его четырнадцатилетний сын Бадирт раздраженно поднял бровь, изобразив на юном лице искреннее недоумение. – Ты, кажется, забыл, что находишься на королевском совете, а не в трактире Подгорья со своим торгашами.
Слова прозвучали резко, нарушив размеренный ход совета. Даже Окайра подняла голову, выйдя из своего полугипнотического состояния, но ни словом, ни жестом не отреагировала на сыновнюю реплику. При этом лица присутствующих не отразили ни малейшего удивления ее внешним равнодушием. Все как один воззрились на короля, чтобы успеть подстроиться до того, как зарождающийся конфликт войдет в переломную фазу. Горбатый Эббих сощурил маленькие желтые глазки, во мраке грота напоминающие кошачьи.
Перепуганный Гаркун уже забыл, о чем только что с таким жаром и вдохновением докладывал королю в своем искреннем порыве выслужиться и получить похвалу за честно выполненный приказ. А что, он ведь и впрямь уложился в установленный Каффом срок! Можно даже сказать, с запасом. Сумел везде договориться, сбить цены на материалы, убедить Рагадира прислать солдат, когда стало не хватать рабочих рук. Да еще и не задействовал рабов. Однако кому нужны эти аргументы, если ты умудрился разозлить королевского отпрыска? Со стороны уважаемый глава гильдии теперь выглядел так, будто затолкал рвущиеся наружу слова себе обратно в глотку. Да не просто затолкал, а еще и для верности залепил рот расплавленным сургучом, лишь бы эти самые слова прекратили играть с Гаркуном свою злую шутку.
– Где твои манеры, Бадирт? – мимоходом бросил король, метнув в «отпрыска» один из своих наиболее суровых взглядов.
На этом инцидент был исчерпан. Конечно, в глубине души Кафф негодовал по поводу дерзости сына в присутствии подданных. Далеко не первой за этот звездный цикл. Вечно занятый государственными делами, освобождаясь от них только для того, чтобы с головой уйти в занятия боевыми искусствами, король не мог уловить закономерность, управляющую изменившимся поведением Бадирта. Созвездия? Баланс успехов и поражений в тренировках с мечом? Может, любовные переживания? Как бы то ни было, сын короля не должен столь открыто выказывать презрение к самым почитаемым хархи, которые долгими созвездиями преданной службы снискали всеобщее доверие и признание. В конце концов, это прежде всего этикет, и его правила одинаковы для всех.
Дав себе обещание найти время на скорее дружескую, чем назидательную беседу с сыном, Кафф ободряюще взглянул на мысленно уже прощающегося со своей должностью Гаркуна. Тот же, в свою очередь, благодарно опустил голову ниже, чем Окайра в своих молитвенных ритуалах, и облегченно вздохнул.
Кафф, до сих пор пытавшийся сдерживать нетерпение, теперь, после раздачи указаний по подготовке к Скарабею, был рад вернуться к тревожащей его теме. Возможно, все дело в гаснущем разуме старого Имита, который, подобно кривому зеркалу, преувеличивает значение несущественного? Выдает его за некое знамение? Хочет на склоне лет успеть остаться в памяти островитян выдающимся пророком? Тени надежды маятником раскачивали фантазию Каффа, подталкивая к утешительным объяснениям. Он уже был готов ухватиться за спасительную соломинку одного из них, напрячь метальные силы и выбраться из вязкого болота смутных предчувствий.
Воодушевленный проснувшимся самообладанием и уже готовый посмеяться над собственной мнительностью, Кафф приглашающим жестом подозвал Имита. Тот смиренно пошаркал с сундучком в руках по цитриновой крошке к королевскому трону. Все, кроме Окайры и продолжающего разыгрывать оскорбленные чувства Бадирта, напряженно вытянули шеи в сторону Каффа. Он уверенно положил руку на шершавую деревянную крышку сундучка, словно на эфес любимого меча, и одарил подданных лучезарной улыбкой.
– Сейчас досточтимый Имит раскроет нам тайны будущего. Слушайте и запоминайте. Может, в этот раз подползающий к нам Скарабей дыхнет на Ящерицу не слепящим смерчем и засухой, а алмазной пылью? Тогда это уже ответственность господина главы ювелирной гильдии!
Сидящие вдоль малахитовой плиты машинально улыбнулись шутке короля. Никому не хотелось, с одной стороны, выставить себя трусом, с другой – наступить на грабли Гаркуна.
Их улыбки синхронно сползли с побледневших лиц, когда Имит открыл ржавым от времени ключом свой сундучок и разложил перед Каффом глиняные таблички с выдавленными рисунками. На табличках были изображены ящерицы, символизирующие различные звездные циклы: ползущие, затаившиеся на камне, спящие в клубке собственного продолговатого тела и даже стоящие на задних лапах.
Каждое из созвездий Имит систематически срисовывал заостренными палочками, чтобы в дальнейшем делать выводы об их характере, опираясь на сопутствующие им события. Порой действительно складывалось так, что под Спящей Ящерицей жизнь на острове не отличалась неожиданными событиями; под Выпустившим Когти Ястребом имели место вспышки восстаний рабов; под Выгнувшей Спину Медведицей чаще обычного рождались бездыханные младенцы. А иногда характер созвездия никак не отражался на хархи и их повседневной жизни.
На последней табличке рисунок был не окончен, а срисован лишь настолько, насколько Огненный бог приподнял небесный шатер, чтобы дать островитянам знак своей всемогущей рукой, как он это делал каждое созвездие. Сначала клинописный набросок ни о чем не сказал Каффу. Король хмуро вглядывался в его очертания, состоящие из небольших точек с расходящимися лучами. Имит заметил это и перевернул табличку вверх ногами. Поводил заостренным ногтем по изображению звезд, показывая Каффу уже намеченные очертания. Очевидно, что пресмыкающееся будет лежать на спине, разметав чешуйчатые конечности, хвост будет лежать рядом…
Кафф недоуменно посмотрел на звездочета. Тот только кивнул на немой вопрос короля. Казалось, в гроте никто не дышал, даже роса перестала сочиться по пурпурным стенкам.
– Ящерица… – Кафф тяжело вздохнул, еще крепче стиснув пальцы в оковах колец. – Ящер мертв.
Глава 3 Метаморфозы света
Лучи Матери звезд, проходя сквозь толщу бирюзовых вод моря Вигари, затейливо преломлялись полупрозрачным колышущимся веером. Он продолжал скользить дорожками своих шелковых полотен далеко за поверхностью водной глади, распадаясь на глубине богатым спектром.
В самом начале своего погружения в эти воды сияющие посланцы Матери звезд будут выхватывать из подступающего со всех сторон сумрака вполне заурядные пейзажи, служащие декорациями жизни типичных морских обитателей. Однако не стоит думать, что серебристые переливы рыбьей чешуи, кирпично-бурая бахрома водорослей и белесые кляксы дремлющих медуз – конечная цель этого путешествия. Прыткие стрелы лучей, выпущенных из тетивы ослепительного звездного тела, стремительно рассекут толщу морских глубин и продолжат расцвечивать пространство такой глубины, которой никогда бы не достигли лучи другого рода. Например, солнечные. Между тем эту непреложную истину было бы невозможно проверить в условиях мира, отличного от Сферы. Ведь море Вигари с разверзнутой в ней гигантской впадиной, почти доходящей до сферической сердцевины, пока что остается единственным подобным водным пространством во Вселенной. Во всяком случае, так утверждают многочисленные труды по гидрографии, океанологии и космологии, заполняющие полупрозрачными мембранами своих страниц библиотеки знаменитого Университета Вига, а также примыкающего к нему Лабораториума.
Итак, преодолев «слепую» границу, после которой лучи любого другого небесного тела сдались бы под гнетом тянущего на дно мрака, дети Матери звезд упорно продолжают начатый триллионы километров назад путь, прославляя Прародителя этим смелым паломничеством. В своей непреклонности и бесстрашии они напоминают горсти светящихся семян, щедрым мановением божественной длани рассыпанных по бездонным глубинам Вигари.
Достигнув твердой поверхности, которая в любом другом море могла бы стать верным признаком конца пути, упрямые посланники света не успокоятся. Они знают: завершение одного есть начало другого. Пошарив по каменистому дну, вездесущие нити лучей обязательно доберутся до стелющегося по его поверхности бескрайнего плаща темно-оливковых водорослей. Их алые фосфоресцирующие шипы изгибаются причудливой вязью. И то, что можно принять за своеобразное украшение дна Вигари, скрывающее под собой лишь слои базальтов, окажется чем-то совершенно иным. Ведь это водорослевое плетение есть самая высокая точка уже совсем другого мира. Оно служит небесным куполом подводной цивилизации Вига – интеллектуальной жемчужины Сферы, оплота наук и искусств.
Здесь, на верхней границе миров, заканчивается путь звездных лучей. Но только для того, чтобы своей последующей реинкарнацией они, изменив форму уже в третий раз, убедили даже самых закоренелых агностиков в бесконечности силы света, как и самой жизни.
Хархи верят, что Огненный бог, подлинный посланник Прародителя на Сфере, каждое утро облетает по кругу Матерь звезд на своем крылатом скакуне, обдавая ее диким вихрем языков пламени, чтобы Матерь проснулась и в ликовании затанцевала по небесному своду.
Казалось бы, красивая легенда, и не более.
Так вот то, что произойдет с лучами Матери звезд за вьющимся ковром шипастых водорослей круах, кого угодно заставит поверить во всемогущество главного божества хархи. Потому что если присмотреться к этим водорослям, то в сложной структуре их плотного плетения можно все же разглядеть мириады крошечных клубков. Их круглые тела с переливающимся внутри светящимся веществом издалека напоминают россыпь мелких звезд, слабо проглядывающую сквозь тюлевую дымку ночного неба. Также эфимиры напоминают затерянных в древесной кроне светлячков. С той лишь разницей, что обитатели водорослей круах являются неотъемлемой частью своего «дома». Такой же, как толстые волокнистые ветви с перекатывающимися внутри газовыми пузырьками и прикрепленные к ним красноватые спирали острых шипов, загадочно мерцающие во мраке морских глубин.
Эфимиры, не связанные с круах каким-либо общим органом и не вживленные в них, по сути дети этих водорослей, которые, появляясь на свет из их шипов, навсегда остаются жить на необъятном родительском теле, ничем его не обременяя. Все дело в том, что круглые, окаймленные невесомыми прозрачными ворсинками тельца эфимиров светятся неспроста: они питаются теми самыми добравшимися до них с недосягаемой небесной высоты лучами Матери звезд. Они жадно вбирают колышущимися ворсинками звездный свет, растворенный водной бездной до тончайших блекло-серебристых нитей. Можно сказать, подводные «светлячки» их вдыхают, накапливая свет в себе и тем самым превращаясь в шарики ярко сияющего бисера, которыми богато расшито бескрайнее покрывало водорослей. В течение дня крошечные эфимиры поглощают столько сияющих нитей, что даже ночью продолжают рассеивать глубинный мрак. Находясь на огромном расстоянии от сводов небесного шатра, из которого Огненный бог любуется на прислуживающие ему звезды, эфимиры все же тесно связаны с круговоротом его жизни. Ночью «светлячки» засыпают, подобно Матери звезд на горизонте неба, но так же, как и ее дети-звезды, продолжают окутывать свой мир нежным чарующим светом. Светом, который сулит умиротворение и спокойный сон, укрывая от эха грозовых раскатов прошлого и от вспышек молний с мелькающими в них зловещими предсказаниями. А утренняя заря торопится поскорей запустить свои длинные искристые пальцы в гущу водорослей круах, чтобы найти в них еще сонных эфимиров и передать им эстафетный факел. Теперь они – главные и единственные проводники света и тепла в непроницаемых глубинах моря Вигари.
Да, конец любого пути – это всегда одновременно начало следующего. Так любят говорить вига, жители одноименного подводного государства, границы которого очерчены гигантским темно-зеленым палантином с мерцающими в его складках звездочками эфимиров. Их рассеянное сияние создает затейливую игру света, усиливающую чувство пребывания в другом измерении, которое непременно возникнет. Даже если вы еще не поняли, где находитесь. Даже если вы только преодолели многочисленные слои круах и еще плывете к земле Вига внутри огромной прозрачной рыбы фицци, сознанием которой управляет мастер ихтиогипноза9.
В условленный день, сверившись по карманным часам – ромбовидным стеклянным колбам с насыпанными внутрь лепестками, – трое вига покинули свои дома, чтобы встретиться на окраине столицы. Стенки колб уже начали слегка поблескивать едва уловимой золотистой пыльцой, возвещая о скором наступлении зари. Поблескивало, разумеется, не само стекло, а лепестки цветов часовика – редчайшего из растений на Вига, «младшего брата» водорослей круах. Разница между ними лишь в том, что недосягаемый круах вьющимся куполом укрывает подводную цивилизацию от внешнего мира, а прихотливый часовик стелется по крутым выступам Расщелины. Место, о котором некоторые в глубине души суеверные вига предпочитают вовсе не упоминать вслух. Между пузырчатыми «ветвями» часовика запрятаны не суетливые светлячки-эфимиры, а цветки с длинными узкими лепестками и пучком пурпурных нитей в черной сердцевине. Пучки эти похожи на кровоподтеки каменистого горла Расщелины. В течение дня продолговатые лепестки меняют цвет в зависимости от интенсивности света, посылаемого сверху эфимирами.
Исследователи мира подводной флоры давно выявили эту уникальную особенность необычного растения, доставленного в Университет экспедицией факультета естественных наук из самой, как выразились ее участники, глухомани Вига. В архивах университетской библиотеки (или «книжницы», так она именовалась на момент экспедиции) сохранился отрывок путевого дневника одного из исследователей-энтузиастов, добившихся от ученой семерки10 разрешения на путешествие категории «высшая степень риска».
Отрывки из путевого дневника магистра Паддау, факультет естественных наук
День 151. На краю леса Стуммах. Зима.
За плечами нашей группы остались долгие дни пути, подробно описанные выше, а впереди наконец виднеется конечная цель самого дальнего на нашем веку путешествия. Купол круах, насколько мы можем догадываться, здесь сильно истончен, а значит, мы впервые за историю Университета добрались до границы миров. По нашим расчетам, до прибытия к Расщелине остается не более полудня умеренным шагом. При иных обстоятельствах мы добрались бы туда раньше, однако обступающая со всех сторон темнота и покрывающая дорогу разветвленная корневая система деревьев щелгун не позволяют группе идти быстрее.
Здесь очень холодно. Для поддержания оптимальной температуры тела используем дистиллированную смолу дерева эмху, растирая ею конечности.
Освещающие наш путь медальоны из щупалец звездчатых медуз дают теперь совсем немного света, хотя даже по самым пессимистичным прогнозам их энергии должно было хватить с запасом – вплоть до выхода группы из области истончения. Вероятно, при подготовке к экспедиции мастер точных наук Тиннаэ переоценил нашу выносливость и способность ориентироваться в условиях сумрака. В следующий раз пусть делает расчеты исходя из того, что их объект – не группа ученых-естественнонаучников, а сборище слепых кротов. Делать записи в дневнике также становится все сложнее: приходится класть светящийся медальон прямо на мембраны его страниц, а это, как известно, значительно высветлят чернила. У магистра Миббах медальон уже вовсе погас.
Позволим себе сделать смелое предположение, что недостаток источника света и тепла в виде эфимиров, которые инстинктивно избегают селиться над границей миров, вызывает постепенную гибель ветвей водорослей круах. Их высокая регенеративность всем широко известна; тем не менее, мы готовы выдвинуть гипотезу о том, что энергии фосфоресцирующих шипов недостаточно, чтобы восстановить ветви, лишенные «подпитки» от эфимиров. Шипы могут лишь создать условия для завязи новых ветвей. Серьезным вопросом для науки остается, что происходит с увядшими круах. По нашему мнению, они постепенно погибают, а неизбежные структурные изменения не позволяют «хворосту» оставаться частью плетения из здоровых водорослей. Далее увядшие ветви осыпаются.
Да простит нас мастер Тиннаэ за подобные допущения, но если бы он был сейчас здесь и своими глазами увидел кружащие над лесом черные хлопья, то, вероятно, согласился бы с нашей версией. Учитывая сильнейший холод, распространяющийся по всей области истончения и совокупность природных явлений, изложенных в записях выше, мы полагаем, что открыли особую климатическую зону Вига – зону вечной зимы.
Пометка на полях:
Важно! Не забыть обосновать ключевые отличия зимы от поздней осени, господствующей в других областях истончения. Сравнительный анализ. Итог: обновленная система классификации климатических зон Вига. Приложить к моему труду на мастера естественных наук.
День 153. Лес Стуммах. Зима.
Исследования Расщелины, результаты которых непременно будут изложены в общем отчете нашей группы, принесли не только новые для науки образцы живой и неживой природы, но также и практические плоды для удовлетворения нужд членов экспедиции.
План осмотра и сбора данных на территории Расщелины успешно выполнен, и в данный момент мы уже движемся в обратном направлении. Как можно заметить, читая эту запись, цвет используемых мною чернил из бледно-голубого вновь стал насыщенно-синим. При этом медальоны у всех окончательно потухли, когда мы еще только подходили к Расщелине. Магистр Риэ резонно предложил закопать один из медальонов близ самого выделяющегося ее выступа в память о первой экспедиции Университета на нижнюю границу миров. Мы с радостью согласились подобным символичным способом увековечить наше рисковое предприятие во имя науки и семи великих искусников. Точные координаты данной точки будут также указаны в групповом отчете.
Если же по каким-либо обстоятельствам мы не вернемся в Нуа и кто-то найдет этот дневник, то искренне прошу передать его в Университет. Уверен, вас ждет вознаграждение. На этот случай сообщаю местонахождение нашего тайника здесь.
Найдите на опушке леса Стуммах два гигантских дерева щелгун со сплетенными стволами и встаньте к ним спиной. Сделайте десять шагов вперед и пятнадцать влево, пока не упретесь в первый высокий камень, выступающий из корней (он обрамляет Расщелину в числе других). Окружающая этот камень поверхность свободна от корневых спиралей и состоит из крупных зерен ослепительно-белого песка и следующего за ним слоя коралловой крошки. На раскопки именно такой глубины хватило наших сил. Если вы верно следовали указаниям, то позвольте вас поздравить: вы рассекретили тайник. В измельченных радужных кораллах и спрятан медальон самого мастера Риэ. Понадобится около восьми уверенных движений лопатой – и вы достигнете цели.
Так почему же, невзирая на то что наши «походные эфимиры» (авторство этой вариации названия для медальонов принадлежит магистру Гридау) позавчера предательски потухли, сейчас я пишу в условиях достаточной освещенности? Достаточной даже для самой глубокой чащи непроглядно-темного леса Стуммах. Все дело в цветках весьма необычного растения, напоминающего водоросли, скрученные в запутанные клубки. Именно они и оплетают высокие камни, окружающие Расщелину, и, насколько я могу предполагать, спускаются внутрь нее по каменистым выступам. Едва подойдя к данному растению, вся группа обратила внимание на слабое, но устойчивое свечение, исходящее от его продолговатых полупрозрачных цветков. Мы наперегонки бросились к этому источнику света, поскольку последние несколько дней провели в кромешной тьме зимнего леса у нижней границы миров. Было очевидно, что отдельно взятый цветок стал бы не более чем каплей в море против сумрака, царящего под чахнущим круах. Однако более детальное рассмотрение собранных образцов выявило важную особенность: иллюминирует не весь цветок, а только его лепестки. Поэтому, чтобы в прямом смысле «пролить свет на происходящее», мы срезали сияющие части соцветий и наполнили ими пустые колбы от смолы и некоторых эликсиров, любезно предоставленных нам факультетом тонких материй. Эти импровизированные фонари мы продолжаем успешно использовать уже почти два дня. Занесение настоящей записи в путевой дневник также стало возможным лишь благодаря столь неожиданным особенностям растительного мира Расщелины.
Пометка на полях:
Очень важно! Продолжить наблюдения за лепестками. Выявить зависимость свечения от внешних факторов. Они прозрачные – проявится ли цветной пигмент под воздействием эфимиров? Одного этого открытия будет достаточно для звания мастера! Может, мои коллеги не обратят на лепестки внимания?
День 156. Болотная пустошь Варадум. Поздняя осень.
Вся наша группа торжествует как один: три дня пути быстрым шагом – и глухая стена темного Стуммаха осталась позади. Несмотря на улучшившиеся условия движения благодаря свету лепестков с Расщелины, весь «лесной» участок пути нас не покидало общее тягостное ощущение. Совокупность низкой температуры воды и недостатка сна (мы старались не тратить время на сновидения, чтобы как можно скорее преодолеть расстояние до Варадума) в значительной мере усиливала наше разбитое состояние.
Тем не менее уже сегодня мы в полном составе вышли за черту вечной зимы (так было пока условлено называть климатическую зону, охватывающую Стуммах, Расщелину и ее пустынные окрестности). Да, мы все еще находимся в области истончения, что доказывают следующие факторы: слабая освещенность на грани сумрака, изредка срывающиеся сверху черные клочки водорослевого купола круах и сравнительно низкая температура. Но все же это не Стуммах, против которого ночи в Нуа кажутся яркими летними деньками. Даже наша дорога, которая теперь превратилась в кишащую чернильными водомерками11 топь, теперь кажется родной и знакомой.
Признаюсь, меня согревает не только перспектива в какие-нибудь 150 дней оказаться под арочными сводами нашей цитадели знаний. Есть еще кое-что. Не могу поверить, но мое робкое предположение из предыдущей записи начинает подтверждаться результатами реальных наблюдений! Лепестки в колбе, которую я теперь не снимаю с шеи, начали вести себя весьма необычным образом. Во-первых, поймав первые слабые лучи редких эфимиров, они уже стали светиться с большей интенсивностью. Это не только позволяет своевременно отгонять чернильных водомерок и обходить прячущиеся в трясине пни, но и служит прекрасной предпосылкой для формулирования моего личного открытия. Полагаю, установленная мной прямая зависимость между силой излучения эфимиров и лепестков в скором времени получит еще больше доказательств. «Младший брат» небесных светлячков, обнаруженный на территории Вига, – что сможет сильнее потрясти сегодня наше научное сообщество?!
Но на этом исключительные свойства собранных лепестков не заканчиваются. И если первое наблюдение, касающееся свечения, скорее всего, было произведено и моими коллегами, то итоги второго действительно могут стать моим авторским открытием. Поскольку каждый участник группы в первую очередь радеет за собственные научные интересы, неудивительно, что мы зачастую избегаем разговоров об экспедиционных находках. В особенности тех из них, что наиболее перспективны для дальнейших изысканий.
Здесь, полагаю, в высшей степени окажется полезным мое от природы острое зрение. Прошло совсем немного времени с того момента, как мы оказались на болотной пустоши, но я успел уловить едва заметные изменения цвета лепестков. Вернее сказать, даже не цвета, а полутонов. Если в неосвещенной зоне они не имели окраса как такового и отражали на своей поверхности окружающую среду, то теперь лепестки приобрели слабый бледно-лимонный оттенок. Иллюминирующие свойства при этом пока остались на прежнем уровне. Поскольку сейчас уже поздний вечер, судя по почти угасшим наверху эфимирам, то позволю себе обобщить ниже итог своих дополнительных наблюдений в новых условиях.
К установленному мной наличию у лепестков цветного пигмента можно добавить другую совершенно уникальную особенность: он меняется в течение дня. Это далеко не очевидно и вовсе не означает, что на лепестках постепенно отобразится вся палитра радужного спектра. Все изменения происходят не выходя за границы светло-желтого оттенка.
Незадолго до пробуждения эфимиров от ночной спячки я обнаружил, что содержимое моей колбы подернулось мельчайшими золотистыми крупинками, слегка отражаясь на ее стеклянных гранях. С наступлением утра прозрачные лепестки постепенно начали заполняться едва уловимым светлым пигментом, в то время как вышеупомянутые крупинки растворились в лиственной структуре. На этой почве возникло еще одно предположение: эта золотистая «пыльца» и является тем самым природным красителем, отвечающим за цветовые метаморфозы лепестков.
Я уже запланировал ряд экспериментов на базе университетского Лабораториума для выявления справедливости данной гипотезы. Не терпится повернуть диск из черного серебра на двери от инструментального хранилища и погрузиться в мир исследований. Верю и надеюсь, что они прольют свет истины на наши таинственные находки! Ведь если Университет преуспел в установлении истинной природы и практического назначения некоторых образцов, доставленных даже с варварского Харх, то и Расщелина постепенно раскроет нам свои загадки под «пытками» лупы и алхимических растворов. На этот счет у меня нет сомнений. Главный вопрос здесь, кто из нас быстрее достигнет результатов и украсит свой палец заветной второй печатью.
Итак, проявившийся с рассветом цветной желтоватый пигмент в течение дня так и не приобрел даже намека на яркость и насыщенность, однако продолжал движение в сторону более глубокого тона. До настоящего момента мне удалось выделить пятнадцать таких оттенков. Если изобразить их на мембране, поместив в единый столбец, получится как раз часть спектра: от прозрачно-лимонного до светло-желтого. Добавим к этому, что динамика изменения окраски лепестков подчиняется равным временным интервалам. В этом я убедился, всякий раз отсчитывая про себя одно и то же число между прохождением лепестками очередной цветовой «границы». Это число – три тысячи шестьсот. Не считая времени, проведенного во сне, когда я не мог заниматься подсчетами, всякий раз это число оставалось неизменным.
Пометка на полях:
Важно! Возможно, после соответствующих исследовательских процедур по этим необыкновенным лепесткам можно будет ориентироваться во времени и пространстве?! Пока не уверен, станет ли это когда-нибудь возможным, но я назвал бы их «часовиками».
Приведенному отрывку из путевого дневника уже несколько столетий, и, конечно, за это время в Лабораториуме было произведено также много других выдающихся, неоценимых открытий, каждое из которых становилось новым витком развития подводной цивилизации. Но теперь всякий раз, когда группа студентов-первокурсников во главе с одним из магистров посещает музей факультета естественных наук, будущие ученые благоговейно останавливаются около бюста мастера Паддау. Они все как один достают из своих темно-синих мантий заранее приготовленные горстки сияющих лепестков. Взмах нескольких десятков рук – и лик Паддау, навсегда застывший в гранях прозрачного стекла, несколько мгновений переливается отраженным блеском парящих вокруг него лепестков.
Да, именно при помощи часовика, заключенного в три разных циферблата, пожилой Ялирр, зрелый Лиммах и молодой Елуам определили, что час пробил.
Путешествие началось.
Им троим необходимо заглушить мольбы внутреннего голоса, буквально требующего остаться внутри родных стен. Кажется, эта просьба слышится не только внутри. Ее мелодия отзывается и в тихих переливах жемчужных плит, и в затейливой мозаике рельефных изразцов, украшающих фасады. Однако придется на время отречься от светлой стороны жизни, чтобы вновь получить дань от сумрачной грани существования – столь же горькую, сколь и необходимую. Пришло время собрать оброк с тех, кто в изгнании незримо обитает на границе миров, сиротливо гнездясь на дне Расщелины. Там, куда столь любимый на Вига часовик лишь тянет окровавленные нити из черной сердцевины цветков, не озаряя кромешную тьму даже редкими всполохами света. Прозрачные лепестки растения отражают только глянец острых выступов, по которым они вьются внутрь разверзнутой на дне трещины.
Седой Яллир хорошо помнил этот удручающий пейзаж, который ему вскоре предстояло увидеть вновь. Снова спуститься туда, где во мраке его будут ждать трое. Вернее, не совсем его. И кто сказал, что в этот раз они действительно ждут? Тем не менее старый купец, меланхолично проведя ладонью по небольшим жестким плавникам, растущим прямо из лопаток, тяжко вздохнул и усилием воли отпер дверь. В голове назойливо крутилась строчка из стихотворения его собственного сочинения:
Свет эфимиров здесь не дотянется до часовика цветков,
Они безжизненно повисли, как крылья мертвых мотыльков…
Глава 4 Сила и смирение
– Сын мой, подойди ко мне, – раздался тихий женский голос за спиной принца Бадирта, бесцельно слонявшегося вокруг огненного алтаря.
Бадирт застыл в отрешенной, созерцательной позе, окруженный тенями стрельчатых арок колоннады, предваряющей вход в Святилище, древнейшее архитектурное сооружение Харх. В отличие от замка-горы, эта островная обитель Огненного бога не являлась уникальным природным творением, а была выстроена самими хархи еще задолго до Перстня. Каменная кладка ее овальных куполов на протяжении многих звездных циклов покорно вбирала в себя полуденный жар беспощадных лучей, подставляя под них свои облупившиеся узоры. Небольшие круглые окна типа «бычий глаз», строго очерченные латунными решетками в форме звезд, часто пропускали наружу струящиеся в жарком воздухе клубы землисто-пряного дыма. Это означало, что жрица Йанги почтила своим присутствием главный зал Святилища и готова принять жертвоприношения или оставить поцелуй милосердия на лбах страждущих.
Однако в этот раз окна лишь равнодушно смотрели желтоватыми зрачками звездчатых перегородок на простирающийся под ними величавый горный пейзаж. И вместо Йанги, сияющей пудрово-золотистым напылением «повязки» на глазах, рядом с Бадиртом стояла его мать Окайра. Уж ее-то Бадирт всегда мог заранее распознать по знакомой строгой поступи и шороху длинного подола! Слух не подвел и в этот раз.
«Могла не утруждаться со своим «сын мой», – ухмыльнулся про себя принц.
Юноша резко развернулся на звук знакомого голоса, пытаясь как можно скорее вынырнуть из омута мыслей и настроиться на беседу – столь же бесполезную, сколь утомительную. Последнее время ему, по правде говоря, очень не нравилось, когда его отвлекали. Это при том, что, не считая регулярных визитов в Святилище, длительных уединенных прогулок по его колоннаде и берегу моря Вигари, Бадирт уже давно не был замечен в какой-либо целенаправленной деятельности. Ну и что! Зато она, эта деятельность, незримо разворачивалась в его голове с зачесанными назад прямыми черными волосами, расцвеченными россыпью багровых прядей, которые юный принц, вероятно, унаследовал от своего отца. Речь, однако, идет только лишь о цвете. Жидкие, уже с проплешинами волоконца волос принца, разумеется, ни в какое сравнение не шли с буйной гривой Каффа.
– Да, Ваше Величество, – нехотя, буквально сквозь зубы проговорил Бадирт, вскинув правую бровь.
Эта новая мимическая привычка раздражала Окайру, поскольку служила явным признаком, что сын не расположен к беседе. Вновь.
– Бадирт, почему не «матушка»? Рядом с нами никого нет. Я приказала стражникам сохранять расстояние в пятнадцать шагов до места нашей встречи.
Распрямившись после приветственного поклона и машинально поцеловав руку матери, Бадирт скептически посмотрел в ее карие глаза.
– Мне уже не десять лет, если вы помните, матушка, – с нажимом на последнее слово парировал принц.
Конечно, он был еще очень далек не только от своей воображаемой зрелости, но и от того уровня восприятия действительности, когда начинаешь видеть окружающий мир глазами других людей. Или, по крайней мере, стараешься, на протяжении всей жизни оттачивая это мастерство и очищая его от скорлупы предубеждений, субъективности и личной выгоды. Например, при всем своем внешнем величии и властности одновременно ощущать себя ничтожной песчинкой мироздания в руках Огненного бога. Или хотя бы отдавать себе отчет, что, сколько бы тебе ни было лет и каким бы опытом ты ни обладал, в глазах матери ты всегда одинаков. А именно – беспомощное синюшное существо, надрывающееся в жалобном крике и рефлексивно сгибающее покрытые слизью конечности.
– Я искала тебя на Ладони, где сейчас тренируются на мечах твой отец и дядя Явох. Раньше ты всегда с интересом следил за их поединками. – В голосе Окайры чувствовалось внутреннее напряжение матери, понимающей, что больше не управляет сыном.
– Ваше Величество, вы сами прекрасно знаете, что мои отец и так называемый дядя тренируются почти каждый день. А иногда дважды в день. То с мечом, то с боевым топором, то с полэксом. И до сего момента прекрасно справлялись без лишних зрителей, – равнодушно ответил Бадирт, неловким движением пытаясь поправить фитиль плавучей свечи в алтарной чаше.
Свеча потеряла баланс, мерно качнулась на воде и, окончательно перевернувшись, потухла. Над чашей, выдолбленной из цельного королевского цитрина, зазмеилась тонкая струйка молочно-серого дыма. К исходящему от алтаря аромату влажной листвы и флердоранжа примешался запах жженых хлопковых волокон.
Окайра заметила это, и в ее глазах мелькнула тень суеверного ужаса. Словно от кого-то защищаясь, она сложила пальцы треугольником и коснулась ими склоненного лба, в ту же секунду рухнув на колени перед чашей. Как ни странно, сын моментально последовал ее примеру. На несколько мгновений между ними будто бы снова протянулись нити невидимой связи. Окайра попыталась ухватиться за них. Кажется, появился шанс вывести Бадирта на долгожданное откровение.
– Один Огненный бог ведает, что сулит нам будущее: чем обернется Ящерица и что принесет нам Скарабей, – сохраняя молитвенную позу и не отнимая знака ото лба, полушепотом произнесла королева. – Кто мы такие, чтобы предрекать и пророчествовать? Смирением своим да снищем мы благосклонность посланника Прародителя. Священным кольцом божественного пламени да защитит он нас и детей наших от неисповедимых игр созвездий и карканья старого Имита. И если неправ звездочет и клеветой своей опутал сыновей Матери звезд, да будет милостив к нему тот, что вихрем своим огненным сеет жизнь и свет на земле своих верных подданных. Все мы – искры в его священном пламени.
– Вы правы, матушка, – вставая с колен, согласился Бадирт.
Тонкие губы Окайры изогнулись в слабой улыбке.
– Вот и славно, сын мой. Не ведаю, куда вело тебя сердце последнее время, но ты всегда был разумным мальчиком. Следуй заповедям, будь сильным и смиренным, как тихое пламя факелов Святилища, и Огненный бог щедро наградит тебя.
Бадирт снова слегка поднял правую бровь; оранжевые зрачки, словно тлеющие угли, полыхнули на бледном лице.
– Правы, матушка, вы и здесь, – почти кротко проговорил он. – Сила – это то, что делает нас хархи. Так говорит отец, и я полностью согласен с ним. Наша мощь спит в нас. Мы как огромные камни Перстня, обожженные звездными лучами.
Улыбка еще уверенней осветила лицо королевы. Светотень, образовавшаяся внутри колоннады, подчеркнула легкую паутинку морщин вокруг ее влажно блеснувших глаз. Ну вот и все. Те изменения в сыне, что так тревожили Окайру всего несколько минут назад, теперь казались не более чем причудами молодости, напоминающими королеве ее собственные золотые годы. А дерзость на вчерашнем совете в присутствии высокопоставленных хархи нынче виделась просто досадным шипом, одним из тех, что неизбежно обрамляют тернистый путь взросления. Безусловно, много созвездий спустя они затупятся – в этом Окайра была уверена. «Сточившись о шершавую поверхность побед и поражений, шипы непременно сменятся глубокими зарубками жизненного опыта, – уверяла Окайра саму себя. – Они затянутся целительной смолой времени и почти не будут напоминать о себе».
Сбросив с души тяжкий камень сомнений и тревожных предчувствий, королева раскинула руки и взмахнула черными воланами длинных рукавов своего шелкового платья. Бадирт, не выражая каких-либо эмоций, сделал шаг к Окайре и положил свой узкий подбородок на ее плечо. Заключив мать в объятия, принц добавил:
– Я сомневаюсь лишь в одном, матушка.
Может, сейчас все откроется? Королева мысленно собралась и положила тонкие руки на плечи сына. Слегка отстранившись, она устремила на принца внимательный взгляд и, казалось, была готова ко всему.
– В чем же, Бадирт?
– В том, чего именно Огненный бог ждет от нас… – Принц осекся. Он уже ругал себя за то, что, забывшись, чуть не навлек на себя скуку последующих длительных бесед, увещеваний и, возможно, даже наказание.
Пожалуй, нужно быть осторожней и лучше следить за языком.
– Продолжай, Бадирт, – настаивала королева. – Открой мне свои сомнения, дай развеять их. Чего ты боишься, мой мальчик?
«Я боюсь? Да уж, матушка… Ты хочешь вернуть меня к черному шлейфу своих юбок, но даже не подозреваешь о том, насколько мы уже далеки», – резкой вспышкой промелькнуло в голове принца. Тем не менее он постарался, чтобы эта мысль не отразилась во взгляде.
– Я боюсь одного: стану ли я когда-нибудь достойным, подлинным наследником, – сказал принц первое, что пришло ему в голову. – В глазах Огненного бога, – быстро добавил он.
Спонтанная ложь выглядела достаточно убедительной. Это можно было прочесть по вновь просветлевшему лицу Окайры.
«Что ж, пожалуй, мальчик действительно должен чувствовать всю ответственность и сложность будущей роли, уготованной ему судьбой, – подумала королева. – В любом случае осознанность лучше бездумного греховного легкомыслия. Особенно для будущего монарха», – окончательно успокоившись, заключила мать Бадирта.
– Сомневаться в своих достоинствах – это удел не слабых, а думающих. Только дурак может быть полностью доволен собой и наивно считать, что знает все. Мудрец же, которому открылись тайны мироздания, всю жизнь уверен, что так и не приблизился к ним.
Окайра использовала все доступные ей словесные приемы, чтобы развеять сгущающиеся тучи над головой единственного, так тяжело давшегося ей сына.
– Вы снова правы. Я всегда буду помнить об этом, матушка. Надеюсь, мне досталась хоть капля вашей мудрости и терпения, – не глядя на мать, послушным тоном произнес Бадирт.
Королева, окрыленная мнимым успехом в беседе и преисполненная материнской гордости, уже мысленно строго отчитала себя за принижение достоинств сына.
«Действительно, кто бы на его месте спокойно смотрел в лицо грядущим событиям? Да кто вообще мог оказаться на его месте? Мальчик до сих пор жил в тени великого отца, добившегося немалых успехов в своем постоянном стремлении улучшить жизнь хархи. Кафф отдал дань древнейшим традициям земли огненных воинов, сумев развить их в интересах своего народа. Не изменив вверенных ему предками принципов военной державы, он укрепил остров хорошо обученными, дисциплинированными войсковыми частями. Усовершенствовал порядок отбора и формирования этих войск: теперь будущие солдаты12, преодолев архаичное правило «за плечом отца – плечо сына», могут самостоятельно выбирать тип войск, в которых хотели бы служить, исходя из своих способностей и амбиций. Все это пошло на благо Харх и усилило защиту нашего населения, которое Кафф также не оставил без внимания. С помощью трех советников всего за два созвездия он разработал систему отраслевых гильдий: аграрную, оружейную, ювелирную и торговую. Вступая в нее, ремесленник получает столько возможностей для развития своего мастерства! А возросшее число заказов, которые ему теперь напрямую делают купцы, состоящие в этой гильдии… Последние, кстати, тоже в выигрыше от присоединения к такому союзу: их интересы и экономическая безопасность отныне под личной защитой главы гильдии, входящего в королевский совет. И это далеко не все плоды правления отца Бадирта… Неудивительно, что сын уже сейчас осознает, что превзойти Каффа ему будет непросто. Но само это осознание вселяет в душу надежду, что мальчик не разочарует Огненного бога и всех нас!»
Доводы в пользу сына слились в голове Окайры в единый жаркий монолог. На волне этих чувств королева, сама того не заметив, заодно восславила и мужа, наделив его поступки и политические решения поистине божественной гениальностью.
Конечно, этот поток мыслей смахивал на отчаянное самовнушение, но какую мать и жену могло смутить подобное?
– Думаю, – сказала Окайра, – твой отец и дядя Явох все еще на Ладони, Бадирт. Если мне удалось хотя бы отчасти развеять твои сомнения насчет будущего, теперь ты можешь с легким сердцем присоединиться к ним. Давно мы все не любовались на твой танец с мечом, а я помню, как он прекрасен.
«Сейчас он вновь обнимет меня, как раньше, и мы вместе пойдем на Ладонь, – облегченно подумала королева. – Когда тренировка с оружием закончится, я сама скажу Каффу, что наш сын всего лишь волнуется о том, сможет ли сохранить и приумножить его государственные достижения. Пусть отменит запланированную беседу с Бадиртом о манерах на заседании совета. Ибо в его глазах я увидела достаточно здравомыслия, чтобы быть уверенной: вчерашний инцидент не повторится».
Теперь рассуждениями королевы управляла исключительно радость от примирения с сыном, подаренная свечой, погасшей в столь удачный момент. Следующим шагом Окайры могла стать публичная похвала Бадирта за какой-либо успех в тренировках или усердные молитвы в Святилище. Тем более, возможно, он в самом деле явился сюда в столь ранний час, чтобы первым вознести хвалу Огненному богу и попросить его о силе, мудрости, удачи и смирении?
Опознавать истинную природу мотивов и устремлений другого – искусство. Окайра частично овладела им за годы, проведенные в молчаливых отстраненных наблюдениях за подданными на многочисленных советах, судебных заседаниях, праздниках и религиозных обрядах. И все же ее догадки о том, каких качеств просит для себя склоненный над алтарной чашей Бадирт, были не совсем верны. По крайней мере, в одном из них она сильно ошибалась. А еще одним из перечисленных качеств принц и так был награжден (насколько это можно считать наградой) с рождения. И, увы, нет в этом заслуги ни родителей, ни легендарных предков, ни самого Огненного бога.
Бадирт задумчиво переставлял золотистые фигурки звезд с красноватыми лучами на широком обруче чаши. Выполненные лучшими мастерами ювелирной гильдии из кристаллов гелиодора, они отражались в воде алтаря и придавали ей теплый медовый оттенок.
– Вы меня перехваливаете, – ответил принц. – Мне еще нужно очень много тренироваться, прежде чем я смогу достойно смотреться с ними в настоящем, взрослом поединке.
Он хорошо знал, как мать ценит скромность и не терпит тщеславия.
– Вернемся к тому, с чего начали, сын мой, – попыталась мягко направить его Окайра. – Ты осознаешь это, а значит, уже обеспечен половиной успеха. Приложи к этому честный, упорный труд на тренировках, окропи Ладонь своим потом – и да узрит усилия твои посланник Прародителя…
– …И да наградит щедро, ибо милостив он к тем, кто не дает божественной силе и пламенной ярости своей праздно дремать в слабом, немощном теле… – в угоду матери подхватил Бадирт знакомые ему с детства строки Семи наставлений Прародителя.
– …а упорством дугорога13 и несгибаемостью железного сплава днем и ночью доказывает, что не зря его вечной душе на время даровано пристанище в теле огненного воина, сына пламенной земли Харх, – закончил за спиной матери и сына низкий хрипловатый голос с легким нездешним акцентом.
Еще сильнее повеяло флердоранжем, к нему примешались едкие ноты дыма и пряностей, остро щекочущие нос. Позади стояла жрица Йанги, власть которой простирались столь широко, что порой выходила за пределы понимания простых хархи.
Второй раз за утро Бадирт развернулся на звук знакомого голоса. Сейчас сердце его наполнилось совсем иными эмоциями, нежели при появлении матери. Перед ним словно из ниоткуда возникла молодая женщина – высокая, грациозно-худощавая, будто бы вовсе и не из народа хархи. У нее были длинные прямые пепельные волосы, высокие скулы и глаза, напоминающие два кристалла желтого гелиодора. Того самого, из которого высечены звезды, опоясывающие алтарную чашу.
«Может, это оттого, – подумалось вдруг Бадирту, – что Йанги слишком уж часто читала молитвы за всех нас, когда стояла здесь, склонив голову к водной глади алтаря? Может, она уже столько времени провела над этими плавающими свечами и этими блестящими фигурками, что ее глаза наполнились их светом? Она же как кошка. Так непохожа на наших женщин. Удивительна. И каждый раз какая-то… новая. Я люблю кошек». – Слившись в едином потоке восхищения, эти мысли стрелой пронеслись в голове принца.
Жрица, поправив на своем высоком лбу обруч с прикрепленными к нему черно-серебристыми перьями, не дополнила это непринужденное движение никакими иными знаками приветствия королевских особ. Она держалась величественно, но не стремилась подчеркнуть или как-либо усилить это. Облегающая бордовая туника простого покроя идеально сидела на изящной фигуре. Как и Окайра, Йанги никогда не злоупотребляла своими привилегиями, чтобы расцветить длинные узкие пальцы сиянием редких драгоценных камней, а платья – богатой вышивкой. Из придворных женщин замка-горы ее выделяли три основные черты: иноземная внешность (что как нельзя лучше объясняло прозвище «нездешняя», коим нарекли ее в народе), волосы цвета старого серебра без единой огненной пряди и татуировка в области «третьего глаза» – три закручивающиеся кверху спирали.
– Ваше Величество. Мой принц, – поприветствовала их Йанги.
Устремив отрешенный взгляд в небо, она сплела изящные пальцы в ритуальный треугольник и коснулась им лба. Было очевидно: все почтение жрицы адресовано не престолу, а иной власти – высшей и абсолютной.
Мать и сын одновременно последовали ее примеру. Бадирт – молча, а Окайра – одними губами монотонно шепча славословие в честь Огненного бога и его посредника на Харх в лице жрицы.
– Отрадно видеть вас здесь, – с улыбкой молвила Йанги. – Святилище всегда готово заново зажечь угасающее пламя в сердцах тех, кто денно и нощно печется о благоденствии и процветании земли нашей. Да не потухнут искры душ ваших, что озаряют своим светом все бескрайнее тело Харх.
Несмотря на торжественно-ритуальную интонацию, в речи верховной жрицы нельзя было уловить и тени фальши. Патетичное изречение прозвучало из ее уст так естественно, будто на самом деле Йанги произнесла самое обычное повседневное приветствие.
– Мой принц, – обратилась она к Бадирту, – ты пришел узреть справедливость Огненного бога?
Окайре показалось, что фраза заключала в себе намек на какие-то ранние договоренности. Будто была свидетельством некой незримой, но прочной связи, недоступной ей, матери Бадирта. Однако вместе с тем королеве не нужны были доказательства, чтобы и днем и ночью помнить об этой самой связи. И медленно сходить с ума. Будучи постоянно окруженной семьей, свитой и подданными, но в полном одиночестве.
И смирении.
– Да, Сиятельная, – с готовностью ответил молодой принц, вернув руки на цитриновую поверхность чаши. – Если это угодно тебе и посланнику Прародителя. Я пришел сюда с рассветом, как велел мне горбун.
– Не чье-то повеление, но зов сердца и пламя души должны вести тебя, мой принц, – ровным тоном заметила Йанги, покосившись в сторону хранившей ритуальное молчание королевы. – Мы с твоей матерью надеемся, что ты явился именно поэтому. Ибо все, что ты делаешь вопреки своей истинной воле, – делаешь наперекор своей судьбе, что вершится…
– …в неисповедимом танце искр, ниспосланных нам Прародителем чрез щедрую длань Огненного бога, – двумя медленными кивками завершила Окайра хорошо знакомую цитату из Наставлений.
Не более получаса назад она заходила в Святилище с двумя целями: заново найти общий язык с сыном и вернуть его к привычным занятиям, вытянув из порочного омута праздности. Заходила, уверенная в своей правоте, готовая начать разговор мягко и дружелюбно, но в случае необходимости прибегнуть к любым доступным ей мерам, вплоть до телесного наказания. К счастью, удалось обойтись доверительной беседой: взаимопонимание было наконец восстановлено, и душевные раны начали заживать.
Благодать, увы, длилась недолго. Во взгляде сына вновь сквозила холодная отстраненность. Окайра, судорожно дыша, пыталась понять, как ее успехи могли так скоро обратиться в ничто? Один взгляд жрицы – и они расползлись вместе с легким дымом, только что закурившимся из круглых окошек. И без того тонкая паутинка связи с Бадиртом, едва укрепившись между ними, снова натянулась и лопнула. Конечно, это никак не проявилось физически, но в голове у Окайры еще долго стоял резонирующий гул, вызванный разрывом незримых волокон.
Несколько мгновений она простояла, молча созерцая фигуры сына и Йанги. Они медленно и степенно удалялись в сторону высоких резных створок, отделяющих колоннаду от внутреннего помещения Святилища. Королева не двигалась с места, пока четыре массивных стражника в черных доспехах не скрестили алебарды поперек этих дверей, чтобы обеспечить полное уединение и покой вошедшей в них пары. Очевидно, жрица не намерена сегодня принимать жителей Харх в своей обители, хоть дым благовоний из окошек говорил об обратном. На стражниках не было традиционных эмблем в виде двух перекрещенных мечей над кольцом Перстня. Вместо них на нагрудных пластинах доспехов, покрытых черной позолотой, были высечены крупные перевернутые треугольники.
По завершении совета, что состоялся в Гроте заседаний днем ранее, Рубб вновь погрузился в свои мрачные мысли. Ничего необычного в том не было: последнее время беспокойный разум командующего часто занимали тяжкие раздумья, а сердце терзали смутные предчувствия. Инцидент на совете лишь позволил этим переживаниям прочно обосноваться в душе начальника королевских стражников.
Во время заседания он лично стоял на страже внутри самого грота, так близко к королевской семье, как никто другой из его подчиненных. Все прочие представители королевской стражи находились снаружи, равномерно распределенные по обширной территории замка-горы. Рубб не отличался суеверностью и обычно направлял поток рассуждений в мысленное русло, сложенное из жизненного опыта, заветов отца, воинской Заповеди и семи Наставлений. Но это было раньше, до того, как старый Имит предрек Харх нечто. Ожидание неизвестности – вот та ничтожно малая капля ярко-василькового раствора, которой под силу изменить прозрачные воды мыслей. Надо признать, что Имиту это удалось, хотел он того или нет. Со дна невидимой реки поднялся песок внутренней смуты.
«Грядет нечто, – прокручивал Рубб в голове калейдоскоп табличек Имита. – Не знаю что, но оно грядет и нас не спросит, готовы ли мы. Отреклись от истории, от самих себя задолго до Гимеона Безумца, теперь получим на орехи. Тут уж никакой звездочет не нужен, чтобы понять… А что, может, так нам и надо? Что сохранили мы от наследия воинственных предков? Одно тщеславие и напыщенность. Ах да, еще лоск, спасибо за наставления, отец! Это ими мы будем защищаться, когда придет время? А оно придет, ох, чую, придет! Не верил бы я старческой болтовне и карканью, да так уж вышло, что сам все вижу. И речи возвышенные о воинской славе и традициях Харх оставлю королю Каффу, пусть со своей высокой террасы тешит крестьян и лоточников – может, они ему и поверят. Далеко нам до тех великих хархи, которые отстояли огненную землю, когда мы еще бесплотными духами летали меж звезд!»
Сундучок с «предсказаниями» распалил Рубба не на шутку. Он так и продолжал стоять напротив входа в грот, не меняя позы и не выражая никаких эмоций на суровом лице, что совсем не сочеталось с поднявшейся в его сердце бурей.
Когда члены совета один за другим стали в полном молчании покидать грот, до этого еще колебавшийся Рубб окончательно принял одно важное решение. Оно касалось ближайшей судьбы двух служащих, нарушивших утром того же дня одно из правил Заповеди. Перспектива, проглядывающая в картинках со звездами, заставила начальника королевской стражи забыть о своей мягкости, порой избавлявшей его подчиненных от наказаний за мелкие проступки.
Убедившись, что все разошлись, Рубб, сверкая отраженным пламенем догорающих свечей на бронзовых доспехах, уверенным шагом подошел к горбуну, занятому соскабливанием оплывшего белого воска с малахитовой плиты. Застывшие восковые кусочки с глухим стуком падали в зеленую бутыль с широким горлышком, которую Эббих таскал за собой, обвязав грубой бечевкой. Завидев приближающегося Рубба, горбун не прекратил своего занятия.
– Главный королевский стражник, – с ехидной улыбкой процедил карлик, бросив в его строну короткий взгляд. – Как там твои игрушечные солдатики? Сегодня вы особенно нарядны. Это, надо понимать, для Гаркуна? Хе-кхе-кхе-е-е… – Саркастическая речь прервалась полусмехом-полукашлем.
Руббу на мгновение показалось, что где-то под каменными сводами грота закаркал старый ворон.
– Эббих, я не намерен выслушивать твои прибаутки. Прибереги их на тот случай, когда будешь ползать под ногами Йанги, чтобы она не пнула тебя за твой убогий вид, – будничным тоном парировал Рубб, готовый к подобному приветствию.
«Сила – в смирении», – сам не веря в это, твердил он про себя, до скрежета стискивая зубы.
– Намерен, не намерен – это не мое дело, и нет мне дела до тебя, – насмешливо проблеял Эббих. Он остановился и ткнул скрюченным мозолистым пальцем в сторону Рубба. – А тебе до меня – есть. Видишь, как оно получается, главный стражник? Не можете без нас? – Каждая фраза горбуна жалила острыми иглами издевок.
Ни тени страха, ни признака благоговения перед физическим превосходством.
– Получается, что так решили не мы, а Заповедь, а ее правила угодны Огненному богу, – отчеканил командующий. – Ясно тебе, бородатый прислужник? Так слушай и запоминай: завтра, как закурится дым из Святилища, пришлю к вам своих двоих. Нарушили вторую часть заповеди: не сохраняли молчание во время церемонии смены караула. Разбирайтесь там сами, но завтра вечером они нужны мне в охранной цепочке нижнего яруса замка-горы. Не буду отвлекать тебя от твоих обязанностей – вижу, плита еще недостаточно блестит.
Карлик мерно закивал, бегая глазками по поверхности стола.
Рубб остался доволен: не каждый день ему удается поставить не в меру остроумного прислужника на место, да еще так красноречиво. Начальник королевской стражи резко развернулся на каблуках и, звякнув металлическими кольцами доспехов, словно отвесив Эббиху звонкую пощечину, еще уверенней зашагал к выходу из грота.
Горбун, в свою очередь, продолжал согласно кивать Руббу вслед. На изъеденном пятнами морщинистом лице промелькнула торжествующая улыбка.
Глава 5 Гипноз во благо
За Яллиром закрылась дверь, окончательно отделив его от безопасности стен родного дома. Закрылась не посредством движения руки и не от холодного сквозняка поперечного течения, которые ранним утром часто пронизывают Нуа своими бурлящими пружинами. Определенно здесь вмешалась какая-то иная сила! Ибо старый купец готов был поклясться, что дверь затворилась сама, словно показывая: обратной дороги нет, дом примет своего хозяина обратно только по возвращении из Расщелины. И непременно – выполнившего долг. Будто в подтверждение этих мыслей за спиной седеющего торговца раздались мягкие переливы колокольчатых раковин, усеивающих природной мозаикой эту самую дверь. Разумеется, подобный музыкальный эффект был вызван легким ударом дверных створок о порог, что силой своего импульса и открыл ребристые половинки круглых раковин. По той же причине пришли в движение прикрепленные к ним металлические язычки – они тотчас завертелись по шершавой известняковой поверхности ракушек. Соприкасаясь в кружении с «молоточками» мелких темно-розовых жемчужинок, язычки послушно извлекали из них приглушенный каскадный перезвон.
Яллир в свое время самолично доставил с острова Харх этот особый металл язычков, прозванный местными «певучим» за свою исключительную звукопроводимость и способность до неузнаваемости менять тональность в одних и тех же условиях. В глубине души купца возмущало, что варварское население огненной земли не нашло великолепному металлу достойного применения. Молодому Яллиру, признаться, было искренне жаль мелодичный дар хархских рудников. Ведь вместо того, чтобы занять достойное место, скажем, в оркестре, он, подобно пастуху, созывал хархи то на ярмарку, то на очередной обряд, способный, по мнению этого народа, повлиять на природную стихию. Да что там! Ведь даже в королевском замке-горе «певучий» использовался не для музыкального сопровождения торжеств, а довольствовался куда более скромной ролью: впаянный в плоский металлический диск горбуна Эббиха, он знаменовал начало заседания совета.
Да, Яллир, само собой, знал об этом. Более того, купец втайне гордился тем, что лично заключил на Харх первую сделку по закупке «певучего». Сумел-таки обогатить свою родную землю Вига новыми дарами огненной земли, на проверку оказавшимися куда более полезными, чем предполагали невежественные хархи.
Как только не распекал купец жителей Харх по возвращении своих караванов обратно в Нуа!
«Живя преимущественно в горной местности, – говаривал прежде он, – имея открытый доступ к ценнейшим рудным месторождениям и редчайшим полезным ископаемым, эти религиозные фанатики даже не дают себе труда пустить сокровища недр на благо своего народа! Только ради оружия и доспехов отправлять рабочих на рудники – какое неслыханное узколобие!»
Теперь же, услышав в утренней тишине хорошо знакомый перезвон, Яллир воспринял его совершенно иначе. То была не музыка, а завеса из тончайшего кружева звуков, опустившаяся невесомыми складками между привычным миром и Расщелиной. Хоть торговец пока еще не сделал ни одного шага в сторону окраины Нуа, тем не менее он всем своим бледно-голубоватым телом ощущал, что уже находится на той стороне. И даже представшие перед его взглядом декорации родных окрестностей, слегка подсвеченные утренними косыми лучами эфимиров, не рассеивали этого темного наваждения.
Но как бы то ни было, дело, выхватившее Яллира из крепких объятий сна, настойчиво требовало его непосредственного участия и, увы, ждать не могло. Он со скорбным вздохом еще раз бросил взгляд на свой двухэтажный дом из жемчужных плит, напоследок вслушался в угасающую музыку колокольчатых раковин (прощальным диминуэндо она выразительно окрашивала сцену расставания с родной обителью). И слегка прихрамывающей, энергичной походкой отправился из Купеческого круга в сторону левой нижней окраины столицы, или Чернового круга.
Здесь разумно будет ненадолго прервать наблюдение за пешим маршрутом Яллира через весь Нуа, чтобы лучше разобраться в специфическом ландшафте этого города. Вот как описывает своим студентам внутреннее устройство столицы Вига мастер Циммиах с архитектурного факультета Университета:
Основы градостроительства для начинающих: пять великих территориальных центров Вига
Нуа (столица государства Вига)
Итак, обобщим вышеизложенные ключевые особенности Нуа как важнейшего территориального центра государства Вига.
Уникальная (и единственная в своем роде из доступных нам к изучению сегодня) городская система Нуа представляет собой обширный комплекс из кругов с расходящимися по спирали зданиями. Они, в свою очередь, разделены по отраслевым и функциональным признакам, но вместе представляют единое поселение. Всего существует шесть таких спиралевидных кругов: Дворцовый, Ученый, Виртуозный, Купеческий, Зодческий и Черновой. Как можно понять из названий, каждый из кругов служит для удовлетворения различных потребностей населения Вига: муниципальных, судебных, экономических, хозяйственных, научно-образовательных и духовно-эстетических. Рассмотрим принцип их формирования на примере Дворцового круга.
На заре возведения Нуа, в первой половине III световехи14, в самом сердце города был выстроен древний дворец хранителя Вига (на тот момент им был Золиатт), на сохранившемся фундаменте которого стоит нынешняя отреставрированная обитель нашего властителя Ингэ. Вокруг дворца по спирали выросли дома высокопоставленных вига, разграниченные между собой внутренними дворами с разбитыми в них цветущими садами и каменными водопадами. Статус приближенных к хранителю, как правило, был прямо пропорционален близости их домов ко дворцу. Так в городской системе Нуа появился первый круг, внешне представляющий собой спираль, закрученную внутрь.
Золиатту, поклоннику новых архитектурных и художественных стилей, пришелся по нраву такой принцип строительства, что отразилось в сохранившемся до наших дней указе: «Разбить нестройные нагромождения зданий, называемые столицей Вига, и на их месте закрутить спирали, подобно Дворцовому кругу. Между ними провести дороги для удобного перемещения из одного круга в другой». Таким образом появились новые районы Нуа, которые своей архитектурой полностью отразили требование Золиатта. Центрами этих районов-кругов стали здания, собирающие под своей крышей сообщество нынешних и будущих мастеров своего дела: Университет (объединенный подвесными мостами с Лабораториумом и Библиотекой), Купеческий черторг, Цитадель искусств, Мастерская зодчих и Черновик (огромный цех широкого профиля, в котором трудятся рабочие, ремесленники, алхимики и их подмастерья).
Яллир мысленно похвалил себя за пунктуальность и предусмотрительность. Эти две полезные привычки, взращенные годами торгового ремесла, позволили ему прибыть к месту встречи вовремя, несмотря на внушительное расстояние до него. Вереница домов бедного Чернового круга – грубо слепленные между собой морские глыбовые валуны, наглухо заросшие губками сфагнума, – осталась позади. Равно как и предшествующие им витиеватые дома Зодческого круга, построенные из гибких и прочных когтей угундра ползучего15, сплетенных в остроконечные пирамидки цвета слоновой кости. Ранний утренний час делал свое примиряющее дело: он укутывал абсолютно непохожие между собой круги Нуа покровом тишины и умиротворенности, стирая в своей божественной гармонии иерархические границы между спящими жителями столицы Вига.
Тропинка известково-глинистого ила, огороженная по бокам низкими плетнями из черных скользких коряг, которой доверился старый торговец, покидая последнее кольцо бедных домов вокруг Черновика, не подвела. Как, впрочем, и всегда. По правую руку от Яллира за высокими заостренными стеблями дикорастущего морского хвоща показалась открытая трехъярусная постройка. Однако открытой она была лишь на первый взгляд. Купец прекрасно помнил, что это вытянутое вширь невысокое здание на самом деле обшито вулканическим стеклом гокху, завезенном на Вига две световехи назад в виде обломков остывшей лавы одноименного вулкана на южной стороне Харх. Благодаря своей колоссальной прочности это стекло, соединенное с каменным каркасом, образовало доселе невиданное на Вига здание. Это был гигантский аквариум.
Еще несколько шагов – и обман зрения преодолен. Разумеется, аквариум не был открытым. Иначе какой в нем смысл? Уже ставшие ярче лучи эфимиров весело сновали вокруг здания, множа свое сияющее отражение в его стеклянных стенах. И стенам было что дать взамен. Не строя никаких преград любопытствующим посланникам «светлячков», они открывали панорамный вид на поистине необыкновенных созданий, величаво скользящих по своему прозрачному дому.
– Яллир, старина! – приветственно закричали двое, стоявшие у входа в аквариум.
Тот, что помоложе, слегка неуверенно переминался с ноги на ногу.
Купцу не пришлось напрягать зрение, чтобы узнать в этих фигурах своих собратьев из Купеческого чертога – Лиммаха и Елуама. Охваченный сумрачными размышлениями о долге, так и не развеянными цветистым калейдоскопом дорожных видов, Яллир был не расположен нарушать тишину аналогичным радостным криком. Да и было бы чему радоваться. Разве только встрече с собратом Лиммахом и знакомству с будущим купеческим пилигримом… И все же лучше бы она, эта встреча, состоялась в другом месте и причиной ей послужил бы иной повод. Поэтому Яллир удостоил ожидающих лишь сдержанным кивком и отрывистым взмахом бледной руки, покрытой чуть заметной сеточкой голубоватых полуколец, имитирующих чешую.
Подойдя на достаточное расстояние, «чтобы не драть впустую глотку» – именно так подумал про себя Яллир, – он, пару раз нервически кашлянув, обратился к Лиммаху и Елуаму:
– Здравия вам, собратья. Вы оба здесь – значит, я ничего не напутал. А то возраст уж не тот, сами понимаете…
Коренастый Лиммах, на гладко выбритом черепе которого также слегка проглядывала псевдочешуя, по-дружески хлопнул Яллира по плечу. Движение вышло широким и размашистым, как обычно это водится у Лиммаха, но старый торговец, что называется, ухом не повел.
– Это-то возраст, Ял? О чем ты вообще? Вот дед мой – скоро уж световеха стукнет, как он под светом эфимиров греется, – там и правда возраст! Да и то все новости Нуа наперечет вперед меня знает да про все новые товары с огненной земли ведает – ни дать ни взять архивариус! Или как там эта должность в ихней библиотеке зовется? Не припомнишь? – прогудел своим зычным голосом Лиммах.
Яллир не понял, что именно стояло за этой неуместной веселостью: стремление подбодрить весь собравшийся у аквариума торговый отряд или плохо скрываемое внутреннее напряжение. Как бы то ни было, пожилой купец лишь коротко вздохнул в ответ. Ял был слишком озадачен предстоящим путешествием и слишком углублен в свои тревожные мысли, чтобы соответствовать тональности Лиммаха. Вместо ответа он перевел взгляд на молодого Елуама – медленно и настороженно. Пожилой пилигрим не желал признаться самому себе, что боится. Вдруг уже сейчас он что-то прочтет на этом юном лице с большими светло-голубыми глазами, отчасти прикрытыми легкой серебристой волной ниспадающей челки?
К примеру, отражение своего собственного страха.
Будущий купец, тоже блуждающий в лабиринте собственных мыслей, не почувствовал на своей перламутровой коже тяжелого взгляда Яллира. Судя по всему, и Елуам не разделял бравурного настроя Лиммаха. Кто знает, может, оно и к лучшему? Зачем парню зазря обнадеживаться и уповать на то, что будет легко?..
Перекинув через правое плечо черную полу своего плаща, в третий раз поправив лямку торбы из узловатых прутьев болотной ивы и тем самым исчерпав все уместные в данной ситуации действия, Елуам все же подключился к общему разговору:
– Рад видеть тебя, почтенный Яллир, – проникновенно проговорил он, чуть опустив голову в приветственном кивке. – Мы не встречались лично, но мне доводилось не раз слышать твое легендарное имя у нас, в Купеческом черторге. Признаться, я даже не верил, что один вига может доставить на свою родину такое количество бесценного сырья, химических элементов и природных образцов. О великие искусники! Задуматься только: передо мной тот самый купец, караван которого подарил Вига первую горсть драммиров и сосуд с семенами вселекаря! – Будущий последователь Яллира не смог сдержать восхищения перед ним, титулованным купцом, известным на весь Вига.
– Тише, тише, Елуам, не расплещи запас сил раньше времени, – остановил его Яллир в своей суховатой манере. – Уж поверь бывалому караванному пилигриму: он тебе сегодня ох как пригодится…
– Да будет тебе, Ял, – вновь затрубил Лиммах. – Юнец уже несколько дней только о тебе и говорит. Да и, надо сказать, ты как от дел отошел, мы тебя почти и не видим. В Черторге-то токмо по праздникам большим появляешься да когда главный наш, Балоах то бишь, тебя за наставлениями молодым вызывает. Да и то не всегда дозывается. К тому же ты сам, поди, понимаешь, что Елуаму встреча с тобой и должна тех сил придать, о которых ты толкуешь. Инициацию пройти – это тебе не цену на ярмарке сбить.
Вот так в бурном словесном потоке Лиммаха, невзначай блеснув острой гранью в общем смысловом вихре, на свет показалась причина, побудившая трех вига в столь ранний час собраться у прозрачных стен гигантского аквариума на окраине Нуа аж за Черновым кругом. Каждого из купцов слово инициация резко полоснуло под ребрами. Ведь до этого момента оно замалчивалось, и даже не по воле самих собеседников. Слово будто бы имело собственную энергию и было наделено своенравным характером. Замалчивало само себя. Скручивалось тугим жгутом, крошечной куколкой в тесном коконе и не хотело наружу – наводить сумрак в пока еще светлых водах Вигари.
Но уже поздно. Случилось.
Кокон ссыпал свою защитную скорлупу прямо под ноги купцам, обнажив скрывавшуюся в нем личину. Увы, она вовсе не оказалась прекрасной бабочкой или драгоценной жемчужиной.
Первым вышел из замешательства Яллир. Все-таки та напряженная, скрытая от посторонних глаз внутренняя работа, которую он скрупулезно вел последние несколько дней, принесла свои плоды.
– Лиммах, советую поменьше рассуждать о том, что тебе незнакомо. Запомни это, ведь кто знает, что сулит вам следующий караван на Харх. Хоть ты обычно и не выходишь на берег с торговыми пилигримами, а ждешь их возвращения под водой, все же припомни мой совет. А те, кто выходит, слишком хорошо знают, что ярмарочная торговля и инициация – все равно что весы, где на одной чаше перышко, а на другой – глыбовой валун. Потрудись взвесить, дружище Лим, – тихим усталым голосом проговорил седой Яллир, слегка хлопнув собрата по плечу, как бы передразнивая его излюбленный жест.
Лиммах виновато потупился, поддел рваный клочок ила загнутым носком своего сапога из грубой кожи. Ил резко взметнулся наверх в толще соленой воды и плавно осел на зубчатой пряжке из потемневшего серебра, украшавшей задник сапога. Проводник караванов заметил это и с силой стукнул пяткой по коряге, опоясывающей дорожку, на которой стояли все трое.
– Прости, Ял. Прошло ведь столько светокругов… – Лиммах задумчиво поскреб свой блестящий гладкий затылок. – Когда ты учился дышать на суше, там, у слепых в Расщелине, я был несмышленым ребенком, а отец мой был не старше меня нынешнего! Что правда, то правда. Однако ж не будем загодя впадать в отчаяние, собратья! Что у нас с вами получается?
Яллир и Елуам устремили взгляды на Лима: отчего-то он решил взять на себя роль ответственного за моральное равновесие в «отряде». Проводник невозмутимо продолжал:
– Взять хотя бы тебя, Ял. Как ни крути, а все же ты благополучно вернулся в свое время с границы миров, и потом, после обряда того, выжил и столько лет еще курсировал с караваном туда-сюда! Сколько путешествий мы, помнится, совершили в ту пору! Я, когда меня провожатым к вам главный определил, торбу дома не успевал разобрать да к жене лечь – а ну как завтра снова на Харх, будь он неладен? Кхм-м-м… Так о чем бишь я?
Елуам воззрился на бритого оратора полными надежды глазами: в них читалась искренняя готовность поверить любым оптимистичным доводам.
– Что почтенный Яллир благополучно вернулся и выжил после обряда, – благоговейно напомнил юноша. Его сакральный полушепот был больше похож на молитву, чем на реплику в разговоре.
И это несмотря на то, что Елуам понятия не имел, что такое молитва.
– Ну да, так оно и было, – кивнул проводник караванов. – Да и сейчас хоть наш герой и прибедняется, а все же здоров как бык, этим слепым образинам назло! А что, знай наших! Помню я… – Лиммах вдруг резко умолк, вновь впечатав язык себе в небо под тяжелым взглядом Яллира.
На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. Казалось, число пузырьков растворенного в воде кислорода уменьшилось вдвое и вся неизмеримая толща вод Вигари разом надавила Елуаму на грудь. Он сделал тяжелый вдох, судорожно, каким-то ломаным движением поправил челку, хотя она в этом не нуждалась, чуть запрокинул голову назад, тряхнув блестяще-серой копной прямых волос. Усилием воли юноша поборол нахлынувшие чувства и заставил себя вернуться к разговору.
– Почтенный Яллир, прошу тебя, не смотри так на Лиммаха. – В голосе Елуама звучали примирительные ноты. Бедный мальчик! Уж Яллир-то знал, как тяжело давалось ему внешнее спокойствие. – Мой отец… Тут ничего не поделаешь, это в прошлом. Светлая память о нем озаряет каждый мой день, хотя, по правде, я был так мал, что почти его не помню. Моя мать видит произошедшее по-своему, и я не виню ее за это. Как я могу? Она вынесла довольно и не заслужила, чтобы я донимал ее своими бессмысленными укорами и пытался перекроить картину, которую она себе нарисовала. И все же я, сын Двилга, погибшего, по сути, от рук слепых, отказываюсь верить, что это был злой умысел! Более того, я горжусь, что Черторг выбрал меня новым купеческим пилигримом из сотни достойных претендентов! Ведь теперь я сам смогу вместе с прославленными купцами, такими как Яллир, отправиться на Харх и поучаствовать в Дне обмена!
Лиммах приоткрыл рот, демонстрируя два ряда чуть заостренных зубов-стилетов. Яллир, сощурившись от ярких бликов на стенках аквариума, внимательно смотрел на юношу, словно пытаясь дотянуться своим пронзительным взглядом до клубка переживаний Елуама – истинных переживаний. Он хотел прочесть мысли, очищенные от юношеской бравады, от желания не ударить в грязь лицом и оправдать доверие всего Черторга.
– Молодец, Елуам, – поспешил с ободрением старый купец. В конце концов, бравада то была или нет – какая разница, если это поможет юноше сохранить нужный настрой? – У тебя хорошие задатки. Уверен, ты сможешь доставить нам кое-что даже более полезное, чем камни драмиры и семена вселекаря.
Будущий пилигрим, словно забыв, с кем ведет диалог, задумчиво проговорил:
– Не знаю, к чему Университету столько этих камней из-под трех опаловых гор, но вот вселекарь – точно полезное приобретение. Может, тогда он бы спас отца, привези наши караваны его чуть раньше…
Теперь настала очередь Лиммаха многозначительно кашлянуть и бросить неодобрительный взгляд. «Как ты смеешь упрекать в чем-то собрата, что гораздо старше и опытней тебя?» – читалось в нем. Елуам – на то и будущий купец – вовремя заметил посланный ему знак и поспешил реабилитироваться:
– Я ничего такого не имел в виду, собратья. Если в моих словах вы уловили мнимый укор почтенному Яллиру, то, уверяю вас, у меня его и в мыслях не было! – К будущему купцу вернулся жизнерадостный тон юноши, преисполненного больших надежд. – Я прекрасно помню, что первый его караван с семенами вселекаря прибыл в Нуа лишь спустя светокруг16 после того, как не стало отца. Как я уже говорил, ничего нельзя было сделать… Тем более что Университету, в свою очередь, потребовалось немало времени для экстракции нужного ингредиента из этих семян с огненной земли. И поговаривают, эликсир из вселекаря не всем помогает… Что здесь у нас под водой, даже находясь в защитных колбах из крепчайшего стекла гокху, свойства семян несколько меняются. Только вот не ведаю, в какую сторону.
Яллир и Лиммах в очередной раз обменялись тревожными взглядами.
– Кажись, нам эликсир этот больше разум поправляет, мозги на место вкручивает, – поспешил Лиммах поделиться свежими слухами из Черторга. – Так мне давеча доложили купеческие пилигримы, которые крайние на Харх плавали. Я тогда в Нуа остался, выпросил у Балоаха двадцать светокругов отдыха, а то уж лица родных начал забывать.
– Лим, иной раз мне сдается, что тебе самому не помешает разум поправить, – окончательно потерял терпение раздраженный Яллир. – Елуам, мой юный друг, не слушай того, кто и в торговле, и в алхимии, и в лекарском деле понимает меньше, чем я в… эм-м… ну, в зодчестве, к примеру.
Яллир вдруг распрямился, преодолев нажитую годами сутулость, широко расставил ноги, упер руки в бока и высоким крючковатым деревом с иссохшей корой навис над низкорослым Лиммахом. У того от неожиданности еще больше округлились и без того выпученные глаза. Проскользнувшая между ними витая лента сквозного течения успела поиграть черными гравированными кольцами, которые полосатой дугой окаймляли ухо проводника торговых караванов.
Старый пилигрим заговорил, и его голос, прежде негромкий и хрипловатый, зазвучал авторитетно и властно:
– Я был там, где гигантское око изо дня в день обжигает беспощадным жаром сухую пыльную землю. Я ходил по этой земле под его пылающими лучами, облаченный в мантию из тройной мембранной ткани. Меня окружала лиходейская пляска проникающих в самое горло удушающих запахов и пробирающихся под кожу резонирующих звуков. Я шел на поклон к этому варварскому племени, не знающему грамоты, простейших законов сфероустройства и даже собственной истории! Я унижался. Я делал вид, что благоговею перед их физической силой, выдрессированностью и первобытными ритуалами! Мои руки так запорошила черная вулканическая пыль, столбом стоящая в спертом ярмарочном воздухе, что нельзя уже было различить на них мою фамильную вязь – достояние славных пращуров рода. И этими руками я, как какой-нибудь презренный торгаш, дошедший до того, что пускает с молотка семейные реликвии, разложил перед ними драгоценные дары моря Вигари, виртуозно обработанные лучшими мастерами Черновика и университетскими искусниками. Разложил, да еще нахваливал, живописал достоинства, разъяснял уникальность изделий такой красоты и силы, что перед ними преклоняется сам хранитель Ингэ! Пересохшим языком я втолковывал им истинную суть наших даров, могущих поставить эту потерянную цивилизацию на путь просвещения. Открыть им, недостойным варварам, верящим в божественную силу обычных природных явлений, законы этой природы, чтобы отныне она подчинилась им, а не наоборот!
Громоподобная речь Яллира распугивала стайки голубоватых рыбок, и те спешили уплыть подальше, беззвучно шелестя плавниками, напоминающими ажурные манжеты утопленника-аристократа.
– И они не поняли ничего из того, что я терпеливо раз за разом им объяснял, – свирепо продолжил Яллир. – Абсолютно ничего! О, эти их треугольники, которые они по тысяче раз за светошаг17 прикладывают к своим пустым головам! Все доводы, доказательства, факты вдребезги разбиваются об эти треугольники. Они просто закрываются ими, словно блокируя малейшие движения разума! Стремятся удержать священную пустоту в головах!
Яллир замолчал. Суровость его неожиданно сменилась улыбкой. В ней проглядывало непритворное торжество: старый купец уже чувствовал, что ему почти удалось переломить страх и опасения Елуама. А значит, он добился своего.
«Забытый вкус победы. – Он едва заметно прикусил нижнюю губу. – Мои старые друзья: могущество слов, сила убеждения… Как давно мы с вами не виделись!..»
– И все же я добился своего. – Яллир вдруг заметил, что сказал это вслух. – Пусть и иным путем – не так, как изначально было задумано и одобрено хранителем Ингэ. – В светло-зеленых глазах бывшего купеческого пилигрима зажглось по крошечному пляшущему огоньку. – Рыжеголовые взяли то, что я им привез. Пусть и не для развития своей первобытной цивилизации, а просто как затейливые игрушки из моря. Слишком уж они приглянулись молодому принцу Каффу, и он отказывался выпускать «диковины» из рук. Его отец, Чаккар, не смог отказать единственному сыну и был готов уплатить высокую цену, которую я у него затребовал. Нет, конечно, это были не те плоские железки с аляповатыми символами, которыми они расплачиваются друг с другом. И не драгоценные камни из богатых недр рудных месторождений, что в перерасчете могли бы инкрустировать дворец хранителя. От фундамента до верхушек семи шпилей. Ха! Если бы я согласился на такую оплату, то наши караваны могли бы еще не менее двух светооборотов18 приплывать на огненный остров и возвращаться с битком набитыми торбами. Но вышло все же по-моему.
Собратья не сводили восхищенных взглядов с Яллира. Под впечатлением от его одухотворенной речи они даже на время позабыли, зачем они здесь, чего ждет от них Черторг, куда сейчас они должны отправиться и что ожидает их там. Все временно растворилось вместе с лопающимися пузырьками воздуха, что легчайшим бисером нанизаны на острие стеблей морского хвоща, отделявшего купцов и проводника от темного силуэта Чернового круга. Ибо то, о чем с жаром рассказывал Яллир, до сего часа было известно лишь хранителю Ингэ, некоторым из искусников и узкому кругу посвященных в Купеческом черторге. Казалось, время застыло, и даже часовик-счетовод ненадолго разорвал свою магическую связь с эфимирами.
Набрав узкой бледной грудью кислородного раствора и медленно выдохнув его через прорези небольших жестких плавников, Яллир продолжил:
– Они дали мне три горсти семян вселекаря. Он и поныне растет на огненной земле – прямо из жерла потухшего вулкана Йундра… Единственное место на Харх, где можно встретить это растение. Рыжеголовые поубивали не одну сотню рабов в попытках добыть вселекарь, ведь спуститься внутрь Йундра и вернуться живым удается единицам. Тех, кто возвращается с семенами, сразу отпускают, и жрица Огня самолично снимает с них рабское клеймо. Я это видел сквозь клубы едкого дыма в их жутком храме. А еще видел, как одно растертое в ступке семечко вселекаря подняло со смертного одра дряхлого старика. А измельченная в порошок шелуха этого семени оживила умершую в родах кошку и всех ее пятерых котят, к которым остатки этой шелухи поступили через пищевод матери. И все пять орущих паршивцев благополучно выбрались на свет из чрева несчастной и прожили больше среднего, донимая королевских домочадцев своим бесконечным царапаньем и глупыми играми. Пятерым – слышишь, Елуам! – пятерым хватило проглоченного матерью порошка шелухи одной ничтожной семечки! А в нашем распоряжении теперь десятки колб этого снадобья!
Самоубеждение – сила, разбивающая преграды любого рода. Яллир заигрался с этой силой, но даже осознав, не в состоянии был остановиться. «И все же я добился своего», – стучало у него в висках, заглушая все прочие мысли. Выражение облегчения и бесстрашия на лице Елуама было лучшим тому подтверждением. Все, что теперь нужно, – это последний штрих, который надежно закрепит это состояние и пронесет его через грядущее испытание, что бы там ни ляпнул вслед неотесанный Лиммах.
– Ну что? Все еще боишься Расщелины, Елуам? – с легкой издевкой поддал на камни Яллир, заговорщицки подмигивая будущему купеческому пилигриму.
Словно под гипнозом, Елуам отрицательно закачал головой, не сводя со старика взгляда.
Лиммах только тяжело вздохнул, проскрипев сквозь зубы:
– Ял-то, гляжу, вообще не изменился. Вот только к добру это или к худу?..
Глава 6 Крошки для голубей
Трактирщик Куримар с выражением смертельной скуки на осунувшемся лице уже не менее получаса монотонно протирал поверхность высокого прилавка. Каждый взмах ветхой холщовой тряпицы примешивал к спертому воздуху помещения плесневело-винный дух. Кусок материи знай скользил туда-сюда по уже безупречно чистой сосновой столешнице.
Упомянутая столешница прилавка всегда была предметом особой гордости Куримара. Да и впрямь, даже перед королевским советником или главой гильдии на нее не стыдно было иной раз поставить щербатую костяную чашу, до краев наполненную хмельной маругой19. Гладкая поверхность прилавка, отдающая нагретым деревом, щеголяла многогранным орнаментом из треугольников, охваченных языками пламени. Эти витиеватые узоры не были полыми: их заполнял прессованный янтарный порошок, изначально прогретый в раскаленном песке и затем выкрашенный в яркие цвета. Янтарная масса, затвердев внутри узорчатого трафарета, украсила треугольники глубокими оливковыми и вишневыми оттенками, а язычки пламени – оранжевыми.
Что и говорить, резчик Гивдар поработал в свое время в «Хмельной чаше» на славу. Даже несмотря на то, что руки мастера уже тогда предательски дрожали, выдавая пагубное пристрастие своего хозяина. Куримару, уже второй звездный цикл вынашивавшему золотую мечту об искусно декорированном прилавке, стоило немалых усилий договориться об этом заказе с отошедшим от дел резчиком. Чаще всего его тогда можно было встретить не за работой, а бесцельно ошивающимся около турнирных и тренировочных ограждений или бредущим нетвердой походкой по глянцевым окатышам морской отмели. Что тут поделаешь? Неисповедимый танец искр его судьбы вместе с ярмом потомственного ремесла привели Гивдара не в стройные воинские ряды и не на манящие яркими флагами турнирные площадки, а в душную клетку отцовской мастерской.
И врожденный талант не стал ему утешением.
Трактирщик часто, с жалобным спазмом в глубине горла, вспоминал, как однажды под вечер, выглянув из узкого окошка своего заведения, вдруг заметил бездыханное тело, перекатываемое по песку в пене прибрежных волн. Забыв даже припрятать эмалированную шкатулку с железными пластинами и приказать помощнику Шогу не спускать с нее глаз, тучный Куримар бросился к месту происшествия, переваливаясь на бегу. Хотя, если задуматься, что он, невежественный кабатчик, сможет сделать, чтобы помочь горе-утопленнику, коли тот волей священного пламени остался жив? Как ему поступить в случае, если душа несчастного уже отправилась к Матери звезд и ее сыновьям? Ведь всем хархи с самого детства хорошо известно, что мертвец в трактире или даже рядом с ним – конец доброй репутации! Что с ним случилось и как он туда попал, никого не интересует, ясно одно: завтра твои завсегдатаи к тебе ни ногой! А послезавтра слух расползется шипящей змеей по Подгорью, и вход к тебе всему побережью заказан! Хоть бесплатно янтарное вино с маругой наливай и седоплава20 в соли за просто так на тарелку с овощным рагу подкладывай – ничто не вернет к тебе суеверных посетителей! Останется только своими руками поджечь трактир вместе со злосчастным телом, развеять по морскому ветру пепел и попытать удачи в другом месте. Добропорядочные хархи не пьют с духами утопленников, изгнанными из чертогов Огненного бога – это столь же очевидно, сколь темна ночь и светла утренняя заря.
Тем не менее все вышеперечисленные доводы не могли тягаться с силой внутреннего порыва, захватившего Куримара, когда он опрометью бросился к телу, не снимая тяжелой обуви и безразмерной туники. Изрядно начерпав смеси из соленой воды, песка и ошметков морской капусты широченными голенищами кожаных сапог, отчаянный трактирщик все же успел схватить несчастного за полу истрепанного хитона. В тот самый момент, когда пасть прибоя, жадно капающая пеной, уже была готова поглотить тело. Оттащив утопленника на безопасное расстояние от рокочущих волн под перепуганными взглядами чаек, Куримар с ужасом узнал в нем мастера Гивдара, того самого талантливого резчика по дереву. Живого или мертвого – а кто его, заблудшую душу, разберет? Кабатчик трясущимися руками взвалил тело на свое массивное плечо, обхватив его поперек спины пухлыми руками и, не ведая, что творит, потащил прямиком к трактиру.
Встречные хархи, завидев эту пару на своем пути, в священном ужасе шарахались прочь, а некоторые даже бросались наутек, подальше от греха. Куримару все это было безразлично. Для него они слились в абстрактную мешанину разноцветных клякс на холсте побережья. Кроме одного. Краем глаза запыхавшийся трактирщик успел разглядеть, как нищая беззубая старуха Нуулха, что-то бормоча себе под нос, сложила из скрюченных пальцев некое подобие треугольника и осенила их этой фигурой. Быть может, это-то тогда им двоим и помогло, кто его знает…
Но еще несколько шагов, и раскаиваться, сожалеть о чем-то стало поздно.
Ибо за спиной уже протяжно скрипнула калитка, отделяющая трактирный дворик от шума набережной, и ее скорбный стон не сулил ничего хорошего. Еще бы! Поглядите, какого гостя с бледно-зеленоватым лицом и черными кругами под глазами трактирщик самолично тащит в свое переполненное в вечерний час заведение!
Куримар, вздохнув, принялся еще тщательней полировать свой искусно декорированный прилавок. Некстати нахлынувшие воспоминания не позволяли кабатчику сосредоточиться на чем-то ином. Словно вот оно, безжизненно распластанное тело Гивдара с прилипшими к белому лбу мокрыми паклями рыжих волос – прямо здесь, перед ним! Куримар часто заморгал, чтобы избавиться от наваждения, и с силой протер глаза.
А ведь в тот злополучный вечер до кабатчика все окончательно дошло, только когда тело с глухим стуком свалилось с его плеча на низкий длинный стол и из-за него начали выскакивать перепуганные посетители. Оглашая трактир истошными воплями, они всей толпой устремились к дверям; их лица побледнели, почти как у бедняги Гивдара. Со всех сторон сыпались проклятия в адрес «нечестивого» трактирщика, звучали обрывки молитв к Огненному богу и Матери звезд с просьбой защитить от греха. Громкий голос Куримара не смог перекрыть нестройного хора, дирижируемого суеверным страхом.
«Куда вы несетесь сломя голову, ровно табун дугорогов под своим собственным созвездием?! – застыл в сознании немой вопрос. – Скорее всего, этот несчастный пьяница еще жив, нужно помочь ему, да побыстрей, пепел вам на голову!» Куримар лихорадочно огляделся и понял: надеяться здесь не на кого. Только на собственные руки. Эта светлая мысль озарила мозг трактирщика как раз вовремя – буквально за пару мгновений до того, как Гивдар мог отправиться постигать тайны звезд и любоваться колесницей Огненного бога с куда более близкого расстояния. Нет, Куримар не бросился откачивать мутную воду из тощей груди пострадавшего.
Он предпринял нечто иное.
Этими самыми пухлыми ручищами он вцепился в хорошо знакомый ему черный хитон, принадлежавший юному Цардаху, младшему лекарю из высшей плеяды целителей Харх. Какое, казалось бы, неслыханное нахальство!.. Однако трактирщик твердо знал, что делает.
Цардах, не к его чести будет сказано, питал слабость к знаменитой Куримаровой маруге. И хоть обычно употреблял ее в разбавленном виде, а все же в страшном сне не пожелал бы увидеть лицо своего строгого наставника Аннума, прознавшего о пагубной привычке подопечного. На том молодой целитель и попался. Куримар сгреб вырывающегося Цардаха в охапку и доходчиво разъяснил ему безрадостные перспективы его карьеры в случае, если тот откажется молниеносно вернуть резчика Гивдара «со звезд на огненную землю».
Неудивительно, что повторять дважды трактирщику не пришлось. Пара размашистых шагов – и младший лекарь уже склонился над телом, лежащим на низком столе. Куримар стоял за спиной Цардаха, грозно возвышаясь над ним на случай очередной попытки трусливого побега. С другой стороны путь к отступлению преграждала длинная дощатая лавка, лихо развернутая перепуганной толпой.
Лекарь умел без промедления оценивать ситуацию и понимал: конкретно эта складывалась не в его пользу. Попасть сразу в две ловушки – это надо постараться. «С одной стороны, – бегло рассудил он, – с этого кабатчика станется доложить Аннуму, где я коротал сегодняшний вечер. О последствиях доноса лучше даже не думать. С другой, тут захочешь не убежишь: толстяк уже перегородил все пути к отступлению, а ввязываться в потасовку – последнее, чего бы мне сейчас хотелось». Признаться, единственное, чего на самом деле хотелось Цардаху в тот злополучный миг – это как можно скорее выбраться из ловушек и как можно незаметней скрыться. И если для этого требуется немедленно оказать врачебную помощь утопленнику, что ж, придется пойти даже на это.
В логике молодому целителю не откажешь. Покончив с рассуждениями, он переступил через суеверия и наконец нашел в себе силы прикоснуться к холодному бледному телу.
Руки лекаря, довольно-таки изящные для хархи, двигались так быстро, а манипуляции были столь неуловимы, что наблюдающий из-за спины Куримар с трудом постигал происходящее. Нисколько не преувеличивая, он и годы спустя утверждал, что это был танец рук, состоящий из резких толчков в грудь, надавливаний какими-то черными камушками на виски, круговых растираний лба и втыкания в запястья тончайших иголок с крючковатым ушком. Сколь странными ни казались эти лекарские эксперименты, последний из них явно пошел бедняге на пользу. Первыми ожили его руки: они начали выписывать волнообразные движения вдоль пока еще недвижимого тела. Выглядело это немного пугающе. Следом с нарастающей силой заходила, вздымаясь, грудь, видневшаяся сквозь мокрые лохмотья разорванного хитона. Эти судорожные сокращения мышц избавили «утопленника» от изрядной порции соленой воды, приправленной мелким песком, на которую в приступе отчаяния тот променял излюбленную хмельную маругу. Мелкие черты лица зашевелились в пробуждающейся мимике и тем самым сорвали с себя ритуальную нефритовую маску21.
Славься, славься, пламень жизни,
Торжествуй, великий бог,
Пробудился Гив от смерти,
Не спешит он в твой чертог!
Матерь звезд его простила,
Самоказнь хоть страшный грех,
Но на небо не пустила
В назиданье для нас всех!
Эти бесхитростные строчки сами собой сложились в голове трактирщика в тот момент, когда он окончательно убедился, что горе-пловец пришел в чувство. Записать бы их, да куда и как? На языке каких символов? Разумеется, потом они выцвели и стерлись из памяти Куримара, перекрытые многочисленными слоями новых впечатлений, эмоций и событий. К ним относятся и клятва об украшении прилавка резьбой, взятая со спасенного Гивдара, и его многодневная работа с перерывами на хмельное забытье, и, наконец, бесславная кончина талантливого резчика в крошеве осколков бутыли из-под винного спирта возле этого самого прилавка.
Что тут поделаешь? Мельница жизни, ни у кого не испрашивая одобрения, заскрипела дальше своими лопастями, перемолов и это. Порой Куримару казалось, что жизнь заодно перемолола его самого. Что осталось от жизнерадостного и предприимчивого трактирщика? Одни мелкие осколки, подобные тем, что усеяли пол вокруг мертвого Гивдара.
«Надо жить дальше», – так говорят в народе? Вот Куримар и зажил, да только не так, как раньше, а тем безрадостно-обреченным манером, что в том самом народе именуется небрежным словом как-нибудь.
– Что, как там увалень-винодел из «Хмельной чаши», не слыхал? – иной раз, когда другие темы для беседы уже явно были исчерпаны, спрашивал один воин другого, не отвлекаясь от налаживания доспеха.
– Куримар который? – всегда зачем-то следовал уточняющий вопрос. – Да это… как-нибудь.
– А прилавок все же у него богатый… Нигде такого в Подгорье не видал!
– Да уж, славно сработано. А слыхал ты, дружище Нурхан, что этот хряк тогда пьяницу резчика – не помню, как его, грешную душу, звали – из моря сам выловил? Да лекаришке Аннумову тесак мясной к горлу приставил, только чтоб тот от Матери звезд его обратно в кабак возвратил?
– Известное дело, – лениво отвечал Нурхан собеседнику. – Нашел новость! Об этом уж почитай все Подгорье слыхало. Расписной потолок в Святилище виноделу покоя-то не давал! Я видал, да и другие хархи сказывали, что в дни жертвоприношений или на Горидукх22 Куримар все больше не на жрицу, а на потолок пялился. Задерет бороду кверху, да так, что вот-вот подпалит ее своим факелом, и глазищами по потолку так и шныряет. Какие уж там ему грехи выжигать и какие молитвы читать? Дела ему до этого не было никогда, скажу я тебе! Стоит и будто запомнить пытается узор тот. На кой хрен, спрашивается, а? Чтоб он ночью ему приснился вместо Нездешней?
– Ну ты и тугодум, Нурхан! – вспыхивал Водрих. – Сам же сначала сказал, что покоя тот потолок его грешной душе не давал! Перенести, стало быть, он хотел потолочный узор на прилавок у себя в трактире. Дошло до тебя? Бутыли с маругой чтоб ставить на священные символы, к которым ты в Святилище взываешь, чтоб матушка твоя поправилась и чтобы Тридда тебе красный платок на турнире бросила! И вообще, снял бы ты шлем, а то, как по мне, перегрел он твой котелок. Не соображаешь, по-моему, ни шиша.
– Вот ведь бестия семипудовая! – искренне возмущался Нурхан. – Верно, ты, Водрих, толкуешь! Так оно и есть. Сам видел, как в «Хмельной чаше»-то наши священные треугольники локтями обтирают – янтаря, ну, который внутри них, и не видать уже. Поди разгляди его за пятнами от пролитого вина да следами жирных пальцев! – И в испуге шептал: – Пощади, Мать звезд, его заблудшую душу!
– То-то и оно, друже, то-то и оно, – кивал сослуживец. – А кто там следить за порядком теперь будет и с рисунков тех жир соскабливать, коль жена его, Хигдая, еще пять созвездий назад к какому-то лучнику по ту сторону опаловых гор свинтила?
– Да ну тебя, Водрих! – терял терпение Нурхан. – Иной раз хуже бабы – Огненный бог тому свидетель! С тобой все сплетни по Подгорью соберешь, на копье их намотаешь, а потом копье то с земли не подымешь. Брехня пустая еще и душу утяжеляет, – резонно добавлял ревностный поборник правды. – Не я придумал – в Семи наставлениях так толкуется. Помнишь такие слова: «Все лишнее, что со сплетнями к тебе прирастает, потом в себе будешь тяжким грузом таскать»? Аж до самого Горидукха, а он ой как не скоро! – следовало уточнение.
– С каких это пор ты, Нурхан, жрецом заделался? – насмешливо вопрошал ничуть не пристыженный Водрих. – Или ты, чего доброго, черные латы с треугольниками вместо наших бронзовых доспехов на себя примеряешь? – парировал он. – Лучше бы ты вместо своих Наставлений больше Рагадира слушал, тренировался усердней да турниры б не пропускал. Глядишь, и Огненный бы тогда заметил твое старание и отсыпал бы удачи на твою тугодумную голову. А там уж, наверно, и Тридда бы поласковей стала, а отец ее… как бы это сказать?.. ну, добрей, в общем, к тебе, дураку. А что до жены Куримаровой, так это истинная правда – кого хочешь в Подгорье спроси. Ибо не слыхивали об этом только самые ярые противники досужих разговоров – такие, как ты, к примеру. Коль не веришь другу, что ни разу ни единой истории не приукрасил для твоих мнительных ушей, так давай, разузнай все сам! Возьми да спустись в любую таверну, зайди в первый попавшийся кабак и поинтересуйся, где нынче обретается любезная Хигдая? Ха! Сам потом прибежишь ко мне с глазами, будто дисками из Певучего! Да еще спать потом мне не будешь давать! Всю ночь кряду ведь будешь возмущаться: «Да как такое под Матерью звезд…» Как там дальше у тебя? А, вспомнил: «выгорело»! Ага, точно. «Как, – будешь бубнить мне с соседней лежанки, – такое выгорело, чтобы жена, венчанная с мужем священным пламенем огненного нимба на глазах у жрицы – ну, еще там всяких подробностей свадебного обряда приплетешь, – вдруг разорвала эту выплавленную на небесном своде связь, трижды плюнула на Семь наставлений, не говоря уж о собственных венчальных клятвах, да и сбежала вдруг от мужа?! А когда узнаешь – хотя это уже давно известно всем, – что еще и дочку их, малышку Медиз, на руках Куримара оставила, то до конца созвездия покоя мне в своем праведном гневе не дашь! Ну давай, иди, – уже чуть не подталкивал он опешившего Нурхана. – Сегодня как раз свободный от службы день! Большая удача для тебя, – не смог удержаться от шутки бойкий на язык Водрих. – А то ты тут со мной уж столько сплетен намотал на копье, что все равно не поднял бы его и до стрельбища бы не дотащил. Ха-ха-ха!
Собеседнику, сраженному в этой словесной баталии, оставалось лишь беспомощно развести руками.
– Да к чему мне тащиться в таверну и к добрым хархи приставать, когда ты мне все карты прям тут и раскрыл? Видать, теперь жителям Подгорья меня ничем не удивить…
А все же удивить недоверчивого Нурхана словоохотливые обитатели приморской местности могли, да еще как! Ведь разговор, подобный тому, который завел болтливый Водрих, частенько вился над муравейником черных каменных домишек Подгорья. Вился-завивался причудливыми кольцами правды и вымысла, щедро сдобренный гнилостно-сладким душком сплетен. Ветер на своих растрепанных крыльях разносил их вдоль всего побережья. Обрывки наблюдений и каркающее эхо слухов стали вожделенными крошками хлеба для изголодавшейся стаи голубей-попрошаек.
И не насытившись аппетитным мякишем пересудов и кривотолков, они начали клевать трактирщика прямо в голову.
Если в одном конце Подгорья утром рябая сукновальщица, стуча внушительным кулаком по своему кожаному фартуку, утверждала, что-де Куримар посещал Святилище, только лишь чтобы выучить его потолочную роспись, то через пару дней, на другом конце, он уже «ни во что не ставил Огненного бога и думал, будто кабак достоин такого же украшения, как и Святилище».
– Грех, грех-то какой! – склоняя седые головы под треугольниками из трясущихся пальцев, вторили старики хриплым хором.
– Не возгордись, подобно трактирщику из «Хмельной чаши», а то не видать тебе воинской службы как своих ушей! – вразумляли матери своих строптивых чад, в глубине души радуясь такому показательному примеру.
Пролетая над прибрежными поселениями, этот слух постепенно обрастал павлиньим хвостом выдуманных подробностей. Слава Куримара стремительно неслась впереди него.
Кто он такой? Что сталось с его жизнью? Как он вообще дошел до нынешнего положения? Спросите – и вам расскажут!
Расскажут, что-де презренный кабатчик, видимо, увлекшись дегустацией своих напитков, ни с того ни с сего возомнил себя не меньше чем членом королевского совета и посчитал уместным ставить бутыли будто бы на потолок Святилища. То есть предложить своим гостям выпивать прямо на священной для хархи символике, а то и сплевывать на нее застрявшие между зубов виноградные и рыбные косточки. Перенес возвышенное, божественное – вниз. Святыня, к коей устремлялись молитвы, благодарности, немые вопросы, просьбы о защите живых и жаркие заклинания о лучшей доле для усопших, оказалась под чашами с маругой, под тарелками с обглоданными свиными ребрышками.
Грех, грех-то какой.
А как трижды нечестивый трактирщик, дошедший в хмельных бреднях до святотатства, сумел воплотить в жизнь этот лукавый план? Ясное дело как! Всем ведь известно, что он и в обычные дни, и уж тем более по праздникам, не вылезал из Святилища; якобы весь из себя богопослушный и смиренный, что твоя овца. Ею он и был, по крайней мере снаружи. Этакий добродушный бесхитростный бурдюк с салом – вперится ягнячьим взглядом в потолок, изукрашенный янтарными многогранниками, и глаз бессовестных с него не сводит! Коли не знаешь всего, можно и взаправду подумать, что молится с усердием, да не за себя – за весь свой род куримарский грехи замаливает. Чтоб отца, нечистого на руку, Огненный из своего чертога не прогонял, чтоб сестре зрение вернулось, чтоб жена наконец родила ему сына, а малая его, Медиз то бишь, чтоб выросла красавицей и попала бы в гарем к одному из этих толстосумов гильдейских.
Оно, конечно, хорошо, коли бы из этого нового торгового союза муженек-то ее будущий оказался. Тогда, глядишь, на резном том прилавке выстроился бы ряд редких восточных вин с экзотическими пряностями! Да и ядреных настоек на северных ягодах ажно из-за самого Убракка было бы в достатке… Хотя, чего скрывать, родство с выходцем из ювелирной гильдии устроило бы наверняка алчного кабатчика не меньше. Уж тогда бы, небось, этот прилавок расцветили бы мерцающие самоцветы и драгоценные металлы – не то,что какой-то там янтарь.
Да, об этом, видать, молился набожный трактирщик, а сам глазами едва дырку в потолке Святилища не просверлил. Нет, вы это видели? Все, шельма такая, запомнил, до единой черточки, до мельчайшей детали: где какая фигура, где завиток, где крошечная линия, что и как в этих многогранниках расположено. А они ведь страсть какие сложные – позаковыристей наплечных татуировок лучших воинов королевской армии! Если долго на них смотреть, а потом резко закрыть глаза, начнут яркими узорчатыми дисками прямо в темноте перед тобой вращаться, словно хитрый механизм какой. Только там, в рисунках этих с потолка, все сложнее любого механизма устроено. А этот взял и запомнил. Не иначе как в голове у себя записал! Будто подталкивал кто, подсказывал, нашептывал. Может, сам рыбий царь? Да, вот уж он-то (или она, поди их, бледное отродье, разбери) мог до такого додуматься – даром, что ли, в нем и мужик, и баба вместе уживаются? Тьфу ты, водится же в этом ихнем Вигари такое…
Грех, грех-то какой.
А дальше как дело было? А как бы ни было, ясно одно: без мастера тут никак, ибо у самого Куримара руки только вино в чашу подливать приспособлены, да и то бывало, что мимо нее. Ну, вы знаете эту его неповоротливость. С мастером, надо сказать, все больно непросто оказалось. Оно понятно, что ремесленники – народ не шибко умный, да и к медовухе, знамо дело, неравнодушный, а никто за дело богопротивное браться не хотел. Зачем, спрашивается? Чтоб в сговоре сбрендившего кабатчика с рыбьим царем свою долю греха заиметь? Так недолго и на Стене отверженных оказаться. Спасибо, уж лучше в гильдию податься: там хоть свяжут по рукам и ногам, но, по крайней мере, таким заказом не наградят.
А вот опустившийся Гудхар не избежал заказа этого, хоть и пытался уж под конец на дне морском от назойливого толстяка запрятаться. Говорят ведь, что резчик тоже тот еще «подарок» был: у самого руки не из того места – вот уж наказание отцу-мастеру! – да еще и завистливый дальше некуда. Глядел-глядел, как у брата и отца все складно из-под резца выходило, а сам при этом только дерево портил да инструмент затуплял. Ну и утешался маругой, как водится. В «Дурманящем кубке», само собой, – там, где подешевле да подальше от дома, чтоб отец с братом не нашли и по затылку киянкой не настучали. А Куримару только того и надо: вот он, тут как тут с халявной выпивкой. Кабатчики – они свое дело знают. Сначала умаслят гостя дармовым пойлом с разогретыми в котелке объедками со вчерашнего ужина, а потом давай в размякший разум свои шкурные интересы пропихивать! Вот он и так, и сяк подъезжал к захмелевшему Герхану – и на рыжей кобыле, и на пегой: «Упроси, – говорит, – брата старшего или, лучше, отца, пусть прилавок мой на манер потолка в Святилище разукрасят! Заплачу хорошо железными пластинами новой чеканки! А уж как принимать у себя в «Пьяной чарке» буду – все равно, что королей! Все, что здесь подается, вовек всей семье твоей бесплатно будет!»
Градхир пить-то пил, а согласия на заманчивые предложения Куримару не давал. Ясно как день: зависть уже так его душу прогрызла, что не желал он ничем пособлять ни отцу, ни брату. Не хватало самому на блюдечке этим «золотым рукам Подгорья» новые заказы притаскивать! Добряк Куримар ему и без того от души знай наливает, так чего ради против своей воли идти? Это ж… как там в Наставлениях толкуется?.. «Все, что ты делаешь вопреки своей истинной воле, – делаешь наперекор своей судьбе, что вершится в неисповедимом танце искр». Слова эти все с младых годков назубок помнят! А нарушить их…
…грех, грех-то какой.
Эдак какое-то время и тянулось, пока Куримар так горе-резчика не допек, что тот ровно в силках охотничьих оказался: по правую руку – семья со своими упреками, по левую – трактирщик клещами вцепился да, кажись, еще и подмешивать что-то дурманящее в пойло начал. Тут-то разум Градхиров окончательно и затуманился. И куда бедолаге от этих напастей деваться, как не на дно Вигари! Вот и решил он, душа грешная, к рыбьему царю с горя податься, ибо Огненный за слабость и праздность его теперь уж и близко к своему чертогу не подпустит. Кто знает, может, там, в пучине, его лучшая судьба дожидалась, а длинноволосые острозубые сирены из-за красных кварцитовых валунников давно уж Гаммира к себе зазывали? Вот он и пошел как миленький. А кабатчик неугомонный снова тут как тут: «Куда собрался? Погоди, – кричит, – у тебя еще на огненной земле дела остались: покуда родню свою мне прилавок вырезать не пришлешь, никуда не пущу!»
Да и плюх прямо в волны за ним.
Чуть не располовинил несчастного, деля с сиренами его, нахлебавшегося воды! Еще немного, и только руки его трактирщику бы достались. А что с них толку? Они и при живом-то хозяине не больно искусно резцом владели. Так что Гамхир нужен весь, целиком. Поэтому-то Куримар зубцами разбитой бутыли тем девицам хвостатым личики так разукрасил, что свеженький утопленник потерял для них всякую привлекательность.
Ну, вытащил на берег тело – глядь, а оно уж бездыханно, хоть сразу на Пепелище его. Тут у Куримара поджилки-то и затряслись: остатки трактирщиковой храбрости еще там, в пене морской, закончились, а мужества в помутненном разуме и жировых складках отродясь не водилось. Пялится на мертвеца, на берег вытащенного: кровь вся от лица отхлынула, уж сам на него сделался похожим, как припомнил, что с вечера опять к нему в кабак Цогдаш из лекарской гильдии пожаловал. Вот удача! Утопленника на плечо, как мешок с картошкой, взвалил и диким кабаном помчался обратно в питейную обитель, сшибая все на своем пути. Хархи добрые на это смотрят: «Никак совсем умом тронулся! Лучше б сразу кабак подпалил с собой вместе, чем окаянство такое совершать!»
Грех, грех-то какой.
Влетел он в трактир и сходу тело прямо на стол с маругой и закусками свалил, а сам сзади встал и собой, будто пивным бочонком, выход гостям перегородил. Да еще пригрозил им, что если не выживет резчик, то со всех присутствующих будет клятва огненная взята раскаленными щипцами для углей. Придется, дескать, поклясться, что ничего в тот день в трактире не произошло и никто в его стенах не думал помирать! Ну, тут отважный лекарь Цогдаш и вызвался на подмогу, хоть другие на него цыкали, чтоб молча сидел: молодой ведь еще совсем! А ну как обезумевший Куримар ему пальцы своей кочергой прижжет, если пьяница не очухается? Но на то он и лекарь, самого Аннума ученик, чтобы не оставить страждущего в его мучениях! Ниспошли, Матерь звезд, лучи благоденствия на его голову! Подошел молодой целитель к Гиддиру да и начал руками по нему колдовать, а трактирщик тесак для разделки мясных туш прям возле горла его держал. «Вытаскивай его с небесного свода сюда к нам! – рычал ему прямо в ухо. – Мы тут с ним еще не закончили! А не вытащишь – за ним следом быстрехонько отправишься!»
Грех, грех-то какой!
Цогдаш-то вытащил. И разбрелись все, не помня себя от страха, по домам. Шли из проклятого трактира и думали про себя: а вдруг на какое-то время резчик все-таки помер, а бесстрашный лекарь его и правда прям оттуда достал? Тогда получается, что все они пили тем вечером с мертвецом! Милосердная Матерь, что же теперь делать? Какими молитвами и жертвоприношениями исправлять такой страшный проступок?
Грех, грех-то какой!!!
Крепко задумались гости Куримарова кабака, и, хоть ровно ничего богопротивного в нем тем вечером не произошло, завелось в народе восьмое «наставление» – обходить окаянный трактир за три версты. Не сказать, правда, что с тех пор никто к Куримару не захаживал. Ему удавалось кое-как сводить концы с концами благодаря особо отчаянным огненным воинам, что повадились бросать в «Хмельной чаше» вызов собственному страху. Доказать что-то себе и Огненному богу: вот, мол, ставим на кон собственную загробную жизнь, лишь бы снискать твою похвалу за отвагу! Не боимся, дескать, дремучих народных поверий, а слушаем только священные Наставления Прародителя. На этой почве в воинских частях Подгорья родился обычай: на спор выпивать чашу маруги за столом, на котором тем роковым вечером лежал утопленник. Поборовшему себя и смертельно расстроившему свою семью воину полагался новый знак в кольцо наплечной татуировки, напоминающий глаз, охваченный пламенем. «Взгляд смерти в глаза», – окрестили воины этот новый символ, нашедший не так уж много желающих украсить им свое плечо.
Наиболее любопытные и наименее суеверные хархи из других городов острова, особенно по ту сторону опаловых гор, время от времени тоже жаловали трактир своим присутствием. Приходили сравнить узоры в Святилище и на прилавке Куримара…
И действительно не находили отличий.
Вымышленное и истинное, словно не замечая своей несовместимости, сплетались все теснее. Их связь крепла, образуя чудовищный полумифический гибрид, который наступил своей великаньей ступней на Куримара. Даже ничего не почувствовав при этом, он изломал трактирщика как снаружи, так и изнутри. Крошки слухов, брошенные голубям, проросли хищным плотоядными цветами-мухоловками, что, не подавившись, пожрали огонь сердца трактирщика, оставив в нем зияющую пустоту.
Куримар протер увлажненные воспоминаниями глаза тряпицей, которой надраивал столешницу. В нос ударил резкий кислый запах, а глаза только сильнее защипало от спиртовых испарений и въевшихся в холщовую ткань специй. Похудевший почти вдвое трактирщик на мгновение вернул себе тень былой расторопности, метнувшись в сторону кадки из бурового вяза, дабы плеснуть в лицо прохладной водой.
Плюх. Кап-кап-кап…
Струйки приятно стекали по истощавшему лицу и задерживались тяжелыми каплями на всклокоченной бороде. Легкое дуновение морского ветра, долетевшее до Куримара сквозь крошечные окошки каменного помещения «Хмельной чаши», проскользило по этим мокрым дорожкам и на прощание оставило на лице след из мелких мурашек.
Нет! Это уже ни в какие ворота…
Нужно скорее обтереться полой хлопкового фартука, чтобы десятилетняя Медиз, вернувшись с рынка, не приведи Огненный, не застала его в таком размякшем виде. Да и подкрепиться не помешает: с утра крошки во рту не было, хотя всякой снеди на кухне предостаточно. Несмотря на полное отсутствие аппетита, ему, Куримару, следует хотя бы сделать вид, что он поел, а не то Медиз снова начнет браниться. И – вот ведь причуды судьбы! – с точно такой же интонацией, что и ее мать Хигдая. Помнится, давно – почитай, уже как вечность назад – жена то и дело упрекала его за чревоугодие. А сама-то уж, наверно, теперь на восточных сластях и винах с нездешними пряностями тоже не легкой бабочкой порхает. Или что она там вкушает с новым мужем за опаловыми горами?
Эти мысли, будь они неладны, тоже нужно гнать прочь.
– Пш-ш-шли-и! – Куримар с силой ударил кулаком по цветным янтарным дорожкам своего прилавка, глядя куда-то сквозь него. Непрошенные слезы все так же застилали глаза.
Другой рукой трактирщик извлек из кармана фартука огрызок вчерашнего яблока и начал без аппетита его жевать.
«Ничего, – уговаривал себя Куримар, – надо только дотянуть до вечера». Слишком давно он не ходил к Двурогому холму оракула за исцеляющими душу историями. Ну, как исцеляющими… Их действия, разумеется, всегда хватало ненадолго; после них порой было еще сложнее возвращаться в свой опостылевший мир, словно в беспощадном похмелье. И да, на следующий день волны реальности еще грубее будут шваркать исхудавшее лицо Куримара об острые края тех самых стеклянных осколков, в которых когда-то лежал здесь несчастный Гивдар.
И в этом следующем дне его снова ждет укор в глазах дочери, его малышки Медиз… Что поделать, коли она поверила кружащему вокруг ее рыжей кудрявой головки воронью, до сих пор посыпающему побережье пережеванными крошками слухов?.. Куда деться от упрекающего взгляда? В то же время ее по-детски упрямое каждодневное ожидание возвращения матери попросту сводило трактирщика с ума. Имел ли он право открыто поведать дочке, что именно ее появление на свет и заставило когда-то Хигдаю отбросить мечты о муже-воине и пойти за него, Куримара, замуж? И что все эти созвездия Хигдая только и ждала повода, чтобы снять с себя семейное ярмо и устроить собственную жизнь получше… Прикинув так и эдак, Куримар рассудил, что такого права у него нет. Ибо понимал, что, развенчав образ Хигдаи в глазах дочери, он лишит ее согревающей сердце иллюзии. Заставит почувствовать себя нелюбимым, ненужным ребенком. К чему это и без того настрадавшейся по его милости малышке?
Так что Медиз оставалась насчет матери при своем мнении, а именно: матушка была слишком праведна и религиозна, чтобы оставаться в этом греховном месте, куда ее ополоумевший муж своими руками притащил мертвеца и угрожал всем посетителям!
Успокой свой измученный, растерзанный разум, дружище Куримар. Не сегодня. Уже вечером ты будешь сидеть на мягком зеленом ковре у подножия холма в окружении сиреневого клевера и россыпи мелких голубоватых ромашек, будто бы воспарив над стаей этого брызжущего ядом воронья. Нега травяного медового аромата проникнет прямо в твои мысли вместе с неторопливым повествованием Тихха о далеких звездах, костяных островах далеко за горизонтом Вигари и мудрецах, ведающих о нас то, чего не знаем мы сами. Убаюкивающий голос оракула на крылатом коне унесет тебя далеко, очень далеко отсюда. И сегодня, хотя бы сегодня, ты уснешь спокойно.
Только дождаться бы вечера.
Глава 7 Переосмысленное молчание
Яллир придирчиво сощурил глаза и еще раз внимательно оглядел Елуама, словно желая убедиться в неоспоримости своей победы. Удалось ли ему, умелому переговорщику, развеять страхи и сомнения будущего пилигрима? Сильны ли, достаточны ли были доводы? Не зря ли, слегка увлекшись этой игрой, он раскрыл некоторые, скажем так, личные подробности своих торговых паломничеств?
«Все-таки годы делают дружбу с риском все более натянутой…» – некстати подумалось Яллиру.
Первое впечатление, увы, не слишком обнадежило старого купца: лицо юноши выражало полное отсутствие каких бы то ни было мыслей. А если они и были, то блуждали где-то бесконечно далеко от окраины Чернового круга. Ни осознанностью, ни воодушевлением, что называется, и не пахло. Да что там – парень выглядел еще более потерянным, чем до их «доверительной беседы»! Наверное, впервые в своей жизни Яллир в буквальном смысле ощутил, как почва уходит из-под ног – медленно, песчинка за песчинкой. Устоишь тут на ногах, когда старые приемы и средства уже не действуют, а новые не спешат им на замену!..
Легкий толчок в бок прервал внутреннее ворчание купца и заставил вновь поднять глаза на своего преемника. Что там хотел показать ему Лиммах? Неужто засвидетельствовать его, Яллира, запоздалый триумф?
Старый пилигрим медленно поднял усталые, полные недоверия глаза.
Нет, все же есть еще порох в пороховницах, а старые приемы не так уж и плохи: лицо юноши просветлело облегчением. Наконец-то исчезло затравленное выражение, таившееся в аквамариновой глубине взгляда молодого вига. Предательски выступающие приметы эмоциональной незрелости сменились первыми признаками уверенности в себе.
Яллир, однако, не спешил торжествовать. «Надолго ли это?..» – только и хмыкнул он про себя.
Что ж, это лучше, чем ничего. «Будем, – заключил бывалый пилигрим, – довольствоваться тем, что есть». Временное забытье так или иначе окажет свое целительное воздействие на эо23 юноши. Оно наложит ему успокаивающий травяной компресс на разгоряченный лоб, терпеливо распределит по своим местам восемь жидкостей его сосуда и не даст им снова смешаться в зловеще булькающее варево страха. Чтобы стало в точности как на потертой от времени оригинальной иллюстрации к «Учению об эо: корневой системе психики вига» – строгий порядок и равные пропорции. А что до выданных сгоряча тайн Черторга вместе с секретными деталями странствий – да семеро искусников с ними! Не жалко, по крайней мере теперь. Это молодому и залихватски бесстрашному «морскому черту» Ялу, коим он был много светооборотов назад, бесконечно льстила та мантия таинственности со вшитыми в нее чужестранными загадками, что гордо развевалась за спиной при каждом шаге. В ее темных складках было все: мистерия Расщелины, не разбавленный водой кислород, вулканическая черная пыль, рисунки из звезд, бессмысленная жестокость турниров и публичных казней, королевские сады каменных цветов, пряные благовония из Святилища, звон браслетов горделиво шествующего мимо гарема, соленый привкус ветра, хоровод примет и суеверий, горький сорх24 в чашах с наперсток, три сросшиеся клином горы из драгоценного опала, капли пота воинов в пыли тренировочных полигонов, первобытный экстаз Горидукха, корично-цитрусовый аромат шицуба в меду, первая горсть вселекаря в дрожащих от волнения серебристых руках… Все это тот лихой пилигрим Ял долгое время носил на себе, ревниво скрывая содержимое складок невидимой мантии не то что от посторонних, а даже от собственной семьи – родителей, жены и двоих сыновей.
Теперь же он был только рад укрыть ею Елуама от сонма черных мотыльков, несущего на лохмотьях иссушенных крыльев отравленную пыльцу страха. Яллир, награжденный не только сединами, но и мудростью, отчетливо выкристаллизовавшейся из остывшей смеси лихачества и амбиций, все сделал верно. Подбросил крупное полено в очаг внутреннего тепла юноши и не чувствовал ни йоты жертвенности в совершенном поступке. Да будет так! Жизнеутверждающего потрескивания этого пламени и фейерверка рассыпающихся золотых искр должно хватить на весь долгий путь до Расщелины, а если повезет, то и до окончания самой инициации. Пусть себе отвлекает растревоженные мысли Елуама. Пусть мягко, но настойчиво уводит их по хладнокровному течению логики, вовремя оттаскивает за растрепанную косу от штурвала тощую истеричную девку-плакальщицу и заменяет ее матерым морским волком.
Да разгорится этот пламень назло темной магии трех изгнанниц!
Все трое собратьев крепко уцепились за невзначай брошенные Яллиром соломинки уверенности, взяли себя в руки и вполне бодрой походкой направились к призывно поблескивающим стенам гигантского прозрачного куба. Им и впрямь стоило поторопиться, ведь их ждали. Еще в середине своей проникновенной речи старый купеческий пилигрим выхватил взглядом знакомую фигуру в длинном сером рубище напротив входа в аквариум. Яллир – спасибо выдающейся зрительной памяти! – совершенно точно знал, кому принадлежал этот скромный силуэт. И не ошибся: то и в самом деле был мастер ихтиогипноза Офлиан, который, как видно, уже все подготовил для их дальнего странствия.
Успешно решив деликатный вопрос с настроем Елуама, Яллир теперь был рад сделать небольшой перерыв. Он с радостным предвкушением вынырнул из темных вод чужого эо, готовый хлебнуть свежего кислородного раствора. Пилигрим знал: встреча со значительнейшей фигурой сферы научно-прикладных искусств Вига сможет отвлечь его от тяжких дум. Яллира, к слову, вовсе не смущало, что внешний облик Офлиана не соответствовал его высокому званию. Ни облачение, ни походка, ни мимика – ничто не выдавало истинный статус молодого вига. Последняя так и вовсе служила воплощением самой искренней юношеской расторопности – ни дать ни взять подмастерье перед наставником. Подойдя ближе и учтиво склонив голову в приветствии перед Офлианом, по возрасту годившимся ему в сыновья, Яллир в который раз подивился скромности мастера. Купеческий пилигрим будто бы немного пристыженно покосился на свои руки. Чего стоил один крупный перстень, царственно оплетавший средний палец левой руки тройным обручем белого золота, перехваченный по диагонали гравированной пластиной из черного хархского опала: она имитировала денежную единицу огненной земли!.. А браслеты-спирали, представлявшие собой собрание редких драгоценных камней Харх… Пожалуй, все это следовало бы оставить дома или, по крайней мере, на время припрятать в недрах дорожного плаща.
Яллир нервно пощелкал пальцами и, сцепив их в замок, спрятал за спину. Хотя, если подумать, с чего бы ему кого-то стесняться? Эти богатые украшения – награда за сложное, опасное ремесло, которому он посвятил жизнь. Не просто предметы роскоши, а заслуженные отличительные знаки, и носить их следует с достоинством! Старый пилигрим разжал пальцы, положил руки на пряжку ремня и перевел взгляд на Офлиана.
Мастер нисколько не изменился с их последней встречи, а ведь с тех пор прошло почитай уж семь светооборотов. Он все так же, завидев Яллира, без тени превосходства скромно склонил голову к своей худой груди и приложил к правому виску ребро распрямленной ладони – древнейший ритуал, которым магистры, мастера и искусники Вига приветствуют представителей других сословий. Развернутая к торговцу фаланга мизинца была отмечена двумя темно-синими, вертикально расположенными знаками: параллельными волнистыми линиями сверху (общий знак всех магистров факультета естественных наук) и парой пересекающихся окружностей снизу (знак мастера ихтиогипноза). На безымянном пальце красовалось свидетельство того, что Офлиан имел, помимо прочего, магистерскую степень в области тонких материй. Прямо напротив «естественно-научных» линий виднелась нательная печать в виде широко открытого глаза. Яллиру в который раз стало слегка не по себе: как бы ни расположил Офлиан свою руку, это иссиня-черное око продолжало в упор смотреть на старого купца. «Очень недипломатично», – пытался он с помощью неловкой шутки отогнать неприятный зуд между плавниками. Разумеется, не вслух.
– Здравия тебе, почтенный Яллир! Светокруги летят быстрее моих скороходов-фицци в день идеальной ментальной симметрии, а ты все так же пунктуален! – стирая рукавом своего рубища капельку светло-голубой крови с запястья, непринужденно проговорил мастер.
«Видимо, кто-то из питомцев уже «поцеловал» мастера острой чешуей с утра пораньше», – промелькнула догадка в голове торговца.
– Рад, искренне рад встрече с тобой, мастер Офлиан, – поспешил он поддержать дружелюбную тональность беседы. – Еще только подходя к месту встречи с моими собратьями, я заприметил новых особей в твоем личном стеклянном Лабораториуме. Могу ли поздравить с пополнением? Прости уж мне мое просторечие; ты ведь знаешь, что я так и не осилил этот талмуд с естественно-научными терминами, который ты мне как-то вручил за мои обывательские вопросы.
На несколько секунд Офлиан напряженно замер в приветственной позе – так, словно Яллир вдруг заговорил с ним на древнехархском. Впрочем, для мастера приблизительно так оно и было. Пополнение? Он поправился? Его субтильная фигура не менялась с университетской скамьи, а регулярные пешие походы до Ученого круга и обратно, вкупе с энергозатратным уходом за своенравными созданиями фицци, только способствовали ее сохранению. Издалека Офлиан так и вовсе смахивал на студента, если не на зеленого созреванца25.
Тут эксцентричного мастера осенило. Видимо, недавняя встреча с Балоахом, главой Черторга, немного натренировала ученого в ведении светских бесед.
– Ах, да! Пополнение у Моэ и Нэлхи! – хлопнув себя по лбу, изрек он. – Да, слава искусникам, это свершилось! Теперь могу спать спокойно: пять светокругов безустанного изучения и в прямом смысле бесплодных попыток репродукции южноводных фицци в неволе не прошли даром, – затараторил Офлиан. В его синих глазах зажегся огонь подлинной страсти, который дарят успехи в любимом деле. – Ты ведь знаешь, как редки стали эти создания еще в VIII световехе, как не хотели я и часть моих коллег коверкать разум и изнашивать тела сохранившихся фицци в угоду «прогрессивной» политике Ингэ! Когда я под давлением его прихвостней из Обители согласился практиковать ихтиогипноз в якобы благих целях укрепления связи Нуа с другими городами и местностями Вига, то поклялся себе использовать все открывающиеся передо мной привилегии для повышения демографических показателей популяции фицци.
Разоткровенничавшись, мастер окончательно вышел за границы сухого академического языка и перешел к стилю, недопустимому даже для самых демократичных научно-популярных изданий. Проще говоря, он стал самим собой.
Все это время Лиммах и Елуам скромно стояли чуть поодаль, ловя каждое слово диалога двух легенд Вига. Лим уже предвкушал, как дома он с гордостью разложит перед своими скатерть-самобранку «подковровья» Университета и Обители хранителя. Этот сомнительного благозвучия термин проводник караванов изобрел сам, достигнув таким образом предела своих ономатологических26 способностей. Данная лексическая единица по понятным причинам не прижилась в высшем обществе Нуа, однако стала расхожим выражением в торгово-купеческой среде. Непритязательному Лиму этого было предостаточно. Елуам же, в свою очередь, попросту отдался во власть юношеского восторга.
– Ведаю, ведаю об этом, мой друг, – отечески закивал Яллир.
Его белесые, слегка волнистые пряди, вторя такту кивков, чуть запаздывающими движениями неторопливо колыхались в лазурной бездне Вига. Не закрывать лицо торговца им помогал плоский черный обруч с тончайшим серебристым венком арабески.
– И поверь старому пилигриму, – Яллир изобразил самый что ни на есть понимающий взгляд, – я всегда чувствовал твой неодобрительный взгляд перед тем, как ты закрывал глаза и сливался с сознанием своих питомцев. Когда мы по одному пролезали в их распахнутые глотки, ты обычно находился уже далеко отсюда, во всяком случае разумная часть тебя. И знаешь, мне ведь всякий раз думалось: «Да уж, вот мним мы себя высшими существами, щеки раздуваем, а порой ведь чистой воды варвары, ничем не лучше этих рыжеголовых дикарей… Одно утешает: Офлиан сейчас не видит, как мы набились, точно икринки, в рыбье чрево и ждем, когда зашевелятся плавники в сторону огненной земли или Расщелины».
«Ох, закручивает свои басни старый черт, – подумал Лиммах. – Не иначе как молодчик Елуам ему о былых подвигах напомнил и язык наконец-то куда надо подвесил. А то ишь растерял, разменял на спокойную старость свою торгашескую натуру: дом знай все украшает диковинами хархскими (конечно, столько добра оттуда напер, не все же Ингэ под ноги вываливать!), в Черторг ни ногой, а спросишь чего – ни гу-гу! Еще и поглядывать стал свысока. Это хорошо, что Балоах его наставником на инициацию нового купца определил. Как только он уговорил эту угрюмую, отошедшую от дел «легенду»? Ну на то он и Балоах. Известное дело – в горло тебе вгрызется, эо из тебя хлеще морского монаха высосет, а своего добьется да ни гроша не уступит. Истинно – мастер! Вот кто должен молодым купцам примером быть! Особенно тем, которые трусливо дрожат перед Расщелиной. Тьфу ты, совсем измельчали выходцы из школы прославленного Черторга! Это ж еще самый что ни есть достойный, Елуам этот; выбирали-то аж полсветооборота всей купеческой братией. Да уж, выбрали, нечего сказать! Не боялся я за него, а теперь вижу, что придется…»
Тем временем мастер одного из величайших на Вига искусств и обладатель парадоксально простосердечного эо, Офлиан, не усмотрел во внешней солидарности Яллира ни тени его прославленного дипломатического хитроумия. С родительской гордостью поглядывая на двух огромных прозрачных существ, нависших в правом нижнем углу аквариума над стайкой своих уменьшенных копий, мастер увлеченно зачастил:
– Конечно, варварство! А как еще можно назвать такой способ обращения с исчезающим видом? Сколько их вообще осталось в нашем государстве? Страшно подумать – всего три аквариума: у нас, в Лагеппе и в Инма. Все, больше ни единой особи на весь Вига.
– А как же водораздолье? – Сохраняя искреннюю заинтересованность на лице, Яллир поспешил щегольнуть островками знаний о географии миграции фицци. – Я имею в виду то из них, куда покамест не дотянулись «прогрессивные» длани Ингэ.
Все трое, включая недоумевающего Офлиана, вопросительно уставились на седого пилигрима. Его, в свою очередь, это изрядно рассердило: с каких это пор именитые представители Университета и Черторга позволяют себе такие пробелы в знаниях? Ведь сейчас он им не раскрыл ровным счетом ничего нового. В особенности маху дал, конечно, господин мастер ихтиогипноза. Ибо спроси сейчас любого созреванца-естественнонаучника – тот без запинки тебе отбарабанит, что-де «фицци южноводные на пороге фатальной депопуляции развили в себе мощный инстинкт продолжения рода и, следуя ему, совершили глобальную миграцию в Восточное водораздолье между городами Ямэ и Гифу, в то время как из южных и западных независимых вод этот вид был полностью выловлен и функционально распределен по университетским аквариумам согласно приказу хранителя Ингэ».
Между собеседниками повисла физически ощущаемая тяжелая пауза. Никто не хотел брать на себя неприятную роль гонца с дурными вестями. Даже с поправкой на то, что для довольно-таки широкого круга посвященных никакие это уже были не новости, а неосведомленность Яллира – лишь следствие его полуотшельнического образа жизни. Как и следовало ожидать, «гонцом» стал толстокожий Лиммах. Он сощурил левый глаз, потеребил дорожку черных турмалиновых колец в своем ухе и просипел:
– Морские монахи.
Яллир ничего не ответил, вопреки ожиданиям всех троих. Он продолжал стоять как вкопанный, переводя взгляд с одной фигуры на другую. Он будто бы ждал, что ну вот сейчас… сейчас кто-нибудь первый сломается, не выдержит и засмеется в голос. Да так заразительно, что и остальные без промедления подхватят. А уж потом и он, провалившись в мягкий пух перины облегчения, непременно поддержит их своим искренним хохотом. А пока заслуженный пилигрим определенно не намерен демонстрировать, что поверил легендам этого сатирического ансамбля. Притихли-то как! Ох и потеря для факультета художественного мастерства! Какие таланты, оказывается, прозябают в стенах Черторга и Университета! Да, именно так он бы потом им и сказал. Думают, его так легко провести? Не дождутся!
Часовик отмерил своими цветными счетами еще одну минуту затянувшегося молчания, ставшего откровенно неловким.
Никто так и не засмеялся.
Лиммах прикусил язык и исподлобья взирал на эффект, вызванный словосочетанием, только что растревожившим безмятежную утреннюю лазурь окраины Нуа.
Морские монахи.
«Нет, – продолжал мысленно сопротивляться Яллир, – это не более чем издержки фантазии театральных драматургов Нуа, объединенных склонностью к мистификации и жаждущих освежить классику жанра противоестественными образами из своих дурных снов. Или, что более вероятно, плод порочной связи событийного вакуума столицы и темного фольклора, дотянувшегося сюда своим нечистым языком из самой глухомани Вига. Он, видимо, преодолел высокий барьер образования, науки, культа знаний, отрицания иррациональных материй и каким-то непостижимым образом заполз в эо жителей Нуа, чтобы постепенно отравлять восемь жидкостей их внутренних сосудов. Дожили. Браво, Университет! Низкий поклон тебе, Черторг! Вот уж правда стоило впервые за долгое время покинуть родной дом, чтобы воочию узреть, как этот язык обвил интеллектуальный и торговый цвет Нуа. Как с ними дальше работать – ума не приложу: совсем ведь спятили! С огненной земли, что ли, сюда суеверий и портовых трактирных баек недобрым течением занесло?» Набегая одна на другую, волны гнева шипели, путая обычно размеренные мысли Яллира.
Общее ритуальное молчание было громче дружного хора разъяснений и доказательств.
Верить этому молчанию или нет, Яллир пока не знал. Что бы там ни происходило за пределами его домашнего очага, он определенно был не тем вига, который в порыве бездумного энтузиазма импульсивно хватается за брошенный ему канат, туго сплетенный из материалов неизвестной природы. Что, если его пеньковые волокна пропитаны не смолой, а ядом? Долгая, насыщенная событиями жизнь дала Яллиру ценный урок: не устремлять свое эо в темные воды, особенно по воле других. У тех других, вполне может статься, на обратной стороне языка пришиты собственные мотивы, личная заинтересованность в выдаче тебе проклятых координат. Когда бросишь якорь в мрачную бездну этих вод, поддавшись чужому влиянию, – поздно будет осмыслять, да и жалеть о чем-либо. Поминай как звали! Если бы он, Яллир, не соблюдал свой собственный завет, возможно, не развевались бы сейчас волны его волос здесь, в мире живых… Вполне вероятно, что они уже давно были бы рассеяны жестоким суховеем по выгоревшей земле одного из хархских Пепелищ.
«Нет, по всему выходит, что призвание не торопится отпускать меня на покой. Не желает, чтобы я нашел умиротворение и утешение за жемчужными плитами своего дома. И никак не хочет принять обратно мою мантию с секретами огненной земли, чтобы передать ее новому поколению торговых пилигримов», – рассуждал про себя Яллир, всеми силами пытаясь стряхнуть липкие обрывки «фольклорных» историй, долетевших теперь и до его ушей из забытого искусниками подводного захолустья.
«Вот он, новый вызов. И теперь моя обязанность в другом. Нынче она не в том, чтобы любой ценой доставить на Вига необходимые товары. На сей раз задача моя гораздо сложнее. Я должен, обязан любой ценой защищать себя, свое эо, свой пока еще не замутненный разум от плодов извращенного воображения провинциальных бездельников! Это вовсе не удивительно, что те, кто оставил пустыми седьмой и восьмой фрагменты своего сосуда и бросил свое призвание на произвол судьбы, теперь заполняют их чем попало. Кто пестованием своих пороков, кто распущенностью бескостного языка, а кто и чудовищными образами, являющимися им в сгустках переработанного лихриана27. Да так оно и есть, чтоб меня! Вот что значит вернуться в русло логики! Вот чему я должен обучить Елуама, пока остальные отдают дань новой моде воскрешения фольклорных рудиментов! Пусть делают что хотят, а я не для того всю свою жизнь – и в минуты внутреннего штиля, и на гребне искушений – как заправский эквилибрист, удерживал баланс своего эо, чтобы сейчас бездарно расплескать его! Не дождутся!»
Отбросив призраков из глухоманей Вига на безопасное для своего разума расстояние, Яллир снова взял себя в руки.
– Юмор, однако, у вас, друзья… – с напускной небрежностью проговорил он. – Друг на друге в столичных кругах, небось, уже давно эту хохму опробовали, а теперь вот она и до меня добралась. Остро, остро… Признаться, я чуть было в нее не поверил. Но все же, друзья, – окончательно вернувшись к своей назидательной интонации, купец легонько пригрозил пальцем собеседникам, – будьте осторожней с подобными шутками. Не мне вам рассказывать, как в Обители относятся к заигрыванию с мифами и перевиранию древних преданий. Да и оказаться заподозренными в следах лихриана на плавниках – а откуда еще взяться подобным бредням? – я бы вам тоже не желал.
Елуам, Офлиан и Лиммах, словно связанные круговой порукой заговора, все так же стояли тремя окаменевшими безъязыкими фигурами. Каждый из них по-своему жалел о необдуманном словосочетании, слетевшем с губ Лиммаха. Больше всех жалел сам виновник нежданной смуты: проводник караванов крепко отругал себя за врожденную несдержанность, которая чуть было не рассорила их с консервативным Яллиром – закоренелым противником любых «варварских верований». Достаточно одного взгляда на старого пилигрима, чтобы раз и навсегда это уразуметь. Еле сдерживаемый праведный гнев на его лице, раздраженное передергивание плечами, менторский тон – все это указывало на глубокое отвращение старика к «россказням» и «небылицам». В особенности к тем из них, что подразумевали проникновение в воды Вига. Хватит с Яллира и Расщелины – этого «уродливого, но одновременно необходимого шрама на благородном теле нашего государства», как говорил о ней седой торговец.
«Этот шрам истязает Вига смрадом своего черного гноя, но нельзя отрицать, что это справедливая цена за возможность следовать нашему призванию», – обязательно добавил бы кто-нибудь из купеческих пилигримов старой закалки.
«И как ты, старина Ял, не кривись, а все же в эту цену включены еще и тысячи жизней вига, спасенных вселекарем», – напомнил бы ему еще кто-нибудь из собратьев. И, пожалуй, на этом бы не остановился: «А скажи на милость, это иноземное лекарство попало бы в наши воды, коли бы не этот самый «шрам»? Ну да, да, косвенно. Разумеется, косвенно! Какой же ты иногда сноб и зануда! Никто здесь не умаляет твоих караванных подвигов, красноречия и легендарной дипломатии; тебе чуть ли не сам Ингэ в ноги кланяется, о великий доставщик вселекаря! Но ты бы все же не забывал, откуда растут корни этих твоих подвигов. Мудрость, которую ты так превозносишь над прочими качествами, – это синоним целостности как жидкостей эо, так и оценки происходящего. А в твоей картине позорной прорехой зияет пресловутая Расщелина, которую ты, дружище, видишь только одним глазом, а раскрыть второй упрямо не желаешь. Удивительное ты создание!»
Оборвавшийся на «монахах» светский диалог Яллира и Офлиана безнадежно разошелся по швам. А вместе с ним испортился и внутренний настрой, который старый торговец мастерски наладил в себе перед встречей с собратьями. Результат кропотливой духовной работы разбился вдребезги о противоестественные призрачные видения, которые якобы рвутся материализоваться в подводной цитадели разума и логики.
Нервно порывшись в карманах мантии, Яллир резким движением извлек крошечную колбу с часовиком. О великие искусники! Ее прозрачные грани уже переливались зеленым цветом. И вовсе не тем неуверенным оттенком, свойственным молодому первотравью, а насыщенной глубиной изумруда. Прекрасно – еще и задержка с отправкой! По расчетам Яллира, их купеческий отряд должен был уже вовсю держать курс на границу миров, подпирая бока друг друга в эластичном желудке фицци. Ну вот, они еще и опаздывают. Неизвестно теперь, как встретят их там. Может, конечно, гурилии их и не ждут вовсе. А если ждут?
Все определенно пошло не по плану, скрупулезно вычерченному в уме бывалого пилигрима. И если схемы этого плана и содержали в себе ряд погрешностей и допущений, то подобная непунктуальность в них уж точно не значилась. «До чего же банально!» – злился на себя и всех вокруг Яллир. Обыденная издержка общей безответственности – «извечного проклятия любых коллективных деяний», как еще во времена лихой молодости окрестил он ее про себя. Потому и любил уединенные вояжи на огненную землю в компании, ограниченной проводником караванов и встречными рыбьими стаями. Тем паче что такой расклад исключал необходимость делить потом с кем-либо пьянящий нектар почестей. Беря на себя все риски и всю ответственность, Ял по возвращении на Вига до одури упивался славой. Вопреки предостережениям и увещеваниям Черторга.
А может, даже и назло.
Что ни говори, а это действительно было счастливое время. И, увы, оно безвозвратно ушло, прихватив с собой былые победы и наслаждения. Теперь же все – абсолютно все! – шло не так: и пустые никчемные глухоманные сплетни, и этот защитник бедных исчезающих фицци (или кораблеплавов, как втайне от Офлиана зовут их в Черторге). И, наконец… хотя нет, это, пожалуй, самое главное: неслыханное в торгово-караванной практике Яллира нарушение его личного фирменного этикета: они опаздывают!
Не успев покинуть окраину Нуа, не успев забраться в фицци, они уже опаздывают!
Седой купец старательно скрывал склонность верить в приметы, которая при всей своей противоречивости прекрасно соседствовала в его эо со здравомыслием и рациональностью. Яллир глубоко вздохнул: опоздать еще до начала пути всегда было дурным знаком – проверенным на опыте, доказанным многочисленными примерами.
Еще один тяжкий вздох, последний горький взгляд в сторону теперь уже ярко подсвеченных дневными лучами очертаний родного города. И вот он – первый шаг Яллира в сторону прозрачных стен аквариума, где уже готовится к дальней дороге устрашающе огромная фицци.
Ее зовут Ахха. И в ее круглых бордовых глазах будто бы тоже застыл ужас – глубокий и непостижимый.
Глава 8 Огненный корабль
Силуэты принца Бадирта и жрицы Йанги растворились в проеме высоких каменных арок, слившись с полумраком Святилища. Массивные створки дверей очень медленно, словно блюдя предписанную торжественность, сошлись, чтобы отделить мир сакрального от греховной сферы мирских страстей. Окайра не спешила покидать некогда горделиво поблескивающую сусальным золотом, а теперь начисто протертую хитонами брусчатку входа в храм Огненного бога.
Королеве было мучительно больно в который раз отпускать руку своего сына именно в тот момент, когда он вот-вот был готов снова стать ее. Ведь юный Бадирт – королева могла поклясться! – уже хотел опуститься перед ней на колени и в незамысловатой детской исповеди вручить ей ключ от секретных каморок своей души. Вот и сейчас в по-прежнему раскрытой ладони Окайры еще хранилось тепло сыновьей руки, но ее обостренное материнское восприятие уже улавливало малейшие движения воздуха, беззастенчиво расхищавшие это бесценное сокровище.
Ничего удивительного в том, что разгоревшееся с новой силой беспокойство королевы заставляло ее раздражаться даже на ветер – «эхо благого дыхания Огненного бога». Осталось лишь добавить щедрую порцию самобичевания за такие кощунственные мысли в котел закипающих эмоций. Как следует перемешать. Приправить щепоткой жгучей ревности к верховной жрице. И на поверхности этого кипящего варева проступят перекошенные черты королевы, от которых с отвращением отпрянет она сама.
Затуманенный взгляд Окайры, уже потерявший фигуры Бадирта и Йанги, неподвижно застыл на филигранном барельефе воссоединенных дверей-близнецов, что пару мгновений назад закрылись за ними. Эти превосходные образцы художественного литья обычно не только эстетически восхищали монархиню, но и вызывали в ней благоговейный трепет. Поднимаясь по широким ступеням к Святилищу, она, по обыкновению, еще издалека силилась разглядеть исполинское звездное тело, покоящееся на самом верху громадных дверных створок. Его выпуклое изображение, искусно покрытое красным золотом и узорами из цитриновой пудры, было симметрично впаяно в гладкий иссиня-черный мрамор храмовых дверей. В зависимости от угла падения лучей сияло оно всегда по-разному: то грозно и воинственно, то умиротворенно и безмятежно. В любом случае Окайра всегда чувствовала – нет, она знала, – что рукотворная Матерь звезд приветствует ее и показывает, что готова озарять своим священным светом духовный путь королевы.
Теперь же Окайре казалось, что светило, к которому она изо дня в день безустанно устремляла тонкие энергии своих молитв, отвернулось от своей смиренной подданной. Багряные отблески красного золота, отмечающие место встречи величественного изваяния с лучами настоящей Матери звезд, вдруг изменились. Греющие душу язычки пламени уступили место равнодушным кровавым всполохам. Как неотвратимость предзнаменования. Как заходящий с почерневшего морского горизонта зловещий вихрь смерча. Как дьявольский сухой скрежет Скарабея по небесному своду.
Соединенные половинки металлической Матери звезд на дверных створках и взметнувшиеся алебарды воинов личной армии верховной жрицы, казалось, непоправимо разделили мать и сына.
Окайру предал даже ветер. В этот раз «благое дыхание» не дотянулось до входа в храм, хотя его норовистые игры нередко разрежали клубы жреческих благовоний. Ветер замер, словно затаил обиду – так же как и Бадирт. По левому виску Окайры пробежала ледяная капля пота, а по тонкой змейке пересохших губ – мелкая нервическая дрожь. Лицо королевы потеряло одухотворенность, проступили мимические свидетельства страдания и беспомощности.
Бронзовая Матерь звезд – вещественный образ ее безусловной веры – с обжигающей жестокостью и ядовитым презрением смотрит прямо в слезящиеся глаза Окайры.
Мир заволокло серыми клочьями слепой, подрагивающей пелены, даже ярость и отчаяние притупились, обточенные ее колыханием. Эти волны заволокли кипенно-белой пеной даже металлическое кровавое мерцание Матери звезд. Они растворили в себе и овальные купола Святилища.
Окайре стало дурно, она с тихим стоном медленно сползла по шершавой храмовой колонне на нагретые плиты с полинялой от времени позолотой.
Этого не видели и не слышали королевские стражники, которым в преддверии важного разговора было строго приказано «сохранять расстояние в пятнадцать шагов и держаться за пределами внутреннего двора Святилища».
Начальник стражи замка-горы Рубб хоть накануне и отметил некую эксцентричность требования обычно скромной Окайры, но все же не нашел веских доводов для возражения. «В любом случае храмовые стены – едва ли не самое безопасное место на всем Харх, – мысленно рассудил он. – Пусть себе общаются без посторонних глаз и ушей. Все-таки Бадирт входит в интересный возраст… А Святилище – вполне подходящее место для духовно-воспитательных бесед. Своих-то солдат уж я сам как-нибудь воспитаю, а здесь мать и сын – совсем другое дело. Нужно понимать. Да и когда я отказывал нашей святой королеве, которая денно и нощно молится о грешных душах своих подданных?»
Именно поэтому четверо стражников, сопровождавших Окайру, со всей ответственностью продолжали выполнять приказ Рубба, выдерживая указанную дистанцию. Дистанцию, которой, разумеется, оказалось достаточно, чтобы сквозь их шлемы не просочился ее тихий стон. Стражники горделиво сохраняли свою помпезную стойку за воротами Святилища, любуясь живописным морским пейзажем и мечтая каждый о своем.
А вот воины в черных доспехах, отмеченных нагрудными золотыми треугольниками, воины, что грозно возвышались напротив храмовых дверей, не были королевскими стражниками. Они не относились ни к одной из многочисленных воинских частей острова Харх.
Сквозь узкие прорези забрал они прекрасно видели, что случилось с подлинной королевой, законной женой короля Каффа. Долетел до их ушей и приглушенный страдальческий вздох.
Ни один страж не пошевелился.
Бадирт пребывал в прекрасном расположении духа. Во всяком случае, с того самого момента, как, пересчитывая фигурки на цитриновой чаше во время беседы с матерью, услышал за спиной знакомый голос. В его хрипловатых вибрациях принц уловил целую симфонию значений и смыслов. Он уверенно выхватил из ее ритмического рисунка важные для себя ноты: сдержанное жрицей слово об их уединенной встрече, особое к нему, Бадирту, отношение и, конечно, почтение к его королевской особе. А самое главное – в этой музыке отчетливо слышалось обещание избавить принца от скучных и утомительных бесед с матушкой.
Определенно никакой иной голос – скажем, Убраха, строгого наставника в боевых искусствах, или Шиффи, старой няни принца, или даже звучный бас Каффа – не заключал подобной силы. Заслышав любой из них, королева уж точно не прервала бы свою родительскую проповедь.
Но на каждое правило находится свое исключение, и Йанги прекрасно справлялась с этой ролью.
«Как все удачно сложилось, – не переставал ликовать про себя Бадирт. – Р-раз – и все! Один ее кивок – и я свободен как ветер. Таким я и хочу быть: знай себе носись по Харх, смотри, кто как живет и кто чем занимается… Заглядывай в окна к разным привлекательным особам во время их вечерней ванны, например. Кто знает, может жрица однажды и превратит меня в свирепый такой, страшный ураган! Ну хотя бы на денек… – Щеки принца порозовели от приятных мыслей. – Но только тогда я бы первым делом заглянул к ней самой. Просто узнать, нет ли где на ее теле еще одной треугольной татуировки. Ну, такой же, как на лбу. Вот бы и мне такую же! Хотя как бы я проник в ее обиталище, если оно находится в храмовом подземелье? Под землей же нет ветра, так ведь не бывает. Или все-таки есть? Хе-хе-хе! – Развеселившийся вдали от матери Бадирт чуть не рассмеялся в голос. – А вот возьму сейчас и задам вопрос об этом Йанги! А что… Почему бы и нет? Готов поспорить, она ни за что не догадается, зачем я спрашиваю!»
Безмерно довольный своим остроумием и изобретательностью, а главное, запрятанным в кулаке скрытым смыслом, юный принц поднял к высокорослой жрице свое хитро улыбающееся лицо:
– Сиятельная, тебе же известно обо всем на Сфере?
За спиной принца, словно вместо ответа, с приглушенным стуком затворились двери, ведущие в Святилище. С этого момента дневной свет проникал только через крошечные круглые окошки, высеченные в многочисленных куполах храма. Его недостаток с лихвой восполняли широкие черные свечи: своими зажженными фитилями они вырисовывали сложный узор светотени. От легкого сквозняка, успевшего просочиться внутрь еще до закрытия дверей, сотни огоньков плавно подергивались. Будто подчиняясь чьей-то воле, они танцевали на своих восковых подмостках. Разыгравшееся воображение принца мгновенно сообщило ему романтическую фантазию о пламенеющем золотом корабле, который мерно покачивается на волнах ночи, унося их с Йанги очень далеко из Святилища. Туда, где Огненный бог вдыхает звездную пыль и космическую вечность, а выдыхает ветер. Тот самый, о котором и грезил Бадирт.
– Сфероустройство ведомо мне ровно в той мере, которую мудро отсчитал мне Огненный бог, – ответствовала жрица, бесстрастно вглядываясь вглубь свечного хоровода. – Для каждого эта мера своя. А значит, я, как и любой хархи, знаю о Сфере все…
– Так я и думал! – восторженно перебил жрицу принц. – Именно так! Тогда позволь мне спросить…
– …и ничего, – закончила Йанги свой хитросплетенный софизм – излюбленное средство общения с верующими.
Эти слова могли смутить, да что там – напрочь сбить с толку простолюдинов. Ровным счетом ничего не поняв из пространного высказывания, они тем не менее с проворностью пчел растащили бы его пыльцу по Подгорью. А заезжие торговцы, представители иноземных гильдий и кочевые племена врахайи28 потрудились бы осуществить перекрестное опыление всей необъятной территории Харх новой мудростью.
Но так уж вышло, что Бадирт не был простолюдином, а к витиеватым изречениям он силами Йанги и Окайры был привычен с детских лет. К тому же, как ему казалось, со временем он научился отличать нейтральные высказывания воспитательно-религиозного толка от попыток манипулировать им.
«Ну уж нет, милая Йан, ты не будешь обращаться со мной как с ребенком, – заговорил в Бадирте детский протест. – Хватит с меня матушки!» Он поднял на жрицу взгляд своих сощуренных лимонно-зеленых глаз – отчетливый признак зарождающейся обиды – и заявил:
– Это ответ не для подлинного принца огненной земли, моя духовная матерь.
Бадирт тщился подкрепить впечатление, произведенное на Йанги, стараясь извлечь самые низкие ноты из диапазона своего ломающегося голоса. Управлять им, особенно в минуты волнения, принцу было не легче, чем взнуздать непокорного жеребца из диких восточных степей Харх. Он чувствовал это и от бессилия раздражался еще сильнее.
Йанги, храня поразительное – на грани безразличия – хладнокровие, лишь чуть заметно улыбнулась. Одними изящными губами, изгибом напоминающими натянутый лук.
Бадирт уже пожалел о том, что позволил себе вольность, которая, безусловно, сошла бы ему с рук в замке-горе, но здесь, в Святилище, была более чем неуместна. Запертый в ловушке собственной дерзости, принц при всем при том понимал: он должен завершить неудачно начатую мысль.
– Я хотел сказать, – почти кротко молвил он, – что мне бы искренне хотелось озарить свой беспокойный разум хоть слабым отблеском пламени истины, что ты щедро несешь всем нам, Сиятельная. – Буквально физически ощутив на языке убедительную мощь этой лести, Бадирт остался доволен.
Даже строптивый тембр голоса на время стал с ним заодно: столь любимые принцем низкие ноты возобладали над ненавистными писклявыми обертонами. Все это придало юному оратору уверенности в себе, и он поспешил окончательно реабилитироваться:
– Меня, как будущего правителя огненной земли, с недавнего времени стали занимать универсальные вопросы сфероустройства, а непросвещенные обитатели замка-горы не в силах удовлетворить даже самые простые из них. – Одна хитрая мысль по цепочке передавала эстафету другой так быстро, что принц даже не был уверен, успевает ли за ними. – Поэтому, стоя здесь, я скромно взываю к простейшим истинам и законам природы, знаниями о которых благословил тебя Огненный бог. Могу я рассчитывать на их мельчайшую крупицу, о Сиятельная? – Для усиления эффекта Бадирт придал взгляду столько смирения, сколько в его глазах никогда не находила родная мать.
Как ни крути, а семилетний опыт участия в заседаниях совета и других официальных мероприятиях, куда регулярно брал сына дальновидный Кафф, не прошел даром. Получилось-таки выйти из щекотливого положения! И, надо сказать, потребовалось для этого не так уж много: покорность, восхищение, чуть-чуть лести… Не без удовольствия Бадирт открыл для себя, что в некоторых аспектах верховная жрица немногим отличается от обычных женщин-хархи. Вон как его словесная уловка переменила ее лицо! Принц хорошо знал эту улыбку – за ней крылись одобрение и благодушие. Именно то, чего он хотел.
«Кто знает, Йан, – мечтательно взглянул Бадирт на свою «духовную матерь», – может, однажды я тоже научусь управлять другими. Или даже тобой…»
Свечей в храмовом мраке будто бы прибавилось, и вокруг Йанги и Бадирта заполыхал круг развевающихся огненных парусов. Парусов корабля, который уносил их все дальше от обыденности и предрешенности островной жизни, заключенной в вечную мантру звездных циклов. Мимо с невероятной скоростью проносились созвездия. Они казались принцу мириадами пузырьков с доисторическими насекомыми, закованными в янтарный саркофаг размером с небо.
Жрица медленным движением взяла длинную лучину с полочки из черного оникса, высеченной в широком ободке гигантского алтаря с плавучими свечами – старшего брата того, что встречал посетителей в колоннаде у входа. Затем еще медленнее коснулась этой лучиной макушки Бадирта, слегка поиграв его редкими черно-рыжими прядями. В ответ на прикосновение принц почувствовал легкое дуновение нагретого звездными лучами ветра.
Ветра? Ах, о нем же Бадирт и хотел расспросить Сиятельную в самом начале их немногословной, но столь многозначительной беседы. Так что же именно он желал узнать о свойствах этого природного явления? Может быть, умеет ли ветер говорить? Или, скажем, понимает ли Йанги его воздушную каллиграфию? Приносит ли он ей вести из других земель – оттуда, где огонь вовсе не божественная стихия для всеобщего поклонения, а мир живет по совершенно иным законам?
Стоп. Откуда у него, Бадирта, вообще эти мысли? Никто ведь не посвящал принца в подобные еретические откровения. Островное разнотравье сказаний, легенд и перевранных поколениями пророчеств, рожденное необузданной фантазией жителей Харх, все же не оставляло свободы для подобного вольнодумия. Кто же тогда вдохновитель столь смелых рассуждений? Старая няня принца – Шиффи? Вряд ли. Ее сказки были вообще отрывками из Семи наставлений, переложенными на басенный лад, дабы легче усвоил их неокрепший разум маленького Бадирта. Быть может, старшая сестра Рувва? Отнюдь нет. Сюжеты древних мифов, которые в далеком детстве принца она оживляла по вечерам, лежали в той же морально-религиозной колее.
По всему выходит, что образы иных миров сами зародились под монархическим опаловым венцом. Совершенно очевидно, что они – не результат воспитания матушки, няни, жрицы и множества других наставников будущего наследника огненного трона Харх. Это плод его, только лишь его собственных мыслей, снов и диалогов с самим собой во время уединенных прогулок в королевском саду камней и вдоль морского берега, на достаточном расстоянии от бдительных воинов Рубба.
Может, пришло время поделиться ими с Йанги? В любом случае принцу не приходится выбирать доверенное лицо. Его секрет узнает Йан или не узнает никто. Решено! Это будет их маленькая тайна – драгоценная жемчужина, бережно извлеченная из подсознания принца и нашедшая свой новый дом здесь, в Святилище. Она будет вечно жить за надежно сомкнутыми створками из черного мрамора, и охранять ее будут суровые молчаливые стражники.
Как ту, другую тайну… из далекого прошлого, лишенного воспоминаний.
«Лучше не придумаешь! – возликовал про себя Бадирт. – Определенно, стоило выждать время и проявить должное терпение, чтобы найти самое лучшее убежище для моего секрета на всем Харх! Вернее, – подумав, поправил себя он, – их будет целых два: своды Святилища и сама верховная жрица. Стены храма вберут в себя мою тайну, и она будет жить в их камне, покуда угодно Огненному богу. Ну а став частью души его подлинной посланницы, образы из моих потаенных мыслей обретут заслуженное бессмертие. Всесильная Йанги поделится этим даром с моей тайной, я уверен!»
Шабаш растущих на глазах свечных огней, извивающихся в разнузданной пляске и пожирающих своими языками сакральный полумрак Святилища, будто бы подталкивал принца к признанию. Храм плотно окутало дурманное мускусное соцветие. На его ложе слились в одно целое шафран, бальзамический дым ладана, дразнящий флердоранжевый нектар и животная землистая амбра, чтобы бережно запеленать Бадирта слоями сложного аромата. Они бесшумно расползались по его сознанию, чтобы раздобыть – а если не получится, то выкрасть – таящийся в его недрах секрет. Чтобы незаметно вложить этот вожделенный кристалл в откровенную речь принца перед верховной жрицей, дабы он наконец раскрыл ей свои видения.
Йанги, не отрываясь, смотрела. Не на Бадирта, а внутрь него. Словно она свободно и беспрепятственно плыла по течению его внутреннего мира, плыла без карты и компаса, ориентируясь вслепую и на ощупь находя нужные ей излучины.
Бадирт явственно почувствовал, что говорить ничего не нужно. Это будет глупо и неестественно. Это все испортит. Нельзя снова показать себя незрелым мальчишкой, умилительным в своей восторженности и детской наивности. Нужно учиться выдержанности. Той, что позволит больше не краснеть перед Йанги, не выдавать эмоций окружающим.
Тем более зачем говорить, если она и так все знает.
«Все…» – повторил мысленно принц.
– …и ничего, – закончила Йанги. Не иначе как выхватила начало фразы прямо из-под его опалового венца, мерцающего теплыми оранжевыми переливами на темных волосах Бадирта. – Вижу, ты прекрасно усвоил истину, которая для иных так и остается недоступной, покуда на Пепелище они не откроют дверь в вечность, – благосклонно молвила жрица.
Загадочно-отрешенная улыбка озарила бледное лицо Йанги. Ее высокие скулы еще рельефней обозначились над узкими впадинами щек. Лик верховной жрицы дышал торжеством.
В иллюминирующих чертогах Огненного бога вновь воцарилась божественная гармония. Идеальная симметрия звезд, вписанных в сложный рисунок многоугольников на потолке, была в нужной пропорции разбавлена отражениями свечных огоньков, которые, если посмотреть снизу, тоже напоминали щедрую звездную россыпь. Их хаотический танец, более не возбуждаемый игривыми движениями ветра, стих, оставив в храмовом пространстве лишь бледную тень былого буйства.
Воображаемый Бадиртом корабль причалил к спокойной гавани неги и поистине космической безмятежности. Он благоразумно оставил за бортом излишнюю суету – крест, который обречены всю жизнь влачить непосвященные, проклятые богами за глухоту к высоким духовным материям. Лишь гордость причастности к благословенной когорте избранных едва заметно покачивала этот корабль. Веки принца начали тяжелеть, а мысли накрыло пряными волокнами густого тумана благовоний. Все другое, оставшееся где-то там, далеко за мраморными стенами, обесценилось и потеряло свои краски. Там попросту ничего нет. Весь мир, вся его суть, истина и соль сейчас перед ним.
Так приятно раствориться… и остаться в них навсегда…
Вдруг какая-то внешняя сила грубо выдернула Бадирта из необъятной таинственной бездны. Поток свежего морского воздуха и проворные дорожки дневного света вновь проникли в Святилище.
Почему сейчас? Что им нужно?
Эти непрошеные гости бесцеремонно заявились прямиком из разомкнутых створок высоких входных дверей. Некоторые свечи мгновенно потухли, значительно усилив дымную ноту ароматического многообразия. Прямолинейные звездные лучи выбеливали сложную игру теней, сводя на нет попытки принца удержать образы волн и огненных кораблей.
Одно лишь великолепие Йанги оставалось неоспоримой константой посреди этого внезапного варварского вторжения.
Слепящая глаза продолговатая дорожка света легла меж открывшихся черных мраморных дверей и по-хозяйски рассекла Святилище пополам, мгновенно дотянувшись до ног Бадирта и Йанги. Принц зажмурил глаза, не выдержав резкого светового контраста, рассеявшего сумеречные странствия его разума. Жрица не изменила позы и выражения лица. Когда Бадирт разомкнул веки, то отчетливо увидел пять фигур, неторопливо движущихся по световой дорожке – к ним с Йанги.
Принцу не потребовалось много времени, чтобы узнать в фигурах горбуна Эббиха – он гордо возглавлял процессию, – а также двух молодых представителей королевской стражи. Замыкала шествие четверка воинов из Снопа искр – личной армии Йанги.
Эббих пружинил по каменной плитке, волоча полы черной подпоясанной рясы: та явно была ему не по размеру. Каждое движение приближенного верховной жрицы удивительным образом сочетало гордость и смирение. Нешуточная схватка противоречивых чувств читалась в мимике горбуна, калейдоскопными картинками отражая весь диапазон переживаний. Причем по мере приближения к Йанги вращение трубки калейдоскопа стремительно ускорялось. Хищно прищуренные глазки мгновенно гасли, смиренно прикрытые веками; попытки держаться лихо подбоченясь уступали место нарочито уродливой сутулости; триумфальная полуулыбка сползала с пересохших болотно-табачных губ – и на лице проступала маска обреченной покорности. Бесконечная игра лицевых мышц переходила в откровенно отталкивающие кривляние.
Бадирт по привычке, которую так и не смог побороть, невольно отпрянул в сторону, силясь справиться с отвращением и следами детского страха перед придворным «юродивым». Нет, безусловно, подлинный наследник огненного опалового венца не боится блаженного хромого карлика. Просто тот слишком резко появился на пороге Святилища. Просто в неподходящий момент. Ведь обычно в замке-горе он за сотню шагов дребезжит своими золотыми бубенцами, словно предостерегая о возможной встрече. Что ж поделать, если это шутовское облачение неуместно для священных узорчатых сводов, куда Эббих некстати приволокся в час уединения принца с Сиятельной. «Все дело в звоне, – упрямо твердил себе Бадирт. – Сегодня не было слышно звона. Я не успел подготовиться. Или убежать».
Дальше – хуже.
Продолжая улыбаться, Йанги простерла свои длинные тонкие руки навстречу хромающему к ней убожеству. Она сделала шаг ему навстречу. Бадирт остался за ее изящной спиной – созерцать, как бордовая туника послушно повторяет царственные движения, как пепел ее прямых волос своим холодным цветом усмиряет яркость ткани и обрамляет фигуру жрицы потоками чистых горных ручьев. Все это великолепие теперь было устремлено к парадоксально безобразному во всех своих проявлениях созданию.
Жрица, не удостоив выстроившихся за карликом воинов даже беглым взглядом, наклонилась к нему и непринужденно погладила кончиками пальцев завороженного Эббиха по лысой, изъеденной коростами голове. С каждым ее движением, полным щедрой благосклонности, разыгравшаяся мимика горбуна постепенно утихала. Картинки калейдоскопа сглаживались, теряя остроту контрастов и сливаясь в единое выражение смирения и покоя. И в то же время каждое прикосновение длинных пальцев Йанги к шершавой татуированной голове горбуна неизменно отдавалось тупыми гулкими ударами в самой глубине сердца Бадирта. Эти поглаживания неприятно скребли его чувство собственности, стирая всю прелесть, всю исключительность особой связи принца с верховной жрицей. Ведь одно дело – делить ее с обезличенной массой восхищенных почитателей на проповедях и праздниках, и совсем другое – с презренным уродливым прислужником. Странно, что его вообще не поразила молния и не разразил гром за нахальное злоупотребление благосклонностью Сиятельной. Он должен, обязан был со всем доступным его низкой натуре смирением застенчиво увернуться от великодушного жеста ее руки, дабы не осквернить жрицу прикосновением к себе – олицетворению всех смертных грехов. Но нет, уродец, судя по всему, возомнил себя достойным этих рук. Достойным этой щедрости.
Достойным ее.
Что ж, ни заблуждение, ни помутнение рассудка не станут ему верными союзниками, когда придет время платить по счетам. А оно придет. Остается лишь наблюдать, как на этой ярмарке терпимости горбун нагребает себе духовных сокровищ не по карману.
Распрямляясь во весь свой рост, Йанги обратилась к карлику:
– Эббих, благодарю за своевременное служение во благо священного пламени и его смиренной паствы в лице всех нас.
Тот в ответ лишь быстро закивал, вернее, затряс головой, опоясанной серебряным обручем из мелких треугольников. Обруч сполз ему на глаза, но одурманенный Эббих не спешил его поправлять.
Йанги невозмутимо продолжила:
– Мы с молодым принцем ожидали тебя здесь, равно как и защитников королевского покоя.
Бесстрастный взгляд жрицы скользнул по глазевшим на нее юношам в доспехах с эмблемой замка-горы. Это были разоруженные при входе Умм и Дримгур. Затаившие дыхание и мысленно приготовившиеся к худшему. У первого в голенище туго зашнурованного сапога были предусмотрительно спрятаны короткие кожаные ножны – разумеется, не пустые. Второй накануне тоже подумывал о подобных мерах потенциальной самозащиты, но в итоге так и не решился на них: а что, если прегрешение раскроется?
Йанги знала об этом. Знала еще до того, как перед Уммом открылись храмовые двери и он явил ей свой лик, полный недоверчивого напряжения и страха перед будущим.
Однако вместо того, чтобы обрушить гнев на головы стражников, Йанги с гостеприимством доброй хозяйки простерла к ним руки и проникновенно изрекла:
– Не бойтесь, доблестные защитники нашего подлинного короля и его благоденствующей семьи. Огненный бог, как вы знаете, столь же грозен, сколь и справедлив. Если корни ваших проступков не достигли отравленной почвы пятигрешия – многоглавого змея, которого молитвами Матери звезд сразил в смертельной схватке Огненный бог, – то расплата не будет ни кровавой, ни мучительной.
Дримгур вздохнул с облегчением. Как выяснилось, рановато.
– Но если кто-то из вас переступил хоть слово из Семи наставлений – в деяниях ваших или силой лукавого умысла, – голос Йанги пронзил храмовую тишину всеми оттенками грозового раската, – священное пламя отплатит вам тем же.
Умм дал этому раскату пройти через себя. Он готов был поклясться, что почувствовал, как жреческий голос рассекает его грудную клетку, будто нож масло. Детство и отрочество пронеслись перед ним обрывками снов и воспоминаний. Главный грех Умма – отступничество от судьбы, родных и корней – вдруг отделился от него и воспарил грозным черным призраком.
Он все понял: она знает, бежать некуда, а уповать на помощь небес – глупо и бессмысленно.
Глава 9 Благословение отчаянием
Сердце Илари ускоряло ритм по мере приближения девушки к ядру государства Вига – Университету Нуа. Кора наук и мантия искусств облекали это ядро столь тесно, что порой у подводных обитателей рождался резонный вопрос: а выдержат ли эту ношу стены древних башен? Не рухнут ли они однажды под тяжестью знаний, открытий, архивов и манускриптов? Однако – то ли назло сомневающимся, то ли восславляя своих именитых архитекторов – уже много светооборотов Университет незыблемо господствовал на старом месте. Это самое высокое в столице здание – выше даже Обители хранителя – заносчиво вздымало свои семь разноцветных башен над прочими городскими строениями, словно стремясь пронзить ими «небесный свод» водорослей круах. Видимая из любой точки города и его окрестностей, академическая твердыня казалась выдутой из толстого матового стекла. Причем, учитывая ее размеры, не слишком уж надуманным выглядело предположение, что сделано это было в гигантской тигельной печи силами какого-то мифического великана.
Так все и виделось Илари. И было отчасти правдой.
Эпоха дерзкого реформатора Золиатта, ознаменованная масштабными архитектурными реконструкциями, которые резвыми протоками разбежались из истока в Нуа по территории Вига, оставила значительный след и на образе Университета. Его старое здание, возведенное в I световехе из гладких камней семпау29 и еще не успевшее потерять внешнего достоинства, снесли, чтобы освободить место для смелой зодческой задумки нового архитектурного поколения. К тому времени алхимическая кафедра факультета тонких материй только-только принесла на алтарь наук Вига очередной дар – жидкое стекло. Мастера зодческого ремесла поспешили дополнить открытие целым букетом вариантов применения нового свойства старого материала. Светокруги напряженной совместной работы лучших представителей обоих факультетов, изолировавших себя на этот срок от внешнего мира неприступными стенами Лабораториума, принесли грандиозный результат.
На него с глубинным трепетом и взирала Илари, осторожно ступая по широким перламутровым плитам – по дороге, что сообщала между собой строгую симметрию зданий Ученого круга.
«Все эти серо-розовые змеи будто бы тоже жаждут знаний, как и я, – мимолетно проскочила в голове шестнадцатилетней мечтательницы совершенно типичная для ее воображения аллегория. – Вот они и ползут все в одном направлении – к Университету. Глупые, вас же могут выпотрошить и отправить на эксперименты в Лабораториум…» Илари слегка улыбнулась собственной шутке, силясь остудить ею закипающие в глубине горла переживания. Да, не страхи, а всего лишь вполне понятные переживания. Будущий мастер лекарского дела может переживать за исход своей практики, но бояться он не должен. Не имеет права.
Словно некий священный манускрипт, Илари прижимала потертые мембранные переплеты пособий по элементарному врачеванию к своей груди, едва обозначившейся под длинным свободным платьем из плотного черного шелка. Это было единственное светское платье ее матери, сохранившееся с прежних времен. Илари платья не полагались. Да и в самом деле, разве эти изящные предметы женского гардероба пришлись бы кстати ей – неугодной высшему обществу обитательнице Зачерновичья? Ведь даже этот приют для безнадежных вига, разменявших свое имя и призвание на звон опустевших сосудов с эо, так и не стал для них с матерью надежным убежищем… С тех пор как не стало отца.
Ваумар Эну был талантливым живописцем, достойным выходцем с факультета художественного мастерства. И хоть для юной Илари всегда оставалось загадкой, почему отца не влекла академическая стезя со всеми ее наградами и привилегиями, тем не менее ему удалось за свою недолгую для вига жизнь оставить достойный след в творческой среде Нуа. Из-под его кисти выходили столь реалистичные образы фантастических пейзажей, созданий и событий, что иные консервативные ценители искусства даже присылали жалобы, пышущие искренним возмущением, напрямую в Университет. Точнее, в его сиреневую башню, под сводами которой мастера-«художественники» издревле обрабатывали и ограняли алмазные самородки талантов, прибывавшие каждый светооборот со всех концов Вига. Содержание жалоб сводилось к одному: «Образцы академической живописи, являемые уважаемой столичной публике выпускником вашей университетской мастерской Ваумаром Эну, представляют собой противоестественный симбиоз разгоряченной фантазии и прислуживающей ей руки с кистью. Даже с учетом нашей открытости новейшим течениям в изобразительном искусстве и полной непредвзятости их восприятия, все же мы находим содержание полотен указанного лица оскорбляющим классическое мировидение вига и противоречащим теории об эо. Взываем к вашему чувству прекрасного, которым всегда управляли поражающая достоверность и восхитительный реализм, и уповаем, что оно само подскажет руководству факультета уместные меры защиты столичных ценителей искусства от подобных издержек традиционного художественного образования».
Эти жалобы приводили на порог родного дома Илари (тогда он еще находился в кольце спиралей престижного Ученого круга) хмурых университетских мастеров. Обычно они, не здороваясь ни с ней, ни с матерью, сразу поднимались к отцу и закрывались в его мастерской под самой крышей. Илари не знала, да и в силу возраста не очень-то интересовалась, о чем он вел с ними многочасовые беседы. Однако их отзвуков из-за покрытой коралловой крошкой двери было достаточно, чтобы распознать в беседах ожесточенную схватку непримиримых спорщиков. Тон отца в таких случаях всегда оставался спокойным – по крайней мере, вначале. Лишь иногда, когда басовитые порывы увещеваний, переходящие в угрозы, начинали отзываться дребезжанием фигурных оконных стекол, отец твердо парировал им. Да, она боялась. Всегда боялась, что однажды эти угрюмые старцы в тяжелых бархатных мантиях все же заберут с собой отца. Пятилетняя малышка не могла сформулировать, куда и за что, но при этом постоянно ощущала нависшую над домом опасность. И все же, дрожа от страха под одеялом, она поддавалась приливам необъяснимого восторга, когда отец своим умиротворяющим тембром унимал разгулявшийся по дому ураганный шквал. И они – хмурые старцы из ее детских воспоминаний – всегда уходили.
«Снова ушли ни с чем!» – торжествовало искреннее детское сердце.
«Слава искусникам и нашим покровителям, что мы все еще жители Виртуозного круга», – облегченно выдыхала шепотом мать.
Отец же обычно не выражал видимых эмоций, закрывая двери за посланниками мира академического искусства. Не говоря ни слова, он стремительно возвращался к себе под крышу. Там его ждали разноцветные мембранные холсты, колбы с растворителями и целая коллекция инструментов для каллиграфии, которым не терпелось оживить легенды, затаившиеся в глубинах Вигари. И те, что на словоохотливых языках купеческих пилигримов приплывали к ним с огненного Харх.
Илари все с той же опаской, воровато озираясь по сторонам, продолжала свой путь по некогда родным ей улицам Виртуозного круга. Серо-розовые гладкие плиты с безразличием холодного камня вели девушку по дороге детских воспоминаний.
Прошло больше десяти светооборотов с тех пор, как они с матерью, не помня себя от отчаяния, словно в каком-то бреду, покинули тихую обитель ее детства – пятый дом седьмого пояса. Покинули вдвоем, окропив слезами свежую могилу на загородном кладбище для работников Черновика. К несчастью, среди противников отца было слишком много влиятельных государственных лиц. Они с присущей им педантичностью позаботились о том, чтобы Ваумар не оскорбил почивших деятелей искусств Вига своим недостойным соседством. Они добились запрета захоронения «изменника» Ваумара на почетном городском кладбище Нуа. Второй фронт работы поборников классического искусства развернулся вокруг дома скоропостижно ушедшего художника. И так как борьба велась, по сути, против вдовы и ребенка, триумфальная победа, разумеется, не заставила себя ждать. Поверженная сторона, даже не успев толком собрать вещи, до которых пока не дотянулись руки художественной инквизиции, отступила за черту города – на самую окраину Чернового круга. Иного пристанища Наида и Илари себе позволить не могли. Особенно после того, как их дом в ночь после похорон с ног на голову перевернули служащие Обители. Они сновали по комнатам, словно выдрессированные ищейки, пока мать прижимала девочку к себе, оберегая от холодного подвального течения…
Оттуда-то и начался отсчет черных страниц жизни Илари.
Десять светооборотов, долгих, как эпоха под гнетом царствующего самодура, они с матерью оставались изгнанницами Виртуозного круга. Скоропостижная кончина отца, развязавшая руки его врагам, вместе со скорбной печатью утраты оставила на осиротевших Наиде и Илари пожизненное клеймо отверженных. Непреодолимый барьер пролег между вдовой с ребенком на руках и их родным домом, к которому они привыкли и который любили всем сердцем.
«А ведь мы были готовы работать, чтобы вернуть себе место здесь. Работать целыми светокругами, не помня себя, забыв про сон и отдых…» – вспоминала девушка первые годы без отца, прокладывая себе путь вглубь кварталов, состоящих из высоких изящных домов.
Знакомые места, будто бы вырвавшиеся из ее ностальгических снов, вместе с расколдованной гордостью пробудили и стаи беспокойных мыслей. Это они не давали малышке Илари, обессиленной тяжелым рабочим днем в Черновике, провалиться в живительную негу сна. Они устрашающим клубком из горечи, непонимания и острого чувства несправедливости путались в ее головке, прильнувшей к грубой мешковине покрывала. Мысли, которыми не с кем было поделиться… Илари старалась не донимать лишними вопросами мать, спавшую рядом с ней на одной лежанке в тесной каменной лачуге, приткнувшейся к опушке бурого ленточного леса за самым Черновиком.
Зачерновичье. Их новый дом. Дом, к которому волей-неволей пришлось привыкнуть за эти светообороты обездоленных скитаний по равнодушным узорам бесконечных спиралей Нуа. Сменить респектабельное жилье на соседство с работягами Черновика, кичащимися друг перед другом неприглядным веером нажитых годами вредных привычек. Архитектурную изысканность – на беспорядок убогих домишек, словно чьим-то порывистым пьяным движением рассыпанных по пригороду. Избыток прозрачных кристаллов кислородных пузырьков – на докучливые клочья охристой тины, которые брезгливо стряхивал с себя обступающий Зачерновичье лес. И самое главное – безупречная лазурная чистота подводной атмосферы Ученого круга сменилась мглистостью мутных вод, ревностно оберегаемой чадящим горнилом Черновика.
К новому дому Илари и Наида привыкли. Но не полюбили его.
И хоть в этом чувстве неприятия мать и дочь без лишних слов ощущали единство, все же между ними с течением времени пролегла незримая граница. Что помогло прочертить ее? Разница в возрасте? По-разному наполненные сосуды эо? Это, к сожалению – а быть может, и к счастью, – Илари было неведомо. Тем не менее незнание причины не отменяло сути: мать отдалилась.
Наида, сломленная необъятным горем и не сумевшая ничем заменить исчезнувшую опору, оказалась внизу – под шершавым росчерком этой границы. Там, где прозябают в беспощадных потоках поперечного течения те, кто своими руками оборвал веревочные лестницы, сброшенные сверху милосердной надеждой. Именно это малодушное преступление позволила себе мать Илари. От ее надежды на будущее осталась крошечная тень, послушно подставляющая свою согбенную спину под злорадную плеть бессилия. На этой спине уже не осталось живого места, а Наида, окончательно укоренившись в среде Зачерновичья, приняла этот поворот их судьбы с обреченностью прокаженного.
Она подрабатывала в алхимических мастерских Черновика, изготовляющих лекарские эликсиры и снадобья, используя остатки знаний и умений, полученных когда-то – не в прошлой ли жизни? – в стенах Университета, куда определил ее покойный муж. Но чаще она пропадала. На несколько светокругов исчезала, растворившись в глубине леса бурых водорослей, разверзнувшего свои недра прямо за их низкой лачугой. Ох, напрасно, бывало что до глубокой ночи, ждала ее Илари!.. Возвращалась мать обычно в ранние утренние часы, предвосхищая игру первых лучей в хороводе отмерших обрывков лесной тины. Всегда будто бы постаревшая. И это было не из тех возвращений отчаявшихся женщин, вынужденных переступить моральные принципы «во благо ни в чем не виновных детей». О нет, Наида возвращалась не из таких мест. Хотя бы потому, что не выкладывала на кое-как сколоченный из белесых коряг стол никакого материального или хотя бы съестного вознаграждения. И, в отличие от этих самых «отчаявшихся благодетельниц», никоим образом не пыталась выторговать у дочери хоть толику понимания и прощения. Не заигрывала с незрелым сознанием своего чада, стараясь развеять сгустившийся сумрак вокруг своего образа. Не бросалась восполнять пробелы, неизменно возникавшие в домашнем хозяйстве в ее отсутствие.
Она просто приходила. Просто ложилась на свою половину лежанки лицом к стене. Илари смирилась. И совсем перестала задавать вопросы.
«Идти! – одними дрожащими от волнения губами приказывала себе девушка. – Неуклонно двигаться вперед. Назло прошлому. Прямо по коже этих дорожек-змей, что вьются под ногами, плюясь в лицо воспоминаниями. Не дать… ни в коем случае не дать им сбить себя! Решение принято». На миг лицо Илари примерило непривычную маску дерзкого своеволия. Ее большие глаза – два нежно-голубых топаза – блеснули лезвием остро заточенного ножа. Неведомо откуда взявшимся хладным, неуютным светом. Бледные продолговатые пальцы с сине-зелеными прожилками вен рефлексивно стиснули драгоценные переплеты, скользнув по их гладкой защитной поверхности и от этого чуть не выронив их. Прямо в пасть «змеям», переливающимся под эфимирным светом.
К льдистым искоркам в глазах добавился едва ощутимый призрак гордости. За отца, которого повзрослевшая Илари уже едва помнила, за мятежную силу его таланта, за унаследованную от него смелость. За подлинность истории, которую несли в себе его полотна. Во всяком случае, Илари их подлинность считала неоспоримой. Девушке пришелся по вкусу этот призрак собственного достоинства, так кстати пробудившийся в обстановке полузабытого прошлого.
Встречные вига не узнавали повзрослевшую Илари. «Может, оно и к лучшему, – продолжала она успокаивать себя. – Пусть будет так. Пусть себе степенно проплывают мимо и не пытаются разглядеть в моем лице черты Ваумара Эну. Кто знает, может, среди именно вот этой группы, беседующей о новых направлениях искусства, затерялись потомки врагов отца? Ведь если в нашей цивилизации осталось хоть сколько-нибудь справедливости, сами они должны были тоже кануть в небытие! Участь этих стервятников должна быть предрешена с того самого момента, как они ворвались в наш осиротевший дом. Да хоть бы даже не они сами, а те вышколенные ищейки из Обители, вооруженные их приказом!»
Илари метнула гневный взгляд в сторону небольшого собрания, стихийно образовавшегося у одного из домов ее родного круга. «Ничего здесь не изменилось, – констатировала девушка. – Что ж, следовало это предвидеть». Оживленная группка в буквальном смысле светилась: это жемчужное благородство гладкой кожи, изящные, незнакомые с тяжелой работой руки, покрытые серебристой фамильной вязью… Угодливо подсвеченная эфимирами, она подчеркивала врожденный аристократизм своих обладателей. Издалека ее хитросплетения до того сливались с их почти белой кожей, что какой-нибудь простофиля из Южного водораздолья (да хоть бы и из ее центра – Яфтунии!) мог запросто вообразить себе какую-нибудь небывальщину, чтобы щеголять ею у себя на родине.
«А ручки этих высокородных ученых господ, доложу я вам, эфимиров свет в себя с утра пораньше вбирают, чтобы потом он целый день их подсвечивал, – докладывал бы у себя дома такой заезжий наблюдатель. – Серебряная вязь – это вам не наши синюшные отметины, по которым иной раз не поймешь – то ли это история рода, то ли вены от работы вздулись. Только чтоб на теле-то своем такую красоту носить, так это надо было, чтоб аж еще прапрапрадеды твои с высокородными токмо шашни крутили! Чтоб ни единого разочка с такой деревенщиной, как мы, и рядом замечены не были. Вот тогда, глядишь, и мы б с тобой ходили лучерукими. Сияли бы – смех да и только! – на всю нашу Яфтунию!» В конце своей вдохновенной речи рассказчик бы, как водится, горестно вздыхал: «Ну а теперь что, брат, попишешь… Остается нам пенять лишь на неразборчивых пращуров, чтоб им в ноллах30 перевернуться! Понаставили нам этих сизых гадюк, словно синяков на всем теле. Тьфу ты!»
Илари, разумеется, не верила этим басням ни на грош. Может, она и росла большую часть своей сознательной жизни подобно сорной траве, ютившейся жалостливыми островками крапивы-сонницы31 по дорожным обочинам, однако ее здравомыслия это нисколько не умаляло. Да, она не украсила – пока! – свой лоб горделивым венцом университетского образования; да, на ее худеньких пальцах еще нет чернильных знаков ученых отличий… Зато в ней есть кое-что другое: природное любопытство и пытливость ума – хорошие помощники по части снятия ржавчины невежества. Во всяком случае, неприкрытую чушь насчет способности фамильной вязи вбирать в себя «эфимиров свет» эти качества пресекали на корню.
Девушка исподволь бросила короткий взгляд на свои собственные руки и непроизвольно потянула вниз широкие черные рукава старомодного платья. Дело было не в пальцах, загрубевших раньше времени от тяжелой работы (этими пальцами она соскабливала с алхимических столов Черновика едкие следы пролитых эликсиров и полуядов). И дело было не в бугорках мозолей, унизывавших розоватыми бусами узкие, еще детские ладони Илари.
Любой мало-мальски зрелый вига, не будучи корифеем естественных наук или ясновидящим, мог бы прочесть по этим рукам подлинную историю рода Илари.
Вот с худого предплечья спускаются тончайшие ветви густо-фиолетовой лозы – наследный дар от матери. Они по-змеиному извиваются, переплетаясь страстными морскими узлами в своем сложном статическом танце. Эти «синяки», как их прозвали в народе, беспощадно клеймят своих хозяев неистребимой печатью плебейства. В них с летописной точностью занесены все порочные связи даже самых дальних пращуров с простолюдинами, исторгнутыми невежественной гнилой утробой водораздолья. Притом уникальная архитектоника, строение этой вязи – на весь Вига нет ни одного повтора – нисколько не исправляет ситуацию. Все дело в цвете. Истинный аристократ Вига имеет нежно-серебристый кожный рисунок; полная же его противоположность – темно-синий цвет, словно вобравший в себя тьму глухоманной непросвещенности. Узорчатые следы этой тьмы разбегались мрачным вихрем аж до самых острых локтей Илари, хоть нынче они и были предусмотрительно прикрыты длинными рукавами платья. Однако где-то чуть ниже локтевого сгиба этому темно-лиловому вихрю начинали вторить робкие пепельные штрихи, встраиваясь тонкими ручейками в темные водовороты безродной вязи. Спускаясь вдоль веточек-вен прямиком к запястьям девушки, змеиные клубки верхней части рисунка мало-помалу распутывались, обретали признаки симметрии и гармонии. Как же идет этой благородной упорядоченности мерцающий молочным светом серебристый оттенок, почти победивший в ожесточенной схватке с ядовитыми чернильно-фиолетовыми ужами! Это изысканное лилейное сияние напоминало Илари отца, руки которого всегда отражали сонную игру подводных лучей!
О да! Ваумар Эну был воистину чистокровным лучеруким вига! Такими же, согласно священной традиции, переходящей из поколения в поколение, должны были стать и его дети. Что за ослепляющая сила любви заставила его разорвать древнюю цепь идеальной аристократической фамильной вязи своего поцелованного талантом рода? Как посмел он столь изощренно надругаться над ней, соединив свою жизнь и судьбу с неизвестно откуда явившейся в Нуа девкой, акцент которой выдавал восточноводное происхождение? Нельзя сказать, что причиной всему было покоряющее совершенство черт ее лица или пленительные изгибы фигуры: экзотический облик юной Наиды не мог предъявить ни того ни другого. Единственным неоспоримым ее достоинством был неукротимый водопад иссиня-черных вьющихся волос, ниспадающий своенравными волнами до самой поясницы. Куда бы ни пошла молодая Наида, эти волны развевались за ней, следуя прихотливым порывам глубинных течений. Словно траурная фата. Именно так и поговаривали свободные от суеверий родственники влюбленного Ваумара, в конечном счете все как один отрекшиеся от «гнилого звена» своей высокородной цепи.
Сбылось нечаянное пророчество. И роскошные волосы – тайная гордость Наиды – окутали ее мрачной вдовьей вуалью. И рыдали безутешные пращуры Ваумара, когда в день похорон воочию узрели претворение в жизнь своей искусной ворожбы. Сквозь дымку слез черная фата спутанных волос невестки казалась им жестоким беззвездным небом, легшим всей тяжестью свода на ее поникшие плечи. Да только никто не обнял Наиду, чтобы облегчить этот непомерный груз и унять липкий страх за будущее – не за свое, за будущее маленькой, ничего толком не понимающей Илари…
Здесь, увы, тем более не следовало надеяться на внезапную милость лучеруких сородичей. Да, определенно смерть оступившегося на жизненном пути сына размягчила, а затем и вовсе расплавила серебряный панцирь их сердец. Она искупила порчу горделиво сияющей цепи поколений Эну. Ваумар – сын, брат, внук – был посмертно принят в лоно своей семьи: стихли громкие осуждения, порицания, укоры. И даже новоприобретенный обычай обмениваться тяжкими вздохами при упоминании его имени постепенно сошел на нет. Избирательная память родственников оставила в своих потертых складках только достойные черты и качества рано ушедшего представителя рода. Никто не смел даже косвенно, даже в свете настроений в обществе, выступать с опровержением его таланта как бесценного наследия пращуров. Что касается области применения этого таланта – непостижимые сюжеты картин Ваумара, – эта тема отныне стала закрытой. Зачем ворошить пыльные темные свитки прошлого? У кого их нет? Что принесут едкие клубы этой пыли, кроме горького привкуса на губах и землисто-прелых миазмов разрытой могилы? Тем паче что причина художественных фантазий кроется не в помутившемся разуме «сына-брата-внука». Нет, разумеется, все были не его идеи.
Семье лучше знать. Семье виднее. Она в едином скорбящем порыве направила указательные персты на «восточноводное отродье» – Наиду.
«Она, она – кость, застрявшая в нашем горле», – шипели со всех сторон проницательные родственники.
«Вот где затаились корни дурновкусия моего любимого впечатлительного Ваумара – у нее под юбкой!» – чуть ли не со злорадной прозорливостью выплескивала мать свою боль.
Бабушка и дедушка несколько мягче, но в той же смысловой тональности вторили безутешным детям: «Бедный мальчик! Дать увести не только себя, но и свой талант в такие сумрачные дебри! Одно к одному!»
«Как есть, все одно к одному!» – спешно вершился рефреном семейный суд.
«Кость в горле» взяла на себя больше, чем могло показаться на первый взгляд. На ее плечи (словно мало было рухнувшего на них небесного свода) лег свинцовый панцирь вымышленной вины. Семья, та, что «лучше знает», поспешно водрузила его на не смевшую перечить им Наиду. Молодая вдова даже не подозревала, какое божественное облегчение испытали родственники, в одночасье избавившись от душевного груза.
Она приняла всю его тяжесть безропотно. Не то чтобы с достоинством – у нее не осталось моральных сил на подобные аристократические излишества; не сказать, что с покаянием, – она его не испытывала. Только лишь с отпечатком осознанной, а потому глубокой обреченности, залегшей в первых морщинах и трагически искривленных синеватых губах. Вот и все свидетельства внутренних ощущений, что явила вдова благородным родственникам своего мужа, безвозвратно ушедшего по неверной дорожке воображения.
Илари, словно живой упрек всему роду Эну, то самое его «гнилое звено», попросту предпочли не замечать. То есть, по сути, ничего не изменилось с самого ее рождения. Вся соль рационализма подводной цивилизации Вига с зеркальной точностью отразилась в отношении семейства Ваумара к его единственному чаду. «Не вижу тебя – следовательно, ты не существуешь», – эта мантра служила им верой и правдой все те пять светооборотов, что Илари «не существовала» под сводами круах.
И до поры до времени этот прием успешно работал.
По счастью, пятилетнее существо, согласно задумке мудрой природы, еще не обладало достаточной смышленостью, чтобы осознать, кем приходится ей скорбящая толпа с посеребренными кожными рисунками, что окружила траурный нолл (спящего?) отца. Она, природа, восполнила недостаток семейного тепла, части которого малышка была лишена, и своими руками укрыла ее от страшной правды.
Так что новоявленные сородичи иронией судьбы оказались для Илари столь же незнакомыми безликими созданиями, каковой являлась для них она сама. Тогда ей все это было неважно. Ее заботило всего несколько вещей: почему обычно жизнерадостная мать вдруг стала такой мрачной и неразговорчивой, почему отец улегся спать в огромную двустворчатую раковину и, самое главное, когда же ее наконец покормят? Ведь она не ела со вчерашнего дня. Мать зачем-то заперлась в комнате отца и не пригласила ее к ужину. «Вот отец проснется, и я сразу пожалуюсь ему!» – с затаенной обидой утешала себя Илари.
Как же могла она тогда знать, что пожаловаться уже некому. Да и безрадостное будущее, недобро выглядывающее из-за черной каймы погребального нолла, еще не могло попасть в фокус зрения девочки. Оно довольствовалось Наидой.
Илари, которую теперь некому стало защищать, хоть она этого еще не осознавала, стала сама себе защитницей. И это положило начало ее новым привычкам. Привычкам новой, сильной Илари. Которые, если она будет им верна, непременно станут ей надежными доспехами.
Они ей очень пригодятся.
Никто из встречной толпы не перехватил прямой взгляд девушки. Эти знатные вига были сосредоточены на чем-то своем. Можно было заметить, что многие из них, как Илари, сжимали в руках тяжелые фолианты, скупо посверкивавшие старым золотом сквозь прозрачные защитные мембраны, похожие на плоских медуз. Некоторые лучерукие деловито поправляли связки объемистых свитков, норовивших выскользнуть из подмышек. Кто-то со значительным видом поглядывал на миниатюрный часовик из филигранного стекла с заключенным в него орнаментом из едва видимых белоснежных нитей. Когда эта диковинная колба встречалась с подводными «братьями» звездных лучей, то причудливое кружево ее стекла смотрелось особенно изысканно на фоне того цвета, который правил бал на Вига в данное время суток.
Илари замедлила шаг, непроизвольно попав под чары явственно осязаемой ауры благородства и утонченности, столь непривычной для нее – зачерновичьего отщепенца. И это при том, что на моральную подготовку ушло два светооборота, в течение которых девушка с завидным упорством методично взращивала в себе зерна уверенности и достоинства.
В редкие минуты отдыха, во время работы и даже сквозь сон она день за днем твердила себе, что может – нет, обязана! – отвоевать у злой судьбы свое будущее! Сплошь серо-черные картинки детских воспоминаний, отравленные горечью тоски по отцу и прежней жизни, уже никак не выскоблишь из архивов памяти – с этим Илари смирилась давно. Но это была единственная уступка, на которую она пошла.
«Будущее. У меня впереди есть будущее!» – настойчиво твердила она. Делиться этими мыслями с отрешенной матерью было бесполезно, поэтому всякий раз девочка обращалась к самой себе: «Оно где-то там, впереди. Оно еще не случилось! Вот прошлое случилось, но его уже нет, оно – лишь клочки отмерших водорослей! Кому оно теперь нужно?..» Всякий раз эти фразы разгорались в ее юном эо все более уверенным светом. «А будущее, – убеждала себя Илари, – это мой дар. Моя прекрасная манящая загадка. Моя возможность исполнить мечту, подняться по течению знаний и разума над затхлостью Зачерновичья. Стать мастером, нет, искусником лекарского дела! Доказать, что милосердие сильнее жестокости. Стать той, кем так и не стала мать, не поддаться искушениям, забравшим у меня отца. Да, Илари, это будущее, за которое стоит побороться!»
Те, кому нечего терять, как ни странно, в решающей схватке обнаруживают в себе неожиданное преимущество, зачастую определяющее исход поединка. Благословение и одновременно проклятие отчаянностью. Дар отверженных, изгнанных, до неузнаваемости искалеченных судьбой. Тех, кого не брали в расчет. Тех, у кого отняли все, и в особенности прерогативу выбора: продолжать драться или сложить оружие; идти проторенной дорогой или обходными путями; решиться сейчас или взять паузу; потратить монету или приберечь ее до лучших времен. Выбор, надо отдать должное, – тоже своего рода благословение, возможность хоть на йоту ощутить на себе величественное дыхание богов. Но он развращает. Заискивающе подмигивает в сторону отступления в момент опасности или даже временного затруднения, как бы напоминая: тебе есть что терять. И когда все зашло в тупик и сама возможность будущего висит на волоске, перевес будет в пользу благословленных отчаянностью. Когда ее слепая ярость наудачу наносит смертельный удар прямо в сердце противника, каждого отверженного и изгнанного озаряет понимание: это именно благословение.
Илари совершенно нечего было терять, и да, она готова к великолепию коренных обитателей престижнейшего круга. Но, как известно, одно дело – быть готовым в своем привычном, хоть и набившем оскомину окружении, и совсем другое – попав в эпицентр отнятой родины и столкнувшись лицом к лицу с ее обитателями. Из круга которых она была грубо вышвырнута.
Нельзя отрицать, что часть ростков, проклюнувшихся из тех самых зерен самовнушения, была иссушена резким контрастом внешнего вида лучеруких с самой Илари. И нельзя не заметить, что выглядела она на их фоне по большей мере младшей служанкой. Это случилось. И чуть было не начало предательски закипать обыкновенной обидой в худенькой груди девушки. Обидой, грозившей развенчать все ее моральные усилия.
Знатная толпа и не подозревала о буре эмоций, которую вызвала в завороженной Илари. Степенно эта компания прошагала мимо нее, обдав легкой волной течения. Оно колыхнуло густые светлые волосы Илари, заставив их плавно взметнуться за спиной, чтобы затем послушно лечь на темный шелк платья. К встречному течению примешались поднятые с плит жемчужные крупинки и обрывки путевой беседы:
– Маллиа, почему ты так долго собиралась? Разве ты не помнишь, что даже научное звание твоего отца не позволит тебе безнаказанно опаздывать на экзамен?!
– Я никак не могла отыскать эту хархскую булавку с рубинами, чтобы подколоть мантию, как учила меня Саэ.
– Тебе бы стоило поменьше крутиться перед зеркалом в день поступления и тщательнее повторять уроки, которые давали тебе твои наставники.
– Снова будешь ставить мне в пример Онибба? Усыновили бы уже его, если он вам так нравится!
– Кажется, забыли свиток с текстом для декламации!
– Где, искусники их побери, твои алхимические формулы?
– Ай! Булавка уколола меня в плечо! Так и знала, что не надо ее брать!
Наваждение Илари как рукой сняло.
Наставники? Рубиновые булавки? Верчение перед зеркалом? Ей стало смешно, и девушка чуть не расхохоталась в голос. И не потому, что ее потенциальные однокурсники были младше нее на два светооборота. Просто она всеми гранями своего не по возрасту заполненного эо ощутила, что сегодня сможет все.
Будущее – это действительно прекрасная загадка, и она ее разгадает. Просто потому, что жаждет этого всем сердцем, в отличие от парниковых созреванцев, еще толком не осознающих, что вообще происходит.
Да помогут ей искусники.
Глава 10 Две пасти
Гладкокожая Ахха, лихо лавируя в запутанном лабиринте глубинных течений, уже развила совершенно не рыбью скорость. Стремительная и непреклонная в своем движении, она напоминала огромную круглую медузу с короткими плавниками, проглотившую изрядную порцию жидкого зеркала – новейшего изобретения Лабораториума. Выпуклые глаза фицци, обычно насыщенного бордового оттенка, теперь несколько побледнели. Они подернулись молочной пеленой, скрадывавшей насыщенность цвета и пробуждавшей игру переливов на сетчатке. Словно седые потоки рек влились в темно-пурпурные водовороты и навели в них свои порядки. Глаза не мигали. Не вращали черными жемчужинами зрачков. Не отражали никаких признаков бодрствования вообще. Полуприкрытые за белесой завесой слегка морщинистых век, они застыли, прочно окованные сонными чарами.
Посмотреть со стороны – совершенно безответственное создание, умудрившееся заснуть в пути и не чувствующее ни малейшей ответственности за судьбу своих «пассажиров».
На деле все было не совсем так. Фицци прекрасно ориентировалась в тонкостях своего сложного маршрута. С той небольшой оговоркой, что ее глазами, слухом и осязанием временно стал мастер Офлиан.
Когда торговые пилигримы завершили свои длительные препирания и наконец выразили готовность начать путешествие, мастер ненадолго исчез в аквариуме, дабы призвать свою любимицу. Чувствуя себя безжалостным вандалом, Офлиан подошел к Аххе, напрасно пытаясь убедить себя, что совершаемое им – необходимая жертва во благо Вига. Силясь преодолеть нарастающее отвращение к самому себе и своему искусству.
Напрасный труд.
Все эти жалкие попытки самовнушения рассыпались карточным домиком, когда ученый отвлекся от своих мыслей и устремил на Ахху взгляд, полный почти отеческой любви и искреннего сострадания.
В тот момент она как раз закончила пережевывать мягкие стебельки, растущие прямо из губчатых спин колючих темно-оранжевых морских звезд, усеивавших аквариумное дно. Переработанную массу она заботливо разделила на пять равных порций и затрепетала короткими острыми плавниками, настойчиво призывая к себе новорожденных. И это, между прочим, были не ее дети. Но трогательная забота Аххи о потомстве Моэ и Нэлхи всегда вызывала у Офлиана смешанное чувство восхищения и жалости. Особенно когда ученый замечал признаки чисто инстинктивной ревности молодой матери к новоявленной няньке: Нэлха частенько отгоняла Ахху от стайки своих детей. Та же, в свою очередь, лишь бросала печальный взгляд и флегматично отплывала в свой угол аквариума. Но уже спустя несколько светошагов из памяти няньки полностью стиралась все признаки обиды, и она неизменно возвращалась. Мастер знал: это было вовсе не назло раздражающейся Нэлхи. Дело в том, что тонкая психика Аххи каким-то образом улавливала угрозу депопуляции фицци – вот она и старалась внести свой вклад в сохранение вида. Свои дети, чужие… Так ли это, в сущности, важно?
Офлиан заметил «блюда» для малышни, любовно разложенные Аххой по песочному дну, и грустно вздохнул, выпустив россыпь миниатюрных пузырьков из своих жестких спинных плавников.
Осторожно – ведь с последнего сеанса прошло немало времени – мастер ихтиогипноза дотронулся силой своей мысли до рыбьего сознания. Это пока только разминка, небольшой разогрев перед сложнейшей ментальной практикой, которая предстояла им с Аххой. Продолговатые пальцы мастера совершали чуть заметные волнообразные движения. Они двигались синхронно его мысленному потоку, устремленному в разум фицци. Глаза начали закрываться, дыхание стало медленным и глубоким. Свет, звуки, колыхание водных потоков постепенно уступали место совершенно иной реальности. Той, что незримо опоясывает миры бесчисленными нитями энергетических маршрутов: от одного существа к другому, от предмета к предмету, от него же – к существу.
Отношения, любовь, неприязнь, манипуляции, вожделение, отвращение, презрение и даже забвение. И особенно забвение. Вся эта невидимая глазу, но очень прочная паутина, по которой мы, сами того не ведая, перемещаемся в течение жизни, во всей сложности своих кружев является взору очень немногих. Природный талант, наследный дар, упорство в практике, длительное слепое блуждание в потемках, преодоление отчаяния и где-то элементарного страха – вот лишь часть платы за возможность приподнять завесу тайны. Большинство бросали это тонкое искусство на полпути, истощив себя морально и физически в бесконечных странствиях воспаленного разума по серпантину чужих энергий. Кто-то покидал навсегда Университет, бросая на него прощальный взгляд глубоко запавших и будто бы выцветших глаз. Случалось, что потерпевшие неудачу на этом непростом поприще покидали заодно и собственный разум под оглушительный дребезг осколков эо.
Офлиан оказался одним из тех счастливых исключений, которые, выражаясь языком хранителя Ингэ, «береглись Обителью как зеницы ока и ценились как одни из самых драгоценных сокровищ Вига». Другими словами, Обитель внимательно приглядывала за ними. Нисколько не ощущая своей избранности и уж тем более не воспринимая себя «сокровищем», мастер просто следовал призванию. Просто шел на его властный зов.
Не искусство служило ему в реализации высоких амбиций, и не оно помогало мастеру завоевать уважение в высших общественных кругах. Сам Офлиан служил искусству. И оно, как наиболее тонкая, чувствительная сфера, не терпящая фальши, эгоизма и высокомерия, щедро вознаградило скромного мастера. Уберегло его рассудок от безумия. Сохранило нить памяти. Закрыло собой от видений оттуда, норовивших прорваться в сны. И со временем они стали неотъемлемой частью друг друга: Офлиан и принявшее его искусство тонких материй. Союз столь же счастливый, сколь и роковой.
Вот и сейчас настало время послужить.
Сквозь густую мглу мастера обступили знакомые созвездия энергий – невидимые оболочки всех живых и неживых существ, говорящие о своих носителях значительно больше, чем те о себе знают. Каждый из крошечной когорты избранных вига, способных узреть эти энергии, видит их по-своему. И небезосновательно держит сокровенные зарисовки в строжайшем секрете даже от ученой семерки, не говоря уж о прочих коллегах. Перед взором Офлиана они представали в виде темно-зеленых болотных огней, подрагивающих неверным светом на узорах бесконечной паутины, окутанной темными клубами испарений неведомого происхождения. Мастер совершенно отчетливо видел, как от каждого такого пляшущего огонька с геометрической симметрией разбегались по сторонам испускаемые ими тончайшие нити. Оттого и родилась устойчивая ассоциация с паутиной. Нити, постоянно меняя направление и окраску, с точностью зеркала проецировали мысли и эмоции, что выбрасывали вовне «огоньки»-энергии. Здесь-то и кроется самая опасная особенность, загубившая немало умов и отправившая под откос не одну жизнь.
Офлиан еще с университетской скамьи, под впечатлением от леденящих кровь примеров, хорошо усвоил слова магистра Кнэа. Он и сейчас во всех подробностях помнил, как тот, утратив привычную степенность, выкрикивал в пространство замершей аудитории:
«…И двигаетесь к зафиксированным в вашем зрении и эо оболочкам только между расходящимися от них линиями! Линии – каждый из вас увидит их по-своему – это яд для рассудка! Это потоки чужих энергий. Хорошие ли, плохие ли – их течение слишком мощное! Заденете хоть краем мысли, хоть взглядом – снесет! Вторгнется в ваше эо, каким бы крепким оно ни было, сожрет изнутри и не подавится! Сеанс закончится, но только не для вашего разума: его примутся затягивать воронки этих течений! Обратно дороги не будет, лекари здесь нам не в помощь – их искусство пока бессильно!»
Юный Офлиан сидел тогда как громом пораженный, не в силах даже пошевелить палочкой из когтя угундра, чтобы скопировать себе в тетрадь чертеж, над которым навис магистр. И не просто навис, а уже наполовину размазал его чернильные линии белой узловатой указкой, словно пытаясь вдавить в свою схему верное направление маршрута. Из-за спины преподавателя стремительными гневными стайками хаотично разлетались пузырьки, выдавая участившееся дыхание. Совершенно не замечая всего этого, взбудораженный Кнэа уже походил не на университетского магистра, а по меньшей мере на экзальтированного заклинателя, желающего покрыть силой своего воздействия все пространство аудитории:
«Что бы вам там ни померещилось, как бы ни влекло, как бы ни тянуло, никогда – запомните, никогда – не смейте поддаваться течениям энергий! Безопасный путь только здесь!»
Оставляя на пальцах чернильные пятна и тем самым еще больше стирая рисунок, Кнэа уже собственными руками прокладывал на нем безопасные коридоры.
«Двигаться только между течениями!» – воздел магистр руки к внимающим ему студентам. «Точно, заклинатель», – крутилась в голове Офлиана очередная назойливая ассоциация, отвлекающая от сути.
«Только! Между! Течениями!!!» – обрушилось с высоты кафедры на испуганных студентов.
«Только между течениями», – по привычке напомнил себе Офлиан, уверенно плывя в толще бессознательного на хорошо знакомый маяк своей любимицы Аххи. Исходящие от ее «огонька» энергетические вибрации, как и всегда, были светлыми и спокойными. «Ни тебе зависти, ни ревности, только если ручейки светлой грусти, – в который раз отметил про себя мастер, издалека ощупывая сознание фицци. – Моя тихая, добрая, всепонимающая великанша, – улыбнулся он, сдерживая вздох сожаления. – И все же даже от этих благодатных потоков я должен, во имя искусников, держаться подальше», – ясно прозвучало у Офлиана в голове. Почему-то голосом магистра Кнэа.
В то же мгновение в привычной карте эмоциональных течений что-то резко изменилось. Офлиан ненадолго прекратил движение, как бы «принюхиваясь» и стремясь опознать природу своих новых и не сказать что приятных ощущений. Визуально все выглядело по-прежнему: темный лабиринт течений, рваное волокно черного тумана, пляшущие зеленые огоньки. Личная безопасность мастера была гарантирована достаточным расстоянием от рукавов энергетических течений, выбрасываемых из нутра Аххи, – они не могли навредить ему. При этом от них начал исходить цепкий холод, стремительно осевший где-то внизу живота Офлиана и заколотивший по нему тысячей ледяных молоточков. Плавные движения пальцев мастера сделались ломаными, будто ими управляли не гибкие суставы, а незримые нити кукловода.
«Что с тобой, девочка?» Офлиан превратился в один большой знак вопроса. Всем телом ощущая отдачу от волн страха – теперь уже удалось точно опознать изменившуюся природу течений, – разбивающихся где-то у него над головой, мастер все же полностью отрекся от самозащиты. Его опыта и таланта хватало с лихвой, чтобы сохранять равновесие, балансируя в коридоре энергий. Ахха – вот единственное, что действительно беспокоило мастера. Ведь он понял, вернее, почуял, что это боялась она.
Чем ближе – тем отчетливей.
Преодолевая непривычную скованность и пронизывающую тело дрожь, Офлиан неуклонно приближался к маяку Аххи. Ко всем прочим чувствам, вызванным путешествием, примешалось еще одно безрадостное открытие. «Она меня не узнает», – скользнула первая поверхностная мысль. А как еще объяснить полное равнодушие, которым его встретило обычно дружелюбное и ласковое создание?
Еще ближе. Офлиан, изрядно вымотанный эмоциональными отзвуками внутренних переживаний Аххи, все же достиг своей цели. Чтобы замереть в недоумении перед новым уровнем осознания проблемы: «О искусники! Да ты… Ты же меня не видишь!» На несколько мгновений опытным мастером овладела беспомощность созреванца перед экзаменационным вопросом.
Зеленые огни чужих энергий смешались в единое фосфоресцирующее зарево, которое подсвечивало изгибы бескрайнего паутинного лабиринта вокруг Офлиана. Причудливые декорации мира тонких материй приняли еще более мистический облик. Так они недвусмысленно намекали мастеру, что он здесь только гость. Наблюдатель. Жалкий дрессировщик разума примитивных существ. Напоминая, что мнимая власть, которой он обладает в материальном мире, ничего общего не имеет с истинной властью. Той, что господствует здесь – в лабиринте энергий, полном искусных ловушек и опасных течений, подстерегающих за поворотом.
«Ты зде-сь ни-кто», – разлетались отдельные слоги, отскакивая от стенок лабиринта прямо в голову мастеру. Ему стоило труда сложить из них эту короткую фразу. Только тогда невидимый оратор прекратил колошматить оторопевшего Офлиана ударными волнами.
Зарево разгорелось с новой силой. В его свете зарождалось необъяснимое торжество, смыкаясь кольцом вокруг мастера. На фоне его слепящего сияния маяк Аххи превратился в слабый догорающий фитилек. Он уже готов был полностью раствориться в другом свечении – всепоглощающем и могущественном.
Сияющее кольцо вытянулось в мглистой туманной бездне. Словно сжатое в исполинских тисках, оно плавно изменило свою форму.
Офлиан безуспешно пытался удерживать баланс в коридоре течений. Он до боли напрягал зрение: мастеру во что бы то ни стало нужно было сохранять фокус на огоньке Аххи. И тут это кольцо… У Офлиана перехватило дыхание.
Пылающий растрепанными зелеными языками венок превратился в разверзнутую клыкастую пасть, способную пожрать весь лабиринт. Пасть не замерла, как предшествующее ей кольцо. Она вздымалась и опускалась, следуя ритму дыхания остальной, невидимой пока части этого дьявольского создания. Гигантские челюсти вторили движениям, то стремясь сомкнуться, то распахиваясь в угрожающем зевке. В этот момент нависшая над Офлианом пасть казалась ему входом в поросшую зеленым мхом пещеру. Она угрожающе выпятила ряды многочисленных сталактитов и сталагмитов, обрамлявших ее своим влажным блеском.
Мастер ощутил всем телом, как безумие протянуло к нему когтистую лапу. Разум заполонило нестройное бряцание разорванных мыслей: «Зачем я здесь? Мне нужно в эту пещеру? Пещере нужен я? Зачем? Кто я?!» Бусины вопросов, соскочив с логической нити, раскатились по разным углам сознания.
С клыков-сталактитов черными клочьями тумана капала слюна, растворяясь в недрах лабиринта и частично оседая на нем.
«Ты здесь никто», – глухо повторялось в глубине пасти настойчивое напоминание. Мастер прислушался: нет, не может быть… Мало того что гигантская пасть осыпает его оскорблениями и угрозами, так еще делает это одновременно мужским и женским голосами! Эдакий дуэт, упивающийся своим согласием и единством.
От огонька не узнающей своего хозяина фицци осталась ничтожная точка, да и та безнадежно тонула в водовороте света и звуков. Офлиан почти утратил надежду, но все же вложил остаток сил в последний рывок. Безо всякой цели. Так, наудачу. Или на прощание – кто знает?
Пасть вместе с лабиринтом начала медленно блекнуть. Дыхание мастера сделалось едва уловимым, а дрожь окончательно завладела его физическим телом. Видимо, действительно на прощание.
Два голоса слились в своей вдохновенной арии: теперь она доносилась до слуха мастера уже едва различимыми отголосками. В голове стоял навязчивый гул. В закрывающихся глазах рябило от напряжения, а точка спасительного маяка предательски разделилась на две крошечные искры.
Затем на три.
Через мгновение – уже на четыре крупинки, мечущиеся по сетчатке глаза.
Тут в отдаляющемся дуэте что-то изменилось. Но, во имя искусников, что?.. Мелодия? Тональность? Ритм? Офлиан, уже не чувствуя даже сожаления – оно, как и другие чувства, притупилось, – попытался уловить причину этой перемены. Мастер напряг слух до предела. Ради улучшения звукового восприятия он пожертвовал визуальным, по всем канонам ихтиогипноза совершая смертельную ошибку, – ведь в этой реальности ни в коем случае нельзя находиться без цели. А цель – это маяк существа, в сознание которого мастер тонких материй стремится проникнуть. Необходимо постоянно держать его в поле зрения и не сбиваться с курса.
И вот, переступив запретную черту, о которой столько раз заклинал студентов уже на собственных лекциях, Офлиан медленно закрыл глаза. При этом твердо понимая, что, вероятно, в последний раз. Желание разгадать загадку изменившихся голосов пересилило даже страх смерти.
На мастера обрушился непроницаемый черный занавес. И, что странно, он почему-то не показался Офлиану роковым полотном погребального савана. В его неизмеримой тяжести и слепом сумраке отчетливо проскальзывали полупрозрачные лучи благодатного облегчения. Они куда-то звали – скорее восторженно, нежели властно: «Пойдем, пойдем с нами! У нас тут такое припрятано для тебя! У нас здесь клад, сокровище! Оно, конечно, и так всегда при тебе. Но мы тебе напомним. Просто напомним о нем, подскажем дорогу, поможем выкопать! Ты и не представляешь, что там! Пойдем, Офлиан!»
И мастер пошел, покорившись зову.
Лучи не подвели. Офлиан, вопреки ожиданиям, не рухнул в бездну небытия, не расщепился на тысячи бессвязных мыслей и чувств. Напротив, сознание частично прояснилось, преодолев пик наваждения. В высвободившемся чистом уголке разума доносящиеся из глубины гигантской пасти голоса зазвучали еще диковинней. В них появилось нечто знакомое. При этом смутное и неуловимое, словно из прошлой жизни. Оно, с каждой секундой набирая силу, упорно вытесняло со сцены первый дуэт. И если вначале это трехголосие звучало как ожесточенная борьба за место в светящейся зеленой глотке, то теперь стало очевидно, что этот новый, отдаленно знакомый Офлиану голос все же победил. Мастер, взывая к затуманенной памяти, беззвучно вопрошал: «Кто ты? Дай мне вспомнить тебя. Помоги, брось хотя бы подсказку, намек! Я помню голос, но никак не вспомню, кому он принадлежит! Прошу, помоги, во имя великих искусников!»
Прозрение оказалось столь же внезапным и ошеломляющим, как и предшествующее ему затмение.
Магистр Кнэа! Это его гневный басовитый рокот, обращенный к Офлиану, перекрыл странное и пугающее сочетание мужского и женского голосов. Вот знакомый рокот начал постепенно превращаться в различимые слова. Слова – в предложения. «…цель! Офли, не смей, не смей, говорю тебе, рвать ментальную связь с целью! – повелевал бывший наставник. – Иди на нее! Держись безопасного коридора! Я запрещаю – понял? – запрещаю тебе терять из виду цель!» Офлиан с величайшей осторожностью открыл глаза, боясь, что, когда он это сделает, голос Кнэа тотчас же затихнет.
Веки, подрагивая и пульсируя, поднялись. Офлиан убедился, что все еще находится по ту сторону реальности. Правда, теперь его окружал значительно посветлевший и привычный взору пейзаж и, что немаловажно, без гигантской светящейся пасти, с аппетитом пощелкивающей клыками над лабиринтом. Голос магистра Кнэа пока не подавал признаков присутствия, но это вовсе не отменяло его… приказа. Да, это был именно приказ – совершенно невиданное в университетской среде Нуа явление. Тем не менее Офлиан вдоволь набрался острых ощущений в ходе этого сеанса, чтобы выказывать неуместное упрямство и проявлять излишнюю инициативу. Он подчинился – целиком и полностью.
Словно в ответ на здравую мысль, на расстоянии вытянутой руки зажегся уверенным светом старый знакомый – маячок так кстати пришедшей в себя Аххи. Офлиан с удовольствием ощутил себя в безопасности надежного коридора, где издалека приветливо мигает привычный ориентир. Даже черный туман, обычно наводящий на мастера сонливую меланхолию, теперь показался ему уютным. Почти не прилагая усилий, мастер отточенным многолетней практикой приемом произвел несколько мысленных движений, чтобы соприкоснуться с сознанием фицци. Теперь все определенно встало на свои места. Легкое покалывание кончиков пальцев свидетельствовало о том, что Ахха узнала, «приняла» своего хозяина; ее энергетический огонек снова излучал лишь свойственные ему эмоции, а неожиданный всплеск страха не оставил на маячке и следа.
Офлиан успокоился (насколько это было возможно после только что пережитого) и даже не заметил, что голос магистра Кнэа, на который мгновение назад было устремлено все его существо, канул в туманную мглу лабиринта.
«Ахха, девочка, ты меня узнала? – Офлиан на всякий случай послал уточняющий мыслительный сигнал. – Что же с тобой случилось? Кто посмел вторгнуться в твои мысли и так их взбаламутить?»
Эти риторические вопросы он использовал для установления «меток», с помощью которых впоследствии возобновит ментальную связь с Аххой. Та не отвечала – ни намеком, ни картинкой из растревоживших ее образов. Но Офлиану этого и не требовалось. Во всяком случае, сейчас. Ему вполне достаточно было того, что маяк открыт и каналы рыбьего восприятия очистились от клочьев страха, а это означает – сеанс ихтиогипноза можно начинать!
«Ведь отправка купеческих пилигримов уже и так угрожающе затянулась», – напомнил себе мастер, с удовольствием отдаваясь привычной реальности и ее, пусть даже тягостным, заботам. «Если выражаться языком брюзги Яллира», – мысленно уточнил он. Полуулыбка скользнула по лицу мастера, как бы физически связывая его с обоими мирами, где он одновременно пребывал. Небольшое расслабление в таких случаях идет только на пользу.
Ахха тяжело дышала. Широкие жабры, словно два проржавевших поршня, с усилием сходились и расходились вслед за спазматическими сокращениями огромной глотки фицци. Будто бы некое существо еще больших размеров (что весьма сложно вообразить) на время сдавило ее усилием своей воли, превратив из крупнейшей в море Вигари рыбы в крошечный прозрачный шарик, а затем резко отпустило. И теперь Аххе предстояло преодолеть эту тяжкую одышку, сбросить груз, чуть не придавивший ее, и, наконец, восстановить дыхание. Ведь она с совершенно не рыбьей проницательностью осознавала, что Офлиан сейчас временно усыпит ее, чтобы она могла наделить хозяина своими дарами: размерами, выносливостью, скоростью. Да, самое главное – необыкновенной скоростью. Чтобы О – так именовала Ахха Офлиана на языке своего восприятия – оказался в той точке Вига, в которой ему нужно.
Бескорыстно делиться своими дарами, получая от этого некое высшее наслаждение, было без преувеличения смыслом существования Аххи. Имея поразительно сложную для рыбы внутреннюю организацию, она жила в особых отношениях с окружающим миром. Эти отношения выходили далеко за привычные для других фицци рамки пищевых цепочек, репродукции и защиты потомства. Ахха искренне, скорее инстинктивно, чем осознанно, стремилась к самопожертвованию, ощущая через него всю прелесть своей нехитрой жизни. Потому с удовольствием пеклась о детях Моэ и Нэлхи. Потому с готовностью делилась своими дарами с Офлианом. И потому почти не знала праздности даже внутри аквариума.
Одышка прошла, оцепенение уступило место привычному спокойствию. Ничто не отпечаталось на зыбком песке рыбьей памяти. А значит, ничто сейчас не помешает ей снова пожертвовать своими природными возможностями. «Пусть себе М (Моэ) и Н (Нэлхи) дремлют дома. Они – родители. Им нужен отдых. Зачем мне отдыхать?» – щелкали условные символы мыслей в голове Аххи. «Я не устаю. Я большая. Я быстрая. Фр-р-р-р», – представила она, как выпущенной стрелой летит на другой конец Вига. Хоть бы и усыпленная хозяином. Что в этом дурного? «Мои дары – они не мои. Они – всех. Делиться со всеми», – перелистывало рассуждение Аххи свои любимые страницы.
Вскоре эти рассуждения замедлили темп, расщепились на бессвязные слова и звуки и впитались в дремотную негу, заволокшую плотным коконом сознание участливой южноводной фицци.
Слегка посветлевшие бордовые глаза Аххи, как водится в таких случаях, остались приоткрытыми.
Теперь уже полностью управляемая Офлианом, фицци начала двигаться – пока что очень медленно. Сомнамбулически шевеля ребристыми плавниками и глядя в никуда, она выплыла из своего «дома» и остановилась перед тремя заждавшимися купеческими пилигримами.
«Словно Расщелина мне не рада… уже сейчас», – пророчествовал в мыслях Елуам. «Не ждет меня, а посылает эти нелепые отсрочки, чиня новые преграды на моем пути, – мрачно продолжал юноша расшатывать подпорки уверенности, наспех сколоченные Яллиром в их раннем разговоре. – Может, Черторг и вовсе ошибся, избрав меня? Что тогда? Я же точно знаю – да что там я, все знают, – Расщелина должна принять будущего последователя. Должна благословить его через болезненное, мучительное испытание на дальнее путешествие в сторону огненной земли». Елуам легонько кивнул собственным мыслям. «Какое, к искусникам, благословение, если, судя по всему, она меня даже к себе не подпускает?! Хорош я буду во время обряда, нечего сказать! О лучшей подготовке и внутреннем настрое и мечтать нечего! – Юноша горько усмехнулся. – Глядишь, и права окажется в конечном счете мать. Да и Тэун, «дальновидный» братец, быть может, вовсе не зря меня отговаривал?»
Ахха (вернее, теперь уже Офлиан в ее шарообразном и прозрачном, как стекло, теле) никого отговаривать не собиралась. Равно как и уговаривать. Они слились в единое, не предусмотренное ни природой, ни искусниками существо – с телом фицци и сознанием мастера тонких материй, чтобы послужить во имя великого государства Вига и своего эо. Ни больше ни меньше.
Подводные лучи звездного света беспрепятственно пронизывали ткани Аххи. Все ее внутреннее строение просматривалось, как товары сквозь начищенную до блеска витрину. Все процессы ее жизнедеятельности разворачивались перед изумленным Елуамом как на ладони.
Он видел настоящую, живую фицци впервые. И был впечатлен.
Даже проводник Лиммах, привычный к подобным встречам и повидавший немало скороходок на своем веку, удивленно крякнул, завидев Ахху вблизи. Вероятно, вместо приветствия.
Яллир в глубине души в очередной раз восхитился невероятным созданием, вздымавшим жаберные прорези значительно выше уровня его глаз. Однако, подчинившись прихоти своего переменившегося настроения, он с показным безразличием смотрел куда-то мимо Аххи. А для верности – даже мимо аквариума. Пусть никто не думает, что он, матерый купеческий странник и заслуженный представитель Черторга, словно дитя малое замрет в восхищении перед гигантским плавучим шаром.
Все эмоции, вызванные появлением Аххи, для нее самой выглядели невесомой, едва ощутимой рябью на кромке дремотного озера, в которое погрузил фицци Офлиан. Она послушно легла брюхом прямо в мягкий серо-зеленый ил дорожки и повернулась мордой к купцам. Теперь Ахха полностью вобрала в себя цвет этого ила, буквально слившись с ним.
Сознание Офлиана, так и не покинувшее аквариума, легонько шевельнуло часть рыбьего разума, направив сигнал в область верхней челюсти. Он не повелел, а лишь подсказал телу Аххи, какое именно действие сейчас от нее ожидается.
Верхняя челюсть фицци плавно потянулась вверх, обнажая вереницу иглообразных зубов цвета слоновой кости, похожую на половину перевернутого венца. Страшно вообразить величину головы, которой могло быть впору подобное украшение.
Елуаму казалось, что перед ним вздымался подъемный мост, обрамленный острыми кольями. В невольном опасении, что этот «мост» может в любой момент обрушиться на свое место, юноша не желал признаваться даже самому себе.
Мастер тонких материй, удовлетворенный результатом, не преминул с энтузиазмом продолжить необычную подготовку к отправке. Следом за верхней пришла в движение и нижняя половина рыбьей челюсти, торжественно разверзаясь перед гостями Офлиана.
Елуам недоумевал и восхищался: «Приглашает нас, что ли?» Одновременно он пытался вспомнить усвоенную в Черторге, но теперь кажущуюся невыполнимой последовательность действий, чтобы забраться внутрь фицци. Юноше вовсе не хотелось ударить в грязь лицом и продемонстрировать растерянность перед этой прозрачной пастью, когда Яллир подаст знак. От накатов дыхания Аххи светлые волосы Елуама из аккуратно разглаженных с утра прядей превратились в спутанные космы. Но теперь он уже совершенно об этом не беспокоился и даже бросил ежеминутно поправлять свою челку.
Кто знает, от каких привычек ему вскоре еще придется отказаться? Будущее редко считается с обычаями и повадками, которые мы упрямо тащим за собой.
Нижний ряд «кольев» опустился почти под ноги купеческой тройке, отгородив их от входа в распахнутую пасть второй половиной венца с устрашающими высокими зубцами. «Ждать больше нечего», – справедливо решил Елуам.
Он порывисто присел, размашистым движением рук раскрыл сброшенную с плеча торбу, выловил из нее перевязанную тугим жгутом бечевку и принялся суетливо ее развязывать. Терять драгоценное время, оглядываясь на других, юноша посчитал неразумным. Пальцы от волнения не слушались, сердце выстукивало бешеный ритм, узел не хотел поддаваться. «Хоть бы никто не заметил», – проскочила еще одна назойливая мысль.
Волны жаберного дыхания фицци почти не оставляли шансов устоять на месте. Мало того, они еще и вздымали со дна иловые лохмотья, заставляя их выписывать немыслимые завихрения в толще воды. Их ошметки то и дело норовили залезть купцам за шиворот или огреть склизкой оплеухой. Или, что самое неприятное, осесть на гребешках спинных плавников и тем самым ощутимо затруднить дыхание.
Какая именно из предпринятых Елуамом хаотических манипуляций позволила узлу наконец ослабить хватку, юноша не имел ни малейшего представления. Главное, что это случилось, и теперь можно «забрасывать лассо», как учили в Черторге. Краем глаза будущий купец успел ухватить, что более опытные Яллир и Лиммах уже приступили к этому. Наблюдение подстегнуло юношу, и он, размахнувшись что было сил, запустил вверх свой распутанный канат с петлей на конце.
Мимо. Петля прошла на таком расстоянии от верхушек зубов нижней челюсти фицци, что даже не коснулась ни одного из них. Канат рухнул в гущу ила, вытряхивая на поверхность его подгнивший нижний слой. Жабры Аххи, вовсю теперь управляющие подводными течениями, разумеется, не дали ошметкам упасть обратно, а встроили в общий мутный хоровод и закружили их вокруг Елуама.
Еще попытка. Мимо.
И еще – с тем же результатом.
«Нельзя выходить из себя. Это только начало. Я справлюсь». Самовнушение помогало будущему пилигриму не сдаваться. Не смотреть на других. Продолжать упорно закидывать петлю – представить только! – на один из смертельно опасных зубьев гигантской рыбищи. И не думать, как это выглядит со стороны.
Еще один бросок. Так, не прицеливаясь. На авось.
Взвинченный бесплодными усилиями, юноша не сразу заметил, что на этот раз петля не упала к его ногам. Она осталась там, наверху, зацепившись за острие зуба Аххи.
Успех окрылил юношу, наградив новой порцией сил. Их, по счастью, оказалось достаточно, чтобы почти бесстрашно шагнуть в раскрытую пасть. Набрав грудью побольше кислородных пузырьков и крепко вцепившись в канат, молодой купец приступил к опасному подъему. Туда, где плотный ряд зубов Аххи обещает обнаружить тончайшие (в масштабах фицци) зазоры, в один из которых Елуам и должен будет прыгнуть, чтобы попасть прямо в недра ее глотки.
«Пришло время не бояться, а начать оправдывать ожидания», – подбодрил себя юноша, продолжая подтягиваться по закрепленному канату вверх, упираясь подошвами сапог в гладкую поверхность зубьев. Грубая бечевка больно резала пальцы, но зато позволяла им не скользить: сцепление было оптимальным, чтобы надежно удерживать «скалолаза» на пути к «вершине». Усталость на фоне возбуждения и вовремя проснувшегося азарта почти не ощущалась. Тело слушалось. Дисциплина удерживала разум в узде. Приближающаяся цель множила запас сил.
Не выпуская из рук спасительного каната, Елуам схватился за острый край великанского зуба. Просунул сначала левую ногу в межзубную щель. Почувствовал прочную опору: на нее-то наконец можно перенести вес тела. Ухватившись теперь уже за два зуба – «Какое счастье, что они острые только сверху!» – перенес и вторую ногу.
Поборол соблазн оглянуться. И прыгнул вниз. В прозрачную бездонную глотку.
Глава 11 Пешка становится ладьей
Горбун Эббих радостно закивал, едва услышав заветные слова о мерах расплаты. Они только что слетели с уст верховной жрицы, и их осязаемая сила еще резонировала в дымном воздухе Святилища. Восхищение, столь же сильное, сколь и внутреннее содрогание, завладело карликом, наделяя его лицо чертами абсолютного подобострастия. Он как-то ухитрился согнуться еще сильней, опустить голову со съехавшим набок обручем еще ниже. Точь-в-точь пристыженная старая черепаха, завернутая в складки черной рясы и опасливо взирающая из-под купола своего бугорчатого укрытия. И хоть Эббих отчетливо сознавал, что опасаться ему, личному прислужнику Йанги, только что выполнившему очередную волю своей госпожи, сейчас вовсе нечего, все же не мог отказать себе в этом безобидном удовольствии. Ничто ведь ему, Эббиху, не мешает устроить маленький театр и, злорадно хихикая про себя, понаблюдать за «зрителями».
Да начнется представление!
Суетливо перебегая глазками от Умма к Дримгуру и обратно, горбун словно посылал им свою мысль о грядущей каре, нагнетая вокруг воинов тлетворную ауру страха. И несмотря на то, что тени злого умысла сквозили в каждом взгляде и жесте бородатого лысого карлика, первопричина такого поведения была глубже, чем могло показаться на первый взгляд. Она крылась где-то на задворках сознания горбуна – тайная, темная. Нельзя притом сказать, что присутствие Йанги разжигало в Эббихе пламя какой-то особой жестокости. Нет, оно лишь мягко подсвечивало доселе темные, неведомые самому карлику грани его натуры – те, что до поры до времени скрывались в пыли и мраке душевного закулисья.
Чем отчетливей они являли себя, тем безнадежней растворялись в отбрасываемой им тени другие душевные качества. Парадокс заключался в том, что никто этим процессом не управлял: он не подчинялся традиционной системе волеизъявления и послушания. Абсолютная естественность – вот и все, что можно было сказать о влиянии Йанги на Эббиха. Естественность, подкрепленная тысячами примеров, мелькающими в колесе природного цикла: таяние снегов по весне, пробуждение зверей от зимней спячки, цветов под утренними лучами.
– Подойди ко мне, воин короля, – мягко обратилась Йанги к Дримгуру. В ее интонации не было приказа.
Стражник к этому моменту успел несколько успокоиться относительно своей участи. «Она, Сиятельная, сама сказала: если ты не переступил Семь наставлений, то бояться-то и нечего», – подумал он. И, разумеется, сразу примерил это обещание на себя: «Я-то что? Ну, забылся после ночного караула, перекинулся с приятелем парой слов, не успев пост сдать, – с кем не бывает? В Наставлениях – не зря отец сек меня камышовыми прутьями, пока я их накрепко не затвердил – ничегошеньки о разговорах на службе не значится! И уж точно ни одна голова змея-пятигрешника не рыщет по Харх, чтобы полакомиться таким мелким проступком! Скудновато для него будет. Не станет, пожалуй, даже силы тратить».
Дримгур все ясней предвидел безболезненный исход наказания, во всяком случае для себя. Потому покорно шагнул навстречу Йанги, не узрев большой разницы между повелением жрицы и обыденным приказом Рубба. Теперь в его лице было значительно больше любопытства, нежели страха.
Жрица в полном молчании неторопливо проследовала в глубину храмового зала – туда, где он заканчивался, чтобы разделиться на два стрельчатых прохода, ведущих в самое сердце Святилища. Стражники в черных доспехах приказали Дримгуру следовать за Йанги – и сделали это так же безмолвно, как их повелительница: взглядом и наклоном головы. Стражник не заставил себя ждать: кому охота оттягивать долгожданный момент облегчения, который непременно, верил юноша, последует за небольшим наказанием. Да и, что скрывать, любопытство взяло верх над прочими эмоциями. Стражник даже подумал: а неплохое, между прочим, разнообразие – всяко интересней, чем стоять истуканом в дозоре.
Словно по подвесному мосту над бездной, Дримгур послушно промаршировал по широкому коридору, образованному свечными перегородками. Мимо большого алтаря с плавучими огоньками, мимо полностью слившегося с обстановкой Бадирта. Королевский стражник был хорошо знаком с правилами поведения в доме Огненного бога. В частности, с тем их разделом, что гласит: «Здесь, пред лицом Прародителя, все его дети предстают в своем равенстве, ибо являют ему не свой временный облик и еще более временное общественное положение, но свои бессмертные души». Дабы, чего доброго, не нарушить еще одно правило, Дримгур не то что не преклонил колена перед своим принцем, но и даже не поприветствовал его кивком головы. Бадирта нисколько это не задело.
В конце коридора из горящих свечей возвышалась Стена отверженных. Стражник никогда не был в этой части Святилища, ведь все ритуалы и торжества традиционно проводились близ большого алтаря, а потому пришел в искреннее изумление. И как тут, в самом деле, не поразиться!.. Вся великанская ладонь мраморной кладки была сплошь усеяна вытесняющими друг друга костяными блюдами, вставленными в многочисленные ниши, изрубцевавшие белоснежную гладь стены. Центр каждого блюда был отмечен черной треугольной свечой с глубоко утопленным фитилем, пламя которого колыхалось приглушенным мерцанием мандариновой ленточки.
«Это мечутся души отверженных Огненным богом», – подумал Дримгур, ошеломленно созерцая стену.
Он даже невольно замедлил шаг по мере приближения к ней и так увлекся разглядыванием содержимого блюд, что на время выпустил из поля зрения фигуру жрицы. Вокруг треугольных, светящихся изнутри свечей были разложены подношения от родственников и друзей этих самых «отверженных». Как ни странно, здесь нельзя было отыскать ни дорогих украшений, ни россыпи самоцветов, ни вылитых из золота оберегов. На блюдах не было даже засахаренных плодов кумквата, олицетворяющих для хархи горьковато-сладкую суть их жизни и напоминающих: за кожурой упорного труда кроется медвяная мякоть воздаяния. Одним словом, ничего, что ассоциировалось бы с жертвоприношением – раболепным заискиванием пред всесилием богов, оскорбительным в уравнивании их величия с жалкими побрякушками. Особенно если учесть, что и побрякушки эти есть творение тех самых высших сил, вложенное в руки простых смертных. Родные и близкие отверженных прекрасно сознавали, что ничто из этого не позволит снискать милость Огненного бога и Матери звезд, отказавших усопшему в небесном гостеприимстве. Скорее, даже рассердит. Потому остается уповать на одно лишь единственное средство – не выкуп, а завоевание места для своего горе-родственника у ног небесных покровителей хархи.
Взглянув на предметы, покоящиеся у основания свечей и частично утопленные в песок цитриновой крошки, покрывающей блюда, Дримгур словно прозрел: «Вот они – подлинные жертвы! – воскликнул он про себя. – Ни в какое сравнение не пойдут с теми глупыми блестящими цацками из ювелирных лавок!» Истина, поджидавшая юношу в Святилище, поразила его в самое сердце. Нет, он, разумеется, прекрасно знал о судьбе тех несчастных, чьим погребальным нефритовым маскам отказывало в своей милости священное пламя Пепелища, оставляя их изумрудный цвет нетронутым. Однако разные это вещи – просто знать и узреть воочию! А узрел пораженный королевский стражник многочисленные свидетельства храбрости, самоотверженности и воинской чести, которые семьи отверженных возложили к треугольным свечам – знакам, молящим Огненного бога обратить внимание на приношения. Это были и клинки с багровыми фресками засохшей крови, и клыки дикого зверья из чащоб высокогорья, и стрелы с почерневшими наконечниками, и оскаленные черепа, обрамленные железным плетением проржавевших койфов. Украшения, надо отдать должное, тоже были. Но они представляли собой не творения ювелирных мастеров Харх, а образцы ремесла иного рода.
Ожерелья или монисто – пожалуйста. Отборные бусины из зубов поверженных неприятелей, нанизанные на черные нитки с опаленными концами. Заслуживала отдельного внимания их богатая цветовая палитра: от бежевого до янтарного с искусными вкраплениями черного, благодаря отдельным экземплярам, начавшим подгнивать от времени или от болезни бывшего владельца. Браслеты – вот же они, только вместо благородного металла – тонкая медная проволока, а гроздья золотых монет или цветистых каменьев заменили высушенные языки притесненных северян и выходцев из бунтующих степных территорий. «И, возможно, личных врагов семьи, – предположил Дримгур. – Так, поди, проще, чем подставлять грудь под копья мятежных северян и остервеневших кочевников». И тут же отругал себя за малодушные мыслишки, не подобающие представителю элиты островных войск. Эти мысли показались молодому хархи особенно неуместными в храмовой обстановке «истинной жертвенности», как он про себя ее окрестил. Ведь на него со всех сторон смотрели доказательства доблести, которыми их владельцы могли выстлать себе прямую дорогу в достойное место на небосклоне рядом с Огненным богом. Кирпичик за кирпичиком они приближали этих славных воинов к наилучшей участи, которая может ждать честного хархи по упокоении на Пепелище. И что же? Выходит, они сами по собственной воле отдирали из этой самой дороги купленные потом и кровью плитки только для того, чтобы достроить этот путь своим неудачливым родственникам. Тем, что из-за пагубного слабоволия так и не сумели добраться в объятия Матери звезд и застыли бесприютными призраками на перекрестке миров и времен. Избавляя своих бесславных близких от этой скорбной участи, достойные воины ставили под угрозу собственную судьбу в загробном мире: деяния, пожертвованные во имя усопших, как бы отделялись от их вершителей и всецело переходили в пользу отверженных.
На бесконечной стене не было места, свободного от прорезей. Вся – от пола до уходящего в сумрачную высь потолка – она пестрила серо-бежевыми дисками блюд, изготовленных из костей домашнего рогатого скота: коров, быков, коз, телят и волов. Подсвеченные вьющимися язычками света, глубоко утопленными в черные восковые треугольники, издалека они напоминали ребристые ракушки, облепившие киль завалившегося набок корабля. Дримгур, не имея возможности больше задерживаться, все же успел отметить про себя еще одну особенность: «А родственнички-то у всех, погляжу я, разные! Что тут и удивляться – даже у близнецов, что с виду как две капли воды, и то отличия имеются», – хмыкнул он себе под нос. Справедливость замечания состояла в том, что далеко не все блюда прогибались под тяжестью даров. Добрая половина костяных подносов искрилась отражением пламени в ровном слое цитриновой крошки, не нарушенном ни единым предметом. Только одинокая свеча немым укором подрагивала в центре таких блюд от сквозняков, то и дело налетающих из круглых окошек храма. Королевский стражник нисколько не устыдился суеверного трепета, зародившегося у него в солнечном сплетении от этого «натюрморта». «О всемилостивая Матерь звезд, прошу, убереги от этой страшной участи!» Дримгур коснулся пальцами, сложенными треугольником, склоненного лба. Дым благовоний, усиленный мощным впечатлением от стены, разъедал глаза, взывая к ненужным слезам. «Это ведь худшее, худшее, к чему может прийти добрый хархи! Стать ненужным ни там ни тут – это… – Стражник не сумел подобрать нужных слов. – Остаться одному, в кромешной тьме, жалким огоньком в черном воске, стать…»
– …отверженным, – раздалось откуда-то из глубины левого коридора, ведущего от стены. – Однако, сколь ни безрадостен их путь во мраке бесконечности, бояться им нечего.
Уж не почудилось ли это размякшему Дримгуру? Но даже если и так, то, во всяком случае, неожиданная реплика вернула его к реальности.
– Светлые сестры приглядывают за душами тех, чьи близкие не разожгли в себе божественных искр милосердия и жертвенности, – последовало объяснение.
Краем глаза стражник действительно зацепил промелькнувший у противоположной стороны стены женский силуэт, с ног до головы задрапированный в складки белоснежного хитона, подметавшего плиты храма своим удлиненным подолом. Цвет одеяния, подчеркнутый сумраком помещения и со всех сторон овеянный клубами благовоний, вызвал неприятную ассоциацию с призраком, мимоходом заглянувшим в Святилище, чтобы проведать содержимое своего блюда. «Призрак» высунул из объемистого хитона тонкую ручку, быстро поправил фитиль одной из свечей и скрылся во тьме другого коридора, тихонько шлепая по холодному мрамору плит босыми ногами.
Дримгур устремился в проход, открывшийся по левую сторону стены – туда, откуда пару мгновений назад до него донеслось разъяснение касательно отверженных, о которых семьи предпочли забыть. Коридор, на контрасте с величественным залом для ритуалов и проповедей, показался юноше узкой душной норой. Его глаза уже вполне привыкли к царящему в Святилище сумраку, однако темнота в «норе», почти не разреженная свечным мерцанием, на какое-то время буквально ослепила Дримгура. Поначалу он шел вперед по наитию: просто доверился эху голоса Йанги, долетавшему до его слуха скупыми обрывками фраз. Это неудобство досаждало стражнику, одновременно развенчивая его ожидания насчет устройства храмовых недр. «Хм-м, странно, – разочарованно вздыхал он, – а я-то, дурак, думал, что за ритуальным залом все в нашем Святилище полыхает ярким светом. Воображал себе почем зря сияющие чертоги, зажженные во имя Огненного бога тысячи свечей и факелов, слитки искраита32… – Дримгур с недоумением озирался по сторонам. – И где все это?»
Еще несколько шагов в темную неизвестность.
Вдруг из мрака, как бы внимая осторожным Дримгуровым шагам, начали медленно вырисовываться шершавые очертания стен коридора. «Уже что-то». Однако, поозиравшись, юноша не обнаружил каких-либо источников света. Свет определенно шел сверху, но как ни задирал стражник голову, никаких окон или зажженных свечей разглядеть там не мог. Слышалось характерное потрескивание и легкий гул словно от горящих сухих поленьев, а вся площадь прохода была насыщена смолянисто-дымным запахом. Только дым этот не набивался в легкие и не разъедал глаза. Дримгуру даже показалось, что это и не дым вовсе, а «просто такой воздух».
У карниза высокого потолка таинственный свет приобретал наивысшую яркость и позволял восхититься искусным художественным литьем. Присмотреться внимательней – и можно разглядеть силуэты знакомых созвездий, выделенных облупившейся от времени позолотой на иссиня-черном холсте потолка. Жаль, что Дримгур не располагал для этого временем. Хотя неизвестно, откликнулось бы его восприятие, и без того перегруженное открытиями, на очередное откровение? Все его внимание было устремлено на хриплое эхо жрицы, а зрение – в пространство, пролегающее значительно ниже звездчатого потолка. Чтобы, чего доброго, не заблудиться (мало ли как может усложниться наказание) и, что не менее важно, нигде самым глупым образом не споткнуться. «Каков буду тогда я, стражник самого Каффа, в глазах жрицы?» Дримгур лишь покачал головой, удивляясь собственным мыслям.
Ступеньки. Хвала пламени невидимых свечей – их света хватило, чтобы вовремя сообщить о начале спуска. Ступеньки винтовой лестницы убегали вниз, длинной лианой спускаясь в глубины Святилища. «В подземелье», – угадал стражник, почесывая в легком смятении затылок. На затылке выступила испарина, успевшая во влажной духоте коридора впитаться в корни густых волос.
Никто из воинов, кому уже довелось быть наказанным в Святилище, никогда не бывал в подземелье храма Огненного бога. Да что там в подземелье – обычно суть кары сводилась к стоянию на коленях, оголению рук и выжиганию части наплечной татуировки. Ритуал, при всей своей болезненности и унизительности – воины с большим трепетом относились к языкам пламени своих татуировок, длина которых говорила о доблести и чести их носителя, – занимал несколько минут. И, правду говоря, проводился всегда в большом ритуальном зале в присутствии военачальника. Удостоившиеся этой «чести» в один голос утверждали: «Жжет дьявольский огонь ее раз эдак в десять хлеще раскаленной печати татуировщика – ну, к которому бежишь с турнира со всей дури, не успев Рагадиру руки пожать и перед трибунами покрасоваться! Не горячо даже, а, наоборот, хлад такой кожу начинает драть, что думаешь: а не отморозит ли он тебе кишки к хренам собачьим? Главное, огня самого не видать – дьяволица нездешняя, ясно дело, его в ладонях своих мертвячьих прячет. А только потом – глядь: двух огненных языков на плече, честно, между прочим, заработанных в поединках – король подлинный тому свидетель! – нет как не было! Одни только красные отметины от ожогов, словно к печке спьяну приложился. И болят, и ноют, паскуда такая, что гниющие раны. А обидно так, что самой боли и не чувствуешь почти – только если спросонья чем зацепишь. А самое паршивое, скажу я тебе, – с жаром жаловались воины друг другу, – воля, боевой дух вместе с куском той татуировки из тебя напрочь выжигается. Ох и долго потом бродишь как неприкаянный: не воин, а баба плаксивая. Тьфу, ну как есть – баба!»
Лестница ниспадала вниз витым каскадом ступенек, вытесанных из грубозернистого песчаника. И хоть была она абсолютно лишена украшений, ступеньки оказались надраены до такой степени, что едва касающийся их «потолочный» свет нет-нет да вызывал мерцание крошечных точек кроваво-красного граната. «Видать, песчаник аж с Убракка притащили, – рассудил Дримгур, – коль в нем эти рубцы содержатся». И к месту вспомнил, как однажды на турнире четырех территорий Харх рыжеголовый веснушчатый северянин в ламеллярном доспехе из китового уса с вдохновенным патриотизмом рассказывал ему о песчаниковых столбах с гранатовой крошкой, встречающихся в горах его родного Севера. И вот он, Дримгур, так и не посетивший горделивые снежные вершины Убракка, теперь почитай что собственными ногами топтал эту удивительную горную породу. Чудеса, да и только.
Ступеньки уводили Димгура все глубже в подземелье, с каждым шагом отдаляя от слабого света. Поднимающийся от них влажный дух прелой листвы, размокшей древесины и плесени удивительным образом вмещал в себя приторно-сладкие ноты медовой патоки, перемешанной с забродившим сиропом из лепестков роз. Взять эти запахи по отдельности – совершенно безобидные эссенции того или иного рода, вполне уместные при определенных обстоятельствах. Но стоит им встретиться в едином пространстве, как – вот алхимическая ирония! – мгновенно ударят в нос ни с чем не сравнимым ароматом разложения. Дримгур не мог похвастаться искушенностью по части парфюмерии, однако сопротивляться столь прямолинейной ассоциации был не в силах. А уж о том, насколько усиливал это впечатление союз темноты и подземельной неизвестности, не стоит даже говорить.
И все же, несмотря на чародейство сумрака, юноша был твердо уверен, что он участвует в чем-то неизмеримо важном. Леденящий и одновременно воодушевляющий вид Стены отверженных, вся являемая ею трогательная жертвенность, романтизм подвигов, откровение о милосердии жречества к неприкаянным душам… Все эти новые знания и образы пролились благодатным дождем на почву, иссушенную зноем однообразия жизни. Жизни, которую выбрал для себя не он, а отец, в прошлом тоже королевский стражник; жизни, которую не сам юноша выслужил для себя перед Огненным богом, а той, что якобы «была предсказана высшим принципом потомственности». Весь этот внешний, показной престиж элитного войска Харх окончательно лишился своего блеска на фоне груды истинных сокровищ – боевых трофеев на костяных блюдах. Во всяком случае, для Дримгура. Его горло уже сдавила зависть. Стена словно продолжала с упреком глядеть в спину юноши, немо вопрошая: «Чего добился ты, королевский стражник в красивых доспехах с красной эмблемой на груди? Где твои подвиги, воин? Что сможешь ты положить на блюдо, если завтра от твоих близких останутся не тронутые священным пламенем нефритовые маски?!»
Ничего. Дримгур прекрасно знал ответ: ничего.
Даже заветная наплечная татуировка теперь стала для него мертвым, кичливым, ничего не значащим рисунком. «Пламя на ней – не от Огненного бога, – открытие за открытием сотрясало горячий молодой разум. – Как может оно быть истинным, подлинным, коли его новые языки у нас появляются не за бесстрашие и боевое мастерство, а просто за каждый год, проведенный на страже королевского покоя?»
Все то, о чем подозревал Дримгур, прорвалось наружу неусмиримым бурным потоком. Юноша, позабыв о своих опасениях и страхах – теперь они казались детскими, – оставлял позади спираль лестницы. Спускаясь все ниже, он и вовсе перестал думать о том, куда она могла привести. «Всяко лучше, чем недвижно стоять под полуденными лучами, пока другие добиваются расположения Огненного бога!»
Ступеньки оборвались так же резко, как и начались. Светлее не стало, окружающая обстановка представляла собой загадку. Глухая тишина свидетельствовала о том, что Дримгур находится в мире, запрятанном в недра земного чрева: его толща надежно укрывала от звуков другого – «верхнего» мира. И если до слуха Дримгура долетали какие-то отзвуки, напоминавшие рокот волн, то, значит, и зародились они здесь же – в храмовом подземелье. Гнилостно-сладкий запах усилился благодаря тропической влажности и острой нехватке свежего воздуха. По вискам стражника струился пот, а пересохшие горло и язык страстно жаждали прохладной ключевой воды. «Странно, – зацепился за это ощущение Дримгур, – такая влажность по всему телу – и такая сухость в горле…»
Кап-кап. Совсем рядом.
Юноша даже подставил раскрытые ладони в надежде, что они наполнятся живительной влагой, чтобы освежить лицо и промочить пересохшую гортань. На ладонях, к его разочарованию, осталась только их собственная влага.
Кап-кап-кап. Уже ближе.
За неимением иного ориентира Дримгур пошел на звук вожделенных капель, переливающийся серебряными колокольчиками в душном колодце подземелья. По счастью, темнота не сыграла с ним злой шутки и не стала чинить препоны вроде возникшей вдруг из ниоткуда стены или внезапной подножки в виде не то коряги, не то надгробия. Поди там разбери впотьмах.
Кап!
Здоровенная капля тяжелой прозрачной бусиной шлепнула Дримгура по низкому лбу, чтобы отскочить неприятной мыслью о скользких холодных обитателях подземелий. Рука машинально потянулась к тому месту, куда упала эта «бусина». И уж только потом стражник с видимым удовольствием приложился всей пятерней к прохладной отметине, которую та оставила.
Вынужденная остановка оказалась не случайной, а капля – не просто скопившимися у потолка испарениями. Это был знак. Дримгура явно приглашали войти. Железное кольцо коснулось руки стражника, и он, не раздумывая, потянул бронзовую скобу на себя. Тяжесть массивной двери, больше похожей на створку ворот, заставила ухватиться за кольцо обеими руками и хорошенько поднажать. Ее сопротивление, однако, нисколько не смутило Дримгура, а только распалило юношеский азарт.
Во всем его существе пробудилось нечто такое, что сложно было остановить, – будто с древнего клинка слетела вековая пыль и его сталь хрипло, но уверенно запела на поле брани. Едва тлевшие в самых отдаленных закоулках души угли разгорелись страстным пламенем. Буйному цветению дикого кустарника стало тесно в тепле и уюте оранжереи, и его тянущиеся к свету стебли проломили стеклянный потолок.
Воодушевление, что поднялось из самых глубин души Дримгура, метнулось слепящим языком священного пламени. Он чувствовал, что уже приблизился к Огненному богу, что сумел донести до него свой порыв прозрения. Чувствовал всем телом сошедшую с небес благодать Матери звезд, узревшей праведные устремления своего будущего сына.
А если так, то какое ему теперь дело до боли, что вот-вот должна хладными иглами впиться в его плечо? А грозящая и вовсе исчезнуть татуировка – да кому она такая нужна? «Придет время – выжгут мне новую. Настоящую. И, клянусь Семью наставлениями, своими деяниями я отращу ее до самых пальцев! А потом еще одну – на другой руке! О Прародитель, прошу тебя лишь об одном: даруй мне время, дабы успел я вместить деяния эти в срок своей жизни!»
И услышана была молитва, ибо дверь наконец поддалась, став, на Дримгуров взгляд, «легче перышка», и без единого скрипа мягко отворилась.
Убранство покоев, в которые привели юношу голос, лестница и капли, не содержало в себе ни намека на тот исход скитания по Святилищу, которого он ожидал, к которому был уже всецело готов. Первым, что зацепило рассеянное внимание Дримгура, оказался резко изменившийся запах. Не то чтобы к нему примешались какие-либо новые оттенки или он преобразился до неузнаваемости – ничего подобного. Поначалу юноша не сразу понял, что произошло и как так получилось, что удушающее амбре тления вдруг стало ему по нраву. Он принюхался, силясь разгадать приготовленную Святилищем головоломку. Ничего не шло на ум, переполненный вытесняющими друг друга впечатлениями, эмоциями и мыслями. Собственная голова начала напоминать стражнику растревоженный муравейник, в котором копошились тысячи суетливых насекомых, спасающих своих куколок и личинок.
– Засахаренная роза, Дримгур, – внезапно раздалось из левого угла покоев.
На обитой шафрановым бархатом кушетке с закругленными бронзовыми подлокотниками, из центра которых расходились металлические лучи, сидела Йанги. Ее длинные белые руки покоились на бордовой ткани туники. Верховная жрица, хоть и была хозяйкой положения, ничем не выдавала этого – ни обликом, ни позой, ни выражением лица. Более того, она казалась смиренней и покорней самого Дримгура.
Сверху лился все тот же свет без видимого источника, наделяя кожу Йанги теплым оттенком пчелиного воска, а ее обычно серебристо-пепельные волосы теперь казались персиковыми. Стоило жрице чуть шевельнуть головой, увенчанной тонким обручем с иссиня-черными перьями, в ее прямых прядях вместо холодных отблесков играли жизнерадостные золотинки.
Только слепцу это не внушило бы робкой надежды на безболезненность грядущего наказания! Дримгур же, с его острым зрением, перестал ждать уступок от судьбы. Более того, теперь стражник готов был поклясться: он буквально жаждал боли – этой обещанной расплаты за нарушение караульного кодекса. Боли, пронзительного холода, любых иных испытаний тела и духа, чтобы снискать хоть крошечную толику милосердия Огненного бога. Чтобы ощутить себя истинным сыном огненной земли Харх, наследником его великих воинов и, в конце концов, мужчиной… А не «куклой в блестящих доспехах», как жалкий карлик называл за глаза королевских стражников.
Дримгур-то всегда знал – догадывался, – что отчасти характеристика Эббиха справедлива.
– Роза, Сиятельная? – Юноша послушно оглянулся по сторонам в поисках цветка, о котором говорила Йанги.
Обстановка покоев была аскетичной: две кушетки с бархатными сиденьями, каменный стол с разложенными на нем пузатыми колбочками и черными перьями (такими же, как в головном уборе жрицы), причудливо изогнутые напольные подставки с незажженными свечами, белая медвежья шкура на холодных плитах пола… Что угодно, но не розы. Не говоря уж о засахаренных экземплярах.
– О да, воин, – спокойно молвила Йанги. – Но ты их не увидишь, если будешь искать взглядом.
Полуулыбка? Или стражнику померещилось?
– Закрой глаза, – мягко сказала жрица, – и услышь ее. Не используй зрение, откажись от привычных усилий разума, и образ прекрасного цветка предстанет перед тобой. Столь же ясно, как сейчас передо мной, – добавила Йанги, глядя куда-то мимо Дримгура.
«Началось», – решил стражник и поспешно выполнил то, что только что коснулось его слуха. Приказ – не приказ, совершенно неважно.
Он постарался сделать ровно так, как велела жрица. Изо всех сил он зажмурил глаза и заставил себя остановить поток мыслей, скачущих диким степным табуном по просторам разума. Вопреки надеждам юноши, взнуздать этих ретивых жеребцов оказалось не так-то просто. Выяснилось, что там, внутри, все устроено с точностью до наоборот: теперь он уже не бравый наездник, управляющий своим резвым скакуном, он сам оказался под чьей-то властной плетью. Эта плеть хлестала Дримгура свежими переживаниями, поднимала с пола осадок впечатлений и швыряла ему в закрытые глаза; не успевала чуть остыть полоска боли от удара одной мысли, следом обрушивалась новая, наполняя гудящей резью уже другую часть тела.
Какие тут могут быть розы? Эта плеть попросту рассекла бы шелк нежных лепестков в багряную пыль и развеяла по ветру над морем Вигари.
И все же это духовное испытание не могло превратить в пыль настрой, подаренный Дримгуру его новыми открытиями. Дары Стены отверженных все так же поблескивали древним золотом на костяных блюдах. Он просто стоял, не говоря ни слова. Просто отдался испытанию – именно так он воспринимал происходящее.
Йанги, чего давным-давно с ней не случалось, искренне восхитилась. Реакция Дримгура превзошла все ожидания.
Королевский воин, позволив снять с себя первую метафизическую пробу, предстал перед ней в наилучшем свете. «Разум – это первое, – подняв глаза к потолку, загибала жрица свои тонкие пальцы. – Разум не замутнен влиятельными энергиями: отец рано умер, мать не властна, а окружение нейтрально. Прекрасная ничейная территория. Истовая жажда, которая юноше кажется примитивной потребностью его земного тела, на деле – жажда пересохшего честолюбия. Захлестывающие страсти по свершениям, подвигам. О, неужто?» На мгновение Йанги по-кошачьи прищурилась, словно сверяясь с неким незримым механизмом. «Да, воин, – томно изогнувшись, будто от наслаждения, закивала она, – это страсти по крови! И с какой силой вытесняют они прочие притязания души! Сколько вообще здесь силы – истинной силы, закипающей в сонном котле бездействия, противного их Прародителю. Я чую, как лопаются его пузырьки, как пляшет на котле крышка!» Жрица медленно втянула ноздрями воздух. С длинным, таким же чувственным выдохом ее лицо утратило негу и стало слегка озабоченным: «Слишком, слишком хорош для своей роли… Пешка оказалась ладьей. Хот, кто знает. Может, так и должно было случиться… Может, это единственно верный путь. – Йанги пристально посмотрела на Дримгура. – Но вот переживет ли ладья рокировку?..»
Что ж, каким бы ни оказался ответ на этот вопрос, медлить не стоило. Йанги грациозно соскользнула со своего мягкого ложа и, неслышно ступая босыми ногами, подошла к каменному столу, притаившемуся в другом углу жреческих покоев. Высвободила из плена туники длинный шнур, свитый плотным жгутом. На нем свободно болтался миниатюрный резной ключик, больше похожий на игрушечный рыболовный крючок. Этим «крючком», повернув его пять раз, Йанги отперла нижний ящик стола и извлекла на свет шкатулку из непрозрачного черного кварца – мориона. Изделие имело несколько отделений, каждое из которых располагало своей собственной крохотной замочной скважиной из необычного сплава, соединившего все оттенки морской волны. Поставив шкатулку на стол, жрица слегка прикусила основание своего нагрудного ключа – тот послушно раскрылся. Внутри него оказался точно такой же «крючок», только миниатюрнее. Легким жестом, в котором сквозила многолетняя (или многовековая?) привычка, жрица подцепила иглой «крючка» какую-то деталь в глубине скважины левого нижнего ящичка шкатулки и несколько раз провернула его, крепко зажав между большим и указательным пальцами. Раздался сухой щелчок. Ящичек избавился от своего хитроумного запора, приглашая взглянуть на содержимое черной глянцевой ячейки.
Йанги взялась за крохотную темно-зеленую скобу, расположенную чуть выше скважины, и осторожно потянула кварцевую выемку на себя. Цвет лица жрицы потеплел еще больше, а ее глаза, и без того ярко-желтые, превратились в звезды. Это сияние вырвалось из шкатулочного заточения – и мгновенно отразилось всей силой накопленного света на коже и в глазах Йанги. Ничего в целом удивительного. Ведь даже одна-единственная золотая песчинка пыльцы гаудра желтолистого способна поспорить блеском с любым источником света, встретившемся на ее пути. О том, какое торжество сияния несет в себе целая горсть пыльцы, пожалуй, не стоит и говорить.
Верховная жрица замерла, словно греясь в мерцающих золотых переливах. Она почувствовала себя «пылинкой на щедрой длани Прародителя». Вернее, в который раз заставила почувствовать. Каждодневный терпеливый труд. Год за годом.
Иного выбора не было.
Йанги, получив свою меру тепла, с благодарностью наклонилась к щедрой горсти пыльцы и легонько дотронулась до нее плотно сжатыми губами. Их покрыл тончайший слой золотистой пудры. И сделано это было вовсе не из самолюбования. Верховная жрица, совершив причудливый ритуал и спрятав шкатулку обратно в стол, наконец удостоила Дримгура близостью своего присутствия. Тот, в свою очередь, продолжал, зажмурив глаза и замерев, стоять посреди покоев, будто бронзовая скульптура. Выражение лица юноши красноречиво отражало напряженную, но пока бесплодную работу мыслей и органов чувств. Йанги прекрасно понимала, что ее загадка о розе оставалась неразгаданной.
Однако это нисколько ее не расстраивало. Скорее, наоборот: к чему пешке, пусть даже и примерившей на себя королевскую шелковую тунику, богато расшитую золоченой нитью, излишняя прозорливость? Недогадливый разум, дремлющая интуиция, притупленное чутье – это ведь идеальный минеральный состав глины, из которой будет слеплена прекрасная шахматная фигурка. Эти компоненты, помимо прочего, обеспечат пластичность и вязкость, необходимые для успешной гончарной обработки. Йанги довольно улыбнулась. Воистину, это была не та загадка, которую стражнику следовало отгадать, а значит, его замешательство стало единственно правильным ответом. А то чудесное обстоятельство, что он не принялся перебирать приходящие в голову варианты, бросившись в пучину ощущений, только прибавляло Дримгуру ценности. Ведь он как бы оставил свою ладонь раскрытой в поисках помощи, а ум – готовым услышать «правильный» ответ и принять его как данность.
И помощь, само собой, была оказана.
Жрица, слегка склонившись над королевским стражником, вытянула губы трубочкой и дунула, словно гася свечу. С губ невесомым облаком слетела золотая пыльца, окутав юношу драгоценной вуалью. Она не осела ни на курчавых волосах Дримгура, ни на его загорелом лице, ни на одежде. Просто окружила сиянием ослепительных танцующих частиц. Пыльца одарила юношу отблесками того же нестерпимо яркого света, что несколько мгновений назад озарял Йанги, когда та отперла потайное отделение шкатулки из мориона. У любого взглянувшего на эту картину со стороны, возникло бы впечатление, что этот свет исходит не от иллюминирующей пыльцы, а от самого Дримгура. Что он проглотил крупный слиток искраита и теперь может смело бросить вызов любому сумраку, не заботясь о таких мелочах, как факел или свеча.
Разумеется, Дримгур и не догадывался, что верховная жрица накинула на него полупрозрачную вуаль с мириадами искр-золотинок. Он даже не осознавал степень ее близости, измеряемую легким выдохом, который позволил блестящей пыли слететь с красивых губ и запеленать силуэт Дримгура. Все, что он поначалу почувствовал, – это легкое дуновение, ненароком коснувшееся открытых участков тела. Было приятно. Каждое прикосновение этого «ветра» вместе с росистой свежестью раннего утра дарило обещание скорого облегчения. Прорезав послегрозовым дыханием гнетущую колодезную духоту, чудесный ветер унес всю ее затхлость, не оставив и следа от былого сладковато-гнилостного душка. По покоям разлилась живительная прохлада, и в игру вступило знакомое цветочное благоухание. Отдельные дуновения долетали до ноздрей Дримгура отзвуками жженого сахара, неизменно витавшими над ярмарочными лотками Подгорья.
Какое-то время юноша просто наслаждался резко изменившейся атмосферой, не пытаясь ухватиться за подсказку, скрытую в этом переплетении ароматов. Не сразу сбитый с толку стражник признал в нем розу, отороченную каемкой сахарной глазури, словно прихваченную первым заморозком. Бутон выглядел куда реальней любого настоящего цветка: в каждом плавном изгибе, в каждом движении, вторящем прихоти ветра, и в каждой молочной прожилке, что разбегались из темной глубины цветочного сердца.
– Роза! – одними губами прошептал потрясенный Дримгур.
Он боялся, что от громкого голоса или, не приведи Огненный, неосторожного движения явившийся ему образ постигнет участь миража в пустыне. И все же не мог молчать:
– Я вижу… Я ее вижу!
Восторг победоносно воссиял над иными чувствами юноши и выгадал для себя две непрошеные слезы. Быстро скатившись по щекам стражника, они отразили в себе все золото уцепившейся за воздух драгоценной пыли.
– Это лучшее, что я видел… – Признание было обращено не к Йанги и даже не к самому себе – казалось, Дримгур говорил с кем-то третьим.
Йанги окинула взглядом свое творение. Ее янтарные кошачьи глаза светились вполне объяснимой гордостью. Эта гордость несла в себе не удовлетворение победителя у финишной черты, она не была похожа на восхищение матери, взирающей, как делает первые шаги ее обожаемое чадо. Удивительно, но гордость верховной жрицы была словно позаимствована у далеких-далеких предков этого чада, со сдержанным умилением наблюдающих с высоты своего небесного обиталища. Такой взгляд, ограненный вековой мудростью, вместивший в себя знания и опыт десятков поколений, был крайне странен на гладком, почти юном лице Йанги. Излучины морщин и потускневший цвет глаз были бы здесь куда уместней – правильней.
– Не лучшее, стражник. Обещаю тебе, что это будет не лучшее, что ты увидишь здесь, – прозвучал ее приглушенный хрипловатый голос прямо над ухом Дримгура. – Не открывай глаза – и ты увидишь, ибо слепы зрячие в заблуждениях своих. А в беззащитности и мраке дремлет исполинская мощь, копя в груди священное пламя, что озарит путь их к свету! И придет Скарабей. И да затмит это пламя ничтожные лучины зрячих! – Проповедь приняла гипнотический облик заклинания. Пыльца взметнулась столпами огненных искр под самый потолок. – И пожрет огонь всех его презирающих!
Кровавая роза зашелестела ворохом гладких лепестков, словно складками коричнево-малинового занавеса. Они, дрогнув в последний раз, обрушились на пол, со скрежетом расколов свою хрупкую сахарную оболочку. Прозрачное крошево разбежалось по плитам, словно просыпанный мелкий бисер, дыхнув на прощание густой медовой патокой, приторной до тошноты. Покои вновь заполнились удушающим запахом тлена. Звучал он еще настойчивей, уверенно возвращая свои права.
Однако Дримгур был ему рад. Ибо для него этот запах перестал быть скорбным, угнетающим эфиром. Юноша вдохнул его всей грудью, дал задержаться в легких, чтобы напиться дьявольским нектаром – яростью, предсмертными стенаниями, многоголосыми мольбами о пощаде, сладостным мщением, опьяняющей властью, близостью к Огненному богу… И выдохнул скопившуюся на королевской службе горечь, болезненное разочарование и зачатки малодушного смирения перед судьбой потомственного стражника.
В сиянии огненных искр уже стоял совершенно другой Дримгур. Выглядел он словно каменный великан, готовый сбросить с себя глыбовую чешую, что веками сковывала его, защищая тем самым местное население от смертельной опасности. За занавесом бордовых лепестков ему открылось действительно «лучшее, что он мог увидеть». И жадно вдыхаемый Дримгуром запах был лишь частью развернутой перед ним сцены.
Она представляла собой поле битвы, усеянное мертвыми телами в поломанных, искореженных доспехах. Над телами пировали клекочущие стервятники, скрежеща когтями по бронзе этих доспехов. Дримгур тоже был там. Только вместо бронзы он увидел на своем возмужавшем теле черные пластины с полустершимися росчерками золота. На груди красовался перевернутый треугольник. В черной железной перчатке он сжимал чей-то ярко-рыжий вихор, на котором болталась отрубленная голова, волоча за собой по вытоптанному полю тонкий кровавый след. Вот рука воина высоко подняла эту голову. Сочащаяся из перерезанного горла кровь, подобно смоле из древесного сруба, тяжелыми каплями окропила запрокинутый блестящий от пота лоб Дримгура. Свободной рукой он, сбросив латы на землю, начертил на своем лбу размашистый треугольник и воздел к небу теперь уже обе руки, не выпуская отрубленной головы.
Бескрайнее войско, закрывавшее собой границы поля брани, замкнуло его в кольцо нестройного громогласного «ХА – Р-РХ-Х!», заглушив стоны умирающих. После все как один рухнули перед ним на колени. Судя по наконец открывшемуся над их спинами пейзажу, это было очень, очень далеко от родного Подгорья.
Глава 12 Испытание. Дух
– Поступающие могут по своему разумению использовать весь набор лекарских принадлежностей, который найдут в верхнем ящике стола.
Мастер Мофф, бессменный глава отделения лекарского дела естественно-научного факультета, не изменяя старой привычке, обращался к созреванцам в третьем лице. Надтреснутая хрипотца, сухое покашливание (якобы для смыслового разделения фраз) выдавали почтенный возраст мастера. Однако сопоставление голоса с внешностью его обладателя повергало в недоумение: облик ученого не имел ничего общего с этим старческим дребезжанием. Плотный шелк кимоно цвета сливок спускался с плеч строгими вертикальными линиями, подчеркивая идеальную осанку. Густота серо-бежевых волос была отчасти скрадена прической – низким хвостом, перехваченным черной ленточкой и доходящим до лопаток. Морщины не пролегали уродливыми бороздами, говорящими о бессилии науки над временем. Нет, узкому светлокожему лицу с высоким лбом и скулами дорожки морщин лишь придавали благородства. Тонкие лучи в уголках глаз казались предусмотренными самой природой линиями, с рождения прочерченными на коже ученого. Что до светло-сиреневых глаз, глубина и особое выражение их взгляда безошибочно указывали на тесную связь Моффа с лекарским делом – пожалуй, самым осознанным ремеслом (истинные лекари на Вига упорно отказываются именовать его искусством), требующим сострадания и твердости, жертвенности и хладнокровия, философской мудрости и аптекарской точности. И если в этом ремесле, как любят говаривать на Вига, нет случайных лиц, то мастер Мофф был, пожалуй, самым неслучайным из них. Чего стоит одна его легендарная родословная, со времен седой старины состоящая сплошь из талантливых лекарей.
Неторопливая жестикуляция Моффа сообщила эту мысль Илари, которая, не замешкавшись при входе в аудиторию, успела занять ближайший к преподавательскому кругу стол. Взмах широкого бежевого рукава – и открывшийся участок руки мастера сверкнул серебряным узором. Перед глазами Илари в тот же миг стройными рядами выстроилась вся плеяда заслуженных лекарей Вига, опыт, знания и секреты которой вобрал в себя этот пожилой, но прекрасно сохранившийся ученый. Теперь не только он сам, но и все поколения его благородных пращуров строго взирали на нее – дочь «государственного изменника», ютившуюся с обезумевшей матерью за чертой блестящего Нуа. Возомнившей себя если не прирожденным лекарем, то по меньшей мере сестрой милосердия. «А есть ли в тебе это милосердие, самозванка? – будто хором вопрошали они. – С чего ты взяла, что достойна стать одной из нас?»
Илари, на всякий случай поправив длинные рукава платья (в который раз за этот день!), оглянулась по сторонам. И вмиг почувствовала себя ничтожно маленькой. Еще более беззащитной, чем когда пробиралась в поздний час к их с матерью хижине, затерянной на краю неблагополучного Зачерновичья. Да что там – такое напряжение (Илари отказывалась признать это чувство испугом) ни разу не нависало над ней даже теми темными ночами, когда приходилось засыпать одной. Когда Наида не являлась ночевать домой, чтобы уберечь дочь от зловещего танца теней, что отбрасывал на стены бурый лес непроходимых водорослей.
Дело в том, что Илари ни разу в жизни не оказывалась в таких огромных помещениях. Архитектурная стройность и симметрия буквально давили на голову, внушали безотчетное благоговение и заставляли девушку усомниться в собственных достоинствах, да и вообще в уместности нахождения в этих стенах.
Засомневаешься тут, когда вместо тесной рабочей каморки Черновика окажешься вдруг под высоченным куполом главной аудитории лекарского отделения, занимающей внушительную часть фиолетовой стеклянной башни Университета! Задерешь голову так, что шею аж заломит, а потолок так и не увидишь: стекло хоть и толстое, но просвечивает не хуже прозрачной фицци. Вот и убегают витые изогнутые колонны будто бы в никуда, притворяясь, что вовсе не служат для поддержки конструкции здания. Этого мало, подножие снежно-белых колонн разверзается внизу обширным амфитеатром, позволяя мягким подводным лучам свободно играть в открывающемся пространстве. На широких полукольцах амфитеатра стройными рядами расставлены высокие столы с выдвижными ящиками. Скамьи сегодня отсутствуют, ведь записывать будет нечего. От будущих студентов-лекарей на вступительном испытании ждут иного.
Каждому из них предстоит вылечить живое существо. На глазах именитых представителей лекарского мастерства.
Илари ощутила, как дно Вигари предательски уходит из-под ног, когда неожиданные условия испытания равнодушными скрипучими фразами вылетели из уст Моффа.
В эти слова вместилась вся академическая сухость мастера, сдобренная многолетним участием в университетской рутине. И ежегодный прием новой порции созреванцев в цитадель наук был, пожалуй, наиболее утомительным делом для пожилого мэтра. Не раз он в редкие минуты откровений с коллегами признавался, что раздражен «поисками юных умов, идущих по зову призвания». И заодно выражал нетерпимость относительно тех молодых вига, что являлись на испытания не по собственной воле, а по наущению недальновидных родителей. И особенно сурово высказывался о тех, кто смел притащиться неведомо откуда, пытаясь скрывать свою бесславную родословную. «Лоб готовы расшибить, лишь бы прорваться в мир науки и воспарить над нищетой», – так обычно отзывался о них мастер.
И, увы, неповинны в том ни старческая сварливость, ни аристократическая претенциозность.
Много – слишком много – повидал Мофф на своем веку. В том числе печальные, непоправимые последствия лекарской практики тех, кто занимался ею без призвания. Ибо, сколь высоким ни был барьер вступительных испытаний, они всегда имели одинаковый исход: каждый светооборот ряды новоприбывших студентов-лекарей пестрели такими вот «паршивыми овцами».
Большинство преподавателей – хоть, к примеру, сидящий по правую руку Моффа моложавый магистр Эсопп – в целом смирились с этой неизбежной погрешностью и отказались от излишнего перфекционизма. Дошли до того, что, по словам самого Эсоппа, «сумели усмотреть в этой категории обучающихся зачатки оригинального лекарского мышления».
Вторивший и где-то подражающий Эсоппу магистр Гифу на одном из кафедральных советов присовокупил, что-де новой задачей факультета видится ему активное развитие такого мышления. Все это, очевидно, оттого, что сам Гифу во времена молодости не слишком прислушивался к шепоту призвания и знатно потрепал нервы своим наставникам и родителям, стабильно раз в светооборот перебегая с факультета тонких материй на естественно-научный. Оправдывают ли его два свитка с золотой печатью отличия от обоих факультетов, ставшие итогом этих метаний? А может, чернильные знаки научных званий и на безымянном пальце, и на мизинце, которые он с тех пор как бы ненароком старался держать на уровне глаз консервативного Моффа? Тот, хоть и добрюзжался аж до мастера, тем не менее отмечен скромнее – темно-синие знаки коснулись лишь одного его пальца.
Результат, как говорится, налицо. Все дискуссии о неоднозначной научной карьере Гифу разлетелись в мелкие щепки, натолкнувшись на неопровержимые доказательства его успеха. Пять соединенных между собой точек на мизинце гордо указывали на филигранное владение искусством защиты от одержимостей; перечеркнутый треугольник на безымянном персте говорил о неоспоримых достижениях в искусстве анальгезии, об умении унять даже самую острую физическую боль. К чести магистра Гифу, он действительно умудрялся сочетать в себе эту противоречивую, не дающую покоя тягу к двум искусствам одновременно. И, стоит заметить, немало преуспел на обоих поприщах, виртуозно совмещая научные изыскания с наставничеством и участием в жизни Университета. «Живой пример победы над закоснелостью предрассудков», – так с определенного момента принялись отзываться о Гифу коллеги. Мофф же со своей категоричной позицией остался в меньшинстве.
И все бы ничего. Но беда заключалась в том, что далеко не все студенты с раздвоенным призванием в конечном итоге становились такими Гифу или Офлианами.
Мастер Мофф с тревогой оглядывал лица претендентов на чернильные знаки за успехи в лекарском ремесле. Со стороны казалось, что он производит строгий досмотр на предмет шпаргалок и вырванных книжных страниц, запрятанных в рукава или искусники еще знают куда.
Какая глупость! Это было последним, что заботило опытного мастера в те волнующие минуты перед экзаменом. Как же быстро таяли суетливые мгновения… Удастся ли чутью мастера, натренированному годами практики, и на сей раз отделить зерна от плевел? Сколько «раздвоенных» и «искаженных» соискателей стоят сейчас перед ним, опираясь на белоснежные столешницы? Кому вновь суждено проскочить мимо прицела испытания? Мофф, как бы в подтверждение внутренней мобилизации, еще туже затянул широкий пояс своего халата-кимоно, встретившись пальцами с тонким узором его набивной вышивки и по привычке погладив его. Причудливая ассоциативная цепочка навеяла мысль об объемных изгибах головного мозга в заспиртованных колбах Лабораториума. Мастер удивленно хмыкнул себе под нос: хоть что-то. Изворотливый разум зацепился за эту залетную мыслишку и отвлек нехитрым трюком безжалостную память. Никуда старому Моффу не укрыться от ее всевидящего ока.
Да, он помнит все неисправимые, непростительные ошибки, которые допускали его подопечные, помнит и то, как стояли они, беспомощно разводя руками с окровавленным инструментом, над телами своих пациентов. Обычно подобный жест приходился на тот черный миг, когда из спинных плавников больного уже прекращали виться слабые струйки кислородных пузырьков, но родные почившего еще не осознавали, что же произошло.
При любых обстоятельствах Мофф неизменно брал ошибку выпускника на себя. И все эти профессиональные грехи преследовали мастера по ночам, а сны все больше походили на удавшийся спиритический сеанс. Ибо все те ошибки до единой, взявшись за мертвенно-белые руки, водили колдовской хоровод вокруг его ложа. Иногда они тихо смеялись над ним, тыкая прозрачными перстами в его чернильный знак.
Мастеру очень не хотелось, чтобы этот хоровод ширился.
Илари взялась за прохладный металл квадратной ручки ящика и осторожно – как бы чего раньше времени не испортить! – отперла его. К слову, сам стол был, на вкус Илари, очень красив. Роль столешницы играл цельный спил снежного корня33, накрепко прикрученный к тяжелому кованому основанию, в котором друг под другом вмещались три неглубоких ящика. Аккуратно погладив атласную поверхность крышки стола, девушка признала в ней защитное масляное покрытие, схватывающееся на древесине при низких температурах. Его же использовали для рабочих столов в алхимических лабораториях Черновика, дабы защитить столешницы от ядовитых смесей. «Кто бы так же беспокоился о подмастерьях…» – вздохнула про себя Илари, скользнув взглядом по темно-карминным следам, которыми были усеяны ее руки. Отметины на память о жгучих поцелуях ядов и полуядов, от которых не всегда спасали самодельные перчатки из кожи рыбы-щелкуна.
На фоне снежно-белой столешницы, плетущей клубок годичных колец под льдистой масляной корочкой, эти руки выглядели еще более изувеченными…
«Нет, так не пойдет! – мысленно одернула себя Илари, убрав левую кисть от заносчивой белизны снежного корня. – Лекарь имеет право на некрасивые руки! – вложила она в эту мысль все имевшееся в ней достоинство. – И алхимик – тоже! И зодчий!» Уверенность постепенно восстанавливала свои позиции, стремясь подавить ростки смущения и стыда.
Бедное дитя! Она думала, что все дело в этих отметинах…
Ржжрржрж-ж-ж. Проскрипев железом по железу, навстречу Илари выкатился круглый ящик с низкими бортиками, больше напоминающий массивный серо-коричневый поднос с шероховатым дном. Оно неплохо магнитилось. Девушка с удивлением обнаружила это, когда попыталась взяться за один из стеклянных пузырьков, чтобы разобрать надпись на его этикетке. Как это понимать?! Бутылочка, на которую нацелилась Илари, принялась сопротивляться, не желая расставаться с «насиженным» местом в родном ящике, и что было сил цеплялась за зернистое дно. Естественно, для Илари это было не наглядным примером действия магнитного поля «подноса», а проявлением откровенного недружелюбия.
Как и в лавандовых глазах того благородного вига с голосом дряхлого старца в центре полукруга наставников. И, кажется, сейчас он наконец изложит суть экзаменационного испытания. Судя по его властно воздетой серебристой руке, призывающей к тишине, он собирается сделать именно это.
В висках застучало. Этот стук, казалось Илари, выбивал из ее головы остатки знаний. Знаний и без того неполных, отрывочных: где ей было взять себе наставника, который помог бы уложить их в стройную систему и прочно укрепить в архивах памяти? От матери толку было мало. Ее всегда приходилось упрашивать, если не умолять, поделиться секретом приготовления очередного снадобья, эликсира или целительного полуяда из желез колючих лесных ужей. Что касается бесценных для Илари навыков в элементарных лекарских приемах – тут Наида и вовсе оставалась глухой, как стена. Что поделаешь? Приходилось действовать самостоятельно. В результате почти весь скромный заработок девочки оседал в карманах торговцев подержанными книгами, страницы которых были заляпаны темно-синими пятнами крови (загадку розовых следов Илари предпочла оставить неразгаданной). А в местах, где прозрачные мембраны были истощены временем и неподобающим обращением, от некогда ярких чернил остались бледные водяные знаки. Да что там кровь и чернила! Уже счастьем было, если количество страниц соответствовало их числу, обещанному в содержании книги. Если, конечно, лист с этим самым содержанием изволил сохраниться.
Обычно девушка старалась гнать прочь мысли о знаниях, что обошли ее стороной, оставшись на вырванных страницах. Затем ведь она и шла в Университет: чтобы открыть для себя эти недостающие фрагменты и впитать, как губка, собранную воедино тайнопись водяных знаков! Глубоко познать все тонкости и хитрости лекарского мастерства, научиться ориентироваться во внутреннем строении организмов вига с закрытыми глазами. «А не бездумно зазубрить страницы пособий под надзором наставника, чтобы потом запутаться, если их вдруг поменяют местами», – закончила мысль Илари, искоса поглядывая на своих хорошо одетых лучеруких конкурентов.
Нельзя сказать, что они выглядели безликой массой избалованных и равнодушных к лекарскому ремеслу детей, озабоченных только тем, как бы не получить дома нагоняй за плохую подготовку к экзамену и не лишить себя посуленного вознаграждения за успех. Кто-то со смесью восхищения и опаски исподлобья поглядывал на строгую выправку магистра Моффа; кто-то безотчетно выстукивал пальцами хаотичный ритм по пока еще белоснежной столешнице, ожидая дальнейших указаний; кто-то, прикрыв глаза, силился воскресить в памяти алхимические формулы и определения, нашептывая их в бесконечную высь потолка аудитории.
«В общем, ведут себя как и подобает детям их возраста», – резюмировала Илари. Напускное пренебрежение, дополнительные два светооборота в толще подводного мира Вига, вынужденная самостоятельность и раннее вступление в борьбу за будущее – вот, пожалуй, и все, что могла она положить на свою чашу весов против наследников аристократических семей Нуа.
Тем не менее, очевидно, настало время переступить через гордость. Ведь пузырек так и не сдал свои позиции: крепко сидел на шершавой поверхности круглого жестяного подноса, выглядывающего из основания стола. Как и его стеклянные соседи. Да они никак сговорились против зачерновичьей выскочки! «Не желаем иметь с тобой дел, – будто бы позвякивали они. – Мы, творения лекарского и алхимического мастерства, рожденные на свет талантом достойных в Лабораториуме, не позволим абы кому дотрагиваться до нас!» А быть может, это вовсе не воспаленное воображение Илари наделяло склянки высокомерием? Как бы то ни было, требовалось предпринять нечто такое, что вмиг примирило бы этих пузатых стеклянных снобов с ее мозолистыми ладонями. Всего-то ничего: просто взять и отсоединить их от ящика стола.
Ох, если бы это оказалось так же просто, как звучало!..
Лихорадочный взгляд по сторонам. Что же это? Неужто двенадцатилетние несмышленыши еще до объявления старта начали обгонять Илари? Поглядите на них – у каждого второго уже по заветному пузырьку в сияющих перламутром пальцах! А то и по два, если присмотреться как следует… Некоторые из поступающих принялись торопливо бегать глазами по витиеватым письменам, опоясывающим этикетки бутылочек и колб. Нет, это невозможно! Отдельные пары глаз ясно выражали понимание секрета полуразмытых чернильных каракулей. Особенно впечатлил Илари один на вид совсем юный поклонник лекарского ремесла.
Низкорослый толстяк, словно горсть леденцов, перебирал в пухлых ладошках темно-зеленые, мрачно-фиолетовые и бордовые шарики с узкими горлышками, радостно кивая каждому из них как старому знакомому. «Судя по блеску, они отвечают ему взаимностью…» – завистливо рассудила Илари. Круглое лицо мальчугана светилось не меньше, чем промасленный спил снежного корня. Он закатал рукава своей аквамариновой мантии аж по самые локти, и теперь его оголенные руки навевали комичную мысль о серебряных латах. «Ха-ха! – Девушка едва сдерживала язвительный смех. – Пекарь приоделся рыцарем и заявился в таком виде на свое рабочее место!» И в самом деле, перенеси этого толстячка к печной заслонке хлебопекарного цеха Черновика – ни дать ни взять готовится поставить в печь несколько булок травяного хлеба. Не хватает разве только фартука да повязки на голове.
Вот «пекарь» потянулся короткими пухлыми пальчиками за очередной порцией «теста». Илари, все так же боясь обнаружить свою некомпетентность в обращении с лекарским инструментарием, не позволяла себе повернуть голову и в открытую посмотреть, как другие отсоединяют колбочки от магнитного ящика. Поэтому, делая вид, что пока занята их тактильным изучением, девушка вовсю косилась на деятельного толстяка. Этот шпионский прием давался нелегко – болью глазных мышц, ощутимым изменением черепного давления и легким, но вместе с тем неприятным головокружением. Илари ухватилась дрожащими пальцами за прохладную гладь столешницы. Волнение, однако, перекрывало физический дискомфорт и подталкивало к скорейшему разоблачению магнитной аномалии, не позволявшей взять в руки ни одного снадобья. Ведь замешательство Илари того и гляди заметит – если уже не заметил – тот седой преподаватель в молочном кимоно. Девушке пришлось не раз пожалеть о выборе места: слишком близко от возвышения, на котором полукругом восседали за столом наставники. Глупость за глупостью! Да что с ней сегодня – в такой-то день! – творится?
Нет, глаза теперь уже отводить никак нельзя. Нужно-таки углядеть, как этот маленький обжора-барчук подцепит с подноса новый пузырек! И пусть это будет стоить хоть светооборота головной боли! Плевать сейчас на все!
Илари, продолжая с независимым видом копаться в ящике, изо всех сил удерживала фокус на мальчугане, которого в порыве искренней зависти окрестила «пекарем». Она продолжала свое вынужденное «шпионство». Толстяк же, как назло, приостановился. Конечно, ему-то куда торопиться! Он задумался – видать, и вправду, о травяных булочках в сливочной глазури – и мечтательно забарабанил пальцем по восковидной пробке, что увенчивала горлышко темно-алой бутылочки. То была последняя емкость, до которой еще не добрались пухлые серебристые руки.
«Что он там выстукивает?!» – нервно вопрошала себя Илари. Потом всерьез задумалась: а может, и в самом деле попробовать постучать по тугой вощеной пробке? Чем искусники не шутят!..
Стараясь действовать как можно незаметней – на случай, если идея окажется столь же бесполезной, как и латы для пекаря, – девушка со всей доступной ей деликатностью трижды коснулась пробки кончиком ногтя указательного пальца. Эта нехитрая манипуляция заметно усилила ощущение собственной бестолковости. Похоже, на щеках Илари расцвели васильковые тени, выдающие прилив к ним синей крови, что не на шутку разбушевалась под бледной кожей девушки. Неудивительно. Ведь так оно всегда и происходит, когда надежды всей жизни, пусть и недолгой, кубарем катятся к самому краю обрыва. Краснеют ли щеки, синеют ли – какая, в сущности, разница?
Тук-тук-тук.
Ответа, как и стоило ожидать, не последовало. Абсолютная тишина. Ничего не щелкнуло, не скрипнуло и даже не пискнуло. Никакого намека на то, что хитроумный поднос готов расстаться со своим бесценным содержимым.
Что делать?
Мастер уже принялся, не меняя интонации и тембра, монотонно излагать условия экзаменационного испытания. До Илари, хоть она и заняла «удачное» место в первом ряду, слова долетали какими-то приглушенными отзвуками. Будто ее заперли в деревянной бочке и швырнули в глубокий подпол.
– …существо… с индивидуальным… хвори… – доносилось разреженным эхом откуда-то сверху, – знания… типы снадобий… элементы формул… от ваших наставников.
То, что другие воспринимали как вполне выполнимые указания, для Илари звучало бессвязными обрывками приговора – лично ей. Приговора, который она не в силах оспорить.
Да уж, видно, мерзкий толстяк (наверняка любимец своих многочисленных лучеруких родственников!) просто решил поиздеваться над ней. Нарочно сделал театральную паузу, потянул время, чтобы сильнее помучить подглядывающую за ним шпионку. А потом пустился выстукивать мотив какой-нибудь прилипчивой дразнилки, чтобы потом вдоволь погоготать со своими приятелями-увальнями над тем, как взрослая девица принялась повторять за ним! Наверняка он давно заметил Иларино замешательство над подносом с колбочками. И уж конечно, не смог отказать себе в удовольствии посмеяться над простушкой, вообразившей о себе невесть что. А чудное обстоятельство, что она к тому же – вот удача! – выглядела старше всей группы экзаменующихся, лишь добавит перца в будущую байку для дружков. Какой прекрасный способ показать им, что он не только не боялся вступительного испытания, но и за пару мгновений до него нашел в себе моральные силы для столь остроумной затеи!
Гадкий, гадкий хряк, выдрессированный учтивыми наставниками за звонкую монету родителей! А ведь вначале он даже показался девушке милым и смышленым… Теперь же она видела всю его снобистскую избалованную натуру насквозь! И презирала его всеми фибрами своего растревоженного эо. Презирала – от собственного бессилия, от закипающей злости на себя, от злости на мать и от режущей боли в глазах, которыми она так долго силилась углядеть в его насмешке спасение для себя.
Ибо кто станет возиться с ней в Университете, если она не в состоянии даже взять в руки инструменты?!
Со всех сторон на Илари были нацелены острые стрелы недоброжелательства. Она ощутила себя всеобщей мишенью, замершей в мучительном ожидании пронизывающей боли. Кругом одни стрелы: в строгих фиалковых глазах Моффа, в смеющемся над ней толстяке в аквамариновой мантии, в неприручаемых пузырьках с эликсирами… На хвостовиках этих стрел выцарапано что-то о призвании. Чтобы стало видно, когда они будут крест-накрест торчать из ее кровоточащего сердца.
Стрелы, стрелы, стрелы… Они целятся и ждут, когда их мишень не выдержит и дрогнет.
Две тяжелые горячие слезы копились в уголках нежно-голубых глаз Илари еще с момента, когда она встретилась взглядом с суровым мастером Моффом. Все последующие впечатления попросту выплеснули их наружу, несмотря на внутреннее сопротивление девушки и нежелание терять остатки своей пресловутой гордости. Водная вуаль, окутывающая подводный мир Вига, отчасти скрыла этот всплеск слабости и отчаяния. Девушку выдавали только покрасневшие глаза, замутненные поволокой, что переливалась в их нежной голубизне. И все же Илари – уже скорее подсознательно, нежели обдуманно – постаралась скрыть неподобающее проявление эмоций. Все, что она могла, – это как можно ниже опустить голову и сморгнуть две крупные бусины слез, которые уже грозились быть замеченными.
О нет!
Этому не бывать! Что-что, а этого удовольствия она им не доставит! Если ей и суждено сегодня уйти из Университета ни с чем, то, по крайней мере, она уйдет гордо. Как истинная Эну. Как дочь своего отца. Да, стоит предпринять последнее усилие во имя его светлой памяти – непобежденного и несломленного Ваумара Эну.
Илари энергично тряхнула головой. Это движение помогло ей сбросить лишние эмоции и заодно избавиться от скопившейся на глазах влаги. С высоты помоста наставнического полукруга это выглядело так, будто юная особа выразила полное понимание по части экзаменационных требований, а также нетерпение поскорее приступить к их выполнению.
Кто же знал, что она всего лишь пытается замаскировать слезы отчаяния и беспомощности? Не говоря уж о том, что за всей этой пеленой юная особа так и осталась в полном неведении относительно того, чего же хотят от нее наставники.
Илари провела указательным пальцем правой руки от виска к подбородку, стараясь придать лицу сосредоточенный вид: вот она якобы уже прикидывает, что из предложенного ящиком инструментария ей сейчас может пригодиться. Палец девушки задержался на кончике подбородка и задумчиво поскреб его, словно в доказательство сложного мыслительного процесса. Ну а вытянутые большой и указательный пальцы левой руки потянулись к подносу: будущий лекарь уже, мол, обдумал сценарий исцеления, который сейчас продемонстрирует восторженной публике. Илари так заигралась в уверенного в себе мастера лекарского дела, что рефлексивно зажала между пальцами темно-карминное горлышко ближайшей к ней бутылочки. Все выглядело так, словно она и впрямь могла свободно взять снадобье в руки, задумчиво покрутить его, бегло прочесть этикетку, прикинуть, в каком случае оно может прийти на выручку…
Одним словом, будто бы это она, Илари, подчиняла себе алхимические произведения Лабораториума, а не наоборот.
Пальцы, послушно следуя зову воображения, попытались покрутить впаянную в поднос бутылочку. Тем временем по закоулкам здравомыслия хаотично метались вопросы о том, сколько еще сможет продлиться эта имитация бурной деятельности. Когда ее жалкая игра в подготовку к испытанию вызовет подозрения у какой-нибудь пары проницательных глаз? Их тут ведь, почитай, больше сотни, в этой громадной неуютной аудитории.
По подсчетам Илари, до скандального разоблачения оставалось меньше минуты. А дальше… О том, что будет дальше, пожалуй, лучше и вовсе не думать.
Хррржжжжж-жжж-жж-ж.
От резкого движения пальцев бутылочка вдруг, подпрыгивая, заплясала по зернистому дну ящика, выписывая немыслимые кренделя и ударяясь о его жестяные бортики. И тем самым раскручивалась пуще прежнего. Получился звук, как если бы кочергой принялись скрести по битому стеклу. Благо толща морской воды сгладила наиболее острые и неприятные уху грани этой «музыки», иначе несладко бы пришлось «музыканту». Илари принялась судорожно водить руками над подносом: ей во что бы то ни стало нужно было изловить не к месту развеселившийся пузырек до того, как он своей пляской расколет более уравновешенных стеклянных соседей.
На фоне этого обстоятельства на второй план ушло даже то, что скрежет все отчетливей разносился по аудитории и уже вовсю аккомпанировал мастеру Моффу, как раз завершавшему напутственную речь.
«Только бы не разбить пузырьки, только бы скорее поймать бутылочку!» – крутилось в голове Илари. Она с ужасом представляла, сколько нужно будет, не разгибаясь, отработать в Черновике, чтобы возместить Лабораториуму этот ущерб.
А мысли и воздушные замки надежд, связанных с лекарским образованием, уплывали далеко за горизонт.
Норовистая бутылочка не унималась (очевидно, «пекарь» все же не обманул!), и очень скоро наступил момент, когда ее гулкий скрежет заслонил и без того тихий голос Моффа. Хотя нет, что же это? Звук, оказывается, уже секунд десять как перекрывает речь мастера! И тот, не желая вступать в противоборство, попросту умолк. Позвонками согнутой над столом шеи девушка ощутила миллион холодных нитей, разбегающихся вниз по спине.
То была первая выпущенная стрела. Стрела ледяного взгляда мастера Моффа, попавшая точно в цель.
Илари, с трудом справляясь со спазмами страха где-то под ребрами, подняла глаза на полукруг наставников. Дрожащими руками она все же пыталась справиться с катастрофой. Бесполезно. От стремительных движений длинные рукава платья задрались почти до локтей, являя взору высшего общества хвосты полуночно-фиолетовых «змей», ниспадающих безродной вязью с плеч Илари. С какого-то момента она перестала за этим следить.
Распрямиться, призвать на помощь гордость, превратившуюся в глупую самонадеянность, у девушки не осталось сил. И вот она, согнувшись над своим алхимическим апокалипсисом, нервически дрожа и не помня себя от страха, исподлобья уставилась на главу отделения лекарского мастерства. Уставилась не умоляющим взглядом провинившейся ученицы, а осклабившимся загнанным волчонком. Словно вменяя ему в вину все свои злоключения и неудачи.
Стоит ли упоминать, что не только мастер Мофф, но и добрая сотня пар любопытных, полных недоумения глаз устремились на нее? Илари и вправду почувствовала себя волчонком, которого готова была затравить вражья стая.
Ее вторая стрела.
Она подрагивала от нетерпения на струне тетивы. Только теперь девушку это нисколько не пугало. Пусть себе летит прямо в сердце, да побыстрее! Все равно надежда канула за черную кромку горизонта. И Илари медленно погружалась вслед за ней – в мир своих затонувших грез.
К отцу.
– Да кто-нибудь, прекратите это, наконец! – вклинился звучный низкий мужской голос в песню железа и стекла.
Это был точно не мастер Мофф: куда ему перекричать заполнивший аудиторию скрежет, купающийся в собственном эхе. Быстрый взгляд Илари остро полоснул по наставническому полукругу в поисках хозяина громкого голоса. Судя по всему, сей баритон принадлежал плечистому темноволосому вига средних лет в простом черном халате, перехваченном изящным поясом из пластичного тканого металла цвета чайного листа. Илари удалось разглядеть эту деталь его одеяния, потому что магистр Гифу – а именно им говоривший и оказался – уже подскочил со своего места и стремглав направился к ней. Надо думать, наставник окончательно лишился терпения.
Опомниться удалось, только когда в аудитории воцарилась такая тишина, что было отчетливо слышно, как с мягким фырканьем из спинных плавников вылетали пузырчатые шарики. Иначе говоря, когда до слуха стало доноситься одно только дыхание присутствующих. Больше никакой кочерги и стеклянной крошки.
Над Илари во весь свой внушительный рост возвышался магистр Гифу. Правой рукой он уже крепко держал за горлышко злополучный пузырек, а левой непринужденно опирался на снежно-белую гладь стола. На всякий случай Гифу воздел руку с бутылочкой повыше, чтобы все убедились, что угроза миновала и инцидент можно считать исчерпанным.
Во всяком случае, ту его часть, что касалась нарушения тишины в экзаменационном помещении и вынужденной паузы в речи Моффа. «Вас более ничто не отвлекает, можно продолжать», – говорил жест магистра, направленный куда-то в сторону от Илари.
А вот можно ли продолжить ей – нарушительнице правил поведения в университетской аудитории, что едва не оглушила всех присутствующих? Большой вопрос. Его усугубляло еще одно обстоятельство: над столешницей закрученными клубами медленно поднимались струйки темно-зеленой жидкости. Похожие на семиглавого змея, они неспешно воскурялись вверх – к бесконечному потолку, растягиваясь в пространстве аудитории и постепенно теряя цветовую насыщенность.
Прекрасно. Похоже, та неугомонная мрачно-красная колба, которую уже утихомирил подоспевший на помощь Гифу, все же успела на прощание поцеловать кого-то из своего окружения. Россыпь бесцветных стекол с неровными краями, разгулявшаяся по ящику Илари, лишь подтвердила эту печальную догадку. Все без исключения задрали головы и, выпучив глаза, провожали взглядами жидкость, вырвавшуюся из стеклянного плена и по-змеиному ползущую к потолку. Даже консервативный и скупой на эмоции Мофф вместе со всеми воззрился на это действо, близоруко сощурившись больше, чем ему хотелось бы.
– Простите, – невнятно буркнула Илари себе под нос, понимая, что объясняться, биться лбом о пол или витиевато оправдываться смысла уже не было. Игра за будущее проиграна. «Прекрасная загадка» так и останется загадкой. Придется, поджав хвост, уползти обратно в дебри Зачерновичья, освободив место для достойных.
Она резко одернула рукава – будто это еще на что-то влияло! – и предприняла попытку тихо прошмыгнуть за спиной Гифу, все еще вздымавшего бутылочку снадобья, словно заслуженный трофей. Ничего, еще несколько секунд унижения и позора по пути к выходу, а там уже ждет спасительная дверь. Эмоции, слезы, рыдания и горечь – все это, безусловно, будет. Но по ту сторону двери.
Два незаметных (как казалось Илари) робких шажка вправо – к заветному дверному проему, сулящему надежное укрытие от насмешек и оскорблений.
Препятствие. Что-то мертвой хваткой вцепилось в черную ткань рукава, не пуская дальше. Что, искусники побери, еще за новая ловушка?! Или глупая неудачница мало сегодня натерпелась?
Обернувшись, Илари окончательно сникла. Магистр Гифу удерживал ее свободной рукой за платье. И, надо сказать, довольно крепко.
– Вы куда-то торопитесь, будущий лекарь? – Тон странным образом не сочетался с очевидно вложенной в слова издевкой. – Испытание, если вы не поняли, еще не началось. Сообщаю вам это, если за бутылочным вандализмом вы вдруг не расслышали того, что излагал мастер Мофф, – добавил он, возвращая успокоившуюся колбочку на место. И с невозмутимым видом быстрыми шагами вернулся на помост. Удивительно, но магистр даже не глянул на коллег в поисках одобрения своего жеста доброй воли. Лишь на миг скосил глаза на чернильные знаки своих ученых званий, будто в чем-то сверяясь с ними.
Уверенность в себе – чертовски заразительная штука. И непоколебимый Гифу в который раз доказал всем сию непреложную истину. Стоит к этому добавить, что время неумолимо шло, а затянувшаяся подготовка к экзамену не лучшим образом сказывалась на настрое созреванцев. Кого-то случившийся курьез, прямо скажем, сбил с толку. Отдельных личностей он развеселил и начисто выветрил из голов то, что терпеливо вкладывали в них наставники. Других – напугал, впечатлительные натуры так и застыли, уставившись в собственные лекарские подносы.
Громадный часовик в виде амфоры с рельефными письменами, вздымающийся над спинами наставников, не терял времени и, пока суд да дело, успел перекраситься из яично-желтого в светло-зеленый цвет. Никто в общей суете этого не заметил, однако теперь, когда льдистые стены, колонны и ступеньки аудитории впитали отбрасываемую лепестками зеленцу, игнорировать намеки «сторожа времени» стало невозможно.
Мастер Мофф, на которого вновь сместилось всеобщее внимание, почувствовал себя дирижером оркестра. Но не в той его ипостаси, когда, подобно хорошо отлаженному механизму он являет слуху волшебство, зашифрованное в тайнописи нотных листов. Нет и еще раз нет! Подопечные Моффа напоминали музыкантов, рассредоточенных по оркестровой яме и настраивающих каждый свой инструмент.
«Оно, может, и неплохо, – отметил про себя мастер, – но за известное время до начала концерта». Он нахмурился и скрестил руки на шелковой ткани своего кимоно – верный признак раздражения: «Долой эту какофонию!»
Отраженный от левой колонны луч лег косым отсветом на тыльную сторону суховатого запястья Моффа. И сообщил серебристой фамильной вязи мэтра врачевания нежный мятный оттенок. Заметив это, Мофф – вот удача для экзаменующихся! – немного смягчился. Он переменил позу и теперь держал руки не скрещенными на груди, а уперся ими в стол.
Затем мастер поднял руку и чуть заметно повел ладонью вправо, почти не нарушив спокойствия водной толщи. Словно дирижер.
Слова были излишни. Все прекрасно поняли: началось!
В какой-то момент Илари удалось покрепче вцепиться в вожжи своих мыслей, с силой рвануть их на себя и убавить резвый галоп, грозящий выбить ее из седла.
Она вымоталась.
Она вдруг устала и обмякла так, словно за плечами был день черновичьей пахоты, выжавший из нее все соки. За буйным цветом волнения, надежд, сомнений, стыда и ужаса, как водится, пришла апатия, дыхнувшая на этот букет эмоций холодком первых заморозков. С безразличием оглядываясь вокруг, Илари уже не чувствовала ничего, кроме истощения. «Будь что будет», – монотонно бубнила про себя девушка излюбленную молитву всех обреченных.
Плюх! Вздрогнув, Илари наконец вышла из ступора. Резко и неожиданно на кольцевые орнаменты белой столешницы шмякнули плоскую черную рыбину. Малиновые зрачки ее выпученных глаз двигались заторможенно, ярко-желтые костистые плавники безжизненно обвисли, белки покрывала нездоровая мутноватая пленка. Жабры, равно как и прочие части рыбьего тела, почти не шевелились; напрашивался резонный вопрос о том, насколько живо несчастное существо. Не успела Илари толком осмотреть доставшийся ей экземпляр, как раздающий «пациентов» лаборант повернулся к ней спиной и устремился к другим столам. Оставалось лишь созерцать ускользающие взмахи его простой серой мантии без капюшона.
Лаборант, отметила Илари, был не один. По каждому ряду шел такой же служащий Лабораториума и быстро, будто остывающие пирожки, выкладывал на столы самых различных обитателей подводного мира. Общих признаков у существ было всего два: телесные муки и относительно простое строение организма.
«Плюх! Плюх! Плюх!» – нескончаемо доносилось со всех сторон. Казалось, по полу аудитории скачет многоногое скользкое создание.
Всего несколько мгновений – и страдающие существа розданы потенциальным спасителям, а их опустевшие прозрачные домики, похожие на полые стеклянные фонари, ровными рядами выстроились прямо под преподавательским столом. Все наставники восседали на своих местах, о чем-то переговариваясь меж собой – одновременно эмоционально и тихо. Их активная жестикуляция восполняла ограничение в громкости, требуемое правилами экзамена.
Созреванцев на целый светошаг предоставили самим себе, задачей юных вига было доказать, что их наставники не зря ели свой хлеб. И, если получится, убедить окружающих в подлинности своего призвания.
Повисла благословенная тишина. Драгоценные минуты, отведенные на лекарскую практику, пошли на убыль. Толща кристальной воды насытилась волнением и дрожью робких рук, неумело работавших с живой плотью. Тут и там позвякивали о поднос лекарские инструменты, с легкими хлопками откупоривались колбочки со снадобьями, щелкали крошечные ножницы, отмерявшие длину нити для будущего шва. Мастер Мофф, вполглаза наблюдавший за деятельностью «лазарета», скорбно отметил, что нескольких существ кривые руки и бестолковые головы созреванцев уже отправили к далеким пращурам. Он по привычке закатил глаза и вымученно прерывисто вздохнул, на время задержав растворенный кислород в глубине спинных плавников. «Поколение за поколением – ничего не меняется, – в который раз подумал он. – Престиж лекарского мастерства взлетел до купола круах, а толку-то? Лезут теперь все напролом. И плевать хотели на призвание».
Губы мастера презрительно скривились. Отдельных поступающих это повергло в ужас, что, увы, стало причиной еще одной вереницы неисправимых ошибок. «Надо будет втолковать наставникам, берущимся за их подготовку, чтобы покрасочней объясняли родителям этих извергов меру платы за будущие ошибки их детей. Хотя, – махнул мастер рукой куда-то в сторону, – вспомнят ли они об этом при виде блеска монет?»
Параллельно этим мысленным заметкам Мофф – никто не знает, как ему это удается – особо внимательно приглядывал за девушкой в бедном черном платье. За той, что прервала его вступительную речь. Нет, заслуженного лекаря это нисколько не оскорбило. Умудренный опытом, как врачебным, так и наставническим, мастер многого насмотрелся, и удивить его было ой как непросто. А то, что нарушительница «благословенной тишины» едва не превратилась в трусливую беглянку – кто знает, может, от собственного призвания? – это, по правде говоря, лишь позабавило мастера. «Любопытно, – спрашивал он себя, – весьма любопытно, каков был бы я в условиях подобного казуса?» Глава лекарского отделения неожиданно для себя с удовольствием поддался чарам ностальгии, отчетливо вспоминая дрожь перед дверью этой же самой аудитории. Очень, очень много светооборотов назад…
Баланс. Мофф с удивлением обнаружил, что это дитя, чудно водящее руками над рыбой ульмэ, вдруг стало для него противовесом – тем, что несколько усмирил раздражение. Несмотря даже на то, что это дитя совсем недавно учинило. «Жизнь полна парадоксов», – мысленно вздохнул Мофф. И, питая склонность к обобщениям, добавил: «Жизнь и есть суть один большой парадокс».
Зарождающееся любопытство немного разогнало неторопливую старческую кровь и зажгло давно потушенный разочарованиями огонек озорства. Уже не вполглаза, а с неподдельным интересом он принялся следить за руками Илари: что же они предпримут в отношении неизвестной болезни, поразившей эту особь ульмэ? Ибо, если говорить начистоту, мастер успел-таки провернуть нечто такое, о чем никто даже не догадывался. Он с толком использовал сумятицу, вызванную оглушительной пляской колбы. По счастью, неразбериха в аудитории длилась ровно столько, чтобы успеть быстро подложить именно эту рыбу в аквариум одного из лаборантов. И еле уловимым жестом приказать недоумевающему Ланфу выдать рыбину светловолосой девушке в первом ряду. «Пусть два парадокса встретятся. Хуже уже все равно не будет», – решил мастер, почесывая свой выступающий подбородок и вспоминая недавний консилиум, проведенный над малиновоглазой черной ульмэ с желтыми плавниками. Распластанная на лабораторном столе, она безумно вращала экзотическими глазами и очень странно дышала – в такт этим вращениям.
Консилиум тогда ни к чему не пришел.
Вначале Мофф отметил абсолютно беспомощные манипуляции Илари. Было понятно, она в полной растерянности перед умирающей на глазах ульмэ. То руки девушки блуждали по подносу, то она принималась крутить в пальцах разноцветные темные бутылочки, силясь разобрать выцветшие этикетки. Она так и эдак вращала бедную рыбину, заглядывала между жабр и зачем-то постукивала пальцем по чешуйчатому лбу. А еще она время от времени терла сгибом того же пальца об один из двух коротких острых рыбьих зубов и – о искусники! – пробовала на язык. С какого-то момента странное дитя и вовсе задвинуло поднос с инструментами поглубже в стол (чтобы не мешались?!) и продолжило все те же дикарские манипуляции.
И если поначалу ее движения отдавали глубинным отчаянием и безнадежностью, то ближе к концу отведенного светошага стали уверенней. Вместе с этим, как заметил Мофф, шли они «не из головы». Все действия выглядели спонтанными, интуитивными, не спланированными и не уложенными в алгоритм логики. Что за новаторская методика? Или это искусно разыгрываемый перед мастером спектакль? Нет, в возрасте пятнадцати-шестнадцати (навскидку) светооборотов столь опытному лицедейству взяться неоткуда!
Нужно непременно рассмотреть этот феномен поближе.
Невзирая на то что до конца экзамена оставалось по меньшей мере десять минут, мастер порывисто покинул свое место в центре стола-полумесяца и под вопросительными взглядами коллег устремился к Илари.
– Сколько внимания сегодня к этой девице, – презрительно фыркнув, бросила магистр Цаи своей коллеге Лииде. Ее глаза внимательно следили за траекторией движения Моффа.
– Посмотрим-посмотрим, – многозначительно ответила дородная наставница, полируя ладонью и без того идеально сияющую поверхность стола. – Навидались мы, Ца, многого в этих стенах. – И чуть заметно подмигнула ей, сощурившись: переживем, мол, и это.
Мастер Мофф тем временем вышел из «засады» и теперь принялся в открытую следить за нетрадиционной лечебной практикой, которой так заинтересовала его Илари. В открытую – это еще мягко сказано. Он навис над ней, загородив отчасти свет зеленоватых лучей. Краем глаза мастер уловил, как смутились большинство созреванцев, оказавшихся на столь близком расстоянии от главы лечебного отделения. Еще бы, ведь это моментально сообщилось движениям экзаменующихся: они стали суетливыми и лихорадочно-поспешными.
Отчаяние последних минут испытания… Минут, которые еще могут все исправить… Или бесповоротно испортить!
Не ускользнуло от внимания мастера ускорение общего ритма его «оркестра», однако он не придал этому значения. Опыт Моффа говорил, что сие есть скорее закономерность, чем исключение.
Подлинным исключением здесь можно было назвать лишь ту голубоглазую девушку в простом черном платье, что творила своими руками нечто невообразимое над телом почти бездыханной ульмэ. Кстати, рукава ее платья не были закатаны ни на миллиметр, в то время как другие испытуемые от усердия позадирали их аж выше локтей. Здесь же края рукавов свободно колыхались в водном пространстве, вторя движениям девушки. Странное дело!
«Но это мы выясним позже, – решил про себя мастер, все больше приходя в недоумение от увиденного. – Всё позже!»
К этому «позже» относились даже формальности, касающиеся завершения вступительного экзамена на его же собственное отделение.
Мастер ткнул указательным пальцем в сторону Гифу, кивком подтверждая, что дает ему на откуп судьбу сегодняшней испытательной процедуры: начал, мол, тут хозяйничать, так иди уж до конца. Затем шепотом велел Илари следовать за ним. Та, не изменяя своему «будь что будет», отерла скользкие руки о подол платья и покорно направилась за мастером. Благо счет уже шел на секунды, и все были сосредоточены на своих «пациентах», как спасенных, так и по ошибке умерщвленных.
Прочие наставники лишь разводили руками и задавали себе – пока что только себе! – риторические вопросы о ясности ума своего седого руководителя. Не стоит, однако, осуждать их за скороспелые выводы и мнительность. Просто они не знали, что ульмэ, которую двумя руками бережно нес перед собой Мофф, теперь смотрела на мастера осмысленным спокойным взглядом и дышала свободно. С ее глаз исчезла мутная пелена, а зрачки внимательно следили, куда же ведут ее белокурую спасительницу.
Глава 13 Испытание. Тело
У Расщелины вечерело. Но только лишь потому, что в тот час вечерело на всем Вига. А значит, «циферблат» часовика, единый для всего подводного государства, определял такое же время суток и для этой его студеной мрачной окраины. И неважно, что вечерний час здесь никак не возвестил о своем наступлении: над опушкой леса Стуммах и опоясывающей ее песочно-корневой пустошью всегда опущен тяжелый занавес ночи. Его глухое многослойное полотно надежно драпирует нижнюю границу миров. Эдакий недвусмысленный намек, что здесь хозяйничает вечная зима, упиваясь собственной властью. Властью старой девы, ревностно оберегающей свой мир от посторонних.
Понравится ей это или нет, но «посторонние» прибыли.
Вот по одному из великанских деревьев щелгун косо полоснуло и тут же скрылось в редеющем лабиринте скользких стволов какое-то зубчатое лезвие. Дерево хрипло зазвенело изнутри, набухая густой ржавой смолой вокруг внезапного пореза на выпуклом рельефе черного тела. Холод тех вод тут же сделал свое благое дело: не дал смоле, этому жизненному соку щелгуна, разбежаться дорожками слез по древесной коросте распоротой щеки. Он заботливо прихватил их поток, закрутив одну из спиралей ледяного течения так, что она своевременно шарахнула дерево обезболивающей морозной волной. Смола загустела и превратилась в терракотовые гранулы застывшего янтаря. Словно и не было только что этой бессмысленной жестокости. Словно щелгун просто примерил на себя двойную цепочку с нанизанными на нее камушками, тускло переливающимися в темноте.
Из скалистых недр Расщелины отчетливо повеяло раздражением. Не мстительным, а скорее устало-будничным – таким, что против воли и здравого смысла вырывается наружу под конец длинного дня, взбаламученное неосторожным словом или взглядом. Еще бы! День дани, между прочим, на исходе, а торговцы из Центроводья так и не пожаловали.
Вопреки сомнениям Яллира, их все же ждали.
Ждали исключительно потому, что не любили оставаться в долгу. Быть должницами Ингэ, этого снисходительно ухмыляющегося потомка хранителя Одраэ, – последнее, чего желали бы в Расщелине. Утренние сквозные ветры того дня вместе с кружащимися воронками водорослевых обрывков, налетевших сверху, принесли весть о том, что три светооборота с прошлого оброка миновали. Сегодня, блюдя древний обет, Расщелине вновь предстоит выплатить дань: истощить свои и без того подточенные магические силы, дабы вживить их в неблагодарное, брыкающееся, стонущее, вырывающееся тело. А все зачем? Не иначе как виной всему жадность вига, их зависть и неуемная страсть к выхолащиванию своей цивилизации, невесть что о себе возомнившей. Все ради того, чтобы дотянуться загребущими руками до растительных и минеральных сокровищниц огненной земли. Самое смешное, что они наивно полагают, будто это и есть хваленое воплощение торжества их разума и дипломатии. Думают, этот путь проложит им прямую дорогу к процветанию.
Огромное, чудовищное заблуждение. Обитатели верхних вод даже не догадываются, что на самом деле тащат домой то, чего лучше бы им вообще не трогать. Да еще из тех мест, в которые не следует нос совать.
Глупцы. Беззаботные дети, заигравшиеся с цветными пузырьками яда в незапертой алхимической мастерской. Да, сейчас они, весело смеясь и еще больше распаляясь от своей безнаказанности, ловко перебрасываются и жонглируют ими. И совершенно по-детски отринув предупреждения старших, полагают, что так будет вечно. У них ведь расчудесно все получается, и даже Пастухи миров им не указ.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло», – так, кажется, хором твердят они, вторя своему хранителю и искренне восторгаясь «новыми витками» наук и искусств. И это при том, что мало кто из них помнит, какое именно там было несчастье… Как Обитель в свое время окрестила сие недоразумение? Хм-м-м. Ах, точно! «Вынужденная мера по защите разума будущих поколений вига от тлетворных исторических явлений, зерна которых способны отравить эо потомков и поставить под угрозу развитие нашей цивилизации». Каково?! Еще и радуются – ни дать ни взять умалишенные, – что благополучно выплыли из темной пучины прошлого, которое к тому же, оказывается, «помогло» им творить нынешние безрассудства.
«Выйдет им боком эта их дипломатия с торговлей вместе», – предрекла когда-то Расщелина, устало махнув рукой на потуги Обители в области внешней политики. То было последнее предупреждение. Засим она дала себе твердое обещание не делать больше намеков Ингэ (по крайней мере, постараться) и применить все свои умения, чтобы снизить болезненность инициации торговцев.
Их муки уже не доставляли Расщелине былого удовольствия.
Но это тоже, знаете ли, как получится… Особенно после той раны, пусть и неумышленной, что оставила своим хвостом их проклятая стеклянная рыбина на нежной коже дерева щелгуна. Уж не думают ли торговцы, что этот проступок останется незамеченным и сойдет им с рук? Как бы не так! Вибрирующая морозная боль дерева, проскользнув в щупальца корней, мгновенно сообщилась сквозному течению, заползающему в Расщелину. И напитала ее своим истошным сухим шипением, исходящим от рассекаемой древесной ткани. Одно резкое движение крючковатого мизинца – и эта ткань заморозилась, а боль щелгуна, вместе с его хриплым свистом, унялась.
Стоит ли торговцам ждать подобного милосердия? Или оно на сегодня исчерпано? Что тут скажешь – Расщелина непредсказуема.
«Пришлые» были уже близко. Вновь совершив восхождение по длинным острым зубам услужливо разверзнутой пасти фицци, они благополучно ступили на россыпь крупных кристаллов песка, слегка поблескивающих во тьме. Из них, корчась в причудливом плетении, выпирали иссиня-черные корни. Они тянулись с самой опушки Стуммаха: сумрачный лес будто не желал отступать и неистово скреб своим вьющимся шлейфом вокруг Расщелины.
Так казалось тем, кто не знал, что лес – это часть Расщелины, давным-давно сросшаяся с той формой жизни, что незримо существовала внутри нее.
Корни плотным узором кольцевали белоснежный хрусткий песок. Их природная окраска цвета ночного неба сливалась с густой темнотой границы миров и в то же время любовно выписывала на контрастном холсте песка некие письмена. «Быть может, это какой-то древний язык?» – моментально отреагировало богатое воображение Елуама. И ведь не поспоришь, тут действительно было где разгуляться самым немыслимым фантазиям! «Что, – продолжал он про себя, – если Стуммах когда-то давно, на заре нашей истории, сам взял и вычертил здесь эти надписи?» Елуам старательно пошарил в недрах памяти, надеясь найти подсказку. Увы, тщетно: ни единого упоминания о корневых письменах.
Выходит, никто, включая озадаченного этим явлением Яллира, ничего подобного здесь не видывал. Ибо с самого начала Эпохи оброка, заложившей традицию паломничества купцов в Расщелину (подумать только, когда-то они делали это пешком!), все странники с жаром рассказывали о драгоценных песочных кристаллах, обрамляющих опушку Стуммах. Иные, по большей части члены естественно-научных экспедиций, хором воспевали «уникальное строение корней щелгунов, изредка, буквально эпизодически, выглядывающих из-под земли». Но чтобы корни вдруг, словно взбесившиеся черные гадюки, повыползали из своего укрытия? Что-то новенькое. Не иначе какой-то недобрый заклинатель выманил их наружу своей лиходейской дудочкой, да так там и оставил, позабыв вернуть в подземные норы.
Как бы то ни было, купеческий отряд не имел ни единого знатока древних языков (все сошлись на том, что корневой манускрипт был и вправду на одном из них), а потому смысл его послания так и остался неразгаданным. Да и если было бы иначе, все равно время не позволяло купеческому отряду задерживаться еще и здесь. Часовик Яллира в условиях полной темноты не работал, но, по подсчетам старого пилигрима, до окончания Дня дани осталось немногим больше трех светошагов.
«Сущие крохи! – мысленно восклицал пожилой купец, пробивая себе и другим путь между корневыми кольцами. – Теперь остается лишь уповать на то, что в выплате дани нам не откажут». И с некоторой обреченностью, смешанной с нехорошим предчувствием, поймал за черное крыло еще одну тревожную мысль: «А если даже и не откажут, как бы не потребовали чего взамен!.. Еще неизвестно, что из этого хуже…» Умудренный опытом торговый пилигрим воздержался от соблазна справедливо разделить свои переживания на три равные части, посвятив в них Елуама с Лиммахом. Ибо твердо знал, что это средство далеко не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Хотя бы потому, что сам не раз был свидетелем, как другие пытались таким вот способом унять своих внутренних чудовищ – просто отсечь им голову и скормить благодарным слушателям. Ни к чему хорошему это не приводит. Как правило, на месте одной отрубленной головы вырастают три, подпитанные эликсиром пересудов, кривотолков да преувеличений. Хватит с купцов на сегодня и басен о морских монахах. Не хватало еще других фантазий.
Вот Яллир и хранил благоразумное молчание. А уж еретические мысли о письменах из корней, против воли вздымающиеся из глубин подсознания, и вовсе старался гнать поганой метлой.
Лес давно отступил назад, слившись с тьмой вечной зимы. И если до определенного момента он служил естественной границей между областью предельного истончения круах и остальным миром Вига, то теперь путники лишились и этого ориентира. Пусть мрачная чащоба, состоящая сплошь из голых крючковатых щелгунов, и не содержала даже намека на радушие, все же путникам было в известной степени приятно видеть эту «дверь обратно». Еще одна псевдопоэтическая метафора от затейника Лиммаха. В иных условиях Яллир с превеликим удовольствием приправил бы ее каким-нибудь саркастическим замечанием из недр своей особой шкатулки, до краев набитой чужеземным юмором и фольклором. Но не теперь.
«Странное дело, – анализировал свои ощущения седой купец, – нынче даже присказки неотесанного Лиммаха звучат… как бы… – И нужное слово пришло само: – Ободряюще». Быстро отыскавшееся слово не обрадовало. «Дожили», – только и вздохнул про себя Яллир, старчески покачав головой.
С другой стороны, а на что же еще надеяться трем странникам, забредшим поздним вечером в самую дальнюю даль самой глухой глухомани своей родины? Пожалуй, только и остается, что хвататься за такие вот искры света, жадно ловить ободряющие слова (какими бы они ни были!) да тешить себя предвкушением скорого исхода путешествия. Каждый по-своему инстинктивно это чувствовал, а потому старался сеять вокруг не страхи и опасения, а зерна оптимизма – пусть даже скупого и вымученного.
Авось прорастут крепостью духа перед лицом Расщелины.
Путники изо всех сил старались не медлить шаг, невзирая на хитросплетения опробковелых черных спиралей, которые тут и там ставили неожиданные подножки или таили топкие углубления. Последние особенно досаждали обессиленным купцам: если мягкий свет песка и медузных медальонов еще хоть как-то мог предупредить их об очередной преграде, то вот с вязкими ямками меж корней не было никакого сладу. Когда нога вдруг застревала в одной из них, белый скрипучий песок принимался крошечным смерчем закручиваться вокруг ступни несчастного, с сухим шуршанием затягивая ногу в свои объятья. Снизу исходило характерное бульканье, и становилось очевидно, что зыбучий песок скрывает такие тайны морского подземелья, о которых лучше и не думать.
Меньше всех в пешем переходе от опушки Стуммаха до Расщелины повезло Елуаму. Нет, он, разумеется, был прекрасно осведомлен о ловушках и капканах песчаной пустоши: Черторг даже располагал их картой, которую юноша в свое время проштудировал вдоль и поперек. Но, кроме шуток, какое дело было сбивающему с толку волнению и злорадному сумраку до этой осведомленности? Юноша, отчаянно ругая собственную рассеянность и неуклюжесть, то и дело застревал ногой в ямках между корней, которые с радостью принимались за добычу. Один раз, уже на подступах к каменистой оправе Расщелины, он умудрился провалиться левой ногой аж по колено, и неизвестно, чем могла закончиться схватка с песочным водоворотом, если бы не Яллир с Лиммахом. Потратив немало сил, они все же извлекли молодого вига из коварной зыбучей ловушки. Пытаясь высвободить захваченную в плен ногу, юноша вдруг увидел перед собой нечто поразительное.
Внимание Елуама привлекло слово, выписанное корневой вязью на белом песчаном фоне.
Слово было начертано не на забытом древнем языке и отнюдь не выглядело набором непонятных иноземных иероглифов. Аккуратно вплетенное в гладкие древесные изгибы, оно, напротив, поражало воображение изысканной каллиграфичностью и было для Елуама совершенно понятным.
«Война».
Это горькое и ощутимо острое на вкус слово успело отпечататься в сознании юноши до того, как Яллир и Лиммах вырвали его из песочной западни и подняли на ноги на безопасном расстоянии от… От чего? Быть может, от предупреждения? От вести из далекого будущего? От бумеранга из забытого прошлого? Или от очередной необъяснимой выходки, свойственной границе миров?
Что ж, потому-то Елуама и выбрали из длинного списка кандидатов на высокую должность нового торгового пилигрима: он был крепок духом, практически не впадал в уныние и умел в два счета повернуть ситуацию в свою пользу. Он еще не определился с тем, как именно использует только что приобретенное знание (да, пусть это будет именно знание: к чему наводить сумрак раньше времени?), а потому не особенно спешил делать выводы. «Пусть, – на ходу решил юноша, – это знание будет на моем счету». Он явственно почувствовал, что обрел нечто, требующее отношения трепетного и осмысленного. Сложная, потусторонняя природа этого знания не позволяла облечь его в словесные формулировки и властно уводила разум в дебри бестелесных абстракций. Сколько бы ни пытался Елуам оценить полученное послание и пометить его соответствующим ярлычком на витрине своей памяти, его усилия оставались бесплодными. И все же он был твердо убежден: нужно дать знанию настояться, ибо время еще не настало.
От этих мыслей Елуам, позабыв, что еще несколько мгновений назад ожесточенно боролся с зыбучими песками, замотал головой, как перепуганная птица.
– Ты, братец, лучше бы не сам выискивал верные тропки, а просто следовал за нами, – простодушно посоветовал ему из-за спины Лиммах. Он с воинственным видом маршировал впереди, прокладывая себе путь меж извилистых древесных «гадюк».
Похоже, он принял Елуамово мотание головой за судорожный поиск безопасного маршрута для последнего рывка перед Расщелиной.
На самом деле Елуам, словно подстегиваемый кем-то, спешил увериться, что это знание, это сокровище границы миров досталось ему одному. Что только для него, избранника Черторга, приоткрылась завеса некой издревле окутывающей Вига тайны. А что ведь, по сути, так оно и было! Стоило ему лишь ступить на землю вечной зимы, еще даже не достигнув Расщелины, как – получите и распишитесь! – важное послание прямо в руки. Конечно, не следует в одночасье лишать себя добрых двух третей ценности этого знания! Это, в конце концов, элементарная предусмотрительность. В Черторге всегда учили не торопить события и не гнать коней, когда дело касалось поистине дорогих и редких товаров. Нынче же все карты указывают, что это как раз тот самый случай. Значит, следует вести себя как подобает достойному будущему купеческому пилигриму Вига: завернуть в тряпицу да припрятать поглубже в торбу. До поры до времени. А уж потом, в тиши и покое родных стен, здраво рассудить, какую выгоду сулит поднесенный Расщелиной дар. Возможно, даже придется посоветоваться с опытными купцами. Возможно, придется…
Эта мысль почему-то отозвалась уколом ревности между ребрами, да так и застряла там, превратившись в монотонно зудящую дрожь.
Елуам счел за благо послушаться проводника караванов и продолжил следовать за ним и Яллиром. Еще раз застрять в замаскированной топи – нет уж, благодарим покорно! Лучше сделать вид, что он, Елуам, действительно всецело доверяет опыту старших собратьев и даже в мыслях не держит возможности действовать независимо, по собственному разумению.
Сделать вид – это ведь не так сложно. Куда сложнее начать играть в игры, уготованные призванием.
Сойти с тропы, тихонько вложить в рукав крупную карту, аккуратно вырезать в походном ящичке двойное дно, не проморгать свою выгоду – не те ли это принципы, что втолковывали ему в школе купцов при Черторге? Так, может, пришло время порадовать бывших наставников и вдохнуть-таки жизнь в их премудрость?
«Испытание испытанием, а мыслить как прирожденный пилигрим (а не просто обычный купчишка, носа не кажущий дальше границ Центроводья!) следует начинать уже сейчас», – знай убеждал себя Елуам. Молодому вига так понравилось открывать в себе новые помыслы и устремления, что теперь он непроизвольно принялся взращивать и укреплять их. Нельзя притом сказать, что виною всему было некое черное искусство, въевшееся в каждый песчаный кристалл границы миров.
Елуам впервые ощутил себя стоящим обеими ногами на стезе высокого купеческого ремесла, о которой грезил с самого детства, вопреки тому горю, что принесло когда-то это ремесло в его семью. Вопреки мнению этой самой семьи, буквально восставшей против его выбора.
«Проклятое испытание забрало у меня мужа, твоего отца!» – не раз срывалась на крик рассерженная мать. И, переходя в умоляющий плач, призванный размягчить «каменное» сердце упрямого сына, всхлипывала: «А теперь оно тянет лапы к моему младшему сыну – к тому из немногих утешений, что оставила мне судьба! Мало будто мне, несчастной!»
Далее, как правило, следовала череда слезных увещеваний, просьб сменить опасное «пилигримское» ремесло – престижность его всегда оставалась за скобками – на путь обычного торговца. Иначе говоря, Улианну полностью устроил бы такой расклад, при котором ее младшенький сколь угодно активно участвовал бы в экономическом обмене между крупными городами Вига в статусе купца-странника. Мать Елуама и движением брови не возразила бы против того, чтобы тот, почти не бывая дома, колесил себе в фицци вдоль и поперек Вига. Скрепя материнское сердце, она запретила бы себе впадать в уныние, когда ее Ел сообщал бы ей, что планирует наведаться в любое из диких водораздолий, скажем, за осколками семпау или за редкими лекарственными травами. Да, всякий раз мать с тайной надеждой перебирала все эти малопривлекательные альтернативы, по сотому кругу раскладывая их перед сыном пасьянсом замусоленных карт. Последним – и наиболее раздражающим – аргументом всегда шло сравнение с «разумным» выбором Тэуна, старшего братца Елуама: он-то, в отличие от младшего, «берег подточенное здоровье бедной матушки».
Сам Елуам в этот момент обычно лишь кривил губы в плохо скрываемой усмешке: ему-то были хорошо известны причины такого несравненного благоразумия. Например, что старший брат попросту боялся обряда инициации, да и, откровенно говоря, был слишком ленив, чтобы впрячься в нелегкое и опасное ремесло внешней торговли. Куда проще прикрыться заботой о здоровье матушки и нежеланием повторить печальную участь отца. «Благоразумного» Тэуна гораздо больше ведь привлекали приключения иного рода – любовные. Этот смазливый хитрец, унаследовавший лучшее из их родовых внешних черт, вовсю пользовался своим даром, и, надо отдать ему должное, небезуспешно! Снаряжаясь в торговое путешествие с другими купцами по Вига, он мало заботился о таких пустяках, как выгода, размер выручки, стиль ведения переговоров, расширение закупки, планирование перепродажи в Нуа, снижение издержек, маршруты обхода налогов на торговлю… Все это казалось старшему братцу не более чем побочными явлениями увлекательных караванных странствий, что сулили ему близость с самыми экзотическими представительницами дальних городов и четырех водораздолий Вига. Так что Тэун с радостью отдавал свои «издержки» на откуп либо главе Черторга, либо любому собрату-купцу, готовому избавить его от этой головной боли. Елуам давно заприметил, что купеческие цели брата мало совпадают с классическими ориентирами успешных торговцев, к которым призывал Черторг. Тем не менее это нисколько не мешало Тэуну разудало жить в свое удовольствие, беззастенчиво пользуясь фамильным купеческим свидетельством, перешедшим ему после смерти отца. Свидетельство это, вопреки своему традиционному назначению, не помогло брату укрепить положение семьи, подорванное уходом главного кормильца. Как бы не так! Ценный документ стал для Тэуна входным билетом в мир плотских утех, влекущих его в самые чужедальние уголки Вига. Туда, где, к его восторгу, экзотическая красота туземок не была подпорчена излишней стыдливостью, целомудрием и ханжеством. Благодаря стараниям этих «гейш», явивших братцу Елуама немало истинных диковин, тот сделался весьма искушенным ценителем искусства любви. Более того, он глубоко познал все этнические и географические ее особенности, чем до крайности гордился. И, что весьма вероятно при подобных обстоятельствах, успел также сделаться многодетным отцом, отмечая чуть ли не каждую длительную караванную остановку очередным беззаботным зачатием. Нередки были случаи, когда это совершалось преднамеренно. Просто так, для коллекции.
Но какое это имело значение для матери, чье здоровье он так трепетно оберегает!.. Не рвется на дьявольскую огненную землю, постигнув премудрость кислородного дыхания! Не стремится торговать с дикими хархи! Он поступает разумно. Вот истинный пример для подражания!
Елуам, слегка отодвинув на второй план свое нежданное открытие, продолжал с завидным мазохизмом прокручивать в памяти полумольбы, полупроклятья, которые летели ему тем утром в спину от родной матери. Увы, она не нашла в себе сил иным способом попрощаться с сыном. Трудно сказать, в какую тональность сместились бы ее отчаянные причитания, если бы бедной Улианне довелось лицезреть конечную точку длинного маршрута, проделанного сегодня ее младшим сыном. Возможно, она бы резко умолкла, сделав большие глаза и зажав ладонями рот.
Ибо зрелище было величественным и зловещим одновременно: реальность вполне соответствовала страшным слухам о Расщелине, бродившим по Вига.
За два светошага до окончания Дня дани она наконец явила себя гостям. Корневое плетение под ногами сошло на нет, освобождая место сравнительно небольшому кругу, диаметром пять-шесть шагов. Круг состоял из высоких – где-то в десять взрослых вига – глянцево-черных камней. Каждый из них имел собственную неправильную форму. Было совершенно очевидно, что это не творение рук вига и этих камней явно не касались инструменты для дробления или обточки. Теснясь друг к другу на песчаном полотне пустоши, они выглядели высокой стеной вокруг королевского замка. У осаждающих точно не было шанса отыскать лазейку: каждый выступ одного высокого камня находил соответствующее углубление в другом. Корни щелгуна вились на почтительном расстоянии от укрепления, оставляя вокруг него ореол белого песка, робко поблескивающего в темной пучине. Создавалось ощущение, что задолго до географического открытия Расщелины здесь безраздельно властвовали эти черные древесные змеи.
«Возможно, эти змеи даже были живыми», – смело предположил Елуам. И без особого труда живо вообразил, как это выглядело: они то стелились по песчаному дну, то выгибались над ним и с резким свистом шипели… А потом, видать, кто-то со всего размаху обрушил высокие узловатые камни прямо на это змеиное гнездо. Самых неудачливых гадюк, ясное дело, стерла в порошок ударная волна (Елуам рассудил, что камнепад низвергнулся в бездну Вигари со страшной высоты). Это объясняет происхождение белоснежного песчаного пояса вокруг «осадной стены».
«Другие же змеи, по которым меньше шарахнуло, должно быть, попросту окаменели», – озарила Елуама очередная догадка. Но тут же, снова с опаской покосившись под ноги, юноша поспешил поправиться: «Вернее, одеревенели».
Вряд можно было обвинить Елуама в излишней впечатлительности – достаточно бросить взгляд на тот пейзаж, в декорациях которого довелось оказаться будущему пилигриму. Пожалуй, мысль о том, что удар каменных «метеоритов» о морское дно превратил ползающих по нему черных змей в извилистые корни угольного цвета, показалась бы самой что ни на есть рациональной гипотезой.
«Один, два, три, четыре…» Изо всех сил напрягая зрение, будущий купец насчитал ровно семь скалистых истуканов, вздымающихся темной башенной верхушкой над черно-белым рельефом дна.
Как юноше удалось разглядеть такие подробности в кромешной тьме, буквально поглощающей порабощенный ею мир? Ясное дело, не при помощи неожиданно проснувшегося ночного зрения. Скажем прямо: не только Елуаму, но и всей группе странников щуриться бы до последнего глаза в тщетных попытках разглядеть хоть что-то, кабы не одно ботаническое обстоятельство.
Часовик. Бледный, но от этого не менее ободряющий луч звездного света в цитадели вечной зимы и бесконечно долгой ночи, которая, вероятно, никогда не рассыплется здесь в прах своими черными лохмотьями перед покоряющей силой рассвета. Его цепкие стебли, похожие на паучьи лапки, издревле облюбовали для себя скалистые врата Расщелины. Вот и сейчас они настойчиво обвивали семь камней запутанным коконом. Их особая связь была видна невооруженным глазом: то, как часовик доверчиво прильнул к утесистым столпам, исподволь навевало мысль о чаде, задремавшем на материнской груди. Гибкие оливковые стебли были густо унизаны длинными пыльно-серыми лепестками, плавно колыхающимися вокруг своих темных сердцевин, напоминающих половинки крупных ягод ежевики. Лепестки, испещренные венами сизоватых прожилок, одновременно и отражали в себе густой сумрак, и, как ни парадоксально, мягко подсвечивали его. От них в разные стороны разбегались седые косматые полутени. Разумеется, с точки зрения привычной на Вига реальности, это были не тени, а лучи – резервные запасы звездного света, не дающие зоне вечной зимы стать к тому же еще и зоной вечного мрака. Вот только в царстве Расщелины действовали свои законы, в том числе относительно света и тьмы. Особенно этих двух непримиримых сил.
Елуам кожей чувствовал, что от их поединка здесь когда-то летели щепки и море жалобно завывало, умоляя не терзать его могучее тело…
«Война», – будто невзначай всплыло в сознании то, что вместо приветствия начертали ему на песочном пергаменте деревянные змеи. Слово не хлестнуло его волной предчувствий. Не вызвало характерную трель спазматических толчков на бледной шее. Ничего такого. Оно лишь сверкнуло серебристым рыбьим хвостом по водной ряби рассудка, словно желая вскользь о себе напомнить, да и скрылось в сомкнувшейся над ней бездне.
Кто знает, надолго ли?
Яллир, без сомнения лучше всех помнящий безопасный маршрут спуска в Расщелину, на какое-то время отвоевал у Лиммаха роль проводника. Тот поначалу ворчал – а я вам, дескать, на что? – однако в скором времени осознал, что лучше не спорить и лезть вторым. Ибо идти против воли заслуженного пилигрима, как говорится, себе дороже. Елуам же, вцепившись в ненадежную опору каменных выемок – где-то успокаивающе-шершавых, а где-то предательски гладких, – замыкал цепочку. За ориентир он взял поблескивающую в темноте лысину Лиммаха. Так начался путь их небольшого отряда в самые недра морских глубин, пролегающие значительно ниже границы песчаного дна Вигари.
Границы, откровенно говоря, весьма условной.
Подниматься по камням, а потом спускаться вглубь с обратной их стороны оказалось куда легче, чем преодолеть то, что ждало путников ниже. Теперь Елуаму казалось, что каменный пояс, поросший часовиком, был создан для того, чтобы по нему лазать, не боясь соскользнуть вниз.
Поистине все познается в сравнении.
То, что поначалу выглядело непреодолимой преградой, на деле оказалось вполне себе посильным для прохождения путем. Скалистое тело словно приглашало странника совершить путешествие, да еще и в открытую предлагало свою помощь. Множество глубоких ложбинок – чем не ступеньки? Немало здесь и выпуклостей, выступов да зубцов: хватайся, путник, на здоровье! Часовик и тот не отстает – разве что сам тебе руку не обвивает: держись за меня, мол, подстрахую! А коли нужно будет, то и ненароком соскользнувшую ногу в тот же миг готов удержать своими зелеными вездесущими щупальцами. Теперь Елуам уже вполне освоился и смело хватался то за наиболее удобные выступы, то за прочные лианы часовика.
О том, как карабкался в пасть фицци по ее зубу, он до сих пор не мог вспоминать без содрогания. А спуск в Расщелину стал для Елуама едва ли не самым приятным занятием за тот длинный светокруг. Юноша в своем торжестве даже на какое-то время перестал следить за путеводной звездой – блестящей лысиной Лиммаха.
Эйфория прошла так же быстро, как и возникла. Вместо удобной скалистой лестницы и помощника-часовика перед пилигримами разверзся провал. Край обрыва находился на поверхности трещины, прочерченной когда-то по морскому дну и закованной в каменные кандалы, которые путники (и даже дебютант Елуам) преодолели без особых усилий. Трещина походила на глубокую рваную рану в глинистой тверди подводного тела Сферы. Снежная искристость песка сменилась барханами мелких угольев, взрыхленных волей течений и подземных вибраций. Они разметались низкими обожженными пирамидами неправильной формы под ногами купцов.
– Наберись мужества, Елуам, – бросил Яллир через плечо, вставая на одно колено и ощупывая край трещины. – Я ищу стебли потолще, – пояснил он на всякий случай. Пояснил, несмотря на полную уверенность в том, что Черторг ни в коем случае не отправил бы новичка на инициацию, не убедившись, что тот накрепко заучил все этапы будущего путешествия.
За исключением самого главного. Таинство предстоящего обряда тщательно оберегалось не только от обывательских ушей, но и даже от подавляющего большинства купеческого общества Вига – того, чья торговля не выходила за пределы подводной экономической зоны.
Елуам прекрасно видел, что седой пилигрим занят важным делом, ошибка в котором может стоить жизни всем троим. Из великого множества стеблей часовика, ниспадающих с каменистых выступов, стелющихся по черным насыпям и уползающих вглубь трещины, он выискивал те, что смогут выдержать каждого из путников. Те, что станут спасением в чудовищной глотке Расщелины и позволят безопасно спуститься. Три растительных каната, от которых зависит жизнь трех странников. Яллир осознавал всю меру ответственности и не согласился бы переложить ее на другого. А рассказы о бесовских видениях, посещавших здесь многих, еще больше укрепляли его позицию. «От таких помощничков и до беды недалеко», – таково было заключение Яллира о спутниках еще до отправки из Нуа.
Недоверие к собратьям медленно, но верно оплетало сознание старого купца. Оно сделало его еще менее разговорчивым: «На что им мои мысли, коль они слышат все по-своему?» – и еще более авторитарным: «За ними теперь глаз да глаз с этими их выдумками – проще уж все сделать самому». Главный аргумент был более чем очевидный: «От себя я, по крайней мере, знаю чего ждать!»
У Яллира очень скоро вошло в привычку самостоятельно проверять каждый шаг их непростого путешествия. Согнувшись над краем пропасти, он придирчиво ощупывал сползающие в нее стебли – будущие канаты – и никого к себе не подпускал. При этом торговец, четко артикулируя слова, комментировал для младших каждое свое действие, заранее отвечая на незаданные вопросы. Делал ли он это из неосознанного чувства вины за свою холодность или, наоборот, чтобы подчеркнуть дистанцию – я, дескать, ваш наставник, и не более того, – Яллир не знал и сам.
Должно быть, он понял: что-то в известном ему мире начало меняться (не стоит думать, что купец был так увлечен своим брюзжанием, что не заметил корневую тайнопись). Но куда меняться? В какую сторону? Прислушавшись к себе, он осознал, что, положа руку на сердце, и не желает этого знать. Ибо – искусники свидетели! – он стар и уже не сумеет ухватиться за хвост летящей к ним кометы перемен. Или даже элементарно не успеет. Как ни печально звучало, но Яллир нашел в этой простой истине и утешение, и ответ. А самое главное – желанное, долгожданное успокоение. И твердо решил, что даже если у него на пути встанет целое полчище морских монахов и сведет с ума его спутников, а заодно и весь мир, он исполнит свой долг. Он, Яллир, не оглядываясь на призрачные угрозы и надвигающийся из «завтра» шторм, пройдет путь с достоинством, сделав все, что от него зависит. Пусть его опыт и мастерство успеют сослужить службу пока еще знакомому миру. Быть может, он не зря всю жизнь так жадно впитывал знания двух великих цивилизаций и шел на мыслимые и немыслимые риски? Возможно, они сумеют некоторым образом отсрочить этот… эту…
Яллир так и не сумел подобрать нужное слово.
Нутро Расщелины тянулось вниз бесконечной отвесной стеной. Елуам не мог даже приблизительно определить, сколько они уже болтались вдоль нее, до хруста в пальцах цепляясь за скользкие зеленые канаты.
«Неужели эта сложная эквилибристика – привычное дело для всей плеяды купцов-пилигримов?» – никак не укладывалось у юнца в голове. «Все разговоры, связанные с Расщелиной, крутятся вокруг одного лишь испытания, – вспоминал он, медленно и осторожно спускаясь по стеблю часовика. – Никто и не упоминал о трудном пути вниз. Да, похоже, все, что нам остается, – это уповать на наметанный глаз Яллира».
Елуам покосился на чуть опередившего его пожилого торговца. Тот выверенными движениями, прямо-таки по-обезьяньи, спускался, крепко вцепившись в соседнюю лиану. Немного поодаль громко сопел от усердия и мышечного напряжения Лиммах. От взгляда молодого вига не ускользнуло то воодушевляющее обстоятельство, что Яллир и впрямь выбрал для них очень толстые и прочные стебли.
Уж если кому-то сегодня и суждено сорваться в горнило этой пропасти, то, во всяком случае, это будет не Яллирова вина: надежность канатов не вызывает сомнений.
Но не у Елуама. По какой-то причине его сознание вместо спокойной уверенности старательно подсовывало раздражение. «Меня, будущего купеческого пилигрима, ведут за руку, ровно дитя малолетнее?! – кипятился юноша. – Только-только смолкли в ушах причитания матери и назидания братца, как вот они – новые нравоучители, указывающие, что и как мне делать! И это после бесконечной череды экзаменов, торгово-экономических инсценировок и опыта практической дипломатии в Черторге!»
Чем ниже – тем темней. Скоро продолговатые цветки часовика стали совсем редки, а те, что еще встречались, значительно уступали в размерах своим верхним сородичам. Они скупо теплились слабым светом крошечных серебристо-серых кувшинок, испытывая явный недостаток в питательных веществах. Неловкое движение ступни Лиммаха – и еще один цветок покорился воле сумрака, безжизненно распластав погасшие лепестки по каменной ложбинке. Беда заключалась в том, что караванный проводник предпочитал спускаться в Расщелину не как прочие, обвившись телом вокруг стебля-каната, а «по-свойски». Этот метод давал ему очередной повод для гордости: «Я-то, брат, половчее господ-пилигримов в Расщелину ихнюю пролезаю! На что с ней церемониться? Дыра – она и есть дыра, верно я, брат, толкую? Ха-хе-хо!»
Лиммах и правда нисколько не церемонился со скалистым отвесом, изрезанным окаменевшими слепками давно вымерших морских существ и растений. Он беспощадно скреб Расщелину подошвами сапог, держась руками за выданную Яллиром лиану. Последний напрасно в свое время ругался с проводником, пытаясь доказать, что не следует «вытирать ноги» о стены укрытия гурилий… Тем паче спуск «по-лиммаховски» лишает купцов скудного источника света: цветки то и дело гаснут под сапогами упрямого скалолаза.
Однако на сей раз Яллир лишь раздраженно поморщился, заметив, что очередной огонек тихо растворился в бездонной каменной глотке, впечатавшись померкшими лепестками в вязкую иловую оплетку скалы. «Они же заметят, – по привычке передернул он плечами от набегающего со спины холодка. – Сколько объяснять этому олуху, что гостям надлежит…» Старый пилигрим не закончил свое гневное рассуждение, мысленно махнув рукой. К чему эти тщетные переживания? Вряд ли они способны хотя бы отчасти изменить порядок вещей. Так что Яллир поступил проще. Следуя своему новому вероучению, он записал Лиммаха с его треклятой твердолобостью в ту часть реальности, на которую он, увы, не в силах повлиять.
Ш-ш-шурх!
Судя по тому, что три пары ног почти одновременно коснулись твердой поверхности – плотного ковра перегноя вперемешку с черными хлопьями круах, – Яллирово чутье не подвело путешественников и на этот раз. Что ж, значит, все было не зря. Теперь можно отпустить зеленые щупальца часовика, поблагодарить их за надежность и оставить дожидаться здесь – на пороге обиталища трех подземных изгнанниц. Сколько времени ушло у купцов на нисхождение? Успеют ли гурилии выплатить Вига колдовской оброк или время вышло? Как они вообще себя поведут, коли почуют купеческую троицу в своих владениях в неположенный час? Яллир старался не задавать себе этих тревожных вопросов. Он проделал длинный путь за границу миров. Он, повинуясь условиям своего пожизненного пилигримского контракта, привел сюда избранника Черторга. Невзирая на возраст, препятствия и некоторые сложности с этим самым избранником.
«Важно только это», – упорно твердил себе Яллир.
Ведь порой то, что выглядит как эгоизм или, скажем, старческая сухость, на самом деле – единственный способ противостоять надвигающейся буре.
В Расщелине, как, впрочем, и всегда, царило межсезонье. Оно давало полную свободу и пробирающим насквозь ледяным протокам, и вакханалии отмерших водорослевых лент. Было трудно поверить, что остатки водорослей попадали сюда аж с высоты купола круах, однако так оно и было: Расщелина неудержимо влекла их к себе. Оттого на пороге нижней границы миров и скопилось столько ламинариевых «останков». Далее эти почерневшие истощенные лоскуты проникали в круговерть местных течений, которые усердно насыщали ими здешнюю водную толщу – темную и мрачную. И вот то, что некогда было куполом, «небесным сводом» всего Вига и жадно впитывало теплый звездный свет, теперь скорбно змеилось по нижней границе водного государства. Обрывками воспоминаний о прошлом, испепеленными надеждами, отцветшей любовью…
Выгоревшими жизнями.
Никакого собственного подземного светила Расщелина не имела. Она, несомненно, могла устроить так, чтобы каждое утро некое светящееся тело поднималось бы над ее затворническим миром: озаряло проплешины голого хвощового леса, подсвечивало кочки сфагновых марей, в которые то и дело переходил этот лес… Да, Расщелина вполне была способна на это. Пониманием этого она и довольствовалась. Ибо даже самое яркое светило, на выколдовывание которого ушло бы немало светокругов, ровным счетом ничего бы не изменило в окружающей среде своих прародительниц.
Гурилии, обитатели нижайшего и темнейшего яруса Вига, были полностью слепы. Этот небольшой недостаток уже давно никак не влиял ни на образ их жизни, ни на способность ориентироваться в своем мире, ни даже, в конечном счете, на способность видеть. Да, вопреки всему, они видели. Правда, крайне своеобразно.
В этот День дани, хоть он давно уже превратился для гурилий в скучнейшую рутину, вроде отхода ко сну, чернокнижницы были несколько взволнованны. Впервые за целую вечность они ждали этого дня. А дождавшись – вот и сбылись опасения Яллира! – никак не могли взять в толк, куда запропастились их гости. И этот седой завсегдатай… «Ужели он услышал?..» – перебрасывались изгнанницы мыслями-близнецами. Они, опять же, могли устроить так, чтобы вызнать местонахождение гостей. Но, следуя негласному сговору, отказывали себе в этом удовольствии. Все трое цеплялись за единственную общую мысль, заслонявшую в тот день все прочие думы и размышления: «Может, не явятся?»
И это несмотря на некоторые, скажем так, ожидания относительно будущего купеческого пилигрима. Несмотря даже на послание-проверку, оставленное для него в плетении корней у Расщелины. Воистину, стоит ли всерьез рассчитывать на этого молодого вига? Нет, теперь гурилии определенно не желали никаких гостей извне.
Что-то зашуршало на пороге. Затопало по ковру полусгнивших водорослевых останков. Как же хотелось гурилиям обмануться и вообразить, что это всего лишь некстати разыгрались донные течения; что именно они так взбаламутили лоскутное убранство у порога! Увы, причина нарушенного покоя была в ином. Волей-неволей изгнанницам пришлось поверить в истину, так претившую их расположению духа. Эта истина уже стучала в дверь их дома настойчивым напоминанием о часе выплаты чернокнижного оброка.
И все же это не могло удержать гурилий от маленьких пакостей. Того немногого, что осталось им от былого величия.
Младшая (она была до сих пор горазда на всяческие инфантильные проделки) втайне уповала на топкие ямки, которыми вдруг усеялись подступы к Расщелине. Вчера, между прочим, их там и в помине не было.
Средняя – сама гармония – силилась опутать токами своей воли всю окружающую ауру, исподволь выпуская их из-под своих загнутых когтей. Ее сиплое «пш-ш-шли пр-р-ро-о-очь» несколько раз долетало аж до приграничного Стуммаха. Долетало только затем, чтобы, так и не найдя своей цели, устало обмякнуть на его крючковатых ветвях.
Старшей же ничем подобным промышлять не пристало. На то она и Старшая. Избыток знаний и переполненные архивы памяти заменяли ей несбыточное: все то, что осталось где-то там… Наверху. Все то, от чего вечность назад отсекла ее кровавая роспись под клятвой хранителю. Она уже стала забывать, как там. Как щедрый звездный свет ласково касается необыкновенных подводных цветов. Как юркие рыбьи стайки, играя в прятки, легкомысленно оставляют друг другу подсказки в виде пузырьков, что ненароком вырываются из густых зарослей взморника… Да, она действительно стала забывать. Эти воспоминания, будто назло стараниям Старшей, никак не желали выколдовываться обратно. Может, потому-то ее и захлестнуло вдруг волной мятежного наваждения, призывающего защитить этот хрупкий мир? Защитить, пока еще можно…
Какого там цвета были листья крапивы-сонницы? Никак не вспомнить…
Явились. Троица выглядела изрядно потрепанной. Впрочем, как обычно. Все они приползают сюда буквально на последнем издыхании. Гурилии, таращась полузакрытыми слепыми глазами куда-то вверх, синхронно коснулись кожистых складок на головах друг друга – таков был их ритуал обмена мыслями, повторявшийся по сто раз на дню. Его хватило, чтобы, во-первых, сойтись во мнении о неизменности внешнего вида пришлых, а во-вторых, беззвучно вздохнуть. И это вынужденное беззвучие не было признаком высокомерия или гордыни – лишь соблюдением давних договоренностей с обитателями верхних вод. Те, видите ли, опасались, как бы три чернокнижницы не затуманили пилигримам их драгоценные эо! Вот и потребовали тогда от гурилий поменьше чесать языками при купцах.
Будто бы это когда-то препятствовало оживленному общению сестер между собой!..
Разумеется, наивное предписание вовсе не мешало гурилиям продолжать свой мысленный диалог. Отличался он от обычного тем, что строился на сложном языке образов и секретных символов, ложась на полотна восприятия, недоступные простым купцам.
Три изгнанницы видели своих гостей и не видели их одновременно. В желтых сосудистых белках незрячих глаз пришлые не имели лиц, не имели возраста и даже пола. Гурилиям и не нужны были эти малоинтересные подробности, чтобы знать о купцах все: цвет их душ, детские тайны, их благодеяния и до поры до времени дремлющие в них пороки. Тоже, к слову, совершенно различной окраски и формы.
«Хм-м-м… Один из них совсем не изменился с того раза», – пружинила между их запрокинутыми головами единая, общая мысль. «Камень, – с ходу заключили изгнанницы о Лиммахе, застывшем справа от них. – Великая водная точильня Вигари давно огранила его на свой лад. Переменам не раскрошить его. Но что может камень против них? Лежать мертвым на дне», – наперебой пророчествовали гурилии.
Они, хромая и раскачиваясь, незаметно обступили своих гостей. От купцов ускользнуло, как и в какой момент это произошло. Казалось, только что изгнанницы были от них на внушительном расстоянии. К тому же их походка… Тяжелая поступь обычно ведь не располагает к тому, чтобы вставать на цыпочки.
Не успели гурилии вдосталь посудачить на своем безмолвном наречии об остальных гостях, как один из них выступил вперед. Кажется, он наконец решился на приветствие.
– Хозяйки нижней границы миров! – почти торжественно обратился он к ним. – Мое имя – Яллир, и я заслуженный торговый пилигрим подводного государства Вига. Я прибыл к порогу вашего дома в День оброка согласно условиям кровной клятвы, заключенной вами с хранителем Одраэ.
– Мы знаем, кто ты, – ответствовала Средняя.
Она медленно кивала склоненной набок головой, увенчанной двурогим полумесяцем из прутьев черной болотной ивы. С него ниспадало на глаза не то изорванное темное кружево, не то узорчатая паутина.
– Мы помним о клятве, – продолжила она, – и чтим писание, отмеченное нашей кровью.
У Яллира немного отлегло от сердца. Встреча началась привычной церемонией обмена учтивыми репликами – добрый знак. Он открыл было рот, чтобы произнести свою часть диалога – об уважении к искусству изгнанниц, разделяемом всем обществом Вига, – но не успел.
Уже не в силах сдерживать вызревшее за день нетерпение, в их беседу вклинилась Младшая. Она, не обращая внимания на Яллира и Лиммаха, подобралась поближе к Елуаму, переваливаясь с ноги на ногу. И обратилась она лично к нему.
– Вопрос в другом, будущий пилигрим, – проскрипело вдруг прямо над его ухом.
Елуам чуть не подскочил от неожиданности.
До этого сумрак Расщелины делал облик гурилий смутным и неочевидным для восприятия. Это немного успокаивало юношу. Он чувствовал, что сестры как бы дают ему возможность привыкнуть к себе, делая скидку на то, что он впервые на их пороге. Но, видимо, время вышло. Настала пора принять судьбу и познакомиться с изгнанницами поближе.
Юноша плавно, будто бы уговаривая себя, развернулся. Его примеру последовали и остальные: Яллир и Лиммах, боясь своих собственных предположений, уставились на Младшую. Куда смотрели и что видели сестры, определить было невозможно.
Младшая в тот день принарядилась. К обрезкам пыльно-кремового бархата, наспех сшитым грубыми толстыми нитками, она приладила небольшие веревочные петли. Вдетые в них тонкие белесые коряги (в цвет бархата!), похоже, задуманы были как своеобразный корсет. На груди коряги переплетались на манер изысканного колье, успешно маскируя бледно-зеленые усохшие прелести изгнанницы. Под древесно-бархатным верхом ниспадали бесчисленные юбки, «расшитые» комьями ила, гнилых водорослей и какими-то мелкими – рыбьими? – косточками. Тяжесть и громоздкость юбок намекала на их шерстяное происхождение – неслыханное неудобство в подводной среде!
Когда Младшая заговорила вновь, Елуам едва сдержался, чтобы не отпрянуть.
– Вопрос в том… – При каждом гласном звуке обнажались безобразные, черные, будто обугленные зубы. Перекошенные темно-коричневые губы, вторившие этой симфонии ужаса, были изрезаны бежевыми, свежими на вид шрамами и сочились желтоватой сукровицей.
Елуам стиснул зубы и заиграл желваками, когда одна такая склизкая капля перекочевала с губ гурилии на его щеку, не соизволив раствориться в морской воде. Вряд ли он расслышал то, что она так настойчиво хотела до него донести.
Младшую – видела она или нет? – эта реакция нисколько не смутила. Она вроде бы и не ждала ответной реплики. Разве кошка будет слушать, что там умоляюще пищит ей пойманная мышь? И она, наслаждаясь всеобщим вниманием, продолжила свое «выступление»:
– …почему же ты так долго шел? – Кажется, в невидящих глазах мелькнула надежда. – Может, тебя, будущий пилигрим, что-то задержало в твоем пути? Подумай… – бросила она юноше подсказку.
Елуам не был готов к таким вопросам. А упрямое сознание покамест никак не желало мириться с тем противоестественным искажением черт лица и тела, что предстало перед ним. Неожиданно уродливо. Невыносимо близко. Отступить бы на пару шагов да разжиться подводным кислородом. Этих мгновений хватило бы, чтобы успеть убедить себя принять увиденное.
Но нет! Какое там – отступить. Вот Яллир уже бросает на него многозначительные взгляды, требуя немедленно проявить учтивость, смирение и манеры. Все остальные, сохраняя видимую беспристрастность, тоже замерли в ожидании: как, мол, поведет себя новый избранник Черторга? Такой ли он мягкотелый, как и прочие?
– Я… мы… – Усилием воли Елуам заставил себя включиться в «светскую беседу».
– Говори как есть! – охотно подбодрила его Младшая. – Мы не наказываем наших гостей. Поделись со мной и сестрами трудностями, которыми ознаменовалось твое странствие.
Когда она говорила, прорези ее шрамов будто жили своей жизнью: они сходились и расходились на бугорчатой ткани губ, извергая брызги желчи. Елуам старался смотреть либо выше, либо ниже уровня губ Младшей. Следить за этим и одновременно подбирать в уме подходящий ответ оказалось задачей не из простых.
– Фицци, – наконец выдал он. – Нам слишком долго готовили фицци для путешествия. Поэтому мы задержались. – И, слегка поразмыслив, добавил: – А еще моя осторожность оказалась сильнее безрассудности, и потому спуск мой к вашему порогу длился дольше, чем мы рассчитывали. Вся вина на мне. Если бы не я, мои собратья поспели бы вовремя.
Выражая самое искреннее сожаление и раскаяние, Елуам опустил голову и с облегчением переместил взгляд себе под ноги.
«Скрытный попался», – недовольно заскрипели сухими сучьями мысли изгнанниц, взметнувшись тугим клубком над их космами. К слову, мало чем отличавшимися от юбок Младшей.
«Будет вам, – авторитетно вмешалась в бессловесное ворчание сестер Старшая. Она воздела костлявую руку вверх, призывая их унять преждевременное разочарование. – Разговорим».
Под сенью черных болотных ив мир Расщелины казался еще более невообразимым, бесприютным и отталкивающе чужим. Светлые тени порой набегали на остроконечные травянистые поросли, чтобы напомнить взгляду, как выглядит гиблая марь нижней границы миров. Место, настолько опутанное нитями магических ритуалов, что из когда-то пустынного морского дна оно со временем превратилось в обширный заболоченный лес. Мшистые кочки, словно бородавки, покрывали его вязкую топь, а чернильные водомерки, почуяв свежую кровь, предвкушали широкий пир.
Когда три сестры отволокли Елуама, еще не пришедшего в сознание после инициации, обратно «на воздух», Яллир испытал небывалое облегчение. Во-первых, юноша определенно дышал: его грудь слабо вздымалась, а из спинных плавников нет-нет да просачивались скудные ниточки пузырьков. Слабо, но просачивались! И кстати, о самих плавниках: теперь они, как и у всех торговых пилигримов, были слегка загнуты кверху. Значит, гурилии хорошенько поработали с Елуамовым телом, дабы приспособить его к атмосферным особенностям огненной земли. Вон грудная клетка-то как раздалась! Сколько простора для хархского кислорода: дыши на здоровье! Определенно вытяжка из сфагнума пошла юнцу на пользу. Яллир задумчиво поскреб собственный правый плавник. Почему бы и в самом деле не убить время ожидания, перебирая в уме известные ему знахарские зелья и эликсиры? Старый пилигрим вновь настойчиво убеждал себя, что результат инициации – есть всецелая заслуга алхимического искусства гурилий. То есть действо вполне себе логичное, доступное для понимания, а не какой-то там покрытый тайной темный обряд. Яллир притом в упор не хотел видеть, что его собственная карьера – предмет страсти и бесконечной гордости – состоялась благодаря именно такому обряду.
Купец даже всерьез задумался: может, они и впрямь обычные знахарки, черпающие жизненные силы в своих травках и мхах?
Сам того не замечая, в этот визит он даже успел проникнуться к гурилиям некоторой симпатией. «А что, – продолжал рассуждать он, – три мастерицы, знающие свое ремесло и успешно помогающие Черторгу, да и всему Вига. Не жалеют, между прочим, ни себя, ни своих рук, к тому же чтят древние традиции и договоренности… Прям как я сам…» Эти примирительные и в чем-то даже уютные мысли ласкали и убаюкивали старого пилигрима, даруя долгожданный отдых и благословляя легкими сновидениями, что набегали на него кружащимися по мари тенями.
Этот дивный сон очень скоро прервали животные стоны, долетевшие до него из уст нового купеческого пилигрима.
– Конец… Грядет конец… всего! Мы… Вига встанет на…
Яллир со всех ног бросился к очнувшемуся Елуаму. Но тот, с трудом превозмогая боль и страдания, лишь выдохнул ему в лицо каким-то низким и чужим голосом:
– На колени!..
Глава 14 Бахха34
Нет, Окайре не показалось. Она действительно почти вырвалась из влажного удушья видений и очнулась в собственной постели.
Было ли это облегчением? И да и нет.
Голова кружилась, а точечные надавливания целителя Аннума на виски какими-то холодными камушками отдавались неприятным звоном в ушах. Залетевший с открытой террасы теплый ветерок сумел раскачать тяжелую кисть, свисавшую с короны балдахина, и легко превратил ее в маятник с бахромой. Его монотонные колебания лишь усиливали головокружение и не позволяли королеве окончательно прийти в себя. Она словно сопротивлялась стараниям Аннума и его помощников, наполовину пребывая в душном сне, что странным образом слился с реальностью и никак не хотел рассеивать свои чары. Это удивительным образом меняло мировосприятие ослабевшей Окайры. Она видела все не так, как хлопотавшие над ней целители; не так, как принцесса Рувва, ее старшая дочь, неотрывно вполголоса возносившая молитвы Огненному богу у изножья материнской кровати.
Пробуждению королевы предшествовало несколько напряженных часов, заполненных охлаждением компрессов, напитыванием иголочек травяными настоями, регулярным перемещением их со лба на верхнюю губу и, разумеется, молитвами. Поэтому теперь, когда Окайра задышала глубже и наконец открыла глаза, все присутствующие тихо возликовали и как один воззрились на очнувшуюся. Лица их выражали одновременно восторг, и озабоченность, и сострадание, и облегчение. Конечно, восторг целителей был больше связан с гордостью мастеров, доказавших силу своего ремесла, а религиозность дочери воспитала в ней равное сострадание ко всему сущему – но тем не менее все они были искренне рады возвращению королевы из забытья.
Чего, к сожалению, нельзя было сказать о самой Окайре.
Поначалу королева никак не могла взять в толк, почему Аннум, дочь и двое целителей так радостно и с умилением взирали на нее, в то время как она откровенно страдала. Неужели они не видят эти колючие багровые лучи – Окайра до последнего отказывалась воспринимать их связь с Матерью звезд, – что опутывают ее ядовитым плющом? Это во что бы то ни стало нужно прекратить! Кто-то немедленно должен закрыть окно, ведь слепящие лучи заползают оттуда! Они тянутся к Окайре прямо из ее сна. Несмотря на то, как ожесточенно она с ними боролась, пока те кружили вихрями темно-алых клинков вокруг ее головы. Монархиня отчетливо помнила, как один из этих лиходейских лучей легко срезал половину ее короны, словно верхушку с многоярусного пирога, который по ее распоряжению королевская кухня традиционно выпекала на Горидукх. От пения этих клинков воздух стал таким жарким, а на языке появился железисто-солоноватый привкус крови… Клинки пели о таинстве сговора, о сакральных обещаниях, данных в исступлении отчаяния и бессилия. Словно Окайра уже слышала эту песнь, и не раз. Словно ее безжалостные слова лишь напоминали королеве о том, кто она такая… Не давали забыть, что кроется там – за многослойностью благочестивого черного хитона. Быть может, не совсем та святая подлинная королева, ставшая за последние четырнадцать созвездий живой иконой на Харх?
Неужели никто не замечает, как впились эти лучи в ее запястья, как грубо расцарапали ей лоб?
Лоб!.. Окайра осторожно ощупала его влажно-липкую поверхность. Целитель Аннум еще не успел извлечь из верхнего слоя эпидермиса оставшиеся иголки, что играли роль проводников живительных травяных соков. Один из помощников главного целителя деликатно, но настойчиво поспешил отнять дрожащую руку Окайры от ее еще не освобожденного лба.
– Умоляю, будьте аккуратны, Ваше Сиятельное Величество! – порывисто предупредил он со всей почтительностью.
Сиятельное Величество… Его голос на мгновение отвлек Окайру от настойчивого сна, не желающего возвращаться в свое темное царство, и навел на иные размышления.
«Кажется, эта новая мода зародилась в восточных степях совсем недавно, – напрягла память монархиня. – И, получается, докатилась уже и до Подгорья… Проникла в замок-гору! Святая королева Окайра…» По лицу скользнула горькая усмешка: королеве был вовсе не по душе ее новый «титул». «Доходили ведь слухи, – вспоминала она, – что истово верующие кочевые племена врахайи обрели в этой нелепости образ живого божества. Что они теперь, помимо цитрина, зашивают в ткани своих кибиток еще и восковой оттиск короны из трех треугольников. О небесные владыки!.. И ведь это еще не все! Они же, говорят, заучили новую молитву о плодородии, в которой обращаются к золотому сердцу Окайры. Да простит нас всех Огненный!..»
Пробудившиеся воспоминания и заново растревоженные переживания заставили королеву поморщиться. Ибо такое открытое поклонение, при всей его внешней благопристойности и искренности, опасно балансировало на грани ереси.
И грань эта, надо сказать, была очень тонка.
Иголки. Всего-навсего лекарские иголки. Никаких колючих тисков вокруг лба, готовых впиться своими жалами, чтобы отравить кровь Окайры ядом ненависти к себе и довести до исступления, достойного безумцев и юродивых. Осознание истинной причины ноющей ледяной боли в области лба несколько смягчило раздражение. Это осознание частично развеяло чудовищные образы, во власти которых еще пребывала королева. Она уже с надеждой и облегчением вбирала кожей порывисто-поглаживающие касания морского бриза. Этот приятный ветерок, пробравшись в ее покои через открытые окна, давал достойный отпор скопившейся за день духоте. Освежающие и невероятно приятные поглаживания… Да, тело Окайры уже, видимо, позабыло, каково это – испытывать на себе чью-то ласку. Обычную, побужденную незамысловатыми законами природы. А этот дерзкий отголосок вольных морских ветров и впрямь знает свое дело! Ведь он, прогоняя химеры воображения и сна, доказывал, что те не имели силы здесь – в мире его отрезвляющей стихии.
«Вот это мастерство!» – мечтательно отметила королева.
Морок действительно ссыпался поверженными песочными изваяниями, однако полностью развеять темные дары подсознания легкий ветер, увы, был не в силах.
– О матушка! – прервал поток ее мыслей голос Руввы.
Старшая дочь, видимо, приняла просветлевший взгляд матери за готовность к диалогу. Она уже давно сидела здесь, у изножья кровати, не спуская внимательных черных глаз с рук целителя Аннума и его подопечных. Лекарское дело было сферой весьма далекой от понимания Руввы, и, по правде говоря, наблюдаемые манипуляции несли для нее не больше смысла, чем театральная постановка на чужеземном языке.
Ничего удивительного – ведь религиозная стезя, которую она избрала для себя в самом юном возрасте, исключала постижение какого бы то ни было практического мастерства. Опять же, ничего странного и в этом нет, ибо каждый хархи знает, что Огненный бог, при всей его справедливости и милосердии, не станет делить посвященное ему сердце светлой сестры со служебными божествами ремесла. Неизвестно ведь, в какой момент это занятие может перерасти в увлеченность, чтобы потом логически эволюционировать в страсть. Каждая светлая сестра, вставшая на путь самоотречения и долготерпения, призванного привести ее и тех, кого она сочтет достойными, под сень Матери звезд, с момента посвящения более не принадлежит ни самой себе, ни своей семье. И уж тем более такая хархи, вместе с благословением верховной жрицы получившая сан светлой сестры, не позволит себе тратить драгоценное время на постижение ремесел…
Рувва, смиренная и покорная по своей натуре, не имела иных притязаний, кроме тех, что приличествовали представительнице ближайшего окружения верховной жрицы. Ее вера была врожденной чертой – бескомпромиссной и всепоглощающей. Единым мерилом и судьей. В самом лице, в выражении слегка опущенных глаз принцессы Харх проглядывала глубоко осознанная кротость: в ней (в отличие от матери) не было ни намека на подавляемые чувства. Все в облике Руввы указывало на неслучайный выбор судьбы: ее волосы, надежно спрятанные за шафрановой чалмой из муслина, аскетизм ее глухого платья до пят, а также ничем не украшенные руки. Исключение составляло одно простое кольцо на среднем пальце правой руки, из самого обыкновенного железного сплава. Кольцо – подарок верховной жрицы – при всей скромности выглядело крайне необычно, как и положено талисману, в котором внутренняя ценность преобладает над внешней. Какой смысл несли в себе три расположенные друг над другом миниатюрные звезды?.. Это оставалось тайной даже для близких родственников Руввы.
Даже для матери. Правду сказать, Рувва то ли два, то ли три раза порывалась поделиться с Окайрой значением своего символичного украшения… Но всякий раз, уже вот-вот подходя в беседе к этой теме, в самый последний момент принцесса меняла решение и уводила разговор в иное русло. Словно что-то ее останавливало.
Не склонная к излишней эмоциональности, Рувва не бросилась на шею очнувшейся матушки, едва завидев, что та наконец очнулась от глубокого обморока. Странная для семнадцатилетней девушки сдержанность не изменила Рувве даже в столь тревожной ситуации. Это ведь она, принцесса, первая заприметила неладное из крохотного окошка огбаха35, выходящего на колоннаду Святилища. Принцесса, однако, не позволила себе поддаться панике. Не позволила, даже когда, драпируя на бегу многочисленные складки своей послушнической чалмы и беспрестанно наступая на длинный подол платья, она подлетела к потерявшей сознание матери.
«Тепловой удар или, возможно, обезвоживание», – мгновенно пронеслось в голове Руввы. Принцесса оттащила мать в укрытие тенистых арочных сводов. Затем стремглав отмерила те пятнадцать шагов, что отделяли их от королевской стражи. От помощи и защиты, которая так порой необходима даже венценосным особам.
Конечно, воины жреческой армии находились ближе: до них дотянулся бы даже самый слабый голос. Этих «солдат веры», в отличие от королевских стражников, не отделяла от матери Руввы высокая стена храмового ограждения. Тем не менее принцессе и в голову не пришло обратиться к ним. Она прекрасно знала: воины в черных доспехах не сдвинутся с места и пальцем не шевельнут без личного приказа Йанги. А врываться в Святилище во время явления божественной справедливости провинившимся – было бы неслыханным святотатством! Даже если на кону стояла жизнь самой королевы Харх.
Так что принцессе-послушнице пришлось бросить мать на храмовых плитах и побежать за высокую стену, предварительно распустив ткань своей чалмы так, чтобы на восточно-степной манер укрыть ею лицо.
Как ни боролась Рувва с волнением, все же в конечном итоге оно победило. «Торопись, – нашептывали ей зловещие голоса, – торопись, ибо промедление и забота о внешнем достоинстве могут дорого тебе стоить». Этот шепот превратил дальнейшие события в смазанную вереницу картинок. Они замелькали в глазах Руввы вспышками молний, прорезая слепящим светом ночной мрак.
Раскаленные под звездами плиты, лижущие пятки принцессы своими огненными языками; ощущение неприятной влажной липкости на спине и на шее – чуть ниже уровня роста волос; прилив стыдливости за выбившийся черный завиток; помимо воли нарастающая тревога… Позже – знакомый с детства сандалово-лимонный аромат материнской опочивальни, к которому теперь примешались незнакомые горькие пары лекарских трав, запутавшиеся в отсыревших слоях использованных компрессов для лба. Благо хоть теперь наконец можно было освободиться от лицевой драпировки и подставить разгоряченное лицо легким бризовым дуновениям: лекари – единственные представители мужского пола (помимо родственников), которым светлые сестры могут являть свой лик.
Пока Аннум с ассистентами высвобождали королеву из цепких лап «теплового удара» и устраняли последствия «обезвоживания», Рувва медленно переводила взгляд со своего кольца на мать и обратно. С Окайры, безжизненно раскинувшейся на цветистых парчовых подушках, – на вертикальную дорожку из трех железных звезд. Со стороны казалось, что принцесса поглощена опасениями за жизнь матери и, поддавшись этому чувству, без конца нервически теребит свое единственное украшение – аскетичное, как она сама. Ни один, даже самый проницательный взгляд, пожалуй, не сумел бы разгадать смысл этого механического движения. А напряженная работа и высочайшая ответственность – подумать только, перед самим Каффом! – не оставляли лекарям места даже для таких умозаключений. Лежащих на самой поверхности…
Истина же – недаром подлинное сокровище – пролегала в месторождениях значительно более глубоких.
«Что, если мать так и не пробудится?» – с ужасом вопрошала себя Рувва. В ней забился полуживотный страх перед тем, к чему она вовсе не была готова, – невзирая на свои познания в области бесконечных экзистенциальных циклов духовного тела и отсутствие склонности к переоценке тела материального. Да и атмосфера замка-горы, родного дома Руввы, где она родилась и росла до получения сестринского сана и переселения в огбах, сыграла здесь не последнюю роль. Вновь нахлынувшие детские воспоминания, никак не связанные с религиозной отрешенностью, знакомые запахи, милая сердцу обстановка напомнили девушке, что она не только светлая сестра, посвятившая себя жречеству и народу Харх (ох уж этот народ!..). Она еще – а может, и прежде всего – дочь! Сестра и внучка! Что с того, что Рувва отказалась от статуса подлинной принцессы огненного острова со всеми вытекающими тяготами и почестями, сделав выбор в пользу религиозного пути?.. Меняет ли это тот факт, что она была и до сих пор остается потомком своих предков? Дочерью своей матери?
За несколько минут до пробуждения королевы Рувва окончательно легитимировала для себя право переживать и даже бояться за физическое тело матери. За тело, которое, вопреки положению о равнозначности всего сущего перед милосердием светлых сестер, она любила больше прочих. И да, молитвы о его здравии чаще всего невольно слетали с губ Руввы в каменной тиши молельни огбаха. Так или иначе, дочь должна волноваться о здоровье той, что подарила ей жизнь! Кем бы эта дочь ни являлась и куда бы ее ни завел избранный путь. И чего бы он ни требовал от нее.
К слову, о требованиях. Принцесса в сотый раз покосилась на острые грани кольца, что так и норовили врезаться нитью пронзительной боли в соседние пальцы. А уж как он, этот перстень, в свое время изрезал ее душу…
И что, собственно, вообще от нее осталось?
Лишь бы мать, ее родная матушка, пришла поскорее в чувство! Сколько уж можно терзать и изводить себя, обрекая на вечное одиночество? Рувва вдоволь настрадалась, держа свою тайну в себе. Эта тайна тяготила. Она то влекла принцессу в заверть штормовых волн, то обвивалась прочным шелковым жгутом вокруг нежной, все еще по-детски худенькой шеи. «Пожалуй, морское дно все же лучше», – говорило порой в Рувве слепое отчаяние. Доходило до того, что иногда она даже забывала о сане светлой сестры, и даже угроза небесной кары за мысли о самоубийстве не заботила принцессу. В эти темные мгновения умственного затмения она обычно говорила себе: «Дно укроет мой недостойный вид от родительских глаз, а соленая вода древнего Вигари смоет позор, что навлекла я на себя и свою семью».
Пока Окайра делала первые попытки к возвращению из мира снов и осознанию себя в физическом теле, ее старшая дочь уже подготовила сценарий своей исповеди. И даже не один. Она замерла у ног матери и, казалось, шептала сакральные строки молитв на исцеление от морока и мантрические трехстишия на безвозмездную передачу энергии по женской линии рода. На деле же, к своему большому стыду, в определенный момент Рувва осознала, что она попросту репетирует свое признание. Почему же после стольких сомнений и метаний она почувствовала себя готовой именно сейчас? Страх. Принцесса всерьез испугалась, что мать может не успеть принять ее покаяние. Как тогда прикажете жить дальше? Нужно непременно снискать свою толику понимания и прощения – и сделать это прямо сейчас. О милостивая небесная прародительница, как это эгоистично и низко! Вот, получается, чем она утешит свою многострадальную мать, которая вернулась с самого порога небесных чертогов Огненного бога!..
Рувва сделалась противна сама себе. Да так, что попадись ей на глаза зеркало из вулканического гокху, то несдобровать бы ему: плюнула бы в свое отражение не задумываясь. К счастью, у принцессы осталось в запасе несколько спасительных мгновений, и их хватило, чтобы успеть удержать свой несносный язык за зубами. Чтобы не дать непоправимому слететь с него.
Она успела, и вместо того, чтобы взвалить на Окайру часть своей тяжкой нравственной ноши, всего лишь выдохнула:
– О матушка!
Никто из присутствующих не услышал в этом невинном возгласе то, что слышала сама Рувва. А именно – оглушительного скрежета конских копыт, силящихся сдержать стремительный галоп у самой кромки грозно закипающих волн…
Ожидание и неизвестность изводили, налегая на грудь свинцовым жерновом. Умм уже успел не единожды подсчитать количество резных цитриновых звезд на потолке главного храмового зала, краем глаза продолжая неусыпно наблюдать за темным коридором. Уж больно давно скрылся в его проеме дружище Дримгур в компании Нездешней. Другой частью зрения стражник, используя приобретенные на службе навыки, следил за «темными воинами» – так он про себя окрестил представителей жреческой армии. Подсчеты и наблюдения сопровождались неприятным ощущением муравейника, копошащегося по стенкам желудка. Неужто теперь и голод – перед наказанием Умм сознательно отказался от завтрака – дополнит безрадостную палитру чувств? С другой стороны, а кто его знает, в каком состоянии лучше всего встретить неизбежное физическое страдание?
«Если с набитым желудком, – рассуждал вечером накануне стражник, – то как бы не вывернуло в самый неподходящий момент. Мало того что позор и насмешки до конца службы обеспечены, так еще и, чего доброго, Нездешняя возьмет и проклянет. Да так, что сотни и сотни созвездий кусок в горло не полезет! Знаю я их порядки!» Этих двух причин оказалось достаточно, чтобы юноша благоразумно отклонил идею плотного завтрака накануне визита в Святилище.
Что касается минусов посещения верховой жрицы натощак, то тут Умм сумел выдвинуть всего один аргумент – значительное повышение вероятности обморока. «Да, явление, не делающее королевскому стражнику чести, – признал юноша. – Однако есть у него и определенные преимущества». К ним Умм отнес, во-первых, обезболивающий эффект временного забытья, а во-вторых, по мнению юноши, эта физическая реакция менее оскорбительна для священных храмовых стен и их хранительницы.
И вот теперь голод настойчиво напоминал о себе, отдаваясь слабостью во всем теле. К тому же этот «львиный зев»!.. Он раз за разом раздавался из недр пустого желудка и бесстыдно пользовался акустикой высоких каменных потолков. Благо временами в унисон ему вторил не менее громогласный звон Эббиховых бубенцов, пришитых к подкладке его черной рясы. Тогда урчание желудка оказывалось удачно замаскированным, а сердце стражника невольно наполнялось благодарностью к бородатому прислужнику. По правде говоря, Умм и в страшном сне не мог себе представить, что однажды омерзительный саркастичный горбун окажет ему столь ценную услугу.
А звон тем временем продолжал рассыпаться по Святилищу – беспорядочно и гулко.
Бряц – попал! Дзын-н-нь – мимо…
Так королевский стражник и провел еще не один десяток мучительных минут, чувствуя себя в высшей степени неуютно и пристыженно. Во многом из-за того, что вынужден был признать: Эббих и в самом деле услужил ему! Внутри зародилось какое-то смутное, едва осязаемое ощущение, что Эббих якобы был с ним, Уммом, заодно.
А еще эти глаза юного принца Бадирта, поблескивающие золотыми огоньками из коридорной дали… Вот уж где точно не было ни капли сочувствия! Скорее наоборот.
Умм старался не смотреть в сторону этих огоньков, причем не только потому, что задерживать взгляд на королевской особе не позволяла пресловутая Заповедь.
Когда же наконец взгляду его явился Дримгур – хорошо, что хоть на него можно взирать сколько влезет, – то Умм почувствовал себя окончательно сбитым с толку. Ибо моральное и телесное состояние, в котором предстал перед ним прошедший «очищение от греха» друг, было, мягко говоря… «Странно!.. – едва не сорвалось с губ юноши. – Клянусь Огненным, это очень странно! Не выглядит ни страдающим, ни подавленным, ни униженным…» Умм на всякий случай даже повнимательней присмотрелся к плечам Дримгура: вдруг выслуженную татуировку так никто и не тронул? Нет, бледно-розовый ожог на правом плече, повторявший по форме один из трех языков пламени нательной печати Дримгура, красноречиво указывал на то, что древние традиции не были осквернены изменениями и поправками. По крайней мере, касательно самой сути, ядра ритуала наказания. Убедившись в этом, Умм пуще прежнего подивился физически ощутимым токам бодрости, воодушевления и какой-то новой властной мужественности, что распространял вокруг себя его прошедший испытание друг. Все выглядело так, будто Огненный бог непонятно за какие заслуги вознаградил нарушителя воинской Заповеди и вместо должной расплаты ниспослал ему свое благословение.
Сакральное молчание, долженствовавшее царить в Святилище, не позволяло Дримгуру задать вопрос и услышать ответ.
А что же ныне представлял из себя сам Умм?
На фоне необъяснимо довольного вида Дрима (чего стоила одна его разбитная моряцкая походка) Умм еще сильнее ощутил собственную ничтожность. Изведенному томительным ожиданием, подкошенному предательскими выходками бессонницы и с урчащим желудком – пропади пропадом все эти опасения, уж лучше бы позавтракал как следует! – именно в таком состоянии Умму было суждено «узреть справедливость Огненного бога». И судя по тому, что Йанги уже поманила его за собой, величественно взмахнув рукой из глубины темного коридора, уже ничто не могло изменить этого досадного обстоятельства.
Путь, что прокладывала жрица к месту наказания, непредсказуемо вился по мраморным внутренностям Святилища. В условиях кромешного мрака и обманчивых отсветов Умм мог быть уверен лишь в одном: путь вел его наверх – куда-то под сень широких, приплюснутых и, безусловно, уже раскаленных добела куполов. Что-то подсказывало стражнику, что Матерь звезд давно миновала полуденный рубеж. Вероятно, этим чем-то было эхо жаркого дыхания тех самых куполов: оно прорывалось внутрь вопреки каменной прохладе Святилища. Чем выше, тем усердней норовя опалить Умма искрами факелов, которыми, как ему казалось, были сплошь усеяны храмовые купола.
Сухой жар обдавал юношу лишь отголосками того истинного, невыносимого пекла, что раскаляло металл фигурных луковок крыши. «Милостивая Матерь, какова же тогда истинная сила твоих пылающих объятий?!» – ахнул Умм. Охваченный в равной степени восхищением и содроганием, он подумал: «Дерзни простой смертный хархи приблизиться к тебе хоть на шаг ближе положенного, спорю на свою воинскую эмблему, сгорит заживо!»
За этими незатейливыми размышлениями стражник скоротал путь до крошечной каморки, которая, по его собственным ощущениям, располагалась если не под самыми куполами, то, во всяком случае, в непосредственней близости от них.
– Можешь сесть, воин короля, если тебе так будет проще принять свою судьбу, – будничным тоном предложила Йанги, заняв место напротив круглого чердачного окошка. Ее экстраординарный рост послужил причиной неуютного сумрака: жрица перекрыла потоки ярко-оранжевой лавы света, сочившегося в окошко из жерла небесного вулкана.
Теперь стройный силуэт Йанги был очерчен в круглой оправе оконного проема контрастным кьяроскуро. Простейшая игра света и тени, запущенная естественными силами и не приправленная даже щепоткой темного колдовства, смотрелась весьма эффектно. Эдакое всамделишнее величие, которое льстиво подчеркивает сама природа.
Этот тонко просчитанный прием дошел до сознания Умма, успешно преодолев бастионы опасений, предвзятости и убеждений (как собственных, так и чужих). Одним из своих многочисленных чувств Йанги даже ощутила в воздухе резкий хлопок – такой, что могла бы вызвать длинная тонкая игла, проколовшая несколько слоев тесно переплетенных лоскутов.
Хл-л-лоп-п-п! Так просто и так действенно!
Никаких наговоров над булькающим варевом, шаманских плясок вокруг черного пламени и уж точно никаких экспериментов с сознанием. С выражением глубокого удовлетворения жрица прижала руки к груди. Тоже прекрасная и не менее выигрышная поза: одновременно властность и покорность перед высшими силами. Йанги нравилось, когда народ видел ее такой; она владела целой коллекцией соответствующих жестов, взглядов и поз. И даже разновидностей осанки. Ну а сейчас, взяв в помощники целый сноп полуденных лучей, перехваченных узлом окна, жрица извлекла из этой сокровищницы свой излюбленный экземпляр.
Он, подчеркнутый изяществом женственных линий и изгибов, предстал во всей своей красе и целомудрии. Единственное и достаточное украшение пустой тесной комнатушки, доверчиво прижавшейся к намоленным храмовым сводам.
Умм огляделся в поисках предмета мебели, позволяющего подчиниться не то приказу, не то предложению жрицы и сесть. Поиски, однако, ни к чему не привели: внутреннее убранство каморки ограничивалось грязно-пепельной россыпью пыли по углам да следами мышиного помета. Эти два неприглядных обстоятельства в сочетании сообщали помещению характерный запах. Немалую роль в его интенсивности играло и тепловое воздействие – спасибо пресловутым полуденным лучам! То, что в прохладе могло бы лишь отчасти напоминать о себе, на жаре превращалось в зловоние, оскорбительное для островной религиозной цитадели.
Висящий в душном воздухе запах обыкновенных нечистот и грязи… Пожалуй, это было последнее, чего ожидало от Святилища обоняние Умма, обостренное благодаря голоду и усиленно работающему механизму самозащиты.
Нет, безусловно, здешние ароматы были юноше и раньше не особенно милы. Все эти дымные клубы, заключившие дурманный союз с сырой землей, жженой древесиной и опаляющими ноздри специями… Возможно, именно по их милости даже мысль об очередном визите в Святилище – отстоять ли проповедь, принять ли участие в праздничном ритуале – отдавалась в голове Умма болезненными спазмами. Добавить к этому удушающую скученность толпы (в такие дни храм переставал быть тихим местом уединенных молитв), влажное тропическое дыхание, что испускают красные лилии и флердоранж, обвивающие ритуальные чаши… Сколько ни пытался Умм побороть обонятельную неприязнь к Святилищу, усилия заканчивались одинаково: раздражением, головной болью и интуитивным чувством противоестественности этого запаха.
Что же долетало до его ноздрей в этот раз? То был знакомый душок неприбранного, запущенного чулана. Память и сознание пока молчали, никак не реагируя на вызов, если не сказать – провокацию. Восприятие запахов, в отличие от визуального, еще не пало жертвой тщательно спланированного наступления. Иголка пока не дотягивалась до него своим острием.
Другое дело, что восприятие Умма вовсе не подозревало ни о каком наступлении, возвышаясь над происходящим беспечной твердыней с дремлющими на посту часовыми.
Почувствовав себя крайне глупо – в какой раз за тот мучительный день! – Умм вопросительно указал жрице глазами на пыльный каменный пол: можно ли, дескать, сесть на него?
Ответом стал кивок. Выглядело это так, будто Йанги дозволила ему не опуститься на грязные, едва различимые под слоем пыли плиты, а словно по меньшей мере отпустила стражнику истязавший его душу смертных грех.
Да и, впрочем, неважно. Главное, посчитал Умм, вопрос с его положением в пространстве был наконец исчерпан, а значит, одной неловкостью меньше. На пол так на пол! Уж лучше исполнять внятные приказы, чем дрожать в ожидании малопонятных темных ритуалов.
Всю тесноту каморки стражник оценил, только когда исполнил «внятный приказ»: он сел, опершись спиной о стену, и, вытянув ноги, чуть не коснулся носком сапога противоположной стены. То есть лечь на полу во весь свой невыдающийся рост у юноши бы уже не получилось. Близость к полу, кстати сказать, значительно усилила «чуланный» запах. При всей его естественности и уместности в обыденной жизни – скажем, в домашних хозяйствах – здесь, в Святилище, он оставался для Умма сущей диковиной. Такой, что спустя множество звездных циклов и не меньше роковых событий юноша накрепко связал этот запах с началом крутых поворотов своей судьбы.
Умм просто не знал, что пространственно-временная точка, в которой он оказался, не возникла сама собой, не врезалась в его ладонь из ниоткуда; не знал, что она не была поставлена туда одной лишь волей остро заточенной иглы Йанги. Если немного отстраниться от «карты» и приглядеться повнимательней, не возникнет сомнений: юноша начал сознательное движение к этой точке, едва лишь осознав самого себя и свой характер. Однако порой типичная для смертных склонность к упрощению и житейскому символизму оказывается на руку существам более высокоорганизованным и могущественным.
И конечно, они не преминут этим воспользоваться.
Чулан… Тьма, хоть глаз выколи. Сухая многолетняя пыль, грубое полотно шершавой мешковины, вытоптанные клочки сена на полу, ржавый дух перележавших яблок-паданок, тряпицы из пропотевших нестиранных рубах. Сухость в горле и на языке. Потрескавшаяся кожа рук – и они сухи. Как растрепанная косица, словно сплетенная из соломы. Солома… Она тоже где-то здесь есть, это точно. Ни с чем не спутать дрожжевой злаковый аромат, которым сочатся ячменные стебли, лишенные своих соцветий и семян.
Умм пошарил глазами по той реальности, что явилась ему в ответ на прикосновение верховной жрицы. Последнее, что он помнил перед тем, как провалиться в бескрайний глухой туман, было ее лицо. Очень близко от его собственного. Он тогда еще подумал, что вот оно – началось. Сейчас ему наконец закатают рукав и выжгут пару язычков его наплечной татуировки. Ну, если только, конечно, Нездешняя не просветит его насквозь каким-нибудь магическим шаром или крысиным глазом и не разгадает его тайну. Ту, что касается осквернения священных островных традиций воинской потомственности; тайну, которая привела в ряды королевских стражников крестьянского сына. Тогда уж пиши пропало: можно готовиться к смерти.
Будет ли она мгновенной и исполненной ужаса или же спустя много мучительных созвездий станет ему долгожданным избавлением в остроге Подгорья? Какая, в общем-то, разница. За мгновение до отключения сознания в голову Умма проскочила мысль, что ему действительно все равно. И что даже знай он о таком исходе заранее, у самых истоков своих дерзких мыслей насчет споров с судьбой, то и тогда ничего не изменил бы в своем решении. А слишком ранняя и бесславная смерть… Что ж, Умму не раз казалось, что он и вправду готов был уплатить эту цену за те три созвездия, что ему довелось провести не в крестьянской холщовой тунике, а в доспехах королевского стражника. Бессонная ночь накануне, лишив юношу остатков благоразумия, только способствовала подобному настрою.
Эту обреченную покорность судьбе Умм ощутил только сейчас. Иначе как объяснить спрятанный за голенищем сапога короткий, но прекрасно заточенный нож в кожаном футляре?
Как же понравился этот тайник верховной жрице! Еще в главном ритуальном зале, едва Умм переступил порог Святилища, она уловила приглушенную, но вполне осязаемую мелодию стального клинка. Надежды оправдались: принадлежал он Умму. Какое пленительное нахальство! Принести оружие в древний, легендарный и величественный дом Огненного бога на земле Харх, не убоявшись самой грозной кары за свой поступок – небесной.
«Знала, что ты достоин своего будущего, – радовалась Йанги. – Да и рисункам в черном пламени не пристало врать мне, их укротительнице, ибо здесь все налицо: и достоинство, и характер, и эта врожденная непокорность. Но такая явная открытость грехам и поистине дьявольское безрассудство, – чуть ли не вслух проворковала она, – это просто подарок! Подарок тебе, огненный остров Харх, первобытный ты язычник! Хоть у тебя уйдут сотни твоих звездных фигур, чтобы это понять».
За это счастливое открытие Йанги, махнув рукой на свои изначальные планы, даже решила смягчить заготовленное для Умма испытание: хватит с него сестренки. Во всяком случае, для начала.
Дальше – будет видно.
Здесь точно припрятана где-то солома. Пошарить бы по полу руками да нащупать ее жесткие пахучие стебли. Аромат свеж, в нем еще хранится землисто-травяная эссенция его колыбели – бескрайнего поля. «Значит, только-только закончился обмолот», – всплыло в памяти Умма.
Тем же путем он установил, что находится в прежнем временном отрезке. «Молотьба, – вспоминал стражник, – она исстари приходится на вторую половину Ящерицы: чтоб злаки успели за лето как следует вызреть, а до прихода Скарабея крестьяне бы их уже обмолотили».
Юноша улыбнулся про себя, продолжая упорно цепляться за свой соломенный «якорь», словно тот мог уберечь его от жреческого чародейства. Солома – это хорошо. «Урожай на ближайший цикл запасен, – упрямо гнул свое Умм, отмахиваясь от пугающей необъяснимости происходящего. – И наверняка амулеты от скарабейских поползновений уже изготовлены и развешаны над дверями домов…»
Как жаль теперь стало Умму, что он всегда с некоторым недоверием относился к подобным оберегам от стихий и темного колдовства. Тот красный лоскуток, его детская игрушечная «эмблема королевской стражи», до сих пор оставался для юноши единственным талисманом, который он носил без снисходительной ухмылки. Носил осознанно, по собственному желанию, а не в угоду отцу с матерью. Да что теперь о нем вспоминать – потрепанный кусочек материи с приколотой к нему железной булавкой остался в казарменном домике, спрятанный под подушку. «Зря», – едва слышно вздохнул Умм.
Ощутить хоть какую-то защиту сейчас было бы очень кстати. Пусть даже такую наивную и беспомощную.
Особенно остро стражник почувствовал эту потребность в миг, когда, прямо перед его падением в «чулан», лицо Йанги оказалось напротив его лица. Ну, может быть, не в сам этот миг, ибо нельзя не признать, что нездешняя красота ее черт слегка сгладила впечатление. Но ненадолго. Ни магия развеянного ореола недоступности, ни божественное великолепие лица жрицы не смогли отвлечь Умма от увиденного после.
Когда из ее полуоткрытого красивого рта показался черный, раздвоенный на конце язык.
Все, что юноша успел уловить, – бесчисленные бугорчатые волдыри, которыми был покрыт этот язык (звездный луч, просочившийся из окошка, подсветил его текстуру), и то, как он, удлиняясь, неумолимо приближался к его, Умма, лбу.
А дальше были два нестерпимо жгучих укола – над переносицей, словно туда приложили раскаленные угли – и ледяные узоры, разбегающиеся по скулам. До висков и обратно.
Видать, по этим дорожкам Умм и добрался до того темного чулана.
Никак не отыскать эту проклятую солому: ни связанных и аккуратно сложенных в углу снопов, ни жестяного подноса с обмотанными нитью звездами-оберегами из ее сушеных стеблей, посверкивающих желтизной пришитого к середине цитрина… Юноша остро чувствовал, что почти утратил связь с реальностью, и отчаянно пытался обрести ее заново. Казалось бы, при чем здесь свежая солома? Спустя много времени Умм утверждал, что видел в ней единственную примету того, что еще не умер. Ведь не может же в чертогах Огненного сейчас тоже быть конец лета! И с чего, спрашивается, там идти сезонным сельскохозяйственным работам?.. Также – эту причину Умм всегда раскрывал неохотно – его не покидала надежда отыскать где-нибудь соломенный оберег и вложить в него молитвенное усердие. Стражника мало заботило, что, согласно крестьянским поверьям подгорных окрестностей, звездчатки защищали лишь от одной угрозы – природных стихий, а вовсе не от неведомых ритуалов.
Ответ, равно как и солома, нашелся – пусть и нескоро. Ему предшествовал тихий, какой-то надломленный плач, едва различимый в ватных клубах тумана. Умм сделал усилие, чтобы сконцентрировать все внимание на этом слабом источнике звука. Плач женский, почти девчоночий. Жалобные ноты долетали не только до его ушей, но умудрялись дотянуться и до сердца. И растопить его, а заодно размыть три звездных цикла и затаенное предательство, разделившие Умма с обладательницей этого голоса.
Плакала его младшая сестренка. Наконец туман рассеялся по стенам чулана и позволил разглядеть ее худощавую фигурку, скорчившуюся на подстилке из рубах, в которые впитался неистребимый дух тяжелой полевой работы. Со спины она выглядела на тот самый возраст, в котором пребывала, когда старший братец удачно показал себя на дне испытаний и не погнушался пустить семейные деньги на взятку. Поэтому сначала юноша не на шутку перепугался, что и вправду уже летает бестелесным призраком над Харх, не принятый Огненным за свои прегрешения.
Что-то здесь не так. Нужно приглядеться. Дамра плачет одна, в пустом темном чулане, лежа на полу посреди варварского беспорядка?
Да, эта скособоченная глинобитная пристройка к их дому, которую отец вечно обещал матери перестроить «к следующему Ястребу», никогда не была предметом семейной гордости. Но это ведь только снаружи! Зато ее внутреннее устройство, сколько помнил Умм, всегда представляло собой образец рационального, аккуратного хранения припасов и предметов обихода. Как бы извиняясь за тоскливый внешний вид, внутри «чулан», как называли эту пристройку домашние (хотя на деле это был амбар), выглядел едва ли не музейным архивом.
Теперь же в знакомом помещении царил беспорядок, явно отсутствовали заготовки к Скарабею (как съестные, так и ритуальные) и витал запах заброшенности. «Обветшалость», – подобрал еще одно слово Умм, и оно неприятно коснулось языка кислым смрадом старого тряпья и плесени. Захотелось прочистить горло и от души сплюнуть прямо в серую пыль, запорошившую пол.
Почему Дамра пришла плакать сюда – на этот грязный пол?.. Умм хоть и вероломно бросил семью, но успел застать то знаменательное для сестры созвездие, когда ее первая кровь возвестила не только о том, что уже можно присматривать женихов, но и о переселении Дамры в крошечную, зато отдельную от братьев комнатку. Сколько же ей тогда было? Двенадцать? В любом случае плакать, неважно о чем, лучше на своей кровати, укрытой собственноручно расшитым шерстяным покрывалом. Тем более младшая сестра с самого детства заглядывалась на роскошно одетых дочек купцов и прочей гильдийской знати. Да и что говорить, притязания на комфорт всегда были ей не чужды.
Умм искренне пожалел, что пребывал рядом с сестрой не полноценно, а лишь в роли наблюдателя. Ему очень захотелось подойти к ней, протянуть руку (а то и вовсе встать на колени), выслушать ее незатейливую историю – скажем, о том, что соседский котенок сломал лапку или что мальчишки не взяли ее играть. Или что матушка не позволила купить ту превосходную муслиновую ткань на платье к празднованию Горидукха. Только сейчас Умм в полной степени ощутил острую, ничем не утоляемую тоску по родным, и в частности – по маленькой Дамре. Перед ним предстала вдруг вся его семья – в самых мельчайших, таких близких сердцу подробностях. Как-то они живут без него? Как справляются в поле?
Ездят ли отец с братом по-прежнему на ярмарку?
То, от чего Умм, толком не задумываясь, отрекся три созвездия назад; то, что с легкостью принес в жертву своему блестящему будущему, сейчас показалось ему слишком высокой платой. Весь маленький мир его детства, которому он никогда не придавал большого значения, вдруг ожил, расцвел яркими красками воспоминаний. И заявил о себе. Не требовательно, не властно, а как будто пытаясь слегка пристыдить беглеца – беззлобно и даже любя.
Наконец удалось разглядеть лицо Дамры. И хоть оно было отчасти искажено плачем вперемежку с какими-то странными гримасами, сомнений не оставалось: она повзрослела. Три созвездия начисто стерли детскую округлость с сестриных щек, наделили ее лицо женственными чертами: заострили скулы и даже будто чуть опустили вздернутый кончик носа. Но не это выдало возраст Дамры, а ее зелено-оранжевые глаза – цвет их был едва различим из-за темноты и слез, – глаза эти выражали взрослое, глубоко осознаваемое страдание. Умму даже показалось, что в них застыло признание справедливости страдания. Но он поспешил отмахнуться от этой мысли. Его теперь занимало другое: что за неестественные волнообразные движения совершает его сестра? Ибо Умму стало очевидно, что она не безжизненно лежит, а буквально катается по грязному полу. Ее светлая косица растрепана, под глазами легли тени, а на небеленом полотне простой рубахи рдеют гранатовые пятна, устрашающе увеличиваясь в размерах…
Милостивая Матерь звезд, да она же рожает!
И, по-видимому, в страшных муках, словно наказывая себя физической болью за какую-то непростительную ошибку. Хотя ничто, никакая, пусть самая страшная ошибка не должна стать причиной страданий его младшей сестры! Что бы она ни совершила и чей бы это ни был ребенок, она не заслуживает этого!
Умм заметался взглядом («Ох, Огненный, почему ты оставил мне в этой реальности одно только зрение с никчемным обонянием?!») по чулану в поисках хоть какой-то помощи. И не отдавая себе отчета в том, что даже если и найдет способ облегчить муки Дамры, то все равно не сможет им воспользоваться, ощупал взглядом входную дверь.
Ощущение сопротивления, глухой стены.
Дверь была закрыта на засов изнутри. Что ж, выходит, сестра заперлась здесь сама.
Умм лихорадочно соображал. Дамра пришла сюда, скорее всего, почувствовав первые признаки начала родов (почему чулан?). Странно, но допустим. Она заперлась изнутри, причем как-то второпях: защелка не была задвинута до конца. Явно не хотела, чтобы ее беспокоили. Оно, конечно, и понятно – во время такого-то что ни на есть интимного процесса, открывающего богам ее женское предназначение, которое обеспечит в будущем достойное место в небесных садах Матери звезд… Но, во имя всего святого, что заставило робкую и нерешительную Дамру отказаться от такой естественной необходимости, как помощь в родах? Где, в конце концов, носит мать в этот момент?
Неужели их набожная и по-крестьянски суеверная мать допустит, чтобы ее первый внук появился на свет вот так – на пропотевших заляпанных подстилках, на пыльном чуланном полу? Не говоря уж о том, что странное и необъяснимое уединение в родах («Ох, Огненный, да кто же отец этого несчастного создания?!») исключало всякую возможность традиционных повивальных обрядов. Дитя не будет представлено своим небесным покровителям: богам Харх и пока еще царствующему в синей выси Ящеру! Сделать это позже не представится возможным, ибо небесное око обращено на новорожденного лишь первые мгновения его жизни. И если не успеть приложить к лобику цитрин, посыпать солью и обмахнуть пучком колосьев, то оно, это око, останется для бедного дитя закрытым на протяжении всей его жизни. А какая это может быть жизнь, коли слепо оно будет к страданиям и боли незнакомца?..
Умма терзали догадки одна страшней другой, он изводил себя этими вопросами, как ему казалось, целую вечность. Но нет ничего вечного даже на древней огненной земле Харх.
Сестра заговорила.
Конечно, назвать внятной речью то, что услышал Умм, было нельзя. Очевидно, схватки – и без того уже выжавшие из нее все силы – перешли в самую болезненную фазу, предвосхищая скорое разрешение ребенком. И, дабы хоть как-то помочь себе, или попросту бессознательно, Дамра вложила в эти выкрики всю скопившуюся в теле (и, видимо, душе) боль. Ее страдания выплескивались наружу вместе с околоплодной жидкостью и кровью, уже намертво впитавшимися в деревянный пол.
– Не-е-ет!!! – изрыгала Дамра душераздирающий вопль из самых недр своей глотки.
Умму и в страшном сне не могло присниться, что у нее может быть такой голос: голос раненой волчицы, сражающейся за свою жизнь.
– Ты! Его! Не… А-а-а-а о-о-о-о! – последовал очередной хриплый крик, спровоцированный движением ребенка внутри. – Не получишь! – уже более слабым возгласом выдохнула Дамра, выворачивая свои смуглые запястья.
Оказывается – а Умм и не заметил, – в трясущихся пальцах сестра сжимала свою детскую игрушку – соломенную куколку с оторванным глазом-пуговицей и изрядно потрепанной юбочкой из сухих колосков. Открытие поразило Умма, словно вспышка молнии: «Так вот откуда этот соломенный запах!» Получается, это была ее единственная помощь и оберег…
– Он… – Неужто она обращалась к двигавшемуся внутри плоду? – Он мне не отец! Он не примет тебя! Н-н-ну и плева-а-а-а-ать, – едва не запела Дамра, извиваясь от боли. – И твой отец тебя – а-а-а-а-а! – не примет! Ты – не его семья! Так! Он! Сказал! О-о-о-ох! Мне!
Последовала короткая пауза. Дитя, видимо, решило немного отдохнуть в своем длительном и трудном пути. Сестра прерывисто вздохнула и откинула с мокрого побагровевшего лба несколько выбившихся из косицы прядей.
– МАМА-А-А! – разорвал тишину сиплый визг, исполненный беспомощности и страха.
«Неужто опомнилась? – понадеялся про себя Умм. – Быть может, мать услышит ее и успеет прийти на помощь?»
Что ж, Дамру услышали. И пришли. Но это был явно не тот гость, которого она ждала.
В дверь настойчиво заколотили – чем-то твердым и тупым. Она зашлась в дикой пляске, словно пытаясь освободиться от оков. Удары сопровождались отблесками дневного света: лучи с переменным успехом пробивались сквозь образующиеся проемы. Кажется, двери долго не продержаться.
Умм не поверил своим ушам, узнав в полупьяном рыке, от которого их с сестрой отделяла ненадежная и уже подгнивающая снизу дверь, голос родного отца. Его речь была так же нечленораздельна, как вопли сестры. И все же Умму хватило услышанного, чтобы осознать всю чудовищность ситуации.
– Отпир-р-рай, млолетняя потаскух-х-ха! – доносилось снаружи. – Мало мне в эттом цикле смерти жены, так ты ишшо вздмала нам позор в пдоле принес-с-сть?! Шллхха пдзборнная!
Дыщ! Тддыщщ!
«У него что, топор?!»
Что было делать Умму, закипающему одновременно от собственного бессилия и от осознания смерти матери? Увы, выбор был невелик. Юноша не придумал ничего лучше, чем нависнуть над корчащейся в муках сестрой и воздеть над ее раздутым животом треугольник из пальцев. Это, к сожалению, было единственное, что он мог для нее сделать…
Чулан уже насквозь пропах потом, кровью и животным страхом. Из-за двери, нещадно сотрясаемой от ударов топора, просачивались пары дешевой огненной воды пополам с горько-кислым дыханием – следствием загубленной печени и плохой гигиены.
– Ты, грязная пдстилка, не осс… – Отец оглушительно рыгнул, явно борясь с икотой и дурнотой. – Не посмеешь оскрбить паммть маттри рождением здсь этого ублюдка!
– МАМА-А-А!! – только лишь отвечала ему дочь, ощущая, как на свет уже показывается крошечная головка младенца. Скорее всего, она уже вовсе не слышала отца.
Дверь отчаянно трещала: древесина послушно расходилась.
– Х-х-ха! – пьяно торжествовал отец, с новой силой налегая на топор (какое счастье, что он, видимо, плохо заточен!). – Что, думмала, сынок купчишшки Сунха женится на тебе, твварь такая? Что при ввиде пуза твоего помрет от щщастья? Так знай, – кажется, горькое торжество отца достигло апогея, – женнится он! О как! На самый Гриддухх женнится на младшой Каго – соседа ихнего ювверира! Каго-то не дуррак, вроде твого папаши: тот прриданнго ажно целый сундук сбрал! Ох и напьюсь я на свдьбе ихней!
Маленькое беззащитное тельце уже почти полностью выбралось из чрева Дамры, чтобы «оскорбить память» своей не дожившей до этого момента бабушки. Девушка тяжело дышала, с трудом осознавая происходящее.
– Но спрва я – йиик! – очищу наш род от позорра, который навлекли мои презренные дети: два дезертирра и шлюха! Это вы, прклятое отродье, отправвилли вашу мать на Пепелище! До сынков-пррдателей мне уж не дотянуться; сталбыть, за всех ответишь ты и твой выррдок!
Последний слой тонких, уже поврежденных ударами досок, остался единственной преградой, отделявшей сестру Умма и ее внебрачного новорожденного («Мальчик!») от тупого лезвия старого отцовского топора, предназначенного для забоя скота.
Извиваясь и звучно, сипло дыша, новоиспеченная мать, причинив своему измученному телу еще одну немалую порцию страданий, перегрызла пуповину.
Племянник Умма огласил плачем тесную чуланную лачугу.
Его отец, сын зажиточного купца Сунха, в тот самый миг выбирал сорт пряного хлеба к предстоящему венчальному торжеству, изводя пекарей своей истинно купеческой придирчивостью и дотошностью.
А вместе с рассечением последнего волокна пуповины, тупым топором была рассечена последняя доска между дедом и внуком.
И Умм, только что ставший дядей, действительно ничего не мог поделать.
Глава 15 Темные воды
– Во имя великих искусников! – в который раз за ту удивительную беседу воскликнул мастер Мофф.
Он, позабыв о своей аристократической осанке, чуть не в три погибели склонился над матовой стеклянной столешницей. Вернее сказать, над лежащей на ней рыбой породы ульмэ. Ее остаточная слабость нисколько не умаляла уникальности и действенности лекарского мастерства Илари, продемонстрированного в экзаменационной аудитории около светошага назад. Тем не менее в Моффе все бунтовало.
– Я отказываюсь принимать тот факт, что вы, созреванец Илари, не использовали ровным счетом ничего из предоставленных факультетом материалов и инструментов!
Произнося эту фразу, мастер прекрасно осознавал всю ее бессмысленность. Не склонный принимать ничего чисто умозрительно и на веру, он видел весь процесс поразительного исцеления своими глазами – от и до. И все же зафиксированное зрением и отпечатанное в памяти экстраординарное явление не желало укладываться в стройную систему миропонимания старого мастера. Оно застряло где-то между восхищением перед непознанным, научно-методологическим замешательством и закрадывающимися подозрениями в ереси.
Или в чем-то куда отвратительней.
Последнее, как догадывалась Илари, было опасней других. Девушка буквально чувствовала, как шевелятся и прорастают в голове мастера черные ростки недоверия, грозящие сплестись в неприступную стену отторжения. И что стена эта может на раз-два заслонить робкие проблески взаимопонимания, которые – Илари была уверена – зародились между ними на экзаменационном испытании.
И рухнет мир под тяжким гнетом,
Не снесший сам своих отличий,
И самым древним договорам
Не удержать уж этот вихрь…
Мрачное четверостишие, поднявшееся из самых глубин памяти Илари, упрямо крутилось в ее голове, пока она следила за выражением лица мастера. Она бы все сейчас отдала, чтобы уловить ход его мыслей! Параллельно, какой-то другой частью разума, девушка силилась нащупать ту зацепку, подсказку, что указала бы ей путь в места, где она могла слышать столь монотонный и безрадостный напев.
Странно, но она ведь действительно точно знала интонацию и ритм четверостишия. Которое, в свою очередь, было лишь одним мазком кисти на монументальном полотне баллады. Точно можно было сказать лишь одно: ничего похожего на эти старозаветные строки отродясь не звучало в мутной толще Зачерновичья. Илари только диву давалась и уже сама не знала, чего от себя ожидать в этот во всех смыслах судьбоносный день.
Как бы то ни было, ситуация не позволяла девушке отвлекаться на забытые куплеты, беспечно вверив свое будущее воле судьбы. Или, вернее сказать, ее капризам. Тем паче что она, судьба эта, за всю короткую жизнь Илари, не зарекомендовала себя надежным спутником, на которого можно, не оглядываясь, положиться.
Как ни парадоксально, а все ж вот оно – еще одно ее сходство с мастером Моффом: недоверие к окружающему миру, воспитанное на горьких уроках. И если седой мастер давно ужился с этим качеством и научился извлекать из него зерна пользы, то для Илари оно пока оставалось секретом, перекатывающимся по темному дну запертой шкатулки. Перерастет ли ее недоверие (как у Моффа) в педантичность, строгость? Или оно превратится в озлобленность, желчность да отталкивающую подозрительность?
Прямо перед носом Илари маячила двурогая развилка. Захочешь – не обойдешь! Ее разбегающимся дорогам не требовалось специальных подписей и обозначений. «Университет» и профессиональная педантичность – направо; «Зачерновичье» и пожизненная горечь с затаенной на сердце злобой – налево. Так просто и предельно понятно.
Одна ошибка, одна осечка – и добро пожаловать на вторую дорогу!
Илари метнула тревожный взгляд на тяжелую, окованную геометрическим узором дверь. Да, все так и есть. Из нее девушка выйдет уже в какую-то определенную сторону, согласно направлению выпавшего ей указателя (хотя еще с утра Илари так думала о двери экзаменационной аудитории). Осталось выдержать непростой разговор. Объясниться с мастером самым что ни на есть достойным образом: защитить себя и свою репутацию в его глазах, доказать свое рвение к серьезной науке и отречься от странных, сомнительных методов исцеления, немало испугавших и ее саму. Ох, как же бьется в груди истерзанное волнениями сердце!
Никогда не удавалось с ним договориться…
Илари сделала над собой усилие, дабы вернуться в русло диалога-развилки:
– Превелико уважаемый мастер Мофф, – уже не зная, с какой стороны подступиться к своему оппоненту, проговорила девушка, – клянусь собственным эо и великими искусниками, я правда…
И тут же поняла, что совершила очередную ошибку: Университет – не то место, где стоит апеллировать к высшим силам и бравировать тем, что для доказательства своей правоты ты готов призвать их гнев на собственную голову. Да и что вообще могут доказать клятвы, кроме степени твоего отчаяния? Илари дала себе обещание (не клятву!) впредь не допускать столь очевидных оплошностей и после небольшой паузы поспешила исправиться.
– Я хотела сказать, господин Мофф, – взвешивая теперь каждое слово, проговорила Илари, – что во время врачевания ульмэ я действительно не притрагивалась к содержимому лекарского подноса. Все, что я использовала, – это мои руки и… возможно, еще мысли.
Девушка постаралась, чтобы последняя фраза не прозвучала глупо или чванливо. Старание это, однако, ни на грош придало ей уверенности в своем ораторском успехе. Мофф же, в свою очередь, и бровью не повел в ответ: видать, ему пока не хватало фрагментов мозаики, чтобы сделать свой ход. Илари чувствовала, что он ждет от нее еще чего-то. А стало быть, сомневается, взвешивает одному ему ведомые «за» и «против» на невидимых аптекарских весах в своей седой голове. Чем не возможность положить хотя бы ничтожный груз на чашу «за»?
И Илари попыталась:
– Дотронувшись до… эм-м… пациента и осмотрев его, я поначалу, – и вновь, пуще прежнего, отругала себя за проскочившее зачерновичье просторечие, ущипнув в наказание левое запястье, – не обнаружила классических признаков какой-либо болезни, какие могут быть у его… вида. Мне показалось, что все органы функционируют в целом как положено, только, как бы это сказать… вполсилы.
Мозг Илари работал уже даже не на пределе своих возможностей, а где-то за чертой. Те, кто не верит, могут попробовать как-нибудь без подготовки устно сформулировать и разложить по полочкам только что произошедший феномен.
Все это, однако, не отменяло того единственного, в чем Илари оставалась твердо уверена: нужно продолжать. Даже если пульсация висков заглушает твою неуверенно и неубедительно звучащую речь. «Папа, так вот, оказывается, каково это, когда тебе не верят… – постигло девушку мрачное озарение. – Не верят в тот миг, когда ты всего лишь искренен перед своими судьями. Когда ты чувствуешь и видишь нечто странное, но готов этим поделиться, принести пользу, но вместо оваций в тебя летят лишь плевки и камни…» Это неожиданное понимание прошло сквозь Илари, окрасив все ее мысли и чувства.
Вслух же прозвучало иное:
– Да, вполсилы, особенно сердце и дыхательная система, – поделилась она своими соображениями – уже чуть уверенней и даже немного громче.
Сложив руки на груди (отчасти чтобы скрыть их дрожь), девушка продолжила:
– Боль – это не совсем то, что исходило от рыбы.
Теперь она буквально запретила себе задумываться о том, сколь дико и ненаучно это звучит. Проще говоря, перестала слушать себя извне и – была не была! – устремилась вовнутрь.
– Я бы не сказала, – рассуждала она, – что причиной прежнего состояния ульмэ было страдание физическое. Более того, с этой стороны она даже показалась мне вполне здоровой.
Лицо мастера, и без того продолговатой формы, будто бы еще сильнее вытянулось, за счет острого подбородка приобретая некое сходство с морским коньком. Илари, следуя своей новой тактике, говорила, глядя куда-то мимо него, дабы не отвлекаться на причуды мимики. Она, пользуясь предоставленной паузой, словно актер сценическими подмостками, старалась уместить в нее весь необычный опыт (непонятно даже, можно ли назвать его лекарским!), приобретенный с рыбой-пациентом на вступительном экзамене. Ибо отчетливо понимала, что в любой момент ее «бенефис» могут прервать: погасить свет, обрушить тяжелый занавес и, закидав камнями, прогнать со сцены.
Как когда-то из родного дома…
Нет! Она не даст непрошеным разрушительным мыслям пустить под откос свое выступление, не даст им внести сумбур в рождающуюся на глазах хрупкую теорию!
– Источник болезни находился у рыбы в памяти, – с какой-то отчаянной смелостью выпалила Илари. – Память была изрезана, словно ножом: какой-то испуг. Некий образ, не дававший ульмэ покоя, по-видимому, уже долгое время. У меня есть предположение, господин мастер, – эх, жаль, слово гипотеза пришло на ум слишком поздно, – что не так давно ей довелось увидеть, а возможно, и испытать нечто такое, что крепко впиталось в память и уже оттуда принялось влиять на общее состояние организма. Оно, это впечатление, начало отравлять тело моей… пациентки. В итоге, насколько мне удалось нащупать, страшные воспоминания начали закупоривать благодатные токи жизненной энергии, отвечающие за правильную работу органов.
О да! Выплескивая наружу подробности своей лекарской практики, Илари и впрямь перестала подбирать слова. Ее доселе робкая и застенчивая речь обросла побегами чудаковатых лекарских выражений. И хоть используемые Илари слова были весьма далеки от традиционной целительской терминологии, это не мешало девушке обильно поливать и подкармливать эти «побеги» путем беспрестанного повторения.
Илари показалось – она не могла сказать наверняка, – что во время ее вдохновенного рассказа мастер Мофф пару раз попытался открыть рот. Зачем? Чтобы извергнуть на юную нахалку поток авторитетных возражений против самого звучания мерзопакостных чернокнижных постулатов в стенах научного оплота Вига? Или, быть может, спустить на нее разъяренную свору издевательских вопросов? Сказать по правде, Илари даже не хотела этого знать. С того самого момента, как провидение наградило ее вспышкой детских воспоминаний об отце, в голове словно повернулся некий ключ – он отомкнул «запретные» слова и заставил их таки прозвучать. Во всей красе: на грани бреда умалишенного; с дерзостью иноверца, ворвавшегося в чужой храм и принявшегося на чужеземном наречии возносить молитвы своим богам. Да еще и не отказавшего себе в удовольствии посмеяться над местными религиозными традициями. Если Илари в чем-то сегодня и ошиблась, то уж точно не в том, что ее отец, Ваумар Эну, каким-то непостижимым образом нашел способ благословить свою дочь на откровение о своем мировидении перед лицом научной элиты Вига!
И ровно с того самого момента это стало единственным, что могло повлиять на произносимую Илари речь. Она чувствовала, что отец – прямо здесь и сейчас! – с ней, что он не только всецело одобряет происходящее, но и вроде как даже подначивает ее продолжать в том же духе. Это может означать лишь одно: она непременно продолжит! Уж коли превелико уважаемое научное сообщество знаменитого Университета оказалось бессильно перед неведомой хворью ульмэ, то уж пусть будут любезны выслушать правду. Пусть узнают природу и метод лечения этой самой хвори! И будь она, ее правда, хоть трижды безумна – им придется.
Как придется и признать собственное бессилие.
От беззастенчивого пересказа опыта с описанием сопутствующих ощущений (как собственных, так и рыбьих), расхрабрившись и, видимо, пребывая в каком-то трансе, девушка перешла к доказательству своей правоты. Учитывая, что слушатель был всего один – Мофф, да и тот с ней особенно не спорил, «выступление» Илари больше походило на отчаянную схватку с ветряными мельницами. Она, пожалуй, уже и не помнила, в какой момент, увлекшись, начала излагать собственную биографию; принялась оправдываться, что-де не имела достаточно времени и денег, чтобы освоить весь объем доступной для созреванцев подготовительной литературы, не говоря уж о том, чтобы позволить себе такую роскошь, как услуги наставника. Вспомнила и вырванные станицы из лекарских пособий; таким образом, даже недобросовестные старьевщики удостоились чести быть упомянутыми в кабинете самого мастера Моффа. Равно как и алчность заведующего алхимической лабораторией Черновика, где была вынуждена трудиться Илари: ведь неоплачиваемая сверхурочная работа съедала не только остатки сил, но и последние крохи свободного времени, которое могло и должно было быть посвящено штудированию азов целительского искусства. А она тратила эти драгоценные светошаги на отскабливание столов, подставок и полок!.. И по той же причине нога Илари ни разу не ступала в соты – особую секцию университетской библиотеки, распахнувшую свои двери для созреванцев еще аж в первой световехе. Вместо того чтобы, взобравшись повыше по приставной лестнице, уютно примоститься в ромбовидной плетеной ячейке со стопкой книг по анатомии или целительной алхимии и с головой погрузиться в постижение их основ, ей, младшему подмастерью Черновика, приходилось заниматься гораздо менее вдохновляющими вещами. Но она старалась! Искусники свидетели – старалась, что было сил! А после, на вступительном испытании, она всего лишь восполнила недостаток знаний теми новыми ощущениями, что явили ей себя через нетривиальную хворь доставшейся особи.
– То есть, понимаете, мастер, это было неумышленно! – Илари уже чуть ли не хватала вконец обескураженного Моффа за расклешенные рукава кимоно. – Я этому нигде не обучалась и никогда не искала подобных знаний. Я всем эо была бы рада решить поставленную задачу с помощью традиционных методов врачевания, зарекомендовавших себя в лекарских пособиях и используя классическую рецептуру эликсиров и снадобий! Но, сами посудите, что мне было делать, если я не могла! Не скрою, мне даже не удалось открыть ни одной колбочки на моем подносе (кроме той, что я разбила по неосторожности). Понимаете, у нас в Черновике используются более простые крышечки. Такие, которые легко отвинчиваются и вкручиваются обратно, как на бутылочках микстуры в аптеке… Я и вправду не сумела даже открыть «предоставленные материалы» – спросите хоть у моего соседа, того полного юноши! – куда уж там воспользоваться ими по назначению. И текст на этикетках выглядел для меня чужеземной вязью! Знаете, возможно, вы видели – я ведь хотела сбежать!
Распалившись и войдя в ораторский раж, Илари решила подкрепить свою речь, с одной стороны, весомым, с другой – совсем уж наглым аргументом:
– Но если вы, мастер Мофф, помните, меня тогда остановили и буквально принудили показать себя на испытании. Да, мне было очень стыдно и неловко, но я действительно сделала что сумела. – От долгого монолога у девушки почти иссяк запас кислородных пузырьков. Она сделала глубокий вдох и, избавляясь от излишков кислорода через наспинные плавники, выдохнула: – Вернее, как сумела.
Вот и все! Вот она – ее правда. Такая, как есть: безыскусная, немудреная, ничем не приукрашенная. Как и сама Илари. Как, по сути, сама жизнь. Что ж, по крайней мере, она была честна перед своим судьей – как хотел того отец.
И крыть больше нечем.
Илари словно выпустила из рук тяжеленный якорь. Самый настоящий якорь, вместо слоя моллюсков облепленный подозрениями, ложными обвинениями, клеветой. На сердце впервые за тот светокруг стало легко и воздушно. И даже совсем не страшно поднять глаза на мастера, разглядеть признаки глубокой озадаченности на его лице и наконец услышать приговор…
…Когда за несколько недель до сей исповеди мастер Мофф своей размашистой походкой вошел в зал для консилиумов, залитый светом медузных щупалец, в голове его суетливым мальком крутилась мысль: не наш это профиль!
Правду сказать, данное предположение (переросшее за пару ночей нелегких размышлений в твердый постулат) разделяли далеко не все коллеги. Прослышав о том, что очередная университетская экспедиция среди прочих образцов для грядущих экзаменов привезла с собой носителя некой весьма… экзотической хвори, многие едва не потирали руки в предвкушении скорых открытий. Тогда, на первичном осмотре образчиков некрупной морской фауны, Мофф фактически слышал, как трепетали плавники его коллег (о сердцах и говорить не стоит!). Видел, как они сгрудились над несчастной рыбой ульмэ, распластанной на отдельной подставке. Вооруженные поясными сундучками с инструментами, они, будто ватага ребятни, расталкивали друг друга локтями и вообще всячески изощрялись, дабы успеть примерить собственную авторскую гипотезу прежде других. Создавалось впечатление, что до подобного ажиотажа рыба была вполне здорова и бодра и это всеобщее внимание и дерготня выжали из нее все соки.
Что же, в самом деле, такое!
Ругая про себя на чем свет стоит это собрание честолюбцев, мастер незаметной тенью пересек зал, двигаясь как можно тише (хоть это и было лишним, учитывая царящий шум). Мофф молча возвысился над согнутыми спинами коллег. Он скрестил свои продолговатые руки на груди и принялся наблюдать.
«Ишь ты, разошлись, – скептически прищурившись, дивился он на лекарей-наставников. – Ни дать ни взять огненные варвары на своем шаманском лиходействе! Разница лишь в том, что те алчут даров от выдуманных своими царями божков, а наши «дикари» – научного признания да новых регалий себе на пальцы!» Мофф презрительно поморщился, еле сдерживаясь, чтобы не вмешаться в этот хаос, столь противный всему его существу.
А ведь достаточно было одного взмаха руки, чтобы вмиг прекратить все это бесчинство!..
Мастер уже видел эту рыбу. Эту заковыристую загадку, о которую сломал зубы сам, так и не приблизившись к ее ключу ни на дюйм. Не так давно ульмэ лежала на его руках, не реагируя ни на какие воздействия. При этом, как справедливо позже подметила свалившаяся на его голову полоумная девица, причиной состояния рыбы было страдание не физическое. Мофф и сам пришел к этому выводу и, более того, начал даже всерьез подумывать, а не передать ли несчастную рыбу в епархию факультета тонких материй? «Пусть привлекают мастеров ихтиогипноза и наконец избавят мое отделение от этого сумбура!» – чуть было сгоряча не заключил Мофф.
К несчастью, они – мастера, магистры и даже простые наставники по лекарскому искусству – вовсе не спешили разделить точку зрения своего руководителя. Когда тот наконец заговорил, призывая коллег согласиться, что странное заболевание данной особи не подлежит исцелению традиционными методами, его обращение встретило бурю возражений.
– Как не подлежит?! – открыто возмущался магистр Тоньу.
«Это и понятно», – заметил про себя Мофф. Что тут скажешь, у Тоньу и вправду были основания возражать. Другое дело, что коренились они в почве личной выгоды и корысти. Тут уж ему было за что хлопотать: мало того что основной интерес Тоньу представляли исследования реакций существ на шоковые состояния, так еще и в его научном изыскании, которое должно принести ему звание мастера, не хватало как раз убедительной экспериментальной части. По всему выходило, что Тоньу настроен биться до последнего.
И дабы никто в этом не усомнился, он звучно протрубил с противоположного конца зала:
– При всем уважении, мастер Мофф, не слишком ли быстро мы сдаемся?
Тоньу выпростал свои полные руки из-под оливковой мантии простого кроя, нисколько не стесняясь редких, но от этого не менее заметных темно-сливовых загогулин, вкравшихся в его фамильную вязь. Напротив, он демонстративно развел руки в стороны, словно ища единомышленников, готовых примкнуть к его оппозиции.
– Вы, возможно, небезосновательно предлагаете нам сейчас отступить, основываясь, правда, лишь на междисциплинарности вставшей перед нами задачи.
Фраза была встречена одобрительными кивками большинства. Это весьма воодушевило оратора.
– Но давайте будем откровенны, мы и в самом деле не знаем причину столь необычного физического состояния данной ульмэ. – Тоньу быстро обвел коллег своими удлиненными лаймовыми глазами, синхронно считывая реакцию.
Мофф приписал этот прием научной специализации магистра: уж что-что, а мгновенный анализ реакций и впрямь был коньком Тоньу. Да только лучше бы он больше применял его в интересах науки, а не своих собственных.
Как бы ни были неприятны Моффу эти манипуляции, он тем не менее предпочел не изменять излюбленной тактике. Как и позже – в случае с «полоумной девицей», – он занял выжидательную позицию и некоторое время не вмешивался в ход событий. Светообороты опыта научили мастера мудрости: дай происходящему – каким бы оно ни было – явить себя, позволь ему сделать свой ход, не прерывай нить чужого замысла. Ибо никогда наперед не известно, что на конце этой нити: смертельный яд или чудодейственное исцеление.
Тоньу же отчетливо чувствовал в молчании Моффа и в его невмешательстве верное предвестье своей скорой победы. Это заставило его подлить масла в огонь: пришло время для неопровержимых аргументов и еще более безапелляционных выводов!
Он поднял указательный палец вверх:
– А поскольку природа болезни данной особи нам неизвестна, то, значит, быть она может какой угодно!
«Здесь и вправду не поспоришь», – усмехнулся про себя Мофф, по достоинству оценив силу и мощь логического аппарата своего коллеги. Тот, в свою очередь, замечал лишь кивки да одобрительные возгласы, и те, разумеется, пуще прежнего развязывали оратору язык. Мофф только потирал про себя руки: того-то ему и было надо!
Казалось, уже вся аудитория была с Тоньу заодно:
– Да, положительно, какой угодно!
– Однозначно!
– Солидарен! – там и сям раздавались возгласы, сопровождаемые приглушенным гулом. То был механизм рассуждений и перетолков, ловко запущенный Тоньу. Его шестеренки крутились как заведенные.
Магистр продолжил свою «глубокую» мысль:
– Тогда, согласитесь, мастер Мофф, нам всем стоит задуматься вот о чем… – Тоньу, изображая задумчивость, взялся одной рукой за подбородок. И – чтоб его! – заговорил, будто бы вещая из самых недр терзавших его размышлений: – А можем ли мы, учитывая оговоренные ранее обстоятельства, подвергнуть наших коллег-ихтиогипнотизеров с факультета тонких материй такому риску? Как мы все хорошо помним, – он пристальным взглядом окинул аудиторию, ни дать ни взять пастух, следящий за своим стадом, – сеансы ихтиогипноза проводятся только лишь со здоровыми особями! Здоровыми во всех отношениях! Это основополагающий вопрос безопасности тех, кто самоотверженно преподносит нам дары своего непростого искусства! Я говорю об ихтиогипнотизерах! – на всякий случай уточнил Тоньу, хотя это было лишним. – Не сомневаюсь, что все также прекрасно помнят об их невосполнимых жертвах ради постижения тайн рыбьего сознания! – Без особых усилий магистр добавил голосу скорбных ноток и для пущего эффекта снизил громкость. – Сколько их – и начинающих ученых, и умудренных опытом корифеев – уже поглотила бездна чужого разума? Скольких засосали ее крутые воронки? Что осталось от их эо?
Тихо покачав головой и напустив на себя траурный вид, Тоньу ответил на свой вопрос:
– Безумие! Безумие, запертое в ловушке из кожи, костей и перемещающихся меж ними жидкостей! Стоит заметить, что это не единожды случалось даже после ментального взаимодействия с абсолютно здоровыми особями! Что менее светооборота назад произошло с одним из наших коллег – наставником Келми? Еще недавно мы с интересом слушали его блестящие доклады о перспективах совершенствования реабилитационных процессов после сеансов ихтиогипноза. Если мне не изменяет память, сей молодой вига планировал посвятить жизнь изучению способов безболезненной адаптации мозга вига к этим сеансам; более того, он вовсю готовил материалы для полноценной научной работы на магистра! И что же? – Выступающий демонстративно развел руками. – Сейчас он беспомощней новорожденного младенца! Слезы своей семьи, да и только. Научное сообщество «тонких материй», конечно, не оставило инцидент без внимания. Фицци, отправившей бедного Келми обратно в золотую пору детства, занялись как должно. Не скрою, что ваш покорный слуга принял непосредственное участие в исследовании физического состояния той «психологической убийцы». Помните, мастер Мофф?
Тоньу, видимо, решил закрепить результат, призвав в свидетели самого главу отделения. Мофф решил не отказывать ему в этом удовольствии и согласно кивнул. Мастеру это ничего ровным счетом не стоило, ведь он не подыгрывал Тоньу, а всего лишь подтвердил свое собственное распоряжение. Магистр в ответ победоносно сверкнул светло-зелеными глазами так, словно Мофф уже отказался от собственных взглядов на проблему с ульмэ. Словно он самолично вручил ее Тоньу, благословив на масштабное исследование. Едва не приплясывая на месте от предвкушения подобного исхода, тот бравурно провозгласил:
– Вы тогда нас с мастером Гифу – с его-то талантом по части анальгезии! – направили в Лабораториум, дабы оказать лекарскую поддержку в изучении той фицци. По личной просьбе искусника факультета тонких материй. В то время он еще предполагал, что исследование выявит серьезную болезнь данной особи, а потому и решил заблаговременно пополнить нами, целителями, экспертную группу.
«Пытается сделать из меня жертву старческого склероза, – рассвирепел Мофф. – Тратит время на пересказ хорошо известных всем событий, делая вид, что напоминает мне о них! Браво, Тоньу! Отличный ход!» Мастер, ничего не говоря, смерил лукавца бесстрастным взглядом. «Что ж, скоро я сделаю свой!..»
Благо Мофф успел заручиться если не козырем, то весьма крупной картой, и сделал это заблаговременно – до того, как эмоции пробили брешь в энергетическом поле старого мастера. Ибо Гифу – счастливый обладатель отличительных чернильных печатей аж двух факультетов – никоим образом не отреагировал на лесть Тоньу и вообще всем видом демонстрировал непричастность к происходящему. От проницательного Моффа не укрылось, как тот опустил глаза, чтобы не встретиться взглядом с Тоньу.
Правду сказать, последнего это нисколько не смутило (если его вообще что-то могло смутить в неудержимом движении к заветной цели!), и магистр поспешил дорисовать свой живописный пример:
– Так вот, уважаемые коллеги!..
Вновь поднятый указательный палец, очевидно, должен был знаменовать и приближающееся торжество истины, и пик праведного негодования Тоньу. Которое, по его расчетам, должно было мгновенно сообщиться остальным. И особенно Моффу. В глубине эо седому мастеру даже несколько льстило, что сия словесно-смысловая конструкция предназначалась ему одному. Тут, гляди, почувствуешь себя именинником за праздничным столом!
А Тоньу знай проповедовал:
– Тем, кто не знает, сообщаю, тем, кто знает, напоминаю: фицци, с которой довелось работать теперь уже бывшему молодому ученому Келми, оказалась полностью здоровой! Более того, мастера по разведению фицци в неволе возлагают на нее большие надежды! Вот так, господа! Здорова и может дать здоровое потомство на благо Вига! А где ныне Келми? Физически – далеко от Университета и Лабораториума, а психически – еще дальше!
Златоуст с шумом выдохнул и рефлексивно передернул массивными плечами, поправляя сползавшую с них мантию. А искусственно создавшуюся паузу рационально использовал, чтобы еще раз убедиться в незыблемости собственной диспозиции. И остался доволен: большая часть аудитории с ним солидарна, все без исключения его внимательно слушают, а Мофф хотя бы не вставляет палки в колеса. Самое время завершить начатое, дабы покинуть аудиторию с ульмэ за пазухой.
– Поэтому, коллеги, – призвал Тоньу, посылая особо пламенные взгляды Моффу, – лично я считаю своим моральным долгом воспрепятствовать скорому повторению печальной судьбы Келми и не допустить новых потерь для Университета! Представьте сами, сколь пагубно может повлиять – искусники знают чем – отравленная ульмэ на ихтиогипнотизеров! В какие дебри она может завести их пытливый ум! Полагаю, господин Мофф со мной согласится, что наше лекарское отделение должно употребить все накопленные знания и опыт, чтобы самостоятельно изучить этот неожиданный физиологический феномен.
Взгляд «господина Моффа» определенно не сулил ничего хорошего. И так уж вышло, что заметил это магистр Тоньу слишком поздно. Когда послание, зашифрованное в выражении глаз старого мастера, просочилось-таки сквозь густую пелену самодовольства оратора, смысловая черта его «сольной партии» была уже подведена. Пелена начала рассеиваться и обнажать все логические и риторические просчеты Тоньу.
Запоздалое осознание принесло с собой уйму неприятных открытий.
Что примеры, при всей их кажущейся наглядности и убедительности, были на самом деле жалкими попытками манипуляции; что демонстративная забота о других – не более чем меркантильная уловка, а выступление в целом – дешевая актерская игра. И Тоньу нисколько не утешили восторженные возгласы публики, жаждущей – теперь это стало ясно как белый день – лишь оттяпать свой кусок пирога. Нет, коллеги не были непритязательной, лишенной научных амбиций толпой, готовой на руках вынести выступающего к его заветной цели. И нет, они вовсе не собирались вручить ему эту ульмэ и бурными аплодисментами положить начало его, Тоньу, личного исследования. Как бы не так! За пеленой самообмана, оказывается, скрывались такие же вига, жадные до славы и признания. Они потирали руки, радуясь, что нашелся безрассудный дурень, готовый не только полезть на рожон за общую идею, но и не смутившийся гнева самого Моффа. Мало того, некоторые даже обменивались ядовитыми ухмылочками: уж мы-то, дескать, знаем, как нетерпим старик к возражениям, так пусть лучше достанется Тоньу, коль ему так угодно!
Сознание оратора оцепенело, хотя тело еще подчинялось запущенной во время выступления инерции. Его рука размахнулась, чтобы уверенным жестом поправить сползающую мантию – подхватить ее и набросить на правое плечо. Пальцы подвели. Суставы отказались гнуться. Тоньу стоял и махал рукой, словно рыба плавником, не в состоянии нащупать ткань, плавно развевающуюся у него за спиной по прихоти глубоководных колебаний.
Всеми фибрами своего эо Тоньу чувствовал: шанс упущен. Только что блестящие возможности буквально сами шли к нему в руки, они почти касались его очертаниями заветной печати мастера… И вот теперь, так и не успев полновесно лечь в ладонь, ускользнули в бескрайнюю бездну. Остается только беспомощно размахивать руками… А толку?.. Магия момента безвозвратно потеряна, и теперь уже не поймать не то что удачу, а даже полы собственной мантии.
Отвернувшаяся фортуна потянула за собой и внимание коллег. Им стало очевидно, что эта часть действия окончена, настало время партии Моффа.
«Вот и мой ход…» – безошибочно пробили внутренние часы старого мастера. И он начал, еще не ведая, что Тоньу вполне протрезвел после своего выпада и уже отчасти сожалеет о нем:
– Вы, Тоньу, во многом правы…
По залу пробежала волна возбужденного шепотка. Мофф продолжил:
– И я действительно во многом с вами согласен.
Он обвел глазами столпившихся около него ученых-лекарей, в конце концов остановив взгляд на Тоньу. Тот сделался столь понурым, что даже казался ниже ростом.
– Опасаться за безопасность других – в высшей степени благородно, – молвил мастер, опираясь на подставку, на которой лежала чуть живая виновница жарких дебатов. Вновь согласный шепот. – И хоть наши коллеги с факультета тонких материй, выбрав для себя сию стезю, сознательно взяли курс на самые темные, неизведанные воды, все же нам не стоит злоупотреблять их смелостью и самоотверженностью во имя науки. Да, не скрою, что от лежащей перед нами ульмэ исходит страдание совершенно иной природы, чем мы привыкли диагностировать в этих стенах. На мой взгляд, оно выходит за пределы нашего мастерства, компетенций и искусства, если вам угодно. Скажу больше: причина страдания данного существа лежит не просто за указанными мною пределами. Источник его находится там, где действуют иные законы, над которыми не властны ключевые лекарские постулаты. И, боюсь, все, в чем мы уверены, и все методы, которые мы успешно применяем здесь, в тех водах окажутся – простите за просторечие – мертвому припарка.
Слушателям оставалось лишь недоуменно переглядываться. Их можно понять: столь резкая смена настроений и взглядов главе отделения обычно не свойственна. Что до Тоньу, он не был столь наивен, чтобы ожидать воплощения своих надежд следом за «согласием» Моффа. Ибо он, Тоньу, произнес в своей злополучной речи не те слова и использовал не те приемы, которые могли бы переместить ульмэ на его личный лабораторный стол.
И чем больше он смотрел на Моффа и вслушивался в его мягкие интонации, тем сильней в этом убеждался. Но, как говорят жители огненной земли, слово не воробей… Так что Тоньу оставалось только гадать, что же на самом деле приготовил для него старый шельмец? Каков будет его ход?
Одна радость – ждать оставалось недолго. Дальнейшие слова мастера ясно дали понять, что время «стелить мягко» закончилось:
– Меж тем, вслушавшись в речь магистра Тоньу, я заметил в ней открытую готовность оспорить обрисованные нами границы лекарского мастерства. Полагаю, он озвучил общее желание немного их подвинуть. Расширить. Или – кто знает? – может, и вовсе стереть. Из его проникновенного выступления я почерпнул, что наше отделение, вопреки здравому смыслу, не желает отдавать феномен ульмэ на откуп факультету тонких материй. Оказывается, многие жаждут полноценного самостоятельного исследования. Отдавая себе отчет, – здесь Мофф возвысил голос, дабы достучаться до самых недогадливых и беспечных, – что подобная практика может стоить жизни исследователям-энтузиастам. Даже при всем моем изначальном неприятии этого предложения, теперь, признаюсь, я бессилен перед столь самоотверженным порывом. Жертвенность всегда была и остается синонимом нашего ремесла. Посему вынужден согласиться с позицией магистра Тоньу и признать, что порой искреннее научное рвение, свойственное молодому пытливому уму, в конечном счете побеждает закоснелые образцы консервативного мышления.
Мастер помолчал, оценивая эффект вступительных слов. Все верно, этот восторженный блеск в глазах слушателей ни с чем не спутать! В нем – затаенные грезы… Кто бы здесь отказался стать причастным к грандиозному исследованию нового междисциплинарного феномена и вписать свое имя в историю!
Тоньу все отчетливей ощущал стремительное приближение катящегося прямо на него горного валуна. Вот-вот он придавит все его надежды и чаяния, не оставив от них мокрого места! Какие уж там ульмэ и звание мастера – как бы вовсе с лекарского отделения не вылететь! Ведь за «старым шельмецом» и впрямь водилась такая привычка: усыпить бдительность оппонента, затуманить его мнимой солидарностью, зачаровать – и выйти из спора победителем. Это действовало всегда.
– …Так не будем чинить препоны исследовательскому энтузиазму, – вещал Мофф, вернувшись к своей призывно-побудительной манере. Он торжественно разводил серебристыми руками, сливающимися с жемчужно-белыми рукавами его длинного кимоно. – Для того исстари и проводятся научные собрания, консилиумы и заседания: чтобы из камня споров высечь искру истины! Сегодня господин Тоньу постарался на славу. Он сумел единолично добыть эту драгоценную искру, да еще и поделиться ею со всеми нами. Таким образом, – мастер резко сменил торжественную интонацию на будничную, – предлагаю оставить ульмэ с загадочным диагнозом на попечение нашим ученым на срок в тридцать светокругов, начиная от сего дня. Необходимо будет провести комплексное исследование и попытаться представить список способов лечения заболевания, дополненный, разумеется, свитками соответствующих рецептов и формул эликсиров. – Мофф закачал головой в такт своим распоряжениям, словно они касались сущих мелочей, вроде требований к оформлению авторских рукописей. – Как минимум я жду от вас предписаний и рекомендаций, касающихся поддержания жизни изучаемой нами особи после передачи ее в Лабораториум, под начало факультета тонких материй. И помните: ученая семерка в курсе свалившегося на нас феномена и ждет от Университета определенного прогресса. Так что коль нынче – вернее, пока что – феномен находится в нашем распоряжении, то и ответственность за него несем мы. Разумеется, в случае гибели ульмэ в ходе экспериментов я найду нужные слова и научные обоснования перед семеркой, однако принципиально важно этого не допустить. Тем не менее, находясь перед выбором, поставить под угрозу разум и здоровье ихтиогипнотизеров с дружественного нам факультета или жизнь ульмэ, я, несмотря на свою лекарскую клятву, выберу последнее.
Блеск в глазах слушателей ощутимо потускнел. Многие невольно попятились от стеклянной подставки с полуживой рыбой, одновременно запирая головоломные замки своих сундучков с инструментами и свитками.
Тоньу делал над собой немалые усилия, чтобы в страхе не зажмурить глаза: они отказывались лицезреть результаты его опрометчивого выступления. Мофф, надо признать, превзошел себя! И как бы ни сопротивлялся магистр происходящему и сколько бы раз он ни пожалел, что вообще явился на консилиум, исход его был предрешен.
– К счастью, коллеги, ученый состав нашего факультета не обделен талантами, в том числе и в узких местах, лежащих на стыке областей знаний.
Мастер заметил, что кто-то из слушающих уже начал догадываться, о ком идет речь, а кто-то все еще терялся в догадках. При этом держать интригу не было смысла. А Мофф и не держал:
– Я говорю о мастере Гифу! Не скрою, что не раз мы с ним ожесточенно спорили касательно его, скажем так, склонности к… эм-м… диффузии научных интересов. И признаюсь, я и сейчас не совсем одобряю подобный подход.
От внимательного взгляда Моффа не ускользнуло то, как обычно уверенный в себе Гифу прямо-таки потупился, вжал голову в плечи и не особенно обрадовался своеобразной похвале. За которую, сказать по правде, другие (взять того же Тоньу) отдали бы многое – уж в этом-то старый мастер был твердо убежден. Однако речь уже и без того изрядно затянулась, а Мофф вовсе не был поклонником длительных душевных излияний на публику.
Круг нужно было замкнуть – понравится это остальным или нет. Тем более что теперь все шло по сценарию Моффа и оставалось лишь водрузить шахматную фигуру на клетку оппонента.
Любимый момент мастера.
– Господин Гифу, – личное обращение главы отделения заставило молодого мастера поднять голову, – ввиду вашей увлеченности и ваших… – Задумавшись, Мофф добавил: – …ваших успехов на поприще одновременно двух факультетов, вверяю вам прибывшую к нам особь ульмэ для детального обследования сроком в тридцать светокругов. Думаю, вы достаточно внимательно меня слушали и нет нужды повторять список моих ожиданий от вашей деятельности. На время вашего исследования ульмэ необходимо перенести в нашу часть Лабораториума, где вам, безусловно, будет удобнее осуществить как обследование, так и экспериментальную часть. Разумеется, после того, как наш следующий консилиум утвердит ее программу.
В зале воцарилась мертвая тишина. Затихли последние отзвуки перешептываний, умолкло клацанье серебряных замков поясных сундучков. Иссякли даже попытки Тоньу поймать свою мантию, то и дело вздымаемую донным течением. А смысл? Вот она, плата за чрезмерную дерзость, самонадеянность и лицемерие перед мастером. Теперь думать о дальнейшей своей судьбе и перспективах карьеры ему просто не хотелось…
Ну а мастеру Гифу еще меньше хотелось приступать к выполнению возложенной на него высокой миссии. Ибо он, в отличие от Тоньу, всецело и искренне разделял мнение Моффа, что все их методы в конкретном случае окажутся «что мертвому припарка».
…Неожиданное открытие потрясло седого мастера сильней, чем что-либо за тот щедрый на откровения день. Правду сказать, исповедь Илари стала для него не столько именно открытием, сколько подтверждением догадок. Зародились они, стоит отметить, еще на экзаменационном испытании.
Отчаянная девица, явно не из числа лучеруких, выделялась из прочих поступающих не только своим бедным платьем. И дело было вовсе не в ее полоумном поведении. То… Мофф никак не мог подобрать подходящего определения из своего академического арсенала, но словом «аура» не желал пользоваться принципиально. То ощущение, что распространялось вокруг нее… Ее глаза, хаотично-интуитивные движения рук – все это он словно уже где-то видел. От девицы веяло той самой противоречивостью, подозрительной двусмысленностью…
«Феноменально!» – наконец договорился сам с собой мастер. Произнеся в уме это слово, он поймал себя на мысли, что уже не разделял, о ком говорит: о странной девушке или об ульмэ.
Или еще о ком-то третьем.
Чем больше он, не узнавая самого себя, вслушивался в слова Илари, тем явственней вставала перед ним правда, перечеркивающая его нынешние взгляды и жизненную философию. Во всяком случае, те положения, что прочно укрепились в голове мастера за последние светообороты.
Так уж вышло, что, когда Илари произнесла свое признание, у мастера не осталось к ней вопросов. Ибо каждая фраза и всякая, казалось бы, ничтожная подробность ее монолога и стали ответами, предвосхищавшими вопросы.
Возможно, для кого-то другого из наставников этот рассказ послужил бы исчерпывающим объяснением ее чудачеств на экзамене. Для иных – стал бы веским поводом глубоко оскорбиться и тотчас же выдворить невоспитанную нахалку из стен Университета. Третьи, пожалуй, всерьез задумались бы о психическом здоровье девицы и наверняка сочли бы его несовместимым с дальнейшим обучением и лекарской практикой. Безусловно, нашлись бы и такие, кто без лишних разбирательств обвинил бы зачерновичью отщепенку в ереси. Да еще бы позаботился, чтобы его доводы были услышаны инквизиторами Обители. Что тут скажешь – у каждого своя правда.
Заметил Мофф или нет, но в наставническом полукруге в самом деле нашлись те, кто был склонен к последнему. Да, буквально единицы. Да, они, возможно, не имеют большого веса в научной среде Университета и не могут похвастаться выдающимися связями в Обители… Зато они обладают оружием, куда более совершенным по мощности, дальнобойности и потенциальной разрушительной силе.
Таким оружием издревле являлась затаенная обида.
Заботило ли это мастера? Отнюдь нет. По правде говоря, ему это вовсе не в новинку – быть в корне несогласным с мнением большинства коллег. И ведь, покидая аудиторию в компании Илари еще до окончания экзамена, он даже и не подумал обернуться. Глава отделения не счел нужным хотя бы для виду свериться с выражениями лиц других наставников. Не предпринял ни единой попытки объясниться, обосновать свои, мягко говоря, неожиданные действия. Да что там, Мофф не удостоил коллег даже своим знаменитым многозначительным взглядом, обещающим дать эти объяснения позже… Результат этого безразличия оказался предсказуем: каждый из наставников остался один на один со своими мыслями, предположениями и выводами.
И немало, надо сказать, было сделано ошибочных выводов.
Но, во имя великих искусников, какое дело до этого всего Моффу теперь?! В тот миг, когда мастер лицезрел перед собой живое воплощение самого сильного потрясения в своей жизни – с горящими аквамариновыми огоньками глаз и тем самым потусторонним выражением лица… Воплощение всего наиболее иррационального, непостижимого, запретного. Одновременно манящего и ненавистного. Того, что заставило его однажды собственными руками разбить сосуды своего эо, переосмыслить все верования и ценности и погрузиться в опасный мир темных вод. Погрузиться, чтобы вернуться обратно другим – чужим и незнакомым самому себе. Чтобы потом долгими светооборотами пытаться забыть о них, склеить сосуды эо и снова их наполнить.
Хоть чем-то.
О искусники, неужто он еще не испил своей чаши? Не может ведь, в самом деле, эта исчерпавшая себя история получить продолжение! Особенно сейчас… И не может же этот, казалось бы, уже замкнутый круг, вновь предательски истончиться и снова превратиться в спираль, способную увлечь его в темные воды? В те, от которых он, Мофф, давно уж открестился, выплыв однажды обратно в безопасную прозрачную лазурь.
Какое наивное предположение! Какой преждевременный вывод!
С другой стороны, мастер ведь и впрямь неплохо держался и с предельной старательностью – насколько хватало сил – не подпускал к себе ничего оттуда. Даже в случае с ульмэ – предметом научного вожделения многих. Говоря без ложной скромности, старый мастер и здесь оставался честен с собой. Он все сделал правильно. Едва почуяв гнилостно-сладкий душок тех самых темных вод, источаемый несчастной рыбой, он твердо решил отказаться от искушения. Не задумываясь, был готов тотчас же передать стеклянный куб с ней (и с блестящими научными перспективами одновременно!) факультету тонких материй. Мало того, мастер бы даже никогда не спрашивал о судьбе этого «подарка». Пережил бы недовольство коллег-ученых да и забыл бы все, как страшный сон. К счастью, нашелся этот Гифу – солдат на два фронта. Его глаза на консилиуме все сказали за него самого. Они буквально кричали, что Гифу тоже почувствовал в ульмэ нечто странное, выходящее за рамки традиционного лекарского ремесла. «Вот фортуна и выбрала своего «счастливчика», – с облегчением решил тогда Мофф. Ясно же, что он не возьмется за исследование столь подозрительного феномена, несмотря на то что остальных едва не заставил передраться меж собой!
И все бы сложилось наилучшим образом, коли бы на его, Моффа, голову не явилась она – девица с безродной вязью. Явилась – и перевернула все с ног на голову. Что за наваждение заставило умудренного опытом мастера вернуться к этой проклятой ульмэ, которой всего-то несколько светокругов оставалось спокойнехонько пролежать себе в Лабораториуме, а потом мирно перекочевать на соседний факультет?
Стоп! Лабораториум!!!
Только сейчас мастер отчетливо осознал, что ульмэ никоим образом не должно было быть среди прочих «пациентов» на испытании. Возраст возрастом, а память пока, к счастью, оставалась ему верна и утверждала со всей определенностью: распоряжения включить данный феномен в список объектов для вступительного испытания мастер не давал.
Уж не Гифу ли – даром что большой оригинал – незаметно притащил ее на экзамен? Что, если ему надоело продолжать изображать собственное исследование? Вопрос на вопросе да вопросом погоняет… Хотя, если вспомнить, как рьяно этот самый Гифу возвращал девицу на ее место и буквально перегородил собой дверь, чтобы она не сбежала, многое начинает проясняться!
Другое дело, что он, Мофф, в конечном счете самолично вручил ей эту злополучную рыбу, снабдив ассистента, раздававшего «пациентов», недвусмысленным указанием. Нет, это уже ни в какие ворота!
Дослушивая монолог Илари, мастер всем телом ощутил, что вновь, как бы он ни открещивался, над ним снова закручиваются темные спирали неведомых замыслов и материй. В этом вихре он почувствовал себя микроскопической песчинкой. Никакой опыт, никакие знания и заново накрепко сколоченное эо не могли противостоять этому. А еще – беспощадное подсознание, нашептывающее: «Поделом тебе, старый грешник!» – и злорадно шипящее: «Сам-то такой еретик, каких еще поискать! Уж я-то знаю…»
Хотя, если крепко задуматься, а чего еще можно было ожидать от встречи с дочерью Наиды Эну?
Несмотря на нешуточный накал эмоций с обеих сторон, диалог между Моффом и Илари вдруг резко оборвался. Девушка не успела дождаться ни наказания, ни поощрения за свою исповедь, а мастер лекарского дела – смириться с очередным своенравным поворотом судьбы и морально сгруппироваться перед прыжком в прошлое.
Ничего из этого не произошло.
Настойчивый стук в дверь не оставил выбора – Мофф нехотя направился на звук, мысленно находясь очень далеко и действуя механически. Илари же так и осталась на своей «развилке», распятая на ее двурогом столбе.
Непрошеных гостей было четверо: один из лекарских ассистентов, с долей страха и неуверенности поглядывающий на мастера из-под белесых бровей, а за ним – группа купцов разного возраста. Самый младший покоился на руках у среднего и, похоже, не дышал.
Глава 16 Жатва
«Его как подменили».
Сколько ни вглядывайся сквозь рассеянный полумрак, как ни надейся на помощь скупых лучей, пробивающихся сквозь окошко-глазницу, – все без толку! В облике этого создания решительно ничего не осталось от него прежнего. Да что там облик! И шут бы с ней – с этой внешней оболочкой. Всем ведь известно, как несправедливы и порой даже жестоки бывают годы к уязвимой и, увы, недолговечной живой материи. Все можно было бы понять: и эту обрюзглость, и расплывшиеся под отечной маской черты, изжелта-серый оттенок кожи, на щеках переходящий в крупные свекольные пятна – пожалуй, единственное доказательство, что кровь еще циркулирует. Понять можно было и редкую седую поросль, заменившую некогда буйную волнистую гриву. «Грива… Именно так говорила всегда мать. А когда его волосы грубели от мытья заваренной в кипятке золой, она заботливо умащала их пчелиным воском… А после – долго-долго расчесывала деревянным гребнем, напевая что-то из былин восточных кочевых народов. И когда даже у него заканчивалось терпение, мать лишь мягко просила посидеть спокойно еще немного…» Теперь-то уж в этом ритуале нет нужды: причесывать, прямо говоря, особо и нечего.
Впрочем, и это не беда, кабы не иные обстоятельства!
Умм – он ведь вообще не из тех, кто склонен сетовать на зримые отметины прожитых звездных циклов. Напротив, молодой стражник даже находил в морщинах какую-то особую притягательность. Чем они, в конце концов, не сродни воинским наплечным татуировкам? Стоит взглянуть повнимательней, и станет ясно: разница не больно-то велика, а если хорошенько призадумаешься, то увидишь, что ее и нет вовсе. За внешними изменениями, будь то седины, тусклый цвет лица, борозды морщин или согбенность, определенно кроется нечто большее, чем подступающая старческая немощь и бессилие перед великим замыслом Огненного бога! Что это, если не выслуженные признаки мудрости, символы познания жизни во всей ее многогранности, свидетельства более глубокого прорастания корнями в саму эту жизнь?.. Недаром ведь с каждым звездным циклом, проведенным в королевской армии (даже самым скупым на события), твоя татуировка увеличивается еще на один язычок пламени, чтобы под конец службы превратить руку в один сплошной огненный всполох!.. И какие-то особые достижения или высокие награды для этого вовсе не обязательны. Да и, если разобраться, какой в них толк? Само присутствие в рядах королевской стражи – уже высшая награда, коей могла осчастливить тебя жизнь! Стало быть, дожить до старости на священной земле Харх и увидеть себя убеленным сединами – не меньшая награда, и радость от нее должна быть сильнее, чем от плодов цветущей юности.
Так что дело было не в изменившейся до неузнаваемости внешности отца. Умм с горечью узнал в этих изменениях не «символы познания жизни», а лишь признаки злоупотребления маругой. Или чем попроще да подешевле.
И притом покрепче.
На втором плане не менее очевидно проглядывали последствия полностью расстроенного прежнего жизненного уклада и отречения от традиционных ценностей крестьянских поселений Харх. «Ими у нас, – вспоминал из своего детства Умм, – испокон веков были семья, круговерть сельскохозяйственных работ да религиозный календарь». Последние две, тесно переплетенные между собой по времени, смыслу и сакральной подоплеке, давным-давно превратились в единую движущую силу всего крестьянского сословия огненной земли.
Однако ж философствовать и рассуждать на задворках памяти можно сколько угодно – только истине от этого ни горячо ни холодно! По всему выходило, что отец Умма, Бехим-землепашец, безвозвратно выпал из незыблемого уклада, которому, казалось бы, не страшны никакие потрясения. И – поглядите хоть на запущенность когда-то образцового амбара! – выпал давно. Недаром у крестьян Подгорья в их нехитром жизненном воззрении испокон главенствовала семья, гордо возвышаясь над прочими святынями. Женщина-мать, к примеру, расценивалась как прямая производная от земли-кормилицы, и жители сельских поселений были крепко убеждены, что именно такая женщина способна наделить почву чудодейственным плодородием, а не наоборот. Как следствие – и богатый урожай, и изобильный приплод у скота, и порядочный надой. А коли так – значит, можно будет без потерь пережить засуху Скарабея, брачные пляски Дугорога в жаркую летнюю пору и мерзлоту Летучей мыши, неизбежно наползающей с севера каждый звездный цикл. И раз на то пошло, можно без задней мысли приумножать и собственное потомство: прокормить удастся всех. Такой вот круг, берущий точку отсчета в семье.
Для Бехима же, Уммова отца, этот круг в одночасье разомкнулся. Произошло все гораздо быстрее, чем он ожидал. Вернее, он ничего такого и не ожидал вовсе. Жил как все – не лучше, но и уж точно не хуже! Пахал землю в поте лица, слыл усерднейшим на весь Овион землепашцем, в теплый сезон почитай что жил на поле, нисколько не жалея себя и ни на что не жалуясь. Даже, как подмечали другие, находил в тяжелом труде какое-то особое удовольствие, помогающее «удерживать в теле жизненную благодать». Сидеть без дела или пережидать хлад Летучей мыши вдали от полевых раздолий – вот что было сущим испытанием для Бехима. Ну а его беззлобное ворчание, когда ныне покойная жена, Мидра, чесала его «гриву» – так то было лишь для виду, и это прекрасно понимали они оба… Ибо, Огненное око свидетель, прикосновения и голос Мидры были ему приятны даже спустя немалое число созвездий, под которыми они прожили в законном браке. И их трое прекрасных ребятишек – Заккир, Умм и маленькая Дамра – ну не чудо ли? По правде говоря, Бехим рассчитывал еще и на четвертое «чудо», а она, Мидра, вроде бы не была против.
Да… В те благословенные времена (царившие на Харх аж четыре звездных цикла назад) их ласки обрели новую, доселе неведомую зрелую прелесть. Уверенную, неторопливую и чувственную. «Ха! Зеленой «цветущей молодости» и не снилось», – с восторгом делал Бехим новые открытия там, где, казалось бы, все уже давно известно и знакомо. А радостные перспективы в скором времени узреть результат этих ласк в виде очаровательного розовощекого младенца и вновь впустить в дом озорное детство со всеми его милыми шалостями… При одной мысли об этом сердце Бехима наполнялось еще большей любовью к Мидре, и он исподтишка уже поглядывал на ее живот.
Чудесное, радостное время! Дети быстро повзрослели, став настоящими помощниками в хозяйстве; поездки на ярмарку отзывались игривым звоном железных пластин в поясных мешочках, ну а жена вот-вот должна была объявить, что снова носит под сердцем его, Бехима, дитя! Чего еще можно было желать?
И кто, во имя милостивой Матери, мог помыслить, что однажды этот семейный круг – основа всех основ – разойдется по швам?
Началось все примерно три звездных цикла назад. И, как водится, именно в тот самый момент, когда Бехим находился в наиболее благостном расположении духа, нарушаемом только щемяще-тревожным предвкушением вестей от Мидры. С удивлением он тогда – стоя уже, сам того не зная, на краю пропасти – начал замечать за собой изрядно возросшую религиозность: молитвы стали усердней и осмысленней, да и деревянный жертвенник у крыльца дома не пустовал. Именно в то самое время, когда семейный круг начал незримо разъединяться, Бехим, наоборот, ощущал себя как никогда цельным, полнокровным и близким к Огненному богу. Дурные предчувствия? Мрачное карканье внутреннего голоса? Да Огненный с вами – ничего подобного! Более того, землепашец готов был поклясться, что он воистину почувствовал отклик богов на свои молитвы, что связь его с ними стала двусторонней и не поддающейся сомнению! Та внутренняя благость, которую он до этого мог «урвать» – да-да, именно так он раньше и выражался! – через тяжкий физический труд, с тех пор взяла в привычку снисходить на него через беседы с Огненным и Матерью звезд. Чем это, спрашивается, не высшее благословение? Таким – размягченным и в некоторой степени просветленным – и застала Бехима-землепашца его судьба.
И ей, знаете ли, не было особого дела до уровня духовного развития своей жертвы.
Для начала – его младшенький, Умм то бишь. Подгнивать-то все стало с этой паршивой ветки, а потом выходит, что зараза до самого основания вгрызлась в семейное древо. Неблагодарный паршивец мало того что посмел без спросу истощить их общую мошну, умыкнув знатную часть железных пластин, так еще и наверняка пустил награбленное на какую-нибудь богопротивную авантюру! Жаль, что землепашец заметил это слишком поздно… Все вскрылось после совместной поездки на ярмарку с этим поганцем. И шло ведь попервоначалу все – ну лучше не бывает! Лето выдалось страсть каким урожайным: Ящерица, знать, благоволила крестьянам. Матерь звезд светила ярко, пригревала тепло, но не иссушающе, будто бы вовсе и не вела Скарабея вслед за Ящером. Дождей проливалось ровно столько, чтобы напоить землю-кормилицу, но и не пересытить ее, – ничегошеньки из посевов не подгнило, не захлебнулось в ее хлебородном чреве!.. Все проклюнулось, уродилось и вызрело в рыхло-влажных ладонях чернозема ровнехонько в срок. И в поле, и в огородах исправно налилось спелостью все, что с любовью и заботой выпестовали натруженные крестьянские руки. «Черное золото» земли щедро наградило селян за честную работу.
Перво-наперво, ясное дело, пшеница с ячменем. Упругие, до краев напоенные светом и влагой колосья Бехим продолжал помнить и в дни самой темной душевной смуты, заставившей позабыть даже сакральные строки Семи наставлений. Землепашец с внутренним торжеством, не сдерживая восхищенной улыбки, гладил грубыми пальцами золотистые косички, увенчивающие нежно-зеленые трубчатые стебли.
Бехим отчетливо видел в этой сочащейся жизненной силой плодородности добрый знак и лучшее подтверждение тому, что он на верном пути. Что весь мир ему открыт и впереди ждет еще немало счастливых событий. Что сам Огненный благосклонно улыбается ему с высоты небесных чертогов.
И растроганный Бехим, не стесняясь увлажненных восторженных глаз, улыбался в ответ…
Стоит ли упоминать о небывалых урожаях кукурузы, чечевицы, бобов и картофеля, суливших низкий поклон от аграрной гильдии в лице самого Курхана? А о хлопке и душистом кальянном табаке, за которыми в самое ближайшее время – еще до Скарабея – должны были наведаться торговые «гильдейные» от Гаркуна? Любой в Овионе готов был поклясться собственной шкурой, что отродясь не видывал такой тучной Ящерицы. И что дед его не припомнит подобных урожаев. И дед его деда – тоже.
Плодородный венец того лета освятил собой не только пашни да плантации: его благоволения удостоились и более скромные хозяйства – домашние. Щедрые дары садов и огородов – абрикосы, кумкват, инжир, айва, яблоки, груши, сливы, миндаль, фисташки и деликатесный земляной орех шицуб – делали Бехиму недвусмысленный намек, что поездок на ярмарку будет ой как много.
И чего, спрашивается, этому сукину сыну Умму не хватало?! Коли бы этот сопливый паскудник не сбежал из родного дома с крадеными пластинами за пазухой, уж они еще наторговали бы столько, что после Скарабея могли бы позволить себе не в пример больше прежнего! И ему, мерзавцу греховному, Бехим прикупил бы хитон из самой что ни на есть изысканной и тонкой шерсти, да не поскупился бы и на самоцветную булавку к нему!.. Заккира, старшего сына, он бы тоже не обделил: они ведь с Уммом родные братья – стало быть, им все поровну положено. И не подумайте, что Бехим прикупил бы все это добро в какой-нибудь занюханной деревенской лавчонке! Он бы не поленился сводить сыновей к нумеаннскому портному: ну, чтоб снять мерки, ткань выбрать побогаче, подогнать – или как там это называется? – по фигуре… Уж какая красота бы вышла из этой затеи!.. Такими женихами на гуляния да праздники ходили бы, что в скором времени от невест точно отбою бы не было!.. Да чего уж там – он же для любимых сыновей и на сапоги из мягкой кожи ведь тоже не пожалел бы железных пластин! На такие – перехваченные бряцающими при ходьбе ремешками, – вроде тех, что у воинов Харх в почете. Умму-то, кажись, всегда нравился облик солдат да стражников… Еще сызмальства завелась у него такая привычка: как завидит где воина – любого притом ранга, – так и глаз с него не сводит. Мидра, помнится, заприметила это да к рубашонке ему тряпицу кумачовую приколола: пусть, мол, пострел наш позабавится, в рыцаря али в стражника королевского поиграет!
Мидра…
При одном воспоминании о ней сердце сжимается в жалкий истерзанный комок, при каждом ударе сочащийся ядом воспоминаний. Она-то, добрая душа, нипочем не желала поверить в вероломство младшего мерзавца. До последнего отказывалась принять за истину, что он, заплутав во грехе, отрекся от собственной семьи ради какой-то там выдуманной лучшей жизни. Она упорно, точно заговоренная, продолжала твердить, что он-де попросту оступился по юности лет (с кем не бывает?), совершил досадную ошибку, дал чужим нечистым помыслам себя околдовать… «Он, – упорствовала жена Бехима, – непременно вернется и наверняка уже скоро преклонит пред нами колена в знак смиренного покаяния». Уж она бы его простила не задумываясь!
Но не отец.
Когда тщетные поиски исчезнувшего Умма подвели под случившимся роковую черту, в Бехиме вместо скорби пробудился гнев. День ото дня гнев наливался в нем дьявольской яростью, отравляя изнутри. Пришло горькое осознание, что вместе с младшим сыном-предателем от него сбежала вся его «наработанная» и «намоленная» внутренняя благость, которую он трепетно взращивал в себе. Взращивал, как налитые жизненными соками колосья, которые, правда, с исчезновением Умма утратили для Бехима всю свою дивную сакральность. С несвойственным для себя равнодушием он стал приходить в поле и механически – не лучше и не хуже других – выполнять работы, продиктованные закатом летнего сезона. Что до сада и огорода, примыкавших к их глинобитному домику, они и вовсе перестали интересовать Бехима. Теперь по возвращении с поля он, даже не заглядывая в них, сразу требовал ужин, а после, не перекинувшись с женой и словечком, отправлялся «навестить соседей».
От этих самых соседей Бехим возвращался подчас за полночь, нетвердо ступая по вощеному полу. Алкоголь, вопреки ожиданиям, не делал Бехима ни разудало-веселым, ни буйным, ни блаженно-отрешенным. Маруга, или огненная вода, или крепкое янтарное вино, действуя сообща, лишь усиливали его равнодушие и постепенно – капля за каплей – поселили в глазах землепашца пугающую пустоту, свойственную тем, кто напрочь отказался от себя прежнего.
И, само собой, это не осталось незамеченным Мидрой.
Да, она, помнится, увещевала его – то мягко, то с каким-то надрывом – и просила «хотя бы ради будущего ребенка» остановиться и попытаться усмирить свой траур по Умму. «Она, блаженная душа, думала, что это был траур…» При всей ее красоте и не сдающемся годам обаянии, жена вдруг предстала перед Бехимом в совершенно новом свете. Теперь она казалась ему всего лишь недалекой, простоватой бабенкой, туповатой к тому же: а как еще назвать жену, отказывающуюся понимать, что втолковывает ей муж?.. Она, оказывается, вовсе и не ощущала никакого «витка новой жизни», суть которого он, дурак, пытался донести до нее. И все его, Бехима, откровения о близости к высшим сферам, об открытии тайного языка природы – кажется, она даже смеялась, когда он поведал ей о колосьях! – были для жены пустым звуком. А новая жизнь, которая теперь и впрямь билась в Мидре, воспринималась ею, видите ли, ничуть не иначе, чем в прошлые беременности! Да что там беременность – она вообще нигде не видела того обновления, той свежести, что видел ее прозревший муж! Все у нее выходило как-то до отвращения просто. Для Мидры это, видать, был просто очередной ребенок. Просто куда-то запропастился другой, но скоро обязательно вернется в отчий дом и, ясно дело, будет принят назад с распростертыми объятьями!..
Как бы не так.
Шли дни. Умм не появлялся, из их дома будто напрочь выветрилось все, связанное с ним: его запах, личные вещи, даже сами воспоминания о младшем сыне. Тихая надежда и смирение Мидры сменились тупой внутренней болью, однако это тяжелое чувство не задержалось надолго в ее душе. Это чувство, по мере развития плода внутри нее, постепенно угасало, чтобы в один прекрасный день и вовсе сойти на нет. Так, словно будущий младенец вытеснил старшего брата из сердца матери и стал ей полноценным утешением и отрадой. Во всяком случае, именно так все представало в глазах Бехима – в глазах, зачастую отуманенных собственными душевными терзаниями пополам со спиртовыми парами.
И как, спрашивается, было дальше жить?! Семейные узы истончились, и, мрачно пророчествовал Бехим, это было только началом, первым шагом к разрыву. Боги отвернулись, забрав всю благодать, к которой он, правда, еще не успел привыкнуть. Мнимое прозрение обернулось червивой мякотью, неожиданно проступившей из-под надрезанной кожуры.
«Одно хорошо – не успел ни с кем поделиться, – кривя рот в горестной ухмылке, кивал землепашец самому себе. – Блаженный Бехим – чудесное вышло бы имечко мне! Хорошая бы пошла молва по округе – курам на смех!» К сожалению, то была единственная утешительная мысль из тех, что наведывались тогда в его голову. Ее, однако, было недостаточно, чтобы унять глубоко затаенные переживания о «неблагодарном паршивце». Бехим так и болтался на волнах разочарования. Что ему оставалось? Разве что гадать, к каким берегам они в конце концов его прибьют и какая именно волна станет решающей. Он жил в этой отстраненности, меньше действуя и больше гадая. В самом деле, что толку брать себя в руки и делать заведомо безуспешные попытки вернуться в былое русло спокойной семейной, трудовой и духовной жизни? «Судьба-сквернавка один хрен все наизнанку вывернет по своей бабьей прихоти!..»
Вот только безотрадный землепашец не мог даже предположить, что упомянутая «решающая волна» зайдет со стороны деревенского святилища – этого прибежища и для кротких, и для мятежных душ.
Стоял обычный вечер, уже сдающийся под гнетом темно-лиловой ночи, наползавшей на Овион со стороны мшистых верхушек Яшмового леса. Ему предшествовали уборочные работы в поле и, согласно требованиям новой привычки, хмельные посиделки вне дома. Однако маруга была выпита, темы для разговоров исчерпаны, а грядущее утро несло с собой напоминание о еще не довязанных пшеничных и ячменных снопах. Самое время возвратиться домой и предаться временному забытью. Лишь бы не явился опять во сне младшой отпрыск с этим его укоризненным взглядом и не испортил отцу дремотную безмятежность! Предаваясь этим нехитрым размышлениям, Бехим доковылял до собственного дома – благо идти было недалеко.
Дом почему-то не встретил землепашца привычной темнотой: на узкой полке, у самого оконца, тлел огарок свечи, а в проеме двери – вот те на! – стояла Мидра в одной длинной ситцевой рубахе. Она зябко ежилась от посвежевшего к ночи воздуха и беспрестанно поглаживала слегка округлившийся живот. «Будто и впрямь в ней не очередной паршивец, а сокровище какое!» – раздраженно подумал Бехим. Он не стал объяснять, почему так поздно пришел (не ее бабье дело!), не поспешил укрыть жену от сквозняка (сама виновата, что из-под одеяла выползла на ночь глядя!). И вообще, была бы его воля – он бы попросту, как ни в чем не бывало, протопал в их маленькую спаленку, сделав вид, что не заметил жены, равно как и огня в сенях. «Нечего в темное время бледным призраком шастать по дому, когда даже Матерь звезд до рассвета отдана во власть золотому сну», – мысленно огрызнулся Бехим, поневоле приправив свое замечание отрывком из жреческих поучений. По правде говоря, парировать ему было не на что: с уст Мидры покамест не сорвалось ни единого звука: ни нарекания, ни вопроса.
Неужто неуемную бабу это вовсе не волновало?.. Ну и шут бы с ней. Пусть себе дальше живет в своей скорлупе и ни шиша за нею не чувствует! Мир перевернется, а она и не заметит! «Встала-то, поди, не иначе как по нужде, а заслышав скрип двери, сюда переметнулась – вот и все женины переживания…»
Ан нет! Не прошло и мгновенья, как на захмелевшую голову Бехима свалилось то, чего он никак не ожидал! Глупая баба, видать, совсем умом тронулась, коль вздумала, что этот паршивец – убегший младшой – заслуживал своего костяного блюда на Стене отверженных! Что, мол, надо уже чуть ли не спозаранку собирать по дому все какие есть цитрины, отдирать их от заготовленных на Скарабей амулетов, тащить в местный жреческий храм. Отлично придумано! Еще, может, прямо сейчас – на кой, спрашивается, утра ждать?! – отправимся к соседям побираться? Они, может, пожертвуют пару лишних желтых камушков заблудшей душе соседского сынка?!
Бехим и сам не заметил, как он, впервые со дня побега Умма, назвал его просто «сыном», а не, скажем, «паскудным дезертиром»… Ко всему прочему его страшно взбесило, что Мидра посмела считать сына погибшим. И мало того, у нее еще повернулся язык спокойно говорить об этом. Уж что-что, но такая бессердечная чушь ему, Бехиму, и в самом глубоком пьяном бреду не приходила в голову!
Ах она ведьма проклятая!
Черная мгла вызревшего гнева обступила Бехима со всех сторон. Он, может, и хотел бежать со всех ног от этой мглы, дабы спасти Мидру от ее ядовитого дыхания, да уже не мог. Ибо жена, даром что женщина и мать, взяла на себя смелость высказать вслух то, от чего он ревностно оберегал свое сознание. Так вот просто взяла и выдала ему недрогнувшим голосом: младший сын-де, может, уже мертвым валяется в какой-нибудь грязной канавке; так не угодно ли его папеньке будет по такому случаю прописать почившего отпрыска на Стене отверженных?
Она что, и впрямь считает их младшенького бесславно погибшим и не принятым в небесную обитель Огненного?!
Все, что дальше помнил Бехим, – это глухая, беспросветная ярость. Она вырвалась из его груди и смешалась с иссиня-черными облаками мглы, порожденными высказыванием Мидры. Нет, это безумие никак не было связано с выпитой накануне маругой: ее действие сошло на нет, стоило лишь жене открыть рот. В глазах закипали горькие, жгучие слезы. Они никак не хотели собраться в две крупные капли, чтобы разбежаться мокрыми дорожками по щекам: такова уж мужская гордость. Соленые озерца подрагивали, отражая искру свечного огарка, и заставляли мир расплываться перед взором Бехима.
Быть может, потому-то все дальнейшие события той страшной ночи и остались в его памяти такими вот размытыми нечеткими зарисовками?..
Вот он что было мочи не своим голосом завопил на жену – ни дать ни взять разъяренный бык. Землепашец отчего-то был уверен, что силой своего голоса – поначалу голоса! – он может перечеркнуть, отменить чудовищные слова, сказанные Мидрой об их сыне. В свою несвязную тираду он умудрился вместить все известные ему оскорбления и проклятия: выжившая из ума дурища должна была получить свое!
Вот слов стало недостаточно, и тяжелая мозолистая рука Бехима замахнулась. Причина донельзя проста и очевидна – гневные крики мужа встретились с хладнокровным и вместе с тем кротким возражением жены. Иди, мол, милый, завтра с утра пораньше договариваться со старой жрицей Ундирой насчет блюда для сына, и все тут!.. Да она никак издевалась над ним! Дурная баба упрямо стояла на своем, нисколько не считаясь со своим законным мужем!
«Заккир и Дамра проснулись, прибежали на шум…» – мелькнуло в голове землепашца, когда раздалось перешептывание и цыканье из-за прикрытой двери, ведущей в кухню. Ну и пускай! Послушают и будут знать, как перечить отцу – авось поумней своей мамки вырастут!..
Вот высоко занесенная рука приготовилась к удару – неизбежному исходу начатого движения. Нет, он не планировал бить жену. Какой в том толк? Скопившуюся внутри ярость нужно было просто выплеснуть наружу, дать ей выход и тем самым освободиться от нее.
Бехим и выплеснул.
Первый отчаянно-размашистый удар пришелся на обложенное соломой углубление в стене. Сухая глина встретила его кулак равнодушием, достойным древних горных пород: соприкосновение с гневом Бехима не оставило на ней ни единой новой трещины. Увы, того же нельзя было сказать о живой плоти: суставы пальцев и кисть скрипуче хрустнули, рука побелела, из стесанных до мяса костяшек засочилась кровь. Мидра что-то там тихонько, по-бабьи выла, зажав рот дрожащими ладонями. Спина ее была выгнута, как у ощетинившейся кошки, а глазами она уже искала наилучший вариант для бегства. Бехим ничего этого не замечал: оглушенный собственным ударом, он тупо уставился на ушибленную руку и, словно завороженный, наблюдал, как из рассеченной кожи медленно проступает кровь. Она собиралась крупными горячими каплями в углублениях между костяшками и мерно струилась вдоль одеревеневших пальцев. Выходит, пролить кровь для землепашца оказалось легче, чем слезы…
Рядом, со спины, беззвучно проскользнули две тени и мгновенно скрылись за входной дверью.
«И эти дети сбежали…»
Первая волна боли обманчиво откатилась назад, ненадолго возвращая Бехима в его первоначальное состояние. Он принял это за окончательное избавление от внезапного «паралича» и поспешил продолжить начатое. Удар за ударом сотрясал ни в чем не повинные сени, круша, разбивая и ломая все, что попадалось под руку. С выступов и полок летели старые глиняные горшки, отрезы тканей, дрова, семейные обереги… Тут и там прямо Бехиму под ноги сыпались золотые искорки мелких цитринов, и он с упоением топтал их, катал по полу грязными подошвами сапог, видимо, желая смолоть их в муку и развеять по ветру. «Ишь ты, бесовка, ужо принялась сына моего на тот свет собирать?! Вот тебе! Видала?! Иди себе лучше начинай собирать, коли так туда торопишься! А мой сын жив! ЖИВ! Ясно тебе, ведьма проклятая?!»
Кровь закапала еще чаще – теперь уже с обеих рук. Словно она могла смыть с цитринов, которые Мидра и в самом деле уже поотрывала откуда только было можно, их страшное назначение. «Но теперь они очищены! – внезапно осенило отца Умма. – И будто это и не цитрины вовсе. Больше на рубины похожи!»
Бехим немного успокоился и даже прекратил свой полуночный погром. В тихом свете звезд камни и впрямь выглядели яркими пурпурными рубинами: кровь, начиная подсыхать, уже сделала свое дело. Неисповедимые пути воспаленного разума Бехима наконец распутали клубок.
Стало быть, рубины…
«Никто не считает тебя умершим, сынок! Наша вера и родительское благословение остаются с тобой, Умм! Погляди, я искупил безрассудные помыслы твоей матери! Старуха без тебя уж совсем в разуме повредилась, ты прости ее, сынок…»
Вот и слезы.
Они свободно побежали наперегонки по разгоряченным красным щекам Бехима. Живительная влага, растворяющая тяжкий душевный груз, стирающая вину и печали. Они закатывались за шиворот, капали на пол, смывая кровь с отдельных «рубинов», неожиданно примиривших землепашца с судьбой. Он стоял на коленях посреди учиненного им же хаоса и покорно отвечал на позывы сердца. Он чувствовал себя обновленным, очищенным… Будто жрец вознес над ним молитву об отпущении грехов и возвестил о том, что Огненный ее принял, – такова была сила внезапного облегчения. Словно вдруг разжалась мертвая хватка, стискивавшая горло. И пусть она на прощание таки полоснула Бехима своими когтями – не страшно!
Он снова чувствовал себя живым. Полным сил. И готовым на все ради семьи – сию же минуту отправиться в дальнее странствие, на поиски сына… Или хотя бы пойти разыскать Заккира и Дамру, укрывшихся в темноте двора от отцовского гнева.
Где-то в глубине души очень робко шевельнулась радостная мысль-воспоминание и об их с Мидрой будущем ребенке.
Духовное блаженство длилось недолго.
Странно… Внутри, кажется, все – почти все – успокоилось, а слезы упрямо текли и текли. Как это не похоже на сурового Бехима!
Он, не поднимая головы, сделал глубокий вдох, мысленно ставя жирную точку на своих бесчинствах: «Довольно! И без того наворотил сегодня выше крыши…»
Самое время теперь прийти в себя, оглядеться вокруг и начать все исправлять. Так велели ему наконец-то поладившие меж собой ум и сердце. Что ж, все еще действительно можно исправить – и чем скорей, тем лучше. А начнет он, пожалуй, с Мидры: ей сегодня немало пришлось снести от своего бедового муженька… Да, сейчас он поднимется к ней и сходу – как завсегда было у него заведено – попросит прощения: безо всяких там увиливаний и хождений вокруг да около.
«И непременно поцелую ее руки!.. А то в них аж кровь застыла, когда я крушил тут все в своем припадке: я видел…»
Однако ничего из задуманного – слишком, слишком поздно, Бехим! – ему сделать не удалось. И если его губы коснулись рук жены, то руки эти были уже не те, к которым он привык. И которые любил…
Как выяснилось позже, причиной затянувшихся слез стало не эмоциональное расстройство Бехима и не остатки его старых переживаний. К сожалению, все обстояло куда более прозаично.
Слезы вызвал дым.
Оказывается, как потом с горечью осознал землепашец, в приступе бешенства он и не заметил, что смахнул с полки тот самый свечной огарок. Конечно, если бы они с женой закончили разговор мирно, то она, знамо дело, эту свечку бы или задула, или забрала бы с собой в спальню. Но куда там! Она была вынуждена бежать – бежать от мужниной ярости…
И если на жену и на детей можно было накричать, сени – перевернуть кверху дном, а цитрины – растоптать и залить собственной кровью, то с огнем, как известно, шутки плохи. Жаль, что порой вся ужасающая серьезность этой присказки, знакомой каждому хархи с детских лет, постигается уроками горестного опыта.
Бехим хорошо запомнил урок. И, следует признать, дорого за него заплатил.
Вырвавшись из плена свечного фитиля, огонь расправил плечи на сухой соломе, густо застилавшей пол сеней, разжился целым снопом искр-подданных и начал свою беспощадную жатву. Не спасало даже то, что стены из прессованной глины – а ведь именно на случай пожара Бехим отказался от дерева! – не загорались и, в отличие от предметов обстановки, не принимали пламя как дорогого гостя. А огненным языкам меж тем никакого особого гостеприимства и не требовалось! Им, тварям, и так было где разгуляться: солома, деревянная мебель и посуда, сухие тряпки и одежда… Бехим – уже потом – понял, что сослужил службу ненасытному огню аж дважды. Не он ли собственной рукой расколотил склянку кукурузного масла, которую Мидра, видимо, назавтра хотела снести в амбар?..
Нельзя упрекнуть Бехима, что он не попытался. Детей милосердная Матерь звезд уберегла (они пережидали пожар на улице), но вот Мидра… «Ох!..» Мидра оставалась одна на втором этаже, и огонь уже потянулся туда своими потрескивающими слепящими побегами.
Потянулся за Бехимовой женой и их будущим ребенком…
Ровно в тот самый миг – не раньше и не позже, – когда землепашец, задыхаясь и кашляя, дополз через кухню до ступенек лестницы, ведущей на второй этаж, – подвели огнестойкие стены, которыми он так гордился. Да, в начале пожара глинобитные перегородки держались молодцом, тогда как соседские бревна уже давно занялись бы. Бехиму делов-то оставалось: проползти наверх, взять на руки Мидру и бегом выбежать из этой преисподней… «Настанет новый день – и там решим, как начать все заново! Главное, что вместе…» – ободрял он себя, пробираясь через охваченную пламенем кухню.
Что тут скажешь – у богов, видать, были иные планы на будущее землепашца. Стены – оплот его надежд и уверенности – в какой-то момент перестали мириться с гибельным дыханием огня. По песочно-бежевой их поверхности, будто по иссохшей почве, поползли в разные стороны тонкие трещины. Сначала совсем небольшие: легкая паутинка, словно и не несущая в себе угрозы. Но это только сначала. Жар усиливался, и каждое его мгновение углубляло эти трещины, загоняя их в самое основание дома Бехима, чтобы постепенно подточить его изнутри. Едва только тепловая волна лизнула глину, нужно было бежать – бежать со всех ног! Не ждать появления трещин, возвещавших о скором обвале!
Уже потом, спустя много дней (хотя все они слились в бесконечную цепочку мучительного безвременья), Бехим бичевал себя за ту непростительную медлительность. Однако дрянное пойло, которое он без меры вливал в себя, чтобы хоть немного забыться, лишь предательски возвращало опустившегося землепашца к ужасной развязке событий той ночи.
…Вот он, превозмогая леденящую боль от ожогов и непереносимую резь в глазах, пытается доползти до лестницы. Там, наверху, его ждет Мидра… И Нерожденный… Хотя криков жены уже не слышно. А были ли они?.. Нужно еще немного – всего пара-другая движений! Тонкий хлопковый хитон, кажись, загорелся – со спины, что ли? В дьявольском пекле уже и не понять… Полыхает все и повсюду, забирая у Бехима то, что он собственноручно создавал, что он так любил, что звал своим домом и убежищем от житейских невзгод!..
Огонь – будто ранняя засуха, ворвавшаяся в поля гонцом Скарабея, злорадно пожирающая еще не собранный урожай…
«Так вот каков ты, Огненный бог! – Отчаяние и агония порождали в Бехимовом сознании чудовищные открытия. – Вот она, твоя милость! Все, что я вижу, – один токмо твой гнев и ненависть! И стою я, твой жалкий раб, в их разверзнутой глотке, ненасытной к тому же! Вокруг меня одно так почитаемое нами пламя и воспетая древними ярость! То, чему мы молимся и на что уповаем, способно умерщвлять нас одним своим дыханием! Нас – твоих детей, «играющих на щедрой длани твоей». Против каких таких выдуманных врагов Харх пригодятся эти пламя и ярость?! Никто сюда не придет! И никому дела нет ни до нас, ни до тебя – ты, ослепленный своей яростью бог выдуманной войны!!! Все, что ты можешь, – раздуваться от самодовольства да издеваться над нами! Ты питаешься нашим страхами: перед тобой, перед сказочками-легендами да перед служащими тебе воинами!»
От стен пошел глухой утробный гул. Трещины глубоко врезались в их глиняную плоть, из них водопадными струйками засочился сухой белесый песок. К треску дружного горения примешался незнакомый уху скрежет.
И впервые за ту страшную ночь разума Бехима коснулась мысль: все кончено.
«Ты!..» Леденящее жжение от горящего хитона и кровоточащие раны обратили его в исступленного зверя. Загнанного в угол, но продолжающего скалиться и рычать. «Это ты лишил меня сына! Ты искусил его баснями о воинской доблести и священной ярости хархи! Ты напустил дурмана на его голову и увел от родного дома! Будто мало тебе других воинов! Что, они плохо прославляют твой хищный образ? Плохо служат?! Зачем тебе понадобился мой сын – отпрыск простого землепашца? Что он сможет сделать для тебя?!»
В общем гуле и треске вдруг раздался оглушительный хлопок, прервавший отчаянное святотатство Бехима: стена ровнехонько позади землепашца сдалась первой. Ей суждено было рухнуть и остаться погребенной под тем, что еще недавно составляло маленький мир Бехима и его семьи. Судя по тому, как истекали песком и угрожающе подрагивали другие стены, их ожидала та же участь.
Двигаться Бехим уже не мог – так и замер на полпути к лестнице, охваченный пламенем и окончательно помутившийся рассудком. Он оставил попытки спасти жену с Нерожденным и себя самого. Не потому, что смирился. Не с тем, чтобы снискать милосердие богов, вверив свою судьбу их «щедрой длани». И не потому, что сдался.
Он действительно не мог больше сделать ни шага. На то он и простой смертный – уязвимый, хрупкий, как любой житель Харх, будь он воином или землепашцем.
Бехим лишился сознания на пепелище собственного очага под грохот рассыпающихся родных стен, намертво вцепившись в последнюю свою мысль:
«Я отрекаюсь от тебя, мстительный, ненасытный бог! Ты отнял у меня все! Твои огненные приспешники пожрали все, что было мне дорого, а тех, кого оставили в живых, – обрекли на полную лишений жизнь!»
В глазах землепашца потемнело, усилия разума сошли на нет, уступив беспамятству. Вместо клубов дыма и россыпи искр Бехим видел обращенное к нему Огненное око. Оно застилало весь небосвод своим слепящим полыханием и, казалось, готово было испепелить мир. Бехим словно ждал этого. Он подставил лицо дыханию дьявольского жара и взревел: «Я закладываю собственную душу во имя того, что я тебе более не подданный! Я не отдам тебе младшего сына, моего Умма-сорванца! Если он и вздумает служить тебе – не принесет тебе это ни славы, ни почета! Не воспоет он деяниями своими твое мнимое величие! Я ухожу и посылаю ему свое родительское прощение за побег из отчего дома. Но вместе с прощением я заклинаю своего сына не сгибать колена ни пред твоим взором, ни пред твоими жреческими прихлебателями! Ибо сущность твоя жестока и уродлива – рано или поздно узрит он это, и тогда я вздохну спокойно, в какой из миров ты бы меня не отправил! Делай со мной что хочешь, огненный кровопийца! Мидра, Умм, Заккир, Дамра, Нерожденный, простите меня!»
Одна Матерь звезд ведает, где витала душа Бехима, пока подоспевшие соседи не уняли пламя и не извлекли его почти бездыханное тело из груды углей, головешек и обломков почерневшей глины.
Извлекли они и Мидру.
Вернее, то, что осталось от нее и Нерожденного после «огненной жатвы»… И если жене Бехима хоть в чем-то повезло в ту роковую ночь, так это в том, что ее сознание быстро погасил поднявшийся снизу дым. Он же в конечном счете избавил несчастную от жестоких страданий.
«Потому, – повторял спустя время Бехим своим сочувствующим собутыльникам, – она, сердешная, и не кричала вовсе…»
Землепашец разлепил красные глаза, покосился на лежащее рядом обугленное тело Мидры, уже накрытое грубой лыковой рогожей, и тупо на него уставился, не в силах связать увиденное с тем, что случилось с его женой. Отмахнулся от склонившейся над ним знахарки, вызванной по такому случаю с самой околицы Овиона, и чуть не выбил из ее сморщенных рук плошку какой-то густой вонючей мази. Слух к нему еще не вернулся, и, может, оно к лучшему: соседские увещевания не вызывали раздражения.
Слез не было.
Они были выплаканы там, в горниле гнева «мстительного» бога, и больше никогда к Бехиму не возвращались, поэтому он, не принятый в мир иной, вынужденный заново впрячься в ярмо судьбы, не мог рассчитывать даже на это облегчение…
Не заплакал и, что уж там, даже не поморщился Бехим-землепашец и тогда, когда настало время встретиться с младшеньким. Пусть и незримо. Пусть вовсе не так, как он представлял себе все те долгие звездные обороты, что сменялись безликими фигурами над его хмельной головой…
Самообладание изменчиво. Оно оставило Умма, как только отец выломал амбарную дверь, ворвался в укрытие Дамры и потянулся обожженными ручищами к ней и новорожденному. Потянулся явно не для того, чтобы обнять. Тронувшийся умом отец имел иную цель: придушить обоих. И еще одну, затаенную. Та цель ждала своего часа, вскипая яростью в помутненном рассудке.
«Горидукх. Свадьба. Ужо повеселюсь я на свадьбе твоего милого, Дамра!»
Умм этого не знал. Ему было достаточно, что сестра и племянник – в смертельной опасности. Пока входная дверь сотрясалась от тяжелых ударов, юноша отчаянно надеялся на силу молитвы и ритуального знака. На что еще мог сгодиться он, сторонний наблюдатель, заброшенный в родной амбар, словно в дурной сон, волей нездешней жрицы-чернокнижницы?
Все изменилось в тот самый миг, когда в чулане материализовался отец. Вернее, какой-то жестокий и страшный хархи, лишь отдаленно похожий на Уммова отца. Тогда юноша осознал: прямо сейчас (если только Йанги не дразнится и все это происходит на самом деле) вот-вот свершится непоправимое. Ничего уже нельзя будет вернуть, переделать, переписать заново. Фатальная угроза зловеще маячила на горизонте черным флагом. Именно она заставила молодого стражника, презрев беспомощность, пересмотреть границы своей власти. Границы воображаемого и реального, сна и яви, осязаемого и незримого. «Их, видно, никогда и не существовало, коли такие дела творятся под сенью Матери звезд…»
Движением, полным осторожности и опаски, юноша скользнул правой рукой за голенище своего сапога. Полностью осознавая собственную невидимость, он все же предпочел снизить риск быть замеченным. Умму вовсе не хотелось, чтобы его наспех сложенный план рассыпался карточным домиком.
Руки коснулась отрезвляющая прохлада стали. Большой палец аккуратно прошелся по лезвию: привычка, над коей не властно ни место, ни время. «Не зря с Дримгуром навестили точильню перед всей этой бесовщиной, – с готовностью отозвался разум. – Как знали, что добром эти шашни с Нездешней не кончатся!»
То было лишь минутное промедление – непозволительная роскошь в ситуации, когда нужно действовать быстро и решительно.
Отец двумя пальцами, словно новорожденного щенка, схватил младенца за слабенькую шею с засохшим белым налетом и кровяными пятнами, а второй рукой уже примерял удар. Умм понял, что Бехим намерен свершить свое «правосудие» одним точным, смертельным движением. Отец тяжело дышал, собираясь с силами. Было заметно, что для него все это – не что иное как горькая обязанность. В его взгляде не читалась месть. Скорее, долг, от тяжкого ярма которого он вот-вот избавится. «Что или кто управляет им?.. Как он дошел до этого?» – ужаснулся Умм.
Наконец отец умолк. Череда бессвязных ругательств, которыми он сопровождал удары в дверь, иссякла, как только он ворвался внутрь. Дамра, на удивление, тоже не издавала больше ни звука. «Она что же, лишилась чувств? Немудрено!..» Кричал только новорожденный – кричал, приветствуя огненный остров Харх и возвещая богов о своем появлении.
«Дитя Ящера… – словно молитву, оправдывающую его дальнейшие действия, твердил про себя Умм, замахиваясь своим острым ножом. – Наш небесный Ящер – мертв. Он сдался, пал пред лицом наползающего с востока Скарабея…»
Умм, так же как и отец, изо всех сил старался свершить задуманное одним ударом. Один меткий, точный, глубокий удар в сердце. Чтобы наверняка. Чтобы не мучился.
Чтобы уже не проснулся…
Отец же, как на грех, держал новорожденного у самого сердца: не подступиться. Он медлил, разглядывал младенца, крутил его перед собой, точно кошка пойманного мышонка. У самого сердца… Может, одумается?..
Нет, уповать на пробудившиеся светлые чувства не приходилось. Если у отца и были какие-то сомнения, то они, очевидно, улеглись. Канули на дно его искалеченной души и больше не мешали творить темный замысел, неизвестно как родившийся в его голове. Секундное промедление – и невинная кровь зальет пыльный амбарный пол…
Что поделаешь! Значит, нужно целиться не в сердце, ведь так можно и в новорожденного попасть… Прости, отец! Значит, так суждено…
«Наш звездный Ящер сдался. Но не ты! Ты будешь жить!»
Сам не веря в то, что делает, Умм вложил все силы в первый удар: он пришелся аккурат в отцово плечо. Бил он не на авось, не наугад – так, словно полноценно присутствовал в амбаре. Делал все в точности, как многократно отрабатывал на учениях и тренировках: равномерный перенос тяжести от плеча в локоть и дальше – в запястье точным, выверенным движением. «И крученым резким махом извлечь меч из тела противника…» – подсказывала память.
Только никто не предупреждал, что будет стоять такой омерзительный хруст и что сила, вложенная в «резкий мах» вернется ватной слабостью, растекающейся от локтевого сгиба прямо в побелевшие пальцы!.. И что потом к горлу подступит такая невыносимая тошнота, а горизонт пьяно запляшет перед мутнеющими глазами…
«Получилось…» Умм настолько ослабел, что у него попросту не осталось сил на удивление. «Да! Ты будешь жить, дитя Ящера!..»
К пляшущему горизонту примешались частые вспышки ярко-кровавого цвета: то ли шок, то ли брызнувшая во все стороны кровь отца, то ли очередное лиходейство Йанги… Умм старался об этом не думать. Он почувствовал, как чулан и все, кто в нем находился, медленно уплывают. Картинки стали растворяться, теряя четкость контуров, путая свои краски и текстуры. Все словно отдалилось, уменьшилось в несколько раз. Тошнота и потрясение проходили по мере того, как редела темнота чулана и становились едва различимыми фигуры – так, словно вязкий плен ночного кошмара постепенно уступал права утренней заре. Не ее ли отблески отражались в пурпурных вспышках, пульсировавших в краешках глаз?.. Облегчения, однако, это не приносило. Куда там! Умм, силясь ухватиться за невидимые нити, изо всех сил старался не отпускать свое видение – каким ужасающим и леденящим оно бы ни было. Нужно непременно убедиться, что дело сделано. Пришла ли в себя сестра? Выжило ли дитя Ящера после мертвой хватки своего деда? Стал ли удар Умма смертельным?
Или, может, он вложил в него недостаточно сил – недостаточно, чтобы предстать перед Огненным в новом амплуа отцеубийцы?..
Амбар превратился в едва различимую точку на темной карте Вселенной. Умму казалось, что эта точка застыла где-то в середине зрачка полузакрытого глаза мертвого Ящера, мерцавшего дымчато-белыми бисеринами на небесном холсте. А оставшиеся без ответа вопросы назойливо кружили и кружили стаей огромных черных воронов над головой Умма. Все расплывалось и хаотично вибрировало. Хотя и не настолько, чтобы от юноши ускользнула очередная диковина.
Крылья воронов. Они – Умм был готов биться об заклад – состояли не из перьев, а размах их был в несколько раз шире, чем у самых крупных птиц. Удлиненные когти чудищ начинались от самого предплечья и заканчивались загнутыми книзу острыми крючьями. На когтях, точно темно-бурые паруса на реях, были натянуты шершавые кожные перепонки. Хлопанье этих мрачных «вееров» порождало воздушные потоки, достойные небольшого смерча. Взмокшая рубаха Умма мгновенно превратилась в ледяной панцирь; волосы развевались. Странные вороны, видать, собрались на пир: в каждом их движении было зловещее предвкушение.
Умм с некоторой оторопью обнаружил, что не испытывает страха перед мракобесными созданиями. Даже если они и явились за ним – что с того? Кой черт себя обманывать: отныне жизнь не будет прежней! Если все увиденное в чулане – правда, то как ему, распоследнему безбожнику, придавленному тяжким камнем вины, теперь разогнуться? До чего он довел семью… Как вышло, что пролитая кровь родного отца стала единственным выходом? Что сталось с матушкой и старшим братом Заккиром? Юноша не ожидал, что его побег и жизненный план обернутся для всех таким невыносимым горем. Что его неуемное честолюбие отразится эхом рыданий на Пепелище… Он-то наивно полагал, что с его исчезновением жизнь семьи продолжит катиться по старой колее – разве что одной спицей в этом колесе станет меньше…
Стая перепончатокрылых воронов продолжала кружить прямо над макушкой Умма. Их стало больше. Юноша задрал голову, прищурился и увидел, что над одним птичьим кругом виднеется другой – чуть меньше в диаметре. А над ним – еще один, и так до самого предела зрения… Ветер усиливался, грозя сбить Умма с ног, норовил вырвать нож из судорожно сжатых пальцев.
Откуда-то – не иначе как с самой верхушки черной спирали – донеслись отголоски приглушенного хриплого карканья:
– Цаа-ааа-аа…
– Йааа-ааа-аа-цццц…
– Йуууу-ууу-уу-ааа-аа!..
Чем ниже спускался по вороньим кругам звук, тем отчетливей делалось зашифрованное в нем послание. И вот оно собралось в единое слово, избавив Умма от необходимости разбирать крикливую головоломку:
– У-У-УБИ-ИЙЦА-А-А!
Интонация была не обвиняющей, а… торжественной. Как и церемониальное кружение страшных птиц.
«Они что, чествуют меня?!»
Умм не понимал, да и не пытался понять, смысл происходящего. Одно он знал: жизнь его воистину не станет прежней. Водораздел судьбы пройден. Дело сделано. Пусть хоть насмерть заклюют, хоть коронуют, хоть подцепят за шкирку – как отец новорожденного – и унесут на свои птичьи берега вершить суд над отцеубийцей!..
Вороны, продолжая выписывать в темном небе немыслимые петли, будто были слишком заняты своим ликованием и теперь уже даже не обращали внимания на изумленного стражника. Кажется, и карканье «убийца!» стало тише, птичий хор утратил былую стройность. Неужто чудовища потеряли к нему, Умму, интерес?
Схожая атмосфера, подумалось Умму, царила в Святилище на главные праздники цикла. Очень знакомое чувство – когда прихожане объединялись в религиозном порыве, позабыв обо всем преходящем, готовые принять благословление богов или верховной жрицы…
До чего же поразительна схожесть религиозного экстаза хархи с поведением этих дьявольских воронов: их единение, синхронность движений, горящие нетерпением расширенные зрачки… Ну каково, а?!
Новые раскаты карканья достигли слуха Умма. Теперь эти твари хрипели там – в беспросветно-темном небе – о чем-то своем, недоступном Умму. Они торжествовали и громко славили кого-то. И, похоже, на каком-то ином языке.
Все, что успел юноша выхватить из потока иноземной речи, низвергавшегося из длинных щелкающих клювов, было:
– Жатттвваа-аа-ййааа-ааа! Будет огненная священная жатва!
Их восторг проникал в грудную клетку Умма, бился в ней чужими токами, выхлестывал все его собственные ощущения и мысли. Он настойчиво звал присоединиться к вороньей спирали, почувствовать мощь их крыльев, власть над воздухом и ветром.
Власть над всем Харх.
И много больше.
Сил сопротивляться не осталось: Умм покорился, выпустил нож, вдыхая все глубже и глубже восторг, которым поила его стая чудовищ. Он жадно пил его, пока не замутило от этого незнакомого эликсира.
…Идея с отказом от завтрака не помогла избежать позора, которого так опасался Умм. Едва он открыл глаза в той самой «каморке» под куполом Святилища, его тотчас же вывернуло самым что ни на есть постыдным образом.
Вот теперь он и ощутил себя в полной мере пустым – во всех смыслах этого слова…
Глава 17 Предания Севера
«О великая Матерь звезд, божественное светило, дарующее свет, жизнь и надежду всем благочестивым хархи! Склоняю колени в беззаветном смирении пред твоим сияющим ликом и покорно принимаю избранную тобою для меня судьбу: счастливую или горестную, в изобилии или в нужде, легкую или тяжкую. Ибо верую: все замыслы твои есть благо, будь они хоть троекратно обернуты страданием тела и духа. С благодарностью и низким поклоном открыто внимаю твоим посланиям и, сколь позволено мне, вплетаю их в мысли и сны свои, дабы хоть на шаг быть ближе к тебе. Тем славлю я твой священный образ на грешной огненной земле Харх. Тем являю я бледную тень сути твоей. Тем творю я свое предназначение под звездами, сыновьями твоими».
Одинокая фигура, стоящая на коленях в дремотном полумраке молельни, была до того бездвижна, что со стороны казалась скульптурой. Меж тем рядом не было ни души, чтобы разделить подобную ассоциацию. Этого и не требовалось. Уединение – лучший компаньон для бесед с богами, что бы там на этот счет ни думала себе Йанги.
Окайра резко одернула себя. Ну вот опять! Куда это годится? В который раз за последнее время она позволяет непрошеным мыслям – и каким мыслям! – вторгаться в ее молитвы.
«Не взваливай тяготы осуждения других на свои плечи, – обратившись к строкам Семи наставлений, напомнила она себе. – Ибо ноша эта под силу лишь богам». Что ж, королева и не хотела осуждать: кто, в конце концов, она такая?.. Она только вспомнила… Да-да, именно всего лишь вызвала в памяти эту специфическую черту верховной жрицы острова. А что? Вполне имеет на это право!.. Ведь собирать многочисленную пеструю толпу, помпезно и театрально обставлять свои проповеди и обращения – это ведь действительно в духе Йанги! А уж эти разгульные празднества… «Каждый раз как в последний!..» – сокрушалась бывало королева, созерцая, как по любому религиозному поводу все Подгорье превращалось в одно большое гульбище. Утешало лишь одно: за грань – хотя, поди теперь уж разбери, где она! – никто пока вроде бы не выходил. Все обряды и торжества совершались согласно древним обычаям. И островные традиции – не поспоришь! – блюлись самым тщательным образом. И, кажется, все творилось исключительно в угоду богам, а значит, на благо простых смертных…
Однако как ни пыталась Окайра договориться сама с собой и унять бурлящее в душе недовольство – все ее попытки терпели неудачу. Безусловно, она никогда не забывалась в своем возмущении, памятуя, что осуждение есть прерогатива богов. Королеве и в голову не приходило оспаривать эту первоистину. Но спокойно смотреть, как священные дни и ночи праздников, ниспосланные Огненным в знак его милосердия и любви, превращаются в вереницу бесчинств…
Это уже было выше ее сил.
До Окайры не раз доходила молва о случаях откровенной жестокости, которыми венчались разлихие праздничные гуляния. А это новое поветрие – оргии!.. Как прикажете это понимать?! Королеву изрядно смутило такое вот воплощение духовно-телесного торжества, когда эдак семь звездных оборотов назад, в начале весны, на Древо праотцев, гонцы с южных земель известили о них Каффа. Окайра хорошо помнила тот прием: и их живописание открытых прелюбодеяний, и усмешки советников, и отчего-то блеснувшие странной искрой глаза короля. Она тогда мысленно ужаснулась, но не нашла в себе мужества возразить. Ибо, во-первых, сам король, по-отечески пошутив над «горячей южной кровью» и их религиозном усердием, беспечно махнул на новости рукой. А во-вторых, в то утро, еще до совета, передал ей с мальчиком-слугой изящную шкатулку из слоновой кости. Откинув круглую резную крышечку, королева обомлела от изумления: внутри одновременно золотистым и жемчужным цветом мягко переливалось драгоценное масло дерева мрахба. Вкрапления золотого и серебряного порошка – а чем еще могли быть эти сияющие пылинки? – превратили и без того баснословно дорогое масло в самую роскошную на всем Харх притирку для тела. Стоит закрыть глаза – и чувствуешь ее аромат: тысячи лепестков медовой розы, настоянные на мускусе высшего качества. Нежные лепестки и грубая кожа. Ничего лишнего. Что ж, с языком природных и ароматических символов Окайра была знакома не понаслышке: у выходцев с Севера он издревле был в почете, а королева гордилась своими корнями и родословной.
«Я, подлинный король Кафф, твой законный супруг, желаю посетить тебя грядущей ночью», – вот какое послание принесла в себе шкатулка. Аромат взял на себя работу пера и бумаги – атрибутов, давно канувших в Лету.
Затрепетавшая тогда в груди радость теперь вспоминалась с толикой застарелой горечи, отравлявшей тот, казалось бы, приятный эпизод.
Кафф тогда не пришел.
Как и не приходил много ночей до. Разница была лишь в том, что «до» он, по крайней мере, не позволял себе такие жестокие шутки и не втягивал Окайру в свои бессердечные игры.
Но так или иначе, горячая ванна и мыло с мочалом начисто – до скрипа – отскоблили сияющее драгоценное масло с ее тела. Вместе с его сладострастным ароматом и пустыми надеждами. Урок был усвоен. И не следует о нем забывать – ни в минуты искушения, ни в моменты отчаяния. Отныне в сердце Окайры осталось место лишь для любви религиозной и материнской.
Она так и не узнала, что ненавистное масло дерева мрахба было доставлено гонцами с тех самых «варварских» южных земель якобы от властвовавшего в тех краях королевского наместника Ахриба Медного Черепа. На свое счастье, Окайра нанесла его не на все тело, а только на пять секретных точек – опять же дань врожденной бережливости и северным традициям любовного искусства.
Каково было бы ее удивление, если бы ей сообщили, что переливающиеся звездным светом пылинки были вовсе не крупинками золота…
Королева провела еще несколько очень далеких от молельни мгновений. Отсутствующее выражение лица, взгляд в никуда… Так что же прервало ее вступление к молитве? Опять…
«Прочь! – Окайра едва не сорвалась на крик. – Прочь вы, мысли и никчемные воспоминания! Я не позволю вам вмешиваться в таинство моих бесед с Матерью звезд!..» Королева зажмурила глаза, словно пытаясь стереть из памяти все то, что препятствовало молитве. И, обращаясь уже к кому-то другому, добавила: «Я и так заплатила немалую цену за рождение Бадирта. И продолжаю расплачиваться по сей день…»
На глазах выступили слезы – свидетельство глубокой, но уже ставшей привычной горечи. Раны, что со временем рубцуются, но никогда не позволяют забыть о себе. Даже легчайший отголосок этой горечи может в любой момент возродить боль – и довести до исступления…
Окайра обреченно продолжала: «Думаешь, что я ничего не замечаю? Что меня может отвлечь вся эта мишура с возведением «святой королевы Окайры» в ранг живых божеств Харх? Может, кого-то это и потешило бы, а другому сошло бы за достойное утешение… Но не для меня!» Королева, безмолвно роняя слезы, спрятала лицо в своих узких ладонях. «Это… О Матерь звезд, да это ведь такое же святотатство, как ее разнузданные гульбища по всему Харх во время сакральных празднеств наших предков. Эта зараза уже отравила умы южан: народное прославление богов из священного обряда превратилось у них в акт грехопадения! И это безобразие не только не пресекается, а наоборот – ставится в пример!»
Окайра обмерла от беспощадной правды собственного вывода. В правде этой не оставалось места сомнениям. Недавняя проповедь Йанги в преддверии Горидукха была пронизана витиеватыми намеками на способы воспевания Огненного бога и «задабривания» Скарабея. Окайру, вместе с жителями Подгорья слушавшую жреческую речь, привели в недоумение фразы о «спаянности духа в единении тел», об «утешительном сладостном экстазе на пороге лишений Скарабея».
Правда истинная сказана в Наставлениях: всю соль бытия могут извлечь на поверхность откровенные беседы с Матерью звезд! Что ж, теперь королеве и впрямь открылась «соль» двусмысленной проповеди Йанги. Она, верховная жрица огненной земли, почти в открытую призывала население Подгорья восславить богов, следуя примеру южан! «Все это может и вправду случиться, – в отчаянии думала королева, – и тогда это увидят мои дети… А что хуже всего – Пастухи миров». Склонность к фольклорным образам вновь выдавала в Окайре ее происхождение. Кровь, как известно, не водица: она была дочерью ныне покойного королевского наместника на севере Харх, и прожив вдали от дома немало звездных оборотов, никогда об этом не забывала. Верность духовной философии земляков нисколько не приуменьшала ее истовую религиозность в общепринятом на Харх смысле. Напротив, разум Окайры довольно быстро выучился ловко сплетать исконно северное суеверие с почитанием канонов жречества.
Жаль только, что каноны эти в последнее время слишком уж расширили свои нравственные границы…
Молитва прервалась. Окайра не успела даже закончить вступление, призванное обратить внимание Матери звезд на отчаянно взывавшую к ней душу. Глубинный порыв – обязательное условие при обращении к высшим силам, – подобно высохшему роднику, иссяк. Вместе с ним исчезла и окрыленность, охватившая было монархиню в возвышенной обстановке молельни замка-горы. Только-только, казалось бы, снизошло на нее облегчение после тяжелого дня, обернувшегося и размолвкой с сыном, и обмороком, и зловещими видениями…
Говоря по правде, самым удручающим в этом дне были не принесенные им злоключения, а ясное до прозрачности понимание: она это заслужила.
А ведь вечер так хорошо начинался!..
В молельне веяло спокойствием и умиротворением: тихо горели свечи, на каменном полу были разложены подушки из малинового шелка (Окайра собственноручно расшила их плотной золоченой нитью), а с невысокого постамента взирала высеченная из черного мрамора Матерь звезд. Она была здесь не просто образцом скульптурного мастерства – весьма, надо признать, искусного, – а кое-чем гораздо большим. Изваяние, созданное лучшими мастерами Подгорья с учетом рисунков и пожеланий королевы, являлось отражением личных представлений Окайры об облике божества. И эта скульптура, пожалуй, лучше всех могла бы поведать о мировоззрении монархини. Да, именно эта безъязыкая мраморная фигура, «хозяйка» личной молельни королевы. На самом деле изначально предполагалось, что Матерь звезд займет почетное место в Святилище, украсив собой верхний ярус малого женского алтаря – у самого входа. Так задумывалось самой Окайрой. Да и Йанги определенно не имела ничего против «авторского» воплощения Матери звезд в камне: все рисунки и эскизы королевы были одобрены и не претерпели ни единой поправки от жреческой руки. Окайра радовалась. А что, у нее, вопреки высокому положению, не так уж часто возникали личные пожелания и прихоти!.. И это еще до появления на свет Бадирта. А уж после… Королева была неглупа и прекрасно понимала: «золотая рыбка», выполняющая желания, по ее душу больше не явится. Вот она и не взывала к ней понапрасну: что толку тешить себя сияющими побрякушками, платьями из вошедшей в моду цельнозолотной ткани да вычурной религиозной атрибутикой?.. Ничего из этого Окайра на себя даже не примеряла. И дело было не только в благочестивой скромности, которая повсюду сопровождала королеву невидимым ореолом. Главная причина – и о ней не догадывалась ни единая душа – была совершенно иной.
И простой, и мудреной одновременно.
Подлинная королева огненного острова Харх, супруга короля Каффа и дочь бывшего наместника Севера была глубоко убеждена, что недостойна того, что по праву предназначалось ей. Воздержанность, столь несвойственная женской натуре, была для Окайры искуплением. Возможно, она пыталась таким образом выровнять чаши духовных весов? Если отказывать себе в мирских соблазнах, закрыв глаза на все привилегии опалового венца, и стать живым образцом скромности, то это хоть немного утяжелит чашу добродетели Окайры перед лицом богов?.. Эти вопросы постоянно вторгались в ее мысли, сны и молитвы.
С такой регулярностью, что уже стали ее частью. Окайра просыпалась, принимала пищу, молилась, общалась с подданными и обнимала своих детей, окруженная стаей незримых вопрошающих воронов. И когда они начинали клевать, королева не жаловалась и не роптала на судьбу.
Она знала – за что.
И тут – впервые за долгое время – жене Каффа захотелось чего-то для себя. Казалось бы, всего лишь скульптура, или, вернее сказать, бюст, Матери звезд.
Окайра желала изготовить его не в виде традиционного звездного тела – таковых в Святилище и замке-горе имелось великое множество, – а в обличии женщины-хархи. Фантазия весьма смелая, учитывая строгость относительно божественных образов, испокон веков царящую на острове. Как бы то ни было, едва зародившееся желание мгновенно обратилось в мыслеобраз, а уж он – в связанную стопку восковых табличек с набросками. Нет, конечно, Окайра могла просто положиться на мастерство скульпторов. Достаточно ведь было лишь снабдить их подробным устным описанием своего видения, запастись терпением и ждать результата. Именно так обычно и поступали высокопоставленные заказчики предметов искусства. Однако сложность состояла в том, что это был не просто заказ. Королева не могла отдать «свою» Матерь звезд на откуп воображению мастеров. Над нею неотступно властвовало убеждение, что, поступи она так, божество обидится и окончательно отведет от нее свой сияющий взор. Окайра понимала: раз она обрела столь навязчивую идею, то обращаться с ней стоит предельно бережно. И если Матерь звезд осудит ее за немыслимую дерзость, то королева сможет рассчитывать на некоторое смягчение за свою искренность и чистосердечие…
Рассуждая так, монархиня скрупулезно – штрих за штрихом – передала податливому воску буковых табличек все подробности своего представления о лице Матери звезд. Белые, словно меловые, эскизы на глади темного воска красноречиво поведали о том, что, по мнению Окайры, божество обладало чертами лица коренной хархи. Что лицо это не отличалось ни пленительной красотой (в противоположность лицу той же Йанги), ни исключительной одухотворенностью, ни внушающей трепет властностью. Проще говоря, ровным счетом ничего от привычного «народного» образа высших сил, широко распространенного на огненной земле. Причем «широко» – это еще слабо сказано. Спроси хоть старца, хоть несмышленое дитя – и они в один голос ответят, что на табличках изображена самая что ни на есть обычная женщина-хархи. Средних лет, с широким лицом и несколько квадратным подбородком, с плотно сомкнутыми полными губами, узким разрезом полуприкрытых глаз, равномерной разметкой мимических морщин и убранными назад вьющимися волосами. Пальцы рук, грубоватые для женских, сложены треугольником и прижаты к губам.
Вот тебе и вся богиня – ни за что не отличишь от самой заурядной крестьянки.
Тем не менее в ней было кое-что еще. Эскизы об этом умалчивали, но изваяние, по задумке Окайры, должно было как бы выходить из многолучевой звезды – своей небесной ипостаси. И это была не просто дань прихотливой фантазии, а выражение еще одного глубоко сокровенного верования королевы. В переводе с языка ее интуитивно-образного мышления это звучало бы так: «Матерь звезд живет и находит свое воплощение в каждой женщине огненной земли». Из сияющего божественной недосягаемостью небесного тела выходит не всемогущая богиня, а простая смертная. Более того, ее раба! Она, позабыв о себе, о собственных прихотях и капризах, отказавшись от уловок обольщения и кокетства, самозабвенно молится о счастье любимых и близких. Возможно, даже и врагов, тем самым сдерживая их жестокие замыслы – им же во благо. Каждая ее черта, каждая морщинка буквально дышит жертвенностью и смирением перед лицом собственной судьбы. Она одновременно вымаливает лучшей жизни для детей и покорно склоняет голову, принимая любую участь для себя…
Стоит лишь на мгновение заглянуть в глубины сердца Окайры – и станет ясно: большего откровения в нем не найти. Это было и ее утешение, и оправдание, и вызов, и смирение. Ей нужен был этот лик. Именно такой. Чтобы открывать перед ним тайники своей души, делиться впечатлениями дня и усердно, истово молиться.
Молиться так, как она уже никогда не сможет в стенах Святилища, преследуемая надменным прищуром Йанги. Ибо именно при таких обстоятельствах вопрошающие вороны не только путали мысли и сбивали с «молитвенного сердцебиения», но и порой грозились выклевать глаза.
При всем при том прихожане, вытаращившиеся в Святилище на уже готовую скульптуру, вовсе не разделили тогда философии своей королевы. Что, дескать, за селянка взяла себе грех на душу, самовольно поселившись на священном звездном теле? Что она о себе возомнила?! Кто вообще выдумал такое окаянство? Смертные не достойны видеть лицо всемилостивой Матери звезд – возлюбленной самого Огненного бога! Ибо оно ну страсть как совершенно и красота его не по нашему хархскому скудному умишку! Узреть ее достоин токмо лишь Огненный – на то он и бог!
Ко всему прочему – совершенно неприличный цвет изваяния.
– Где это видано, чтобы лик Светлейшей Матери был высечен из черного мрамора?
– Кто посмел облечь нашу защитницу в траур?! – негодующе вопрошали верующие друг у друга.
Да, в то злополучное утро всенародное вознесение молитвы на грядущий хлад Летучей мыши – начала зимнего сезона Харх – определенно не задалось. Святилище буквально кипело от неодобрительных взглядов и осуждающего шипения, плавно перерастающего в гул ропота. Благо бюст находился на безопасной высоте алтаря, иначе – голову на отсечение! – не выдержать бы ему праведного гнева толпы!..
Что ж, откровенно говоря, Окайра и не ожидала, что «ее» Матерь будет принята подданными. А на то, что хоть кто-нибудь из них уразумеет истинное послание божества, и вовсе не надеялась. Ей было вполне достаточно, что скульптура хоть единожды «побывала» в главном островном Святилище, впитала в себя живительный дух хоровых молебнов и «познакомилась» с верховной жрицей и народом. Нет, разумеется, королева сознавала, что настоящей Матери звезд и без того все прекрасно видно с высоты ее небесного трона и что «сводить» ее с представителями ею же созданного мира – глупость несусветная, которая к тому же отдает душевным расстройством. «Но ведь «моя» Матерь-хархи – она же совсем другая! – рассуждала, дивясь собственным мыслям, Окайра. – Раз уж она наделена нашими чертами, то, значит, и во всем остальном она такая же хархи, как и мы… И чем ближе она к нам – тем прочнее священные узы между мирским миром и вечностью! Между Матерью звезд и нами – ее детьми, за которых денно и нощно болит ее душа!..»
Потому-то Окайра остановила выбор на черной горной породе, которая, вопреки подозрениям прихожан, не была «трауром» или иным выражением глубокой печали. Нет.
…Королева в задумчивости остановила взгляд на простом лике Матери-хархи. Лицо из гладкого черного мрамора, испещренное тонкими золотистыми прожилками, на удивление естественно проступало из центра каменной гексаграммы. Ее лучи плавно расходились симметричными волнистыми линиями так, что казались прядями волос. Вьющихся и непослушных, как у всех коренных хархи. В вечернем сумраке молельни, разбавленном лишь пятью огоньками свечей, они в самом деле казались блестящими угольно-черными локонами, которыми любовно играет налетевший с Вигари ветер… Словно Матерь-хархи, следуя своей старой «земной» привычке, убрала волосы назад – именно так, как это выглядело на набросках Окайры, – но природная стихия внесла в ее прическу коррективы. Так или иначе, скульптура, затерянная в собственном духовном лабиринте, этого вовсе не замечала. И ей определенно не было дела до своего внешнего вида.
Как и Окайре. Они обе, погруженные в совершенно иные заботы, были слишком далеки от этой чепухи.
«Пожалуй, нужно вернуться к молитве», – решила королева. Слишком долго она отступала и откладывала. Пора наконец высказать божеству то, что не дает покоя уже почитай как тринадцать звездных циклов. Окайра, конечно, посылала об этом небу мольбы. Давно. В том-то и дело, что это были именно мольбы – несвязные, сумбурные, путаные. Всегда неизменно отчаянные… Теперь же пришло время осознанной молитвы, и надо прочесть ее по всем правилам, по всем канонам. Работа сложная, утомительная, словно кропотливая вышивка по изнанке собственной души. Она требовала предельной искренности и открытости, равно как и предельной внутренней собранности. Ведь речь шла не о пустяках или каких-нибудь обычных, «рутинных» обращениях к высшим силам, привязанным, скажем, к смене звездных фигур на небосклоне. Тут дело обстояло куда серьезней, а потому и подготовка нужна несравнимо ответственнее. Окайре предстояло вымолить милосердие и обеспечить небесное покровительство для своих детей. Она чувствовала: ей необходимо защитить их перед лицом духовной стези, на которую они оба встали в столь юном возрасте. Рувва – в стенах огбаха для светлых сестер, по зову собственного сердца, а Бадирт… Ох!.. Королеве действительно было непросто думать об этом, не испытывая ядовитых уколов вины.
Младший сын еще до рождения был предназначен Святилищу. Хотя какой тогда был выход?.. Иначе огненный остров лишился бы преемника опалового венца, а Кафф – долгожданного и единственного наследника…
Довольно! Окайра набрала в грудь побольше воздуха. Хватит оправданий! Это бесконечное самоедство за последние звездные циклы успело ей изрядно опротиветь!.. Она готовилась. Она выучила наизусть пять основных частей своего обращения к Матери-хархи – да, молитва будет предназначена именно ей, а не традиционным фигурам из Святилища – и мысленно расставила их на позиции. Расставила, словно будущее войско слов-защитников, призванное уберечь детей от жестокостей судьбы. Да, так она и планировала: вступление, вознесение почестей Матери звезд, исповедь о Бадирте, исповедь о Рувве и в завершение заклинательные трехстишия.
Пять усилий души. Пять духовных посланников. Или пять взводов ее, Окайры, войска под флагом короны из трех треугольников? Это уже было неважно – лишь бы укрыть свою плоть и кровь от последствий клятвы, данной когда-то Йанги в приступе отчаяния. Чтобы детям, не приведи Огненный, никогда не пришлось расплачиваться за решение матери…
Больше откладывать нельзя! Кто знает, чем закончится следующий обморок?
И вообще говоря, ни один оракул не в силах своевременно предостеречь от угроз завтрашнего дня. Они, вместе с порождающим их злом, творятся силами, неподвластными ни королям, ни огненной ярости легендарных воинов Харх. Это Окайра знала наверняка.
Королева сосредоточилась на лице Матери-хархи, так похожем на ее собственное, посильнее сжала обереги между ладонями, сплела пальцы в ритуальный знак и приготовилась к нелегкой духовной работе.
Последний глубокий вдох, словно перед прыжком, и можно начинать.
«О великая Матерь звезд…»
Фраза так и не была закончена. Ее оборвали шум шагов за спиной и движение воздуха, потушившее одну из пяти свечей. В молельне сделалось еще темнее, а лицо Матери-хархи еще больше слилось с хмарью вечерних сумерек. Воображение королевы, усиленное сакральной обстановкой, услужливо добавило необходимые детали: изваяние будто бы лишилось своего лица…
«Что это? – лихорадочно забегала глазами по молельне Окайра. – Очередной дурной знак? Или повторение утреннего обморока? Что дальше? Быть может, вся комната поплывет во мрак, а там уж и я вслед за ней?..»
О продолжении молитвы думать не приходилось. Вновь она погибла в зародыше, не успев распуститься цветом истинной веры в тиши молельни, укрытой от чужих глаз. «Как те, кто был до Бадирта…»
Боясь снова оказаться в удушливом плену беспамятства, королева, продолжая глубоко дышать, часто заморгала. Окружающая обстановка замелькала вспышками света, а нос остро защекотала струйка дыма, исторгнутая на прощанье фитилем потухшей свечи. И, кажется, монархиня была в молельне уже не одна… Она, не меняя коленопреклоненной позы, медленно обернулась.
Нет, Окайре определенно все это снилось…
– Вижу, что сознание вернулось к тебе, коль скоро ты уже ведешь задушевные беседы со своей названой сестрой, – резонно заметил Кафф, подходя ближе к супруге. Добродушия в его голосе чуть-чуть не хватило, чтобы смягчить снисходительно-насмешливую интонацию.
Впрочем, с отстраненной манерой общения мужа Окайра за последние созвездия волей-неволей успела свыкнуться. Как и с его легким, но ощутимым небрежением к ее набожности. Все это было не в новинку и уже давно перестало ранить. Что, в конце концов, такого, что муж шел к Огненному богу другой дорогой? Может, эта дорога для него – единственно возможная?..
Королеву встревожило иное.
Чтобы он, подлинный король Харх, решил вдруг лично посетить скромную молельню Окайры? К тому же в самый обычный день, не отмеченный каким-либо религиозным праздником? В голове мелькнула робкая мысль о том, что обеспокоенный супруг явился сюда в поисках нее самой, прослышав об утреннем инциденте. Мелькнула – и тотчас исчезла.
Тем не менее он явился. Кафф во всем своем величии стоял в сакральной обители жены, и это было еще более диковинно, чем если бы то же самое происходило в ее опочивальне.
Окайра окинула царственного супруга испытующим взглядом и вынесла неизменный вердикт: годы над ним не властны. Да и властно ли вообще что-либо?.. В ее глазах супруг представал все тем же молодым наследником опалового венца, вошедшим в Зал славы северных воинов, окруженный щеголеватой стражей, там, на милой сердцу родине за горной цепью Убракк. И хоть к тому моменту Игхор, ее отец, уже вынес не подлежащее обсуждению матримониальное решение, сердце юной Окайры затрепетало так, словно она готовилась вступить в нешуточную борьбу за внимание этого мужчины.
Вот он стоит посреди ее личного маленького оазиса, едва подсвечиваемый трепещущими на сквозняке свечами – безоружный, в своем повседневном льняном хитоне, на белоснежной ткани которого небрежно раскинулись волнистые пряди темных волос… По рельефным скулам скользят золотистые отсветы, подчеркивая бронзу кожи. Ох, как же раньше – десятки созвездий назад – эта мужественность волновала кровь Окайры!..
Но, увы, не теперь. «Видно, полдня провели с Явохом за своими танцами с мечом: лоб уже будто из меди отлит…» – устало отметила про себя королева, делая усилие, чтобы скрыть раздражение. Стоит признать, что его причина крылась вовсе не в недостатке мужниного внимания и заботы. Теперь. Так уж вышло, что с определенного момента Окайра больше не нуждалась в ней, обходясь собственными энергетическими ресурсами: молитвами, мантрическими трехстишиями, диалогами с Матерью звезд, неспешными философскими рассуждениями. Все эти духовные утешения по иронии судьбы заменили ей супруга. И вот теперь уже его вторжение в сокровенный мир отзывалось маленьким внутренним бунтом, который легко гасился двумя-тремя глубокими вдохами и короткой мысленной мантрой.
Как бы ни складывались обстоятельства, за последние созвездия она действительно многому научилась. Ей пришлось.
– Благодарю за заботу, Ваше Величество. Силами Аннума я уже вполне сносно себя чувствую, – вовремя успела ответить супругу Окайра, придерживаясь самого учтивого тона.
Вот и прекрасно. Муж получил ответ на свой вопрос, пауза не успела стать неловкой – разве не успешно парировала она вызов?
– Надеюсь, что Матерь звезд услышит твои молитвы и ниспошлет тебе доброго здравия. – Кафф показал на изваяние из черного мрамора.
«Вечное это твое доброе здравие… – вспыхнула про себя королева, не в силах побороть новую волну раздражения. – Вот уж правду народ молвит: ты не меняешься!.. Как начал повторять эту присказку за своим отцом в шестнадцать, так она к тебе намертво и приклеилась…» Однако все это было запрятано слишком глубоко, чтобы хоть изгибом брови отразиться на лице Окайры.
И вместо упрека слуха ее мужа коснулся вполне благопристойный ответ:
– Да внемлет Светлейшая посланию твоему, мой господин, да вернет тебе троекратно благопожелание твое.
Королеве нравилось, как свободно и естественно она извлекала эти словесные аккорды. Ее невидимый щит, выплавленный из Семи наставлений, древних молебнов и жреческих учений, позволял отразить любое нападение извне. Почти любое…
Кафф улыбнулся одними губами. Уверенной походкой он пересек линию из вышитых малиновых подушек, на которых застал супругу, и подошел к тяжелому серебряному канделябру. Супруг Окайры со значительным видом оглядывался по сторонам, словно в аскетичной тесной молельне и впрямь было что изучать взглядом. «Чувствует себя здесь гостем», – с некоторым удовлетворением заключила Окайра. Незаметно кивнула сама себе: «И правильно».
– Окайра, ты, как всегда… – Кафф помедлил, подбирая слово, – деликатна.
«Не удивлена», – мысленно усмехнулась королева. Похоже, ей действительно начало доставлять удовольствие «считывать» внешнюю сторону поведения супруга. «Светские эпитеты всегда заменяли тебе истину, мой господин. И ты в этом ничем не лучше меня. Точно так же укрываешься ими от неудобств этого мира. Как и все короли, наверное…» Это обобщение помогло Окайре немного смягчить свой категоричный вывод. Как бы ни обращалась с ней судьба, королева никогда не славилась острым языком.
Что ж, «похвала» мужа прозвучала как утверждение, не требующее ни ответа, ни – подсказывала Окайре интуиция – даже благодарности. Ей оставалось лишь скромно опустить глаза и внимать.
Шестое чувство не подвело.
– Вчера мы оба были на совете. Помнишь слова Имита?
Да, какой-то частью сознания королева удерживала тревожную мысль о зловещем прорицании звездочета. Но, что уж скрывать, у нее был тяжелый день. Он принес с собой и размолвку с Бадиртом, и вызванную ею же немощь, и грубое вторжение в молитву… В ком эти злосчастия не заглушили бы эхо суеверных опасений? Спасибо заботливому супругу: он потрудился напомнить Окайре о пугающих рисунках звездочета. И королева была почти уверена в главной причине этого напоминания. Кафф наверняка воспользовался им для того, чтобы поскорей вернуть супругу к насущным вопросам острова.
Коротким кивком головы Окайра показала, что память ей пока не изменила и Его Величеству нет нужды утруждать себя пересказом речи Имита. Королева отлично понимала, что большего от нее сейчас не требуется. Она выскажется уже после того, как муж закончит с той частью своих измышлений, которыми вознамерился с нею поделиться. И выскажется именно о той части проблемы, о которой Кафф желает узнать ее мнение, – не больше и не меньше. Ей, подлинной королеве Харх, уж точно не пристало ахать и охать перед мужем, точно перепуганной суеверной курице.
Король удовлетворенно сложил свои большие загорелые ладони в знак того, что дальше речь пойдет как раз о том самом пророчестве. С тенью привычного недоверия покосившись на изваяние Матери-хархи, он продолжил:
– Скажу тебе, как моей подлинной и законной супруге, прямо: я опасаюсь.
Голос мужа приобрел знакомые – не из далекой ли юности? – доверительные нотки. А его сдержанность, обусловленная, конечно, только лишь религиозной обстановкой, вызвала у Окайры ассоциацию с исповедью. Только вот перед кем? К Матери-хархи он всегда относился как к безобидной жениной блажи. А вот к ней самой…
Так уж вышло, что теперь Окайра действительно не знала ответа на этот вопрос.
– Опасаюсь, что слухи уже поползли.
Будто бы опомнившись, Кафф попытался вернуть уверенно-звучную интонацию. Однако в его голосе не было ни мощи, ни властности. Голос будто бы вообще принадлежал не ему, а придворному шуту, осмелившемуся на пародию. Тем не менее Кафф, не отступаясь от задуманного, продолжил:
– Прошел всего лишь один день, а мне уже доложили о волнениях в народе. Кто их знает, быть может, слова о пророчестве как-то просочились за стены Грота заседаний. А может статься, хархи и сами что-то углядели…
Король в глубокой задумчивости перебирал пальцами по своей мощной, золоченой от загара шее. Глядя сквозь узкие проемы окон – в сизую бесконечность вечернего неба, – он поведал:
– Я приказал на время оставить звездочета в замке-горе. Ему отведена собственная палата и все необходимое. С Ладони ночью открывается прекрасный вид на звезды – ничуть не хуже, чем в горах. Ты спросишь: зачем это все? Во-первых, я предвидел суеверные припадки среди населения. Ни для кого не секрет, где обитает Имит, а потому мне необходимо было обезопасить его от лишних беспокойств. К тому же в уединении и под охраной ему будет проще сосредоточиться на наблюдениях и избежать ошибок, которые могут стоить ему жизни, а опаловому венцу – репутации. Во-вторых, держа Имита рядом с собой, я смогу своевременно узнавать обо всех изменениях в строении Ящера. Это позволит вовремя предупредить население о возможных угрозах (или, напротив, возвестить о «ложной тревоге») и успеть с мерами защиты. Если речь идет только о засушливом Скарабее, то тут и опасаться особо нечего: мои гильдии и вверенные им рабочие силы подготовились на славу.
Окайре показалось, что муж обращается не столько к ней, сколько к кому-то невидимому, находящемуся за пределами молельни. А может, и вообще за пределами знакомого ей мира… Как будто он находился не тут – на расстоянии вытянутой руки, – а бесконечно далеко.
– Но! – В такт своему восклицанию он поместил перед грудью клин из сложенных ладоней.
Окайра напряглась: верный признак, что сейчас должно прозвучать то, о чем супругу трудно говорить… Она незаметно сплела пальцы в ритуальный знак и направила ему мантрический посыл на стойкость духа. И – вот чудеса! – это помогло. Кафф заговорил свободно, не стесняясь делиться мыслями и тревогами с ней, своей странной, не от мира сего женой:
– Но что бы мы ни предприняли здесь, в замке, и как бы ни старались уберечь наш народ, всегда будет оставаться то, перед чем мы бессильны. – Он разомкнул клин ладоней и развел руками. – Я говорю о нас, о хархи – в самом плохом национальном смысле. Клубок слухов растет день ото дня. И – я знаю, и ты знаешь – они уже поползли по Подгорью. Я чувствую это, Окайра!..
Он что, взял ее руки в свои?.. Нет, это точно сон! Но, пожалуйста, Матерь звезд, пусть он не заканчивается!..
Кафф, продолжая вглядываться в сумеречную звездную даль, сделал глубокий вдох. Черные глаза сосредоточенно сузились, широкие ноздри несколько раздулись, под тканью хитона расправилась мощная грудь и распрямились широкие плечи. Окайре он виделся хищным зверем – вожаком огромной дикой стаи. Он не безмятежно-самодовольно созерцает свои владения! Он прислушивается к обрывкам старинных песен, к отголоскам народных толков и пересудов, к эху едва различимого шепота, недобро шуршащего вокруг ночных костров. Вместе с йодом Вигари он вдыхает в себя каждую искаженную временем легенду, весь цветастый хоровод домыслов и все до единого детские всхлипывания, вызванные видениями из незнакомых страшных снов. Да, он, ее Кафф, словно хищник, навис над собственным гнездом, готовый накрыть его телом!..
Окайра чуть не ахнула в искреннем изумлении: таким королева не видела мужа, пожалуй, никогда. Она замерла – не живее наблюдавшей за ними скульптуры, – держа свои руки в его ладонях и боясь нарушить негаданное волшебство неосторожным вздохом. Время остановилось… Какое, оказывается, благо – не возводить «высоконравственные» крепости, не отгораживаться ими от мирских событий и близких!.. «Надо просто жить – открыто и жертвенно! – с восторгом глядя на мужа, подумала Окайра. – Молитвы – это, безусловно, моя помощь семье и народу, но… – она еще раз украдкой посмотрела на Каффа, – что в них толку без тех, кто своей волей претворит их в жизнь?.. Недаром Огненный бог так ценит нашу силу, нашу внутреннюю ярость – благословение предков. Нужно делать то, что можешь, ради других – будь то шепот мольбы, или взмах клинка, или подавление собственной гордыни».
Одна истина следом за другой, словно распускающиеся цветы, торжественно венчали мысли Окайры. Всем своим существом она сплелась с душой мужа, а значит, с его ответственностью перед небом и народом, с переживаниями за весь Харх и каждого его жителя. Когда теперь они вот так – рука в руке – стояли перед лицом мрачных пророчеств, устрашающих созвездий и смутной будущности, королева наконец ощутила себя почти счастливой. Она готова взять на себя тяжесть мужниной ноши, забрать его волнения и бессонницу.
В какой же момент венценосный супруг пожелал прервать их спонтанную идиллию? Как долго ладони Окайры грелись в чудотворном тепле его крепких рук? Королеве было сложно сказать: может, всего-то несколько золотых мгновений, а быть может, уже и утро не за горами… Она очнулась от звука его голоса и нехотя стряхнула лоскуты сиюминутного блаженства. Они тотчас рассыпались серым пеплом воспоминаний, и безразличное ко всему прошлое увлекло их в бездну забвения.
– Окайра, ты слушаешь меня? – словно откуда-то из-под воды донесся до нее знакомый требовательный возглас. Руки уже не ощущали благословенного тепла. Да и звездное небо успело завернуться от посторонних глаз в изорванный капюшон пыльно-серых облаков. – Окайра?!
Королева, словно оправдываясь за свои неуместные грезы, приложила треугольник из пальцев к груди: верное уравновешивающее средство. В подтверждение своего внимания она сказала:
– Разумеется, Ваше Величество. Мы вели беседу о слухах вокруг предзнаменования Имита, который ныне находится в замке-горе.
О своих чувствах во время совместного созерцания ночного неба и истовом желании взять на себя духовный груз супруга королева сознательно умолчала. Кафф только что сделал первый шаг ей навстречу – впервые за долгие созвездия ледяной равнодушной учтивости. Не хватало сейчас нагородить религиозных словес вперемешку со слезливыми женскими сантиментами – и по собственной глупости все погубить! «Как тринадцать звездных оборотов назад…»
Кафф, даром что умелый дипломат, все же влил ложку дегтя в так хорошо завязавшуюся беседу:
– Да, слухи…
Повернувшись спиной к узким оконным проемам, король подошел к черной мраморной скульптуре. Задумчиво глядя на Матерь-хархи, он наконец высказал свое тайное намерение:
– И, дабы не дать страхам укорениться, нам следует выпустить их наружу.
Пространное высказывание оставило в сердце королевы целую вереницу опасливых предположений и пугающих догадок. Вся эта гамма эмоций с точностью слепка отпечаталась на лице Окайры. «Выпустить наружу?.. О чем ты? Что ты хочешь предложить нашему честному, прямодушному народу, готовому уверовать в любое мало-мальски складное сказание?..»
Супруг избавил Окайру от необходимости формулировать вопрос. Ответив уверенным кивком на ее недоумевающий взгляд, он, словно выступая с речью на совете, сообщил:
– Это сделает Горидукх.
Королева смотрела на несказанно довольного собой мужа и с горечью понимала: он имел в виду не усердие коллективных молебнов и не удвоенные жертвоприношения ненасытному Скарабею. «Неужели…» – ахнула она про себя, на лбу ее обозначились глубокие морщины. Королева принялась беззвучно молиться, украдкой косясь на молчаливое изваяние: «О Матерь-хархи, только не это!..»
Впрочем, с молитвами она, видимо, опоздала. Опять.
– В этот раз мы проведем наше ритуальное празднество не так, как всегда, – произнес Кафф. – Как ты помнишь, в этом звездном цикле мне посчастливилось переждать хлад на южных землях Чарьа, а заодно навести порядки на восточно-степных границах вместе с наместником Сауггом, наследником Ахриба Медного Черепа.
Окайра окончательно поникла. Муж мог не продолжать. И не делать из нее темную затворницу, несведущую в государственных делах. Ей прекрасно было ведомо о цели того длительного путешествия на юг острова: как же прирожденный копьеносец Кафф мог упустить возможность «поиграть в войну» с восточными задирами, да еще и в компании своего молодого южного ставленника?.. Ускакал, прихватив несколько передовых отрядов военачальника Рагадира. А уж о моральном облике молодого наместника Саугга – этого новоявленного «регионального фаворита» Каффа и по совместительству царька полудикого Чарьа – королева уже тоже давным-давно имела собственное мнение. «Неужто эпидемия грехов южан уже и до нас добралась…»
Дальнейшая речь короля – да, это уже была не доверительная беседа, а именно речь, твердая и императивная, – дала исчерпывающий ответ на сей вопрос.
– Вижу, что помнишь. Так вот, Саугг поделился со мной некоторыми… скажем так, местными традициями, связанными с Горидукхом. Вера южан допускает, что отвести множество напастей Скарабея можно не только задабривая его. Нет, разумеется, они чтят заветы древних: алтари исправно пополняются жертвами, в том числе и кровью добровольцев; из пирамидных святилищ денно и нощно раздаются молитвы. Но это не все. В ночь проводов Ящера южане стараются показать Скарабею, что они – потомки легендарных огненных воинов. Что они есть продолжение бесконечной цепи поколений, переживших его засуху и слепящие смерчи. То есть, – Кафф перевел взгляд с изваяния на побледневшую Окайру, – своими действиями они говорят Скарабею, что дань традициям предков – это одно, а их собственные желания, позывы и… безумства – совсем иное. Потому у них в Чарьа повелось выпускать свои страсти на волю именно в ночь Горидукха: они не только жгут костры до небес, пекут пироги из дичи с красными ягодами и хором славословят богов…
– …но и предаются коллективному грехопадению, перечеркивающему все эти благочестивые действа! – не выдержала королева. Крайнее возмущение придало ей смелости. Окайра даже не заметила, что вторглась в неприкосновенные воды монаршего монолога. – И ты, – условности, вроде «Ваше Величество», тоже полегли под натиском разбуженного гнева, – хочешь, чтобы наш народ таким вот средством отвадил от себя гнет Скарабея?! Стонами оргий? Видом бесстыдно обнаженных тел? Вкусом и соком плоти чужой жены?
Что и говорить, после всех событий того бесконечного дня у королевы осталось ничтожно мало сил. Она ощущала себя пустым сосудом, пересохшим ручьем в песках… Но если все же в ней осталось хоть что-то от ее духовной и женской силы, то сейчас она пошарит по закоулкам сознания и – во имя Матери звезд! – обрушит на Каффа! Даже если придется расплатиться новым обмороком или какой другой хворью…
Она будет готова уплатить столько, сколько потребует у нее небо в обмен на эту смелость!
Окайра сделала два шага навстречу супругу. Он вновь снисходительно ухмыльнулся, как бы говоря: что, дескать, от тебя можно было ожидать, послушница в короне! Монархиня расправила плечи. Дальше ей не пришлось прилагать усилий, ибо слова – грозные и ожесточенные – полились сами собой.
И в них, признаться, не было уже ничего ни от веры, ни от любви.
– Тебе был знак, Кафф, – взметнула Окайра вверх правую ладонь – ни дать ни взять вещунья из-за северных гор.
Привычная ухмылка сползла с красивых губ короля. Нет, он не испугался. Пока. Его охватило любопытство и предвкушение необычного представления. Что ж, «публика» его получит, да только вряд ли останется довольна…
– Звезды древнее и мудрее нас, – тем же нравоучительным тоном изрекла Окайра, – будь мы хоть тысячу раз коронованы. – Да, она тоже будет делать из мужа олуха и невежду, напоминая ему, как и он ей, очевидные вещи! Почему бы и нет? Она, Окайра, всегда быстро училась и хорошо усваивала уроки. – И вот ты видишь, точнее, к тебе приходят и под нос суют предупреждение, которое звезды сочли нужным тебе оставить. Мы ничтожны, слабы и к тому же слепы – потому не ведаем, что именно несет в себе небесное послание! Но боги, сильные и всеведущие, прощают нам нашу дремучесть, говорят с нами на понятном нам языке. Ящер мертв, Кафф! Спроси любое несмышленое дитя: хороший это знак или дурной?! Пойди к Имиту, которого ты, словно придворного шута, теперь держишь при себе, и поинтересуйся его трактовкой. Или, может, ты думаешь, он ответит, что это – к мягкой погоде и полному штилю в островной жизни?! Нет, Кафф! Тысячу раз – нет! И тебе это доподлинно известно! С неба на тебя глядит не просто причудливый рисунок! Не случайное совпадение в расположении звездных тел!
Кажется, такая резкая перемена в поведении и интонации королевы возымела эффект. Но, увы, не совсем тот, на который она рассчитывала. Да, ей удалось завладеть вниманием супруга, в чем последнее время она была не особенно сильна, но вот обратить в свою веру – явно оказалось не во власти Окайры. Нет.
Тысячу раз – нет.
На лице Каффа отчетливо отражалась борьба любопытства, насмешки и удивления. Каждое слово, каждая фраза жены пробуждали к жизни то одну, то другую эмоцию.
Слабость разливалась по смертельно уставшему телу королевы, размывая песчаные замки словесных конструкций – единственного оружия против тронувшегося умом супруга. Окайра уже с трудом улавливала нить и подбирала нужные слова.
Она провалилась в кромешную пропасть, и над ней уже сошелся шов земляной трещины… Очень, кстати говоря, похоже на утреннее «затмение». Только тогда она была лишь беззащитной жертвой, а ныне… «Всемилостивая Матерь звезд, обними своим благодатным светом и укрой от напастей мира! Ибо, клянусь, я не хочу верить, что сейчас я выбрала этот греховный путь сама!.. Опять…»
– Ты видишь, – все-таки продолжала Окайра, – ты сам прекрасно видишь, что это – предупреждение! Мы все что-то делали неверно: ты, я, совет, гильдии, воины, купцы, ремесленники, крестьяне! И, быть может, даже наши великие предки!.. Все мы грешны – до последнего юродивого! Боги нами недовольны: их гнев уже вычертил нам на небе свое послание. Да, солдаты твоей армии – образцовые потомки огненных воинов-хархи. – Как бы ненароком вплетя в свою речь эту притворную похвалу, королева слегка понизила голос. – Своей доблестью и мужеством они исправно поддерживают пламя священной ярости на зубцах короны Огненного бога. И, безусловно, наши жертвы, молитвы, обряды, искры ритуальных костров и курящиеся благовония святилищ – пусть и ничтожно, но воздают Матери звезд за ее безграничную милость. О да, мы бережно взращиваем в себе и в наших детях то, что делает нас хархи! От созвездия к созвездию мы заново вышиваем этот завещанный праотцами узор: закаляем тело и укрепляем дух, служа нашим богам.
Кафф вскинул бровь и согласно кивнул, разводя руками: так чего же, мол, им не хватает? То, однако, была лишь мимика, которую он, опытный политик, в любых обстоятельствах умел подчинить своим целям. А вот взгляд…
Взгляд – вот что может выдать истинные чувства. Аксиома, известная всем от мала до велика, и Кафф ее не учел: из глубины его угольно-черных глаз предательски сочилось смятение.
«Это я пробудила его к жизни! – не без удовольствия отметила Окайра. – Я, и только я, вытащила на поверхность затаенные страхи и опасения! Может, они-то и помогут отвести грядущие бедствия?..»
Что и говорить, королеве ничего другого не оставалось, как крепко ухватиться за страхи, вцепиться в гриву опасений да почаще огревать их кнутом. Вдруг это многоголовое чудище в конце концов одолеет греховные помыслы супруга и тем самым оградит их родной Харх от верной погибели?..
Ох и непросто обуздать столь ретивого скакуна, к тому же воображаемого! Особенно если учесть, что в сознании Окайру удерживало одно лишь внимание Каффа. И его глаза, блестящие влажными ониксами в игре свечных бликов…
Неужели они, эти глаза, ждали слов от нее? Когда вообще последний раз было подобное?.. Королева предпочла не тратить силы на праздные воспоминания и – если воля еще не окончательно покинула ее – вложить остатки сил в последний довод.
Эти муки, эта борьба, полная страдания и решимости… Такие близкие и знакомые. «Как тогда за Бадирта…» – полоснула непрошеная мысль.
Нет. Сейчас не время! Пробившись на поверхность, эти воспоминания непременно собьют ее с намеченного пути, запутают следы прозрения, по которым Кафф должен во что бы то ни стало добраться до истины! Дрожащей рукой Окайра резко отбросила тугую прядь волос со лба, словно отмахиваясь от незримого препятствия. Второй рукой оперлась о гранитный постамент. И, стараясь удерживать взгляд на бесстрастном мраморе скульптуры, начала давать свои ответы… Которых, собственно, никто и не спрашивал.
По крайней мере, вслух.
– А что, если все это – вовсе не то, чего хотят от нас высшие силы? Ты не задумывался? Быть может, мы все это делаем уже не для богов, а для себя?
Пальцы Окайры, вцепившиеся в холодный гладкий камень, побелели. Она говорила, но слышала себя будто откуда-то со стороны. «Так, как слышит, наверно, сейчас все это кощунство Матерь-хархи…»
– Мы привыкли жить так, мы вросли в свой миропорядок, подобно… – Взгляд остановился на покорно опущенных глазах изваяния. Оно обреченно моргнуло?.. – Подобно статуям! Цветам из твоего каменного сада! Если ты вслушаешься в древние молитвы, Кафф, уверяю, ты откроешь много неожиданных истин. Боги не подвержены мирским страстям, но у них свои ожидания:
…Ведомые дланью огненной, без клыков,
Но тысячекратно яростней,
Уподобились дети Харх священного
Своим пращурам хищным, царственным.
Да не согнутся под грозным игом, да меча не сложат
Ни пред братом, ни пред армией вражеской,
Но врастут корнями-памятью в землю не от руд багряную.
Памятью той, словно жертвой омытые,
Да не станут они ни пахать, ни сеять:
Дань высокая праотцами уплачена,
С неба их души звездами рдеют!
Да воссияют они ослепительным светочем
Над головами сыновей недостойных —
И да будет к ним Огненный милостив,
Пусть Матерь звезд их от кары укроет,
Но коль клятву, в море утопшую…
– Прекрати!!!
Лицо Каффа дышало ненавистью и страхом. И оно было совсем близко от лица королевы. Кажется, растворившись в стародавнем северном предании, она и не заметила, как муж успел подойти к ней…
Подойти так близко. И так опалиться гневом!..
Повинуясь окрику, она оборвала молитву и инстинктивно отшатнулась, хотя Кафф даже не занес руку для удара. Все, что он сделал, – это грубо схватил Окайру за плечо.
– Прекрати осквернять мой замок своей дремучей северной ересью! – проревел ей Кафф прямо в ухо.
Мир вновь пошатнулся. К расплывающимся очертаниям Матери-хархи теперь добавился гулкий звон. Он рос и крепчал, заполняя собой всю сущность Окайры.
«Хорошо… – уже не чувствуя мертвой хватки мужа на своем плече, подумала она, – что этот гул вобрал в себя все слова Каффа… Я не хочу их слышать…»
Правду говоря, королева не слышала уже и себя. Что ж, так ей, пожалуй, было проще выкрикивать последние предупреждения и угрозы о последствиях «южного» Горидукха – не менее зловещие, чем очертания мертвого Ящера, заглядывавшего с почерневшего неба в окошко молельни.
Мрачному созвездию в ту ночь предстоял богатый пир. Оно так и искрилось на чернильных шелках дремлющего неба, словно тысячи пар золотисто-желтых хищных глаз. Созвездие будто бы искушало короля и королеву перейти очень тонкую грань, до которой оставалось полшага.
Или полслова?.. Этого с высоты своих небесных песчаных владений Ящер определить не мог.
Однако он вполне насытился и тем, как Окайра, прислонившись спиной к постаменту изваяния, непокорно прохрипела:
– Нет! Во имя Матери звезд, не прекращу! Прекратишь вести Харх к пропасти ты! А если нет, то Харх будет лучше без короля!
Что могло достойней увенчать пир мертвого Ящера? Ему, признаться, и без того было достаточно. Мертвые – они вообще не отличаются выдающимся аппетитом. Даже если речь идет об угощениях такого рода.
Но, воистину, только взгляните на десерт! Град черных осколков разбитого о стену изваяния Матери-хархи; искаженное вовсе не огненной яростью лицо подлинного короля; распахнутая дверь, едва не размозжившая Эббиху его трясущуюся голову вместе с побагровевшим от удара ухом…
Ну кто же откажется от такого?!
Глава 18 Отступница
Младшая беспрестанно накручивала на палец растрепанную косицу мышиного цвета. Ну как косицу… Скорее тяжелый волокнистый жгут, вязанный-перевязанный такими морскими узлами, что их, пожалуй, не под силу распутать и бывалому матросу! Свободной рукой чернокнижница механически перебирала те немногие пряди, что покамест не были задействованы в мудреном плетении. Пара бессознательных движений пальцами – и на месте прямых нитей красовался очередной хитроумный клубок.
Красота, прямо скажем, сомнительная…
Но «старшие», как издавна именовала она двух других гурилий, уже успели вернуться в чащобное Убежище, а значит, не могли сделать ей какое-нибудь докучливое замечание. К тому же «красота» в сознании гурилий уже давным-давно приобрела весьма специфический смысл и обросла такими эстетическими диковинами, что бессмысленно мерить ее чужим аршином. Вдобавок отсутствие зрения. Тоже, знаете ли, не способствует созданию безупречного образа, опять же в общепринятом смысле. Но коли уж стричь всех под одну гребенку, то конечный счет будет явно не в пользу вига. Ну, тех простых смертных из Верхневодья, которые проживают (вернее сказать, прозябают) там свои короткие жизни. И это еще мягко сказано. Ибо гурилии совершенно искренне полагали, что слепы не они, а именно «верхние» обитатели Вигари. А что, вообще-то все на это указывает. Мало того что видеть могут не дальше собственного носа – и прошлое, и будущее укрыто от них самой что ни на есть слепой пеленой, – так еще и сны к ним приходят абсолютно бестолковые! Живут (нет, все-таки именно прозябают!) себе на авось, уповая на милость сегодняшнего дня и мудрость своего драгоценного эо. Бродят на ощупь в потемках. Тьфу ты, аж смешно!
«И даже немного жалко…» – украдкой добавляла про себя Младшая.
Впрочем, в мире Расщелины не могло быть никаких «про себя»: любая мысль, тревога или мимолетная фантазия кого-то из чернокнижной троицы мгновенно становилась общим достоянием. Может, достоянием и несколько искаженным собственными измышлениями да привычками каждой, но никогда – утаенным.
Ах, как удачно вышло у Младшей с этой идеей ненадолго задержаться у гиблых марей! Здесь, на шершавом валуне напротив камышовой заросли, можно будет славно отдохнуть и спокойно все обдумать.
А главное – не стесняясь, дать наконец волю слезам… Но это позже. Слезы затуманят рассудок и все испортят. Да, они польются только после размышлений: это Младшая решила твердо.
Спокойно, однако, не значит уединенно. Ее мысли проворной рыбьей стайкой тотчас же долетят до старших… Ну и пусть себе летят! Зато эти две замшелые руины не испортят ей неторопливые рассуждения своим скрипучим ворчаньем!.. Она, Младшая, все равно вернется к Убежищу не раньше вечера – когда окутывающая нижний мир мгла перекрасится из красноватого в густо-бордовый цвет. Глядишь, к тому моменту старшие уже и забудут о том, что она сейчас забросит в их общий мыслительный котел!.. Авось эти ингредиенты так переплетутся да смешаются там с раздумьями самих старших, что они – хоть бы так оно и вышло! – примут их за свои собственные!
«Ну ты и дуреха…» – отозвалось вдруг гулким эхом в левом ухе, да так, что Младшая едва не соскользнула со своего излюбленного валуна.
«Давай, повесели нас, как ты умеешь, молчунья!» – тут же ухнуло в правом.
Услышали… Или это лишь плод воображения? Гурилия в глубокой задумчивости намотала еще одну прядку – теперь уже на загнутый книзу желтый ноготь. «Какая, в общем-то, разница!» – заключила она.
С этим юным пилигримом – «Да! Теперь уже пилигримом! Искусство инициации не загубишь вековым изгнанием!» – выдалась поистине тяжкая ночь… Стоит лишь вспомнить, как он стонал, хрипел и сипел, лежа в углублении камня семпау! Да, материал воистину годный…
За двусмысленную шутку Младшая тотчас же поплатилась: в ушах раздался оглушительный хохот:
«Уххуххуу-ххеее-кхеее!» – выводили нараспев старшие.
Или никто вовсе и не смеялся? Может, это опять – внутренний голос?.. Вросший глубоко в другие голоса и переплетенный с ними крепче скрученных в косице пеньковых узлов… Да что там вросший!.. На уровне сознания они, три изгнанницы верхних вод, были единым целым уже не первую световеху. Какая тут, казалось бы, индивидуальность?
Но все же совершенно новая и даже немного пугающая непохожесть, кажется, затеплилась в самых глубинах «зрения» Младшей. И другим это было покамест невдомек… Младшая старалась удерживать мысли, силилась не облекать их в форму ни переживаний, ни рассуждений, дабы они не сделались достоянием общего разума. Это было непросто, но она старалась. Игра стоила свеч. И она, Младшая, ни за что не откроет эту непохожесть сестрицам, покуда сама обстоятельно с нею не разберется! Ведь это было так ново, так необычно и увлекательно – временами слышать и другие голоса, отличные от знакомого скрипа мыслительных шестеренок старших!.. Те голоса были совсем иные: звонкие, певучие и полные жизни! Эх, кабы до нее долетали не отдельные бессвязные обрывки их далеких песен, а хотя бы целые слова… Тогда она, глядишь, и сложила бы их, словно кусочки рассыпавшейся от времени фрески, в худо-бедно складное приглашение!.. Это ведь было именно оно – уж здесь-то нет никаких сомнений! Может быть, следует дождаться, когда старшие уснут: они ведь редко, но выпускают из рук клубок перепутанных общих мыслей и предаются дреме. Да, вот тогда Младшая могла бы преспокойно открыть для себя суть приглашения.
Мечты, мечты… Старшие не спали уже очень давно – пожалуй, даже слишком. «Что, если они тоже слышат что-то?..» – временами осторожно спрашивала себя Младшая. И едва касалась самого краешка крамольной мысли: «Вдруг они не спят, чтобы открыть свои приглашения?! Или просто боятся?.. Прошлый наш общий сон закончился так ужасно: бряцанье клинков, огонь, снег из пепла, выжженные леса, червонное море, острые клыки и – о, это самое худшее! – изумрудная пыль. Или клыки все-таки хуже?..»
Уж конечно, «старшие» тогда сошлись на том, что клыки – гораздо большее зло для Верхневодья. Довольно дико было наблюдать, как они едва не ликовали, признав эти заостренные книзу черные копья. Долго-долго эти двое, проснувшись, со слезами умиления обсуждали, что-де багровый слой клыков облупился и наружу проступил черный – родной. И неспроста: так ведь и было задумано! «Не зря, – радостно потирали они руки, – мы приделали тогда им второй слой зубьев из обломков потухшего кровавого вулкана! Как знали! Вон какие клыки под вулканической «броней» вымахали! Они еще защелкают над головами тех, кто допустил их возвращение! Судьба потомкам испить полную чашу за ошибки пращуров! О да, мы знали, что так все и обернется, властительный хранитель Одраэ! Где ты теперь? Быть может, твой наследник Ингэ все исправит? Охх-ххо-кхоо! Что-то мы сомневаемся! Скорее искупит твою вину перед нами, да и всем миром заодно: большего с него и требовать грешно! Нет, вы видели, как заострились их клыки?.. А что самое приятное – тугров стало больше! Все было не зря!»
Младшая, несмотря на свой легкий и даже игривый нрав, понимала: то был лишь опьяняющий взрыв радости после долгой разлуки и мучительного терзания неведеньем. Все это их «как знали!» – не от желчного злорадства. Мрачные пророчества – не из рвения поскорее их воплотить. Да, старшие иной раз грозили своими скрюченными пальцами миру, что лежал за пределами Расщелины. Грозили, но не более.
«Нельзя винить их только лишь за то, что они не сдержали материнских чувств, увидев своих подросших подкидышей», – резонно заключила про себя Младшая, все еще дрожа тонкой водорослевой ленточкой под проворными пальцами холодного подводного течения. Слишком реалистичный, красочный и изнурительный был сон. Из тех, что глубоко – клыками?! – впиваются в душу и неохотно отпускают свою добычу с приходом утренней зари.
Старшие, однако, слишком увлеклись ностальгией и обменом впечатлениями о выросших туграх. Сочли ли они увиденное именно сном? Вначале было непонятно.
Младшая сама не знала этого наверняка. Может вообще статься, что они вдруг с помощью чьей-то могущественной воли перевернули страницы истории и – во сне ли, наяву ли – заглянули в будущее Сферы…
Чем дальше, тем сильнее укоренялась эта мысль в сознании Младшей, и она старалась оберегать ее как могла. Сестры же не больно интересовались ее мнением: порадовались долгожданной встрече со своими ненаглядными подкидышами, повосторгались их возмужанием – да и поутихли. Сколь странным это ни показалось Младшей, она приписала ритуальное молчание белым пятнам, раскиданным по «сновидению». Она знала: одной веры здесь недостаточно («Мы ведь не хархи какие-нибудь!»). Нужно смотреть глубже. Прогрызать своим ясновидческим оком непрозрачную ткань мироздания. Искать первопричины, доскребаться до самого ядра минувших событий, отделять зерна от плевел, нещадно выпалывать сорняки собственных чувств, мешающих видеть объективно и трезво!.. И во что бы то ни стало нужно «отреставрировать старую фреску» и заполнить белые пятна. Потому-то Младшая и надеялась на те певучие далекие голоса: что, если они и есть те самые отломанные кусочки раскрашенной штукатурки?..
Что, если в их «приглашении» зашифрованы ответы или хотя бы наводящие на верную мысль подсказки?
Хоть бы старших поскорее сморил сон! Ведь сегодня они уплатили оброк, выжав из самого своего естества несколько живительных капель и вкрапив их в тело пилигрима. Теперь он сможет дышать на суше. Сущая глупость, конечно! Детские игрушки! Из всего многообразия доступных гурилиям искусств недальновидные вига выбрали себе именно это, наивно полагая, что увенчали свою хваленую цивилизацию драгоценным даром… Якобы способность научить их дышать и отправить на Харх – и есть самое дорогое, что жители верхних вод могли выжать из изгнанниц… Да и пускай! Лишь бы в этот раз обрядных хлопот хватило на то, чтобы хорошенько утомить старших. Пусть себе поспят да полюбуются своими приемышами на здоровье. Младшая не будет им ни мешать, ни требовательно вопрошать о новых видениях по пробуждении. Зачем? Все равно эти сны пока сырые, лишенные прозрачности святой истины. И полные лишних страстей, отвлекающих от сути. «Одна от них польза все же есть, – скрытно ухмыльнулась Младшая, изрядно поднаторевшая в «мыслительном шепоте». – Они могут подарить мне время, свободное от чужого вмешательства в мои раздумья и догадки».
О, Младшая употребила бы это время с умом! Сколько всего предстояло ей перемолоть когда-то светлым, а теперь начисто проржавевшим от времени и бесцеремонных интервенций разумом… Как ей хотелось хоть ненадолго окунуться в его не замутненную чужими течениями пучину и отправиться на поиски ответов – ответов, могущих все исправить. Способных всех спасти…
Или уничтожить. Это очень зависит от того, чем же заполнится «фреска» и какими красками будут расцвечены белые пятна…
…У гиблых марей вечерело. Сумрак, глухой и плотный, словно безразмерная монашеская ряса, властно окутывал подводный мир. И Расщелине – затерянному островку на краю этого мира – не под силу было укрыться от его объятий. Темнота постепенно скрадывала и без того весьма условную границу между привычной морской толщей и заболоченным лесом. Красноватые отсветы тускнели, они будто растворялись в молочно-белесых тенях, что с приходом ночи начинала отбрасывать чахлая подводная растительность. Эти отражения, стелющиеся по мшистому дну и хвощовым порослям, были похожи на одинокие призраки, бесприютно бродящие по маревой пустоши.
Вот и она, Младшая, со стороны не очень-то от них отличалась в своем грязно-пудровом убранстве с дочерна изгвазданным подолом. Одна из перевязанных веток, служивших ей корсетом, поломалась и теперь больно упиралась острым концом в ребра изгнанницы. По впалой щеке перебирал тонкими лапками паук-серебрянка. Подводное членистоногое уже нацелило острый коготок на легкую добычу. Даже замерло, предвкушая трапезу.
Нет, паук не замер. Одеревенел с головы до кончиков щетинистых ног, чтобы вскоре рухнуть мертвой щепкой в вязкую топь мари. Ему, можно сказать, повезло: не успел даже дотронуться до кожи Младшей. Иначе чавкающая трясина поглотила бы лишь жалкую струйку черной пыли. «И поделом», – мстительно подумала Младшая, хоть инцидент и развернулся далеко за порогом ее восприятия. Не хватало тут еще других мелких паразитов, жаждущих разжиться их, гурилий, жизненными соками! К таким мелочам, вроде избавления от надоедливых подводных обитателей, она вообще не прилагала усилий: просто позволяла своему телу (и сокрытым в его панцире дарах) самому позаботиться о своей хозяйке. Очень, надо сказать, полезное умение! Ведь сил, «внутреннего нектара» и остатков былого чародейского могущества прошлой ночью было и так потрачено с лихвой. Оброк уплачен сполна, долг на время списан. Кристальная чистота совести должна была хоть немного наполнить опустевшие энергетические сосуды…
А вот поди ж ты, не наполняла!..
По правде говоря, новая встреча с обитателями Верхневодья в лице купеческой троицы порядочно встряхнула Младшую. Испытали ли то же самое остальные изгнанницы? Или пророческие иллюзии не оставили в их головах места ни для чего другого? Она пока не знала. Чернокнижница старалась покамест не влезать в клубок общих мыслей, по крайне мере не запутываться в нем с головой, дабы вызволить оттуда хоть немного своего личного. Собственного то есть, а не сестринского отношения к случившемуся минувшей ночью.
И не только.
Скрючившись в три погибели на своем излюбленном валуне, закутанная в мантию ночной мглы, Младшая могла позволить себе роскошь хотя бы представить, что находится в блаженном уединении. Она обмотала голову своей косматой косицей и, словно повязкой, прикрыла ею невидящие глаза. Так гораздо лучше. Она здесь совершенно одна в подводной болотной глуши – невидимая и недосягаемая. Она слилась с поглотившим мир сумраком, переплелась ступнями с корнями черных ив, срослась спиной со старым мшистым валуном. «Блаженство!..» Да и насмешливое эхо, говорящее в голове голосами Старшей и Средней, вроде бы поутихло, ухнув куда-то вниз – очень глубоко… Неужто сестер в самом деле сморил сон? «Даже коли так, все равно нужно быть осторожной», – строго напомнила себе изгнанница.
И в высшей степени осторожно, едва позволяя себе эти разм