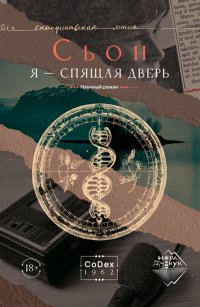Читать онлайн В холодной росе первоцвет. Криминальная история бесплатно
- Все книги автора: Сьон
Iceland’s Thousand Years
© Sjon, 2001
© Н. Демидова, перевод на русский язык, 2024
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2024
I
(Давным-давно)
1
«Жил однажды берсерк-великан с таким злобным характером, что не выносил вблизи себя ничего живого. Поначалу он уничтожал лишь то, что его окружало (а дело было на юге Азии), однако, когда все в пределах досягаемости было перебито, он снялся с места, прихватив с собой немногочисленные пожитки – кусачки размером с дуб и огромную куриную клетку на колесиках. Вот так, впрягшись в курятник, с кусачками наперевес, он двинулся в свой великий опустошительный поход.
Возможно, кого-то удивит, что этакий зверюга пощадил несчастных хохлаток, ютившихся в его задрипанной клетухе. А дело было в том, что в убойном неистовстве у берсерка пропадал всякий аппетит. Он попросту не мог заставить себя есть то, что убивал. Вместо этого он перетаскивал трупы по залитым кровью полям и сваливал их тут и там в огромные кучи. Это был тяжкий сизифов труд, и, когда рабочий день подходил к концу, берсерк уже был слишком измотан, чтобы приниматься за забой кур со всей сопутствующей тому возней. Шли годы, а он так и не удосужился разорвать в клочья своих клушек, зато мало-помалу приноровился съедать их яйца и получал огромное удовольствие от поглощения целых поколений неродившейся куриной живности. Под стать столь извращенному душевному настрою был и его способ утоления голода: лишь только пернатые страдалицы принимались кудахтать, он хватал их одну за другой и, приложившись к задней части, высасывал из них яйца. Да, жестокой и безбожной была его натура.
Как бы там ни было, а о похождениях берсерка можно рассказать следующее: с курятником на прицепе и кусачками наизготовку свирепствовал он по всему континенту, разя и сокрушая все, что попадалось ему под руку. Перепрыгнув через Босфор, пошел он безобразничать по Европе, а дошагав до реки Эльбы, решил следовать вдоль нее до моря. Природа на берегах Эльбы отличалась красотой и изобилием, но после берсерка повсюду вырастали горы трупов, вода окрасилась кровью, темно-красная слизь протянулась от речного устья до самого края Земли, где в те времена как раз начинал формироваться остров Тýле [3]. Ну или, по крайней мере, его Западные фьорды.
Однажды, проснувшись утром, взялся берсерк, как обычно, сосать своих кур. И вот, когда он поднес к губам последнюю куриную гузку, в его уродливое жевало всосалось не яйцо, а целый живехонький цыпленок. Это чудо приключилось из-за берсерковского метода сбора яиц: он настолько растянул задний департамент несчастной курицы, что птенец умудрился вылупиться внутри собственной матери. Если бы днем раньше берсерк в своем смертоносном разгуле хоть на минуту притормозил, то заметил бы этого птаху, вполне довольного жизнью в заднице курицы-матери и высунувшего оттуда наружу свою желтую головенку с целью чего-нибудь поклевать. Но берсерк, как говорится, не притормозил, и поэтому случилось то, что случилось: птенец оказался в его пасти. И если бы зверюга на мгновение не замешкался, остановленный щекочущим ощущением во рту, вызванным пуховым покровом малыша, то цыпленок незамедлительно оказался бы в берсерковом желудке и испустил бы там дух среди белков, желтков и яичной скорлупы.
Челюсть великана поползла вниз. Пытаясь нащупать инородный предмет, он пошарил по нёбу мясистым языком, прочистил глотку, старательно отхаркался, внезапно с силой фыркнул, прокашлялся, запихал в рот пальцы, вывалил наружу язык, подышал по-собачьи, взревел, вовсю разинул пасть и обследовал ее отражение в блестящей поверхности кусачек. Все напрасно: цыпленок, видите ли, от страха взял да и юркнул в глубокое дупло в коренном зубе берсерка и затаился там, дожидаясь окончания ужасных потрясений. Берсерк, конечно, так бы и застрял в поисках птенца на веки вечные, отрыгивая и гримасничая, если бы ранний утренний ветерок не поднес к нему каких-то бабочек. Те привлекли его внимание своим рассеянным порханием над поросшим хмелем полем и призвали к привычной повседневной работе.
Берсерка вновь охватила радость труда. Он рвал и крушил направо и налево в ожесточенной схватке с бабочками, которые мало того что демонстрировали утомляющее безразличие к собственной судьбе, так еще и норовили залететь в его телесные отверстия, будто там можно было найти что-то хорошее. К вечеру, когда заходящее солнце принялось кровоточить на опустошенные долины и берсерк дал заслуженный отдых своим костям, уставшим от тяжких дневных забот – беспримерной битвы с бабочками и последовавшего за ней созидания трупных куч, он уже напрочь забыл о прижившемся у него во рту незваном госте.
А цыпленок тем временем неплохо устроился в зубе своего разнузданного хозяина. Как и любая другая мелкота, он с детской наивной радостью принимал все, что преподносила ему жизнь, – будь то пленение его народа, скачки роста или брутальное переселение из теплой родительской задницы в зловонное берсерково ртище. Изменения в жизненной ситуации занимали птенца куда меньше, чем факт, что он овладел искусством писка. Единственное, чего ему не хватало от прежнего жилища, так это возможности время от времени поглядывать на окружающий мир. Теперь редкие проблески этого большого мира долетали до него лишь в минуты, когда берсерк, вопя, вступал в борьбу со своим извечным противником – жизнью, в то время как сам цыпленок торчал в дырявом берсерковом моляре, словно нищий студент на галерке на генеральной репетиции “Гибели богов”. А так как он не осмеливался рискнуть своей маленькой жизнью и высунуть голову между зубами берсерка, то все, что ему удавалось увидеть, и рассказа-то не стоит: какой-нибудь ополоумевший от страха человек, улепетывающая семейка зайцев или трясущийся куст можжевельника.
Цыпленок же был не просто любопытен – он был юн и любопытен, и такая ничтожная порция зрелищ и близко его не устраивала. Когда берсерк скрежетал зубами, сооружая завалы из трупов, или спал, крепко стиснув челюсти (а делал он это из страха вторжения в него всяких букашек), птенец принимался пищать изо всех своих цыплячьих сил:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
И так до тех пор, пока берсерк не начинал озираться по сторонам, раскрыв в изумлении рот.
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
Берсерк был не в силах сосредоточиться. Мало того что ему не хватало мозгов докопаться до природы голоса, отвлекавшего его от убивания, так еще, едва он успевал свернуть шею какой-нибудь животине, тут же раздавалось:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
О нет! Быть движимым кем-то другим резко шло вразрез с его самоидентификацией! Берсерка охватило смятение – происходящее было выше его понимания: в то время как бездыханные трупы врагов валялись у его ног, в голове эхом разносилось:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
И в какой-то момент его толстолобый череп пронзила и пустила там корни спасительная мысль: это, должно быть, его внутренний голос! Берсерк состроил важную мину и громогласно объявил:
– Я услышал внутренний голос. Мой внутренний голос любознателен. Он хочет видеть, он хочет исследовать. Я хочу видеть. Я хочу исследовать. Узнавать больше и больше. Мне любопытно все, что живет и умирает (пожалуй, больше то, что умирает), но, так или иначе, это любопытство толкает меня вперед в моем вояже, с другой стороны – совершенно бессмысленном.
До тех пор, пока не появился куриный детеныш, часы в сердце берсерка вовсе не были нежным созданием, лопотавшим “вец-ность, вец-ность”, нет, это был мощнейший часовой механизм, который рокотал:
- То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее!
- То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее!
- То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее!
- То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее!
- То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее!..
Так… Где я остановился? Ах да! Когда история дошла до этого места, берсерк как раз находился неподалеку от устья Эльбы. Дорога сюда заняла больше времени, чем ему бы хотелось, а все потому, что теперь его уже не удовлетворяло одно лишь художественное сваливание жертв в кучи, нет, теперь он чувствовал себя обязанным все расчленить и досконально изучить, прежде чем дело доходило до возведения трупных завалов. Но, похоже, ничто не могло насытить любознательность птенца, которому теперь было доверено руководить изыскательским процессом. Берсерк был совершенно измотан бесконечным размалыванием костей, дроблением камней и раздиранием древесных стволов.
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть? – заливался цыпленок, и берсерк надрывался как прóклятый.
Нетрудно догадаться, что такой адский труд заездил бы его до смерти, если бы не одно происшествие, спасшее великана от столь плебейской кончины.
Измученный берсерк рухнул на землю и тут же уснул. Лежа на спине с разинутым ртом, он, должно быть, выглядел нелепо, но это был единственный способ заткнуть свой внутренний голос, безустанно пищавший “Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?” и затихавший лишь по мере того как цыпленком овладевал сон.
На следующее утро берсерк и курицын сын проснулись на луковом поле. В том году урожай лука в Нижней Саксонии был отменным, обширные заросли тянулись вдоль подножия холма, отделявшего поле от безымянного скопления хижин, беспорядочно сгрудившихся вокруг голого участка земли. Берсерк и птенец встретили новый день, первый – с готовностью к дальнейшим подвигам в битве против жизни, второй – с жаждой открытий в этой же самой жизни.
Заспанный великан вскочил на ноги, в носу и глотке стоял крепкий луковый дух. На тугих зеленых перьях, насколько хватало затуманенного со сна взгляда, переливались капельки росы. Берсерк вдруг ощутил, как свежая земля и лезущие из нее ростки проникают в каждый его нерв, тянутся вверх, в самый мозг, и трезвонят там во все тревожные колокола. Перед мысленным взором молнией пронеслась картина: побеги выстреливаются из почвы, заплетаются в абсурдное кудло, опутывают его ноги и валят наземь. Победа противнику дастся легко: берсерк будет там лежать, совершенно беспомощный, пока не задохнется от луковой вони, а его тело не покроется землей.
И он умрет!
На берсерка нашло исступление. В его груди загрохотали часы судного дня: “То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее! То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее! То-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее!..” Цыпленку пришлось изо всех сил вцепиться в зуб – час убийцы настал, и великан понесся по полю, как ураганный смерч. Он пинал луковицы, вырывал и лопатил их – и руками, и ногами, – так что груды вывороченной земли готическими башнями вырастали до самых небес. Он одолел врага в мгновение ока, перевернув все поле в буквальном смысле кверху дном, после чего принялся выбивать жизнь из валявшихся вокруг него луковиц, словно это был наемный убийца, с которого слетел покров секретности.
При нормальных обстоятельствах, то есть если бы берсерк был таким, каким ему быть должно, он справился бы с этим в два счета. Но сейчас, когда он был занят раздавливанием в кулаке одной луковицы за другой, цыпленок был не в силах усидеть заткнувшись, и в голове берсерка непрестанно раздавался писклявый внутренний голос, призывавший его к дальнейшим исследованиям:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
Чтобы лучше расслышать, берсерк пошире ряззявил рот. Перед глазами юнца замаячила луковица, ему сиюминутно захотелось увидеть, что было внутри нее – ведь он никогда раньше лука не видел, – и цыпленок запищал, движимый искренним детским любопытством:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
Птенец с восторгом следил за кубообразными пальцами берсерка, расслаивающими луковицу, и с каждой новой луковичной чешуйкой просто заходился от счастья:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
Берсерк занервничал, вспотел и уже с трудом отделял от луковицы слой за слоем. Этот внутренний голос, эта любознательная внутренняя сущность, которую он открыл в самом себе, начинала его раздражать: ну что, черт возьми, можно было увидеть в этой проклятой луковице?
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
Цыпленок вконец распалился, отпустив все тормоза: он хлопал куцыми крылышками, таращил свои бусины, вытягивал вперед желтую шею и горланил:
– Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?
Когда же берсерку дрожащими пальцами удалось отодрать последнюю чешуйку и стало ясно, что под ней ровным счетом ничего не было, а внутренний голос продолжал вопить, требуя продолжения, великан буквально слетел с катушек. Он зарыдал, он засмеялся, он закружился на месте, он затопал ногами, он застонал, он захныкал, он схватился за голову, он бросился плашмя на землю, он заколотил по ней руками и ногами, он зачертыхался, он сосчитал все пальцы на руках, он завыл, он содрал с себя одежду, он вспомнил свое детство, он загавкал, он принялся насвистывать мелодию, он ухватился за свой пенис и стал размахивать им, описывая круги. Затем застыл как вкопанный и выдохнул.
Берсерк оцепенело стоял посреди развороченной земли, которая еще совсем недавно была полем, – голый, потерянный тролль. Пылавшая в его груди злоба потухла, часовой механизм пришел в негодность, и никакого «то-фто-не-уббьет-меня-то-фделает-фильнее» там больше не звучало. Его накрыло спокойствие безумия. Уронив на грудь свою уродливую голову, он со смиренной миной поглаживал друг о дружку большой и указательный пальцы правой ручищи, будто ласкал то пресловутое ничто, таившееся в луковице, и бормотал: «вец-ность, вец-ность». Затем поднял к небу взгляд, столь же удивленный и глупый, как у тех, у кого не осталось в жизни ничего, кроме трех вопросов: “Кто я?”, “Откуда я?”, “Куда я иду?”, и кто знает, что ответы кроются в самом жизненном пути к тому роковому моменту, который научит их задавать эти вопросы и одновременно лишит памяти.
Птенец же, на время переполоха забившийся поглубже в дупло берсеркова зуба и молчавший в тряпочку, теперь почуял свой шанс и разорвал тишину, неуверенно пискнув:
– Мож… жно мне… пос… смотреть?
Вероятно, он хотел сказать что-то типа: “Все хорошо, приемный отец? Мир вернулся в нормальное русло?” – ведь мало что тревожит молодежь больше, чем сумятица, и тут неважно, насколько абсурден или несправедлив мир, главное, чтобы все шло привычным порядком. Но цыпленок не умел выразить это иными словами, кроме как:
– Можно мне посмотреть?
Берсерк обезумел. Он пустился наутек и в неистовой попытке спастись от своего внутреннего “я” подпрыгнул, оттолкнувшись от вершины холма, и по гигантской дуге пронесся над скоплением хижин в сторону севера – до самого Полярного круга, где грохнулся плашмя с такой силой, что каждая кость в его теле разбилась вдребезги. Там лежал он и гнил почти сорок лет – всему животному миру на великое благо. Его хребет и сегодня выступает из моря и называется Трётласкаги, или полуостров Трóллей.
А что до цыпленка, то, когда берсерк летел в своем затяжном сальто-мортале над крышами хижин, с застывшей маской на лице – каждый мускул предельно натянут в вожделенном вопле: “Смерть, приди ко мне!” – тогда юнец и вывалился из разверзнутой берсерковой пасти и приземлился как раз посередине деревни. И, конечно же, он выжил. Жители знали обо всем, знали, что, если бы цыпленок не свел берсерка с ума, их дни были бы сочтены, и они не ограничились лишь тем, чтобы назвать местечко в честь своего спасителя Кюкенштадтом [4], нет, они также воздвигли ему памятник – на том самом клочке голой земли, который позже стал городской площадью. Там, как видно из старых фотографий, и стояла эта статуя цыпленка, пока под конец Второй мировой городок не сровняли с землей».
II
(17 июня 1944 года)
2
«К тысяча девятьсот сорок четвертому году плавание по океанам стало для человечества настолько обыденным искусством, что казалось само собой разумеющимся покинуть порт и отправиться в путешествие, даже если пункт назначения скрывался где-то за горизонтом. Этому было объяснение: люди больше не боялись свалиться с Земного круга. Земля уже не была такой плоской, какой казалась, ученые доказали, что правильнее называть ее шаром, парящим в космосе и вращающимся вокруг собственной оси и одновременно вокруг Солнца. Так же дело обстояло с Луной и другими планетами: они тоже вращались каждая вокруг своей оси и вокруг Солнца.
Поначалу как у взрослых, так и у детей начиналось головокружение при одной только мысли, что Вселенная похожа на гигантскую игру в мяч. Это не вязалось с сигналами, которые посылало им тело. Даже собственным глазам больше нельзя было верить, плоская долина, оказывается, была выпуклой, а когда кто-нибудь рассказывал, что сидел неподвижно в том или другом месте, над ним смеялись.
Однако не стоит полагать, что все поголовно только об этом и думали. Нет, в повседневной жизни анализ картины мира был умственной гимнастикой лишь для ученых мужей, и занимались они ею в специально отведенных для этого заведениях. У простых же людей на такое не было времени, они были слишком заняты другими делами, например, поеданием щей с морковью и луком. Ну или вождением судов.
К 1944 году прошло уже немало веков с тех пор, когда считалось, что заплывать за горизонт способны лишь сверхчеловеки. Теперь мореходы не хуже всех остальных знали, что Земля круглая, и не позволяли этому факту сбить их с толку. Коль нужно плыть в гору – значит, так тому и быть! Уж им-то ни на мгновение не пришло бы в голову, что все земли затонули, даже если вокруг, насколько хватало глаз, не было видно ничего, кроме угольно-серого океана. И это несмотря на то, что из дома по сорок дней и сорок ночей не приходило ни весточки. Нет, в этот момент мировой истории морских путешествий отважные капитаны вели суда с помощью компасов, тянущих свои магнитные стрелки к Северному полюсу независимо от того, как плавсредство лежало в воде. Да и парусами больше не пользовались, кроме разве что на прогулочных яхтах или всяких там старинных ботах. Вместо парусов теперь были двигатели размером с целый собор, и даже самое среднее суденышко было настолько быстроходным, что могло спокойно обогнать любое морское чудовище, повстречайся оное ему на пути. К тому же суда эти были построены из такой высококачественной стали – закаленной, идеально отполированной, покрытой суперстойким лаком, – что не было больше нужды держать на вахте специального дозорного, который высматривал бы в водах осьминогую грозу океанов – гигантского спрута. Теперь судам оставалось лишь взмыть над водной поверхностью и взять курс на Луну.
Однако, несмотря на все новейшие технологии и чудеса судостроения, морской путь, по которому вчера проплыть было легче легкого, сегодня мог оказаться настоящим испытанием. Что как раз и случилось в начале этой истории.
Но какое судно не грезит о шторме?
Пассажирский “Гóдафосс” болтается где-то посередине между долиной морского дна и внешними границами Вселенной – всего лишь влажно поблескивающий, карабкающийся по водному склону слизнячок, сжимающийся в комок каждый раз, когда волна налетает на него, словно иссиня-черный стервятник. По мировым стандартам, это ничем не примечательное суденышко, но в умах крошечной нации (если ее вообще можно так назвать), пустившей его в плавание по грозным океанским водам, это гигантское плавучее сооружение. И тут нам придется лишь согласиться с исландцами и их по-детски наивной идеей, что корабельной краски и величественного названия [5]вполне достаточно, чтобы превратить обычный траулер в целый мегаполис на ровном киле. Да, что-то в этом есть!
И это судно не потопить.
Вот оно появляется на гребне волны, дергается вперед, на мгновение зависает на самом краю, и тут ему уже ничего не остается, как только низвергнуться в зелено-завывающую жадную пасть океана. Однако как раз когда нам кажется, что это вот-вот произойдет и история на этом закончится, волна под судном разламывается, и вместо того чтобы перевалиться через ее гребень, оно зависает в воздухе в том самом месте, где мгновение назад под ним была вода.
А в это время в каюте второго класса лежит человек, и у него есть огромное преимущество перед большинством других пассажиров: он так измучен морской болезнью, что его совершенно не волнует, висит ли посудина в воздухе, летит ли вниз к чертям собачьим, чтобы сгинуть в пучине со всем и вся, или продолжает свои прыжки и пируэты по волнам. Болезнь вцепилась в человека, а человек вцепился в болезнь.
Подкатывается к перегородке – откатывается от перегородки, подкатывается – откатывается, туда и сюда, как зерно и мякина, как мякина и зерно. Он с силой вжимает затылок в подушку. Если бы ему удалось хоть на мгновение удержать голову на месте, из горла бы исчез ком. А если бы из горла исчез ком, он смог бы перевести дыхание. А если бы он смог перевести дыхание, расслабились бы мышцы живота. А если бы они расслабились, ушел бы спазм из толстой кишки. А если бы ушел спазм, возможно, ему удалось бы хоть на мгновение удержать голову на месте…
Вот такое оно, море.
Но не одна только морская болезнь избавляла его от интереса к окружающему, нет, как и другим сухопутным крысам, ему казалось, что он находится нигде, когда в поле зрения не было твердой земли. А поскольку размышления о небытии свойственны лишь людям образованным или сумасшедшим, а он не относился ни к тем, ни к другим, то сейчас он ощущал себя еще более бездомным, чем когда оставил своего бога в лагере смерти. Оттуда он явился, а вот куда направлялся – он не знал. Он просто уходил, и такой план путешествия его вполне устраивал.
Подкатывается – откатывается, подкатывается – откатывается… И не выпускает из рук шляпную коробку, крепко прижав ее к своей груди. Это вопрос жизни и смерти, и даже тошнота не способна ослабить его хватку. В этой коробке – все, что у него осталось в жизни: младенец из глины. Ну или слепок младенца, как может показаться другим. И это не только его дитя, именно поэтому так важно, чтобы с ребенком ничего не случилось.
Так кто же этот измученный морской болезнью бедолага? Да, это мой отец, еврей Лео Лёве, который оказался здесь после того, как прошел всю Европу с короткой остановкой в городишке Кюкенштадт. Там он встретился с моей матерью. А сейчас он пересекает море – вместе со мной, только что созданным. Меня зовут Йозеф Лёве, я вылеплен из глины. Волнение моря меня не беспокоит. Я сплю в темноте закрытой коробки. Мертвецки крепким сном.
* * *
КОВЧЕГ ФУВАЛА
Он возлег с ангелом. И это было последнее, что он помнил, когда проснулся. В день их первой встречи Фувалу шел сто сороковой год. Ангел был гораздо старше. А происходило все так.
Родители Фувала считали сына нелюдимым и чудаковатым и поэтому боялись оставлять его одного дома, когда им нужно было куда-нибудь отлучиться. А так как он был еще и единственным их сыном, им казалось, что присматривать за ним в их отсутствие должны все семь его сестер, и никак не меньше. Однако оберегали его родители не только из-за странностей – нет, их единственный сын родился так поздно, что вряд ли у них получилось бы зачать еще одного. Нафтахите исполнилось восемьсот шестнадцать лет, а его жене – почти семьсот, когда Господь благословил их маленьким Фувалом. Божий ангел тогда обратился к жене Нафтахиты со словами: “Господь сказал: «Знай, ты зачала. Сына тебе дарую. И назовешь его Фувалом»”.
Однажды родители Фувала ушли и оставили единственного сына на попечении семи его сестер, а тем надоело сидеть с ним няньками. Случилось это, когда сыны Божии ходили по земле и брали себе женщин по своему желанию. До сей поры на долю сестрам приключений не выпадало, ведь они всегда нянчились с Фувалом. Самой младшей из них уже исполнилось сто семьдесят девять лет, а самой старшей – двести сорок шесть, и все они принадлежали к женскому полу. Это было несправедливо. И вот уселись они на кухне и стали обсуждать. А Фувал был один в зале. Он играл там в куклы. С мальчиком никогда не было хлопот, и его сестры как раз об этом и говорили.
– Он либо просто слоняется туда-сюда, либо сидит в углу без дела, – сказала первая.
– Они должны радоваться, что он непохож на других мальчишек, которые стреляют друг другу в лицо из луков, – сказала вторая.
– Он больше всего любит играть с нашими старыми вещами, вряд ли ему от этого будет какой-то вред, – сказала третья.
И только она это произнесла, как из зала донеслись громкие крики. Все сестры разом обернулись: Фувал отчитывал куклу за то, что та испачкалась.
– Мы возьмем его с собой! – сказала одна.
– Они нас убьют! – сказала другая.
– Это лучше, чем торчать здесь! – сказала третья.
Тут в дверях кухни показался сам Фувал. Он был красивым мальчиком.
– Мы просто никому об этом не скажем, – сказала седьмая.
Сестры пошли готовиться к свиданию с сынами Божиими, и Фувал вместе с ними. Когда на него надели платье и убрали волосы под платок, можно было вполне подумать, что это была восьмая дочь Нафтахиты и его жены.
В те дни ангелы Божии обитали на земле. Военный лагерь, где они были расквартированы, располагался за городскими стенами. Там царило веселье, а у входа стоял строгий караул. Чтобы попасть внутрь, сестрам пришлось вытянуть губы трубочкой. Фувала они спрятали меж собой, и стражник его не заметил.
Посередине лагеря была площадь, туда-то и направились сестры, чтобы показать себя. Cыны Божии подходили один за другим и разглядывали их. Адамовых дочерей они очень любили и потому поражались, что никогда ранее не видели этих девиц: одна сестра прекраснее другой. Сыны Божии немедленно развели их по своим шатрам. Они даже немного поспорили между собой, кому уйти со старшей, а она-то боялась, что ее никто не возьмет.
Остался один Фувал. И ангел Элиас. Их отношения развивались медленно. Сначала ангел взял застенчивую девчушку под свое крыло, отвел ее за лагерь и там вместе с ней ожидал, пока другие сестры наразвлекаются с сынами Божиими. В лагере творилось большое распутство, и ангел, чтобы не развращать девушку, укрыл все это своим пером. Затем, в один прекрасный день, Элиас обратился к Фувалу (полагая, что это была восьмая сестра) со словами: “Ну вот, ты теперь уже взрослая, тебе исполнилось сто шестьдесят лет”. А когда Фувал поправил его и раскрыл ему, что был юношей, тогда и возлегли они вместе. Потому что единственный сын Нафтахиты и его жены полюбил ангела, который был сыном Божиим.
Фувал огляделся. Он был весь покрыт пухом. И лежал в огромном гнезде. Гнездо было устроено в дупле дерева, выдолбленном при помощи гигантского изогнутого инструмента. Высоко на стене напротив Фувала висело платье из красивой, сверкающей парчи, подаренное ему на прощание одной из сестер. Сестра отправилась на небеса с Сыном Божиим Джошем, она родила ему сына, который был великаном. За платьем скрывалась продолговатая щель, достаточно широкая для того, чтобы в нее мог проскользнуть худощавый человек. Через нее и вошли сюда Фувал и Элиас, который мог растягивать свое тело как в ширину, так и в длину. Это свойство – вдобавок к вежливости и обещаниям новой, лучшей жизни – и делало ангелов столь превосходными любовниками, а при удачном развитии отношений и желанными супругами.
Фувал тяжело поднялся на ноги и, когда с него облетел пух, покрылся гусиной кожей. Где же был его ангел? Как непохоже на Элиаса – оставить Фувала просыпаться после их любовных утех в одиночестве. Обычно они подолгу сидели в гнезде и беседовали обо всем на свете. Ангел был начитан, хорошо разбирался в книгах богов и людей и делился своими знаниями либо словесно, либо давал Фувалу съесть свиток, и тогда описанные там события пробегали перед его глазами, словно силуэты на экране.
Любимой темой Фувала была история сотворения мира, особенно та ее часть, где Адам давал зверям имена. А также когда Господь подыскивал самому Адаму родственную душу и перепробовал всё – от бабочек до жирафов, прежде чем ему в голову пришла идея с женщиной. Ангел Элиас помнил наизусть целые свитки, а в придачу знал все об их авторах. Истории об авторах были Фувалу не менее интересны. Чем только не занимались эти писатели! Чем только не занимались эти Элиас и Фувал!
Гнездо ходуном ходило под ногами, и Фувал, осторожно ступая, двинулся в сторону висевшего на стене платья. Он потянул его к себе, и по лицу юноши ударил дождь. Вода потоком хлынула в открывшееся отверстие, и Фувал подумал, что ему больше не хочется оставаться в дупле. Он ухватился за край щели и подтянулся. Повисев так с минуту, он вспомнил, что остался один, что ангела не было рядом и тот не может обхватить его за бедра и подсадить. А это всегда знаменовало окончание их совместного времяпрепровождения.
Фувал уже наполовину высунулся наружу, когда обнаружил, что, пока он спал, в мире произошли совсем не пустячные изменения. Во-первых, дерево странно наклонилось и раскачивалось взад и вперед. Но не как под ветром, нет. Когда Фу-вал смахнул с лица застилавшую глаза пелену, то увидел со всех сторон одну лишь взъерошенную водную поверхность. И дождь был не просто дождем, казалось, сами небеса низверглись на землю. Исполинская молния разорвала угольно-черные континенты туч, и через мгновение над древесной кроной грохнул раскат грома с такой силой, что Фувала – сына Нафтахиты, младшего брата семи сестер и возлюбленного ангела Элиаса – отбросило обратно в дупло.
Юноша уткнулся лицом в ладони и заплакал. Спустя какое-то время он осушил слезы, встал и, чтобы уберечься от дождя, снова завесил щель своим красивым платьем. После чего принялся плакать по новой.
И больше он ничего не делал.
Шли дни, а Фувал все рыдал вместе с небесами. У него не хватало сил покормить себя, но поскольку он находился в обители святого существа, которое любил и которое любило его, из-под коры дерева вылезали всякие насекомые, заползали к нему в рот и опускались вниз, в его желудок. Это была его пища. И их жертвенная смерть – для того, чтобы он мог жить.
Затем дождь стал утихать, а вместе с ним утихал и плач Фувала. Всхлипывая, он поднялся на ноги и выглянул наружу. Да, теперь это был всего лишь сильный ливень. Фувал поплакал еще немного. Дождь перестал совсем. И Фувал успокоился.
Весь мир был затоплен. Все, в чьих ноздрях теплилось дыхание, всё, что когда-то жило на суше, было смыто с лица земли. Фувал понял, что все, кого он знал, умерли. Он снова принялся всхлипывать, но его всхлипы скоро превратились в пение, потому что он заметил, что вода убывает. Ветры обдували землю, и вскоре над поверхностью, словно острова, замаячили горные вершины. Дерево Фувала дрейфовало, подгоняемое ветром, а сам он сидел, свесив ноги из дупла, и распевал, как подросток, кем он по сути и был. Как-то раз он увидел ворона и обрадовался, когда тот уселся на дереве рядом с ним, и они покаркали вместе. Жизнь была бы восхитительна, если бы не боли в животе. Чем дольше длилось его путешествие, тем сильнее становились боли, а живот даже немного вздулся. В этом Фувал винил свою необычную диету – тех крошечных существ, что приносили себя в жертву его жизни.
Его приятель ворон улетел своей дорогой. Следующим гостем стал голубь. Фувал поймал его и съел. К тому времени из воды кое-где начала появляться суша, а живот Фувала уже настолько раздулся, что юноша был вынужден спать снаружи дупла, на ветке. Именно так он поймал голубя, потому что тот прилетел ночью – как вор.
Покачивается туда-сюда…
Дерево проплывало то мимо одного клочка земли, то мимо другого. Океан нес Фувала в сторону севера. Однажды утром он проснулся от звука глухого удара и приподнялся на локте, чтобы посмотреть, что же там происходило. Его дерево прибило к изрезанному глубокими фьордами острову. Оно покачивалось на волнах у огромного, словно гигантский тролль, полуострова. Когда Фувал увидел, в чем дело, его рот наполнился сладкой песней:
- А-а и-ай-я, а-а ай-я,
- Айя-а а-и, айя-а и.
- А-а и-ай-я, а-а ай-я,
- Айя-а а-и, айя-а и.
- А-а и-ай-я, а-а ай-я,
- Айя-а а-и, айя-а и.
- А-а и-ай-я, а-а ай-я,
- Айя-а а-и, айя-а и.
Что означало: Господь есть Бог!
Когда же он сошел на берег, то увидел, что ствол держался в воде вертикально благодаря Элиасу. Ангел был мертв, но его тело балластом лежало на корнях дерева, словно дитя на руках у отца. Тогда похоронил Фувал своего друга и заплакал. И начались у него родовые схватки. И родилась у него двойня – мальчик по имени Э́йливур и девочка. Они были троллями».
* * *
– Ты уже приступил?
– Я только подготовил место действия.
– И я точно ничего не пропустила?
– История начинается в море. Я просто поразмышлял о морских путешествиях в прошлом и настоящем. Мы к ним еще вернемся…
Она снимает зеленое кожаное пальто и вешает его на спинку стула в гостиной, где они находятся. Это красивая женщина, от нее исходит запах дождя. Он машет рукой в сторону тарелки с остатками щей с морковью и луком:
– Кофе будешь?
– Я бы выпила чего-нибудь покрепче…
Она ворошит влажные от дождя волосы.
– Посмотри, может, у меня там что и осталось…
Она берет со столика тарелку, идет в примыкающую к гостиной кухню, открывает шкаф под мойкой и выбрасывает остатки еды в мусорное ведро. Там же, за ведром, примостились тела опустошенных бутылок, среди них – одна небольшая, коньячная. На дне виднеется немного жидкости – достаточно для кофе по-французски.
– Ты не представляешь, что за день сегодня выдался…
Женщина появляется в открытых дверях кухни и останавливается, прислонившись к косяку. В ожидании его ответа она почесывает голень пальцами другой ноги. Он ничего не отвечает, молча наблюдая, как она размешивает в кофе мелассовый сахар.
Она вздыхает:
– Да, знаю, мне нужно побрить ноги…
– Буду признателен, если ты не станешь с этим затягивать…
Отпив глоток из чашки, она заходит в гостиную и устраивается в кресле напротив дивана. Он копается в разложенных на столике бумагах. Она прикуривает сигарету:
– Я готова…
3
«Отец высунул из-под одеяла голову, вытянул шею и фонтаном зеленой желчи поблагодарил Посейдона за гостеприимство. Если бы он смог встать и выйти в коридор, то увидел бы, что находится в как бы уменьшенной версии города, где есть все, что обычно в городах бывает: каюты – это выходящие на узкие улочки дома, курительный салон – кафе, столовый зал – ресторан, машинное отделение – фабрика, рулевая рубка – городская ратуша, палуба – площадь, борта – городские стены, и так до бесконечности, пока не наскучит придумывать аналогии. Такая реальность отцу хорошо знакома, но сейчас ему было совсем не до нее.
Закончив свой почтительный реверанс морскому богу, он краем глаза заметил, что в нише у двери стоит какой-то человек. Отец не помнил, чтобы в каюту кто-то входил, и поэтому не знал, сколько времени визитер пробыл внутри.
Они молча изучали друг друга.
Пришелец – широкоплечий темнокожий мужчина – был одет во фрачную пару. Впрочем, штанины доходили ему лишь до середины икр, а рукава едва прикрывали локти. Ворот рубашки был расстегнут, и синий свет лампочки, горевшей над дверью, отражался от его черной груди. На ногах мужчины красовались легкие открытые сандалии.
А мой отец был похож на бесформенную кучу тряпья.
Тут в дверь каюты постучали. Странный пришелец сильнее вжался в нишу и дал отцу знак молчать. Когда из коридора постучали второй раз и никто не ответил, дверь распахнулась. В проеме выросли два амбала в матросской форме. Они долго всматривались в темноту, но увидели лишь моего отца – он приподнял голову над подушкой и уставился на них остекленевшим взглядом. Это были те самые двое, что втащили его на борт, забрали у него золотую печатку, разломили ее надвое и поделили между собой. Что им еще надо? Отца опять вырвало.
В этот момент “Годафосс” сорвался в свободное падение. Амбалы кубарем вылетели в коридор, дверь за ними захлопнулась. Отец опустил голову на подушку, а чернокожий визитер с облегчением перевел дыхание. Он подошел к отцовской койке и опустился возле нее на колени. Оба вздохнули, и гость обратился к отцу по-английски:
– Слышь, приятель, эти двое совсем чокнутые! Не понимаю, что я им такого сделал? Они в капитанской каюте лизали какие-то почтовые марки и штамповали какие-то конверты. И прямо озверели, когда я поздравил их с праздником. А я там просто мимо проходил – в танцевальный салон. Слышь, повезло, что вообще в живых остался!
Отец, задержав дыхание, прошептал по-немецки:
– Ты извини, я сегодня никакой…
Визитер понимающе кивнул, и мой отец, восприняв это как приглашение представиться, приступил к изложению:
– Родился…
Однако мужчина перебил его:
– А? Ты это имеешь в виду? Родился я в захолустном местечке Дрим Он. Сегодня это просто безымянный пригород Атланты в Соединенных Штатах. Мой отец Джимми Браун, проповедник Церкви чернокожих пятидесятников, был знаменит тем, что во славу Господа хватал голыми руками ядовитых гадюк, хотя обычно это были всего лишь беззубые змееныши. Самого меня крестили Энтони Брауном. Мне было одиннадцать лет, когда я отправился в магазин за продуктами – той дорожкой, которая провела меня через полмира и назад уже не вернула.
Отец тогда попросил меня сходить за молоком. Это был основной продукт питания змей, которых он держал в стальной бочке в обувном шкафу слева от двери в ванную – мы жили тесновато. От молока змеи становились вялыми, и ими было легче манипулировать. Сам я к тому времени уже бросил пить молоко – насмотрелся, как оно действовало на существ низших, хотя и более опасных, чем я.
Короче, иду я, значит, в местный магазин, что через пару кварталов на углу и где можно купить все, что требуется чернокожей семье, то есть кукурузу и фасоль. И вот, когда я уже собрался войти внутрь, мимо проехали какие-то белые пацаны на черном “Плимуте”. Это было редкое зрелище для нашего Нигертауна – его так прозвали в честь ручья Нигер, он течет прямо посередине главной улицы Брук-роуд, которую по чьей-то странной прихоти оставили без покрытия. По крайней мере, так объяснил мне отец, когда я спросил его о названии нашей части городка.
Ну, так или иначе, а в тот момент я не видел ничего, кроме шикарного авто, ведь, как и все мальчишки, был помешан на машинах, и даже не задался вопросом, с чего это вдруг белым школьникам разъезжать по нашему Нигертауну? В общем, зашел я в магазин и купил то, что мне поручили: семь пинт молока, а также трижды по три дюйма свиных шкварок – за то, что выполнил поручение. Я обожаю свиные шкварки, очень надеюсь, что их можно купить в Исландии. Когда же я снова вышел на улицу, пацаны уже объехали квартал кругом, обзывая по пути пожилых женщин и присвистывая вслед тем, что были помоложе, харкая на стариков и швыряясь орехами в детишек. Хочу специально отметить, что обо всем этом я узнал позже, так что их поведение не имеет никакого отношения к тому, что там между нами произошло.
Итак, стою я на тротуаре, довольный жизнью, жую свои шкварки, а пацаны выходят из машины и окружают меня. Они, похоже, в приподнятом настроении, ну и я тоже.
Я протягиваю им пакетик с лакомством:
– Здоров! Шкварки будете?
И тут они на меня набросились. А я сделал то, что обычно делал, когда на меня набрасывались: просто стал отшвыривать их от себя. Не хотел причинять им вреда, понимаешь? Такое у меня было воспитание. И так продолжалось до тех пор, пока не пришло время спешить домой. Мой отец терпеть не мог проволочек, строгий мужик – где был он, там проволочек в помине не было. А пацаны-то уже обозлились. Тогда я поднял сумку с молоком над головой и сказал:
– Так, ребята, змеи уже проголодались.
Это им совсем не понравилось. Может, им показалось, что я их как-то принизил, задрав кверху сумку? Но я, естественно, не собирался выпускать ее из рук. И тут они начали хватать все, что попадалось им под руку, – куски труб, битые бутылки… Я уже точно не помню что, понимаешь? Короче, я был вынужден отложить сумку в сторону.
Все, больше ничего и не потребовалось. Но, когда я завалил всех пацанов на землю и, собственно говоря, не знал, что делать дальше, тогда я увидел на тротуаре пожилого мужчину. Он был так великолепно одет, что я тут же уверился: мне сейчас влетит по полной.
Это был мой благодетель.
* * *
Энтони Браун замолчал, ожидая, что мой отец как-то отреагирует на его рассказ. А отец заснул, так как не понимал по-английски ни слова. Темнокожий рассказчик вздохнул, взял из его рук шляпную картонку и поставил ее на верхнюю койку. Затем рывком поднял отца на ноги:
– Так не годится, приятель, совсем не годится!
От таких перемещений Лео пришел в себя, но, прежде чем он успел запротестовать, Энтони забросил его себе на плечо и так и пошел: из каюты в коридор, вдоль по коридору, из коридора – в другой, вверх-вниз, туда-сюда, пока наконец не добрался до кают-компании. Там уже вовсю отплясывал народ, зал был богато украшен воздушными шарами и таким замысловатым переплетением красных, белых и голубых бумажных цепочек, что это смахивало на кишки синего кита. На стене, прямо над длинным столом капитана, висел портрет мужчины с пышными седыми бакенбардами [6]. Над портретом был растянут транспарант с надписью от руки: 17 ИЮНЯ 1944 г.[7]
На подмостках у танцплощадки играл оркестр. В толпе празднующих толкался мужчина в костюме обезьяны и спрашивал всех подряд: “Ну как я был, ничего?” “Прекрасное выступление!” – отвечали собравшиеся и продолжали пить. И петь. Тут пели за каждым столом и не везде одно и то же.
Проследовав прямиком к столу капитана, Энтони сбросил с плеча свою ношу. Отец мешком шлепнулся на обитый плюшем стул рядом с коренастым прилизанным джентльменом – тенором Óли Клńнгенбергом. Тот возвращался домой в Исландию.
Подавшись вперед, тенор обратился к Лео:
– Добрый вечер, э…
Это элегантное “э”, увенчавшее его обращение, Оли Клингенберг подхватил в Вене, где у проезжих улиц и на площадях есть множество открытых кафе. Официанты там никогда не слышат, что заказывают посетители, посетители не слышат, что переспрашивают официанты, и поэтому и те и другие говорят: “Э?”
Тенор протянул Лео руку – тыльной стороной ладони вверх:
– Вы новенький здесь, на борту, э?
В этот момент Энтони случайно задел моего отца плечом, и отец стал заваливаться вперед, пока его лицо не оказалось на уровне запястья Клингенберга. Тот поспешно отдернул руку и таким образом спас беспомощного человека от позора. Губы Лео лишь слегка коснулись теноровых костяшек, прежде чем Энтони вернул его в вертикальное положение.
– Ну прям будто я папа римский! – взвизгнул тенор, отводя в сторону руку, избежавшую поцелуя, и бросив взгляд на другого соседа по столу, бывшего капитана “Мискатоника” Георга Тóрфиннсена, который тоже возвращался домой.
– Добрый вечер, молодой человек! – кивнул Георг моему отцу, а отец, в свою очередь, спросил, не видел ли тот его шляпную коробку.
Оставив вопрос без внимания, бывший капитан сделал отцу замечание: он должен быть как все здесь – в спасательном жилете, если собирается присоединиться к общему веселью.
Тут церемониймейстер объявил, что сейчас исполнят гимн Исландии, а солировать будет оперный певец.
– Ах да! Прошу прощения, э?
Как только Оли Клингенберг поднялся на ноги, в кают-компании воцарилась гробовая тишина, а когда он взошел на подмостки и занял позицию в центре, все взгляды устремились на него. Манерно поклонившись, он дал пианисту знак начинать:
- О, Бог земли, земли Господь-э-э! —
- мы имя святое, святое поем-а-а!
- Вкруг солнца горят легионы веков-э-э
- в ореоле небесном твоем-а-а.
- И день для тебя – будто тысяча лет-э-э,
- и тысяча лет – будто день-а-а,
- и вечность – в холодной росе первоцвет-э-э —
- перед Богом ничтожная тень… [8]
Отец мой давно отключился – еще до того, как празднующие подхватили за тенором свой гимн. Ни завтра, ни послезавтра, а лишь через три дня примет их родная страна. Одних она встретит с распростертыми объятиями, другие отправятся прямиком в тюрьму, но в данный момент всех их объединяла дорога домой. И пока что их жизнь была “жизнью на борту”. А вся последующая будет эхом этой “жизни на борту”.
Но что я вдруг заладил? Мне ли об этом говорить? Ведь я даже в сознание не приходил, когда плыл между странами на судне, где был представлен срез целого человечества. И тем не менее я часто ловлю себя на том, что без конца повторяю эти три слова – “жизнь на борту”, будто в них есть что-то и для меня. Я произношу их вслух и позволяю им отдаваться в моей голове до тех пор, пока они не начинают вызывать во мне печально-сладостное ностальгическое чувство. Оно явно заимствовано из воспоминаний людей о таких моментах, когда все вокруг дружно притворяются, будто нет ничего естественнее пребывающих в постоянном движении столовых приборов или респектабельных матрон, которые расхаживают по кают-компании, шатаясь, как последние забулдыги. Да, именно – из воспоминаний о жизненных периодах, когда существует лишь два вида живых особей: зеленовато-бледный Homo terrus и просоленный Homo marinus.
Впрочем, это последнее – что на борту существует лишь два вида – не совсем верно. Мне хочется рассказать о корабельном псе по кличке Сириус. В обеденное время нужно было постоянно следить, чтобы он не проскользнул в кают-компанию и не поживился чем-нибудь с тарелок, воспользовавшись отсутствием аппетита у пассажиров. Я помню, как он носился по палубе и лаял на чаек, следовавших за плывущим по морю подобием города. Я вижу, как он вынюхивает что-то на мостике или привязан в шторм в каюте вестового мальчишки. О Сириус, если б я плыл с тобой по океанам, я бы прижал тебя к себе – мокрого, обрызганного соленой волной! Мы бы шныряли с тобой по всем закоулкам судна, пока кому-нибудь бы это не надоело и нас не разлучили на время. А когда бы мы встретились снова, я бы сунул тебе утаенный кусочек лакомства. Сириус – мой самый лучший друг! Я – семилетний пацан, ты – судовой пес, мой преданный спутник, а наша дружба – это отличный материал для мальчишеских историй…
Южное небо, садится солнце. Барабаны туземцев приветствуют приближение ночи и возбуждающих танцовщиц в отблесках огромного костра. Когда моему отцу – капитану – улыбается дочь вождя, этот костер зажигает в его глазах особый огонек. Мне уже знаком этот огонек, и тебе, Сириус, тоже. Мы оба знаем, что если отец подчинится ему, то будет очень счастлив, когда мы отплывем поутру. Он будет очень добр, мой отец.
А когда он бывает так добр, он дает мне порулить. Он ставит меня на ящик у штурвала, и я веду судно по прямой от острова, а туземцы машут нам на прощание: “Алоха!”
На корме сидит наш звонкогласый матрос с севера Исландии и благодарит их за гостеприимство, исполняя вальс исландских моряков на укулеле, которую он выменял на перочинный ножик. В жизни маленького морехода и его верного пса начинается новый день. Там, далеко за горизонтом, их ждут новые, захватывающие приключения:
Свет в глубинах. Йозеф находит документ, свидетельствующий о том, что нацисты собираются атаковать морской караван его отца. Удастся ли Йозефу и его верному псу найти подводную лодку и предотвратить нападение нацистов? Что за одноглазый человек крадется от дома к дому под покровом ночи? Захватывающая история для мальчиков всех возрастов.
Холодная комната. Йозеф и Сириус узнают о заговоре бывших офицеров Третьего рейха, которые снова жаждут поставить Европу на колени. Действительно ли союзникам удалось обнаружить знаменитую нацистскую Машину Судного дня? Что это за “холодная комната”, где она находится и в чем ее секрет? Потрясающая воображение история от автора книги “Свет в глубинах”.
Всполохи на севере. Когда капитан Лео берется провести через арктические льды судно с золотым грузом на борту, ни он, ни Йозеф с Сириусом не знают, с чем им придется столкнуться. Странные всполохи на небе оказываются не обыкновенным северным сиянием, а чем-то совсем другим. Не пришельцы ли это из космоса, что следуют за ледоколом? И если да, явились они с миром? Новая книжка для поклонников историй о Йозефе и Сириусе.
Месть одноглазого. Вернувшись в родной город, Йозеф с изумлением обнаруживает, что одноглазый – его заклятый враг – теперь уважаемый всеми горожанин. Действительно ли он такой, каким кажется? И кто тогда стоит за серией преступлений, ужаснувших жителей города? Книжная серия о Йозефе и Сириусе давно покорила умы и сердца мальчиков всех возрастов.
Тасманский оборотень. Йозеф не знает, что и думать, когда мирное племя аборигенов Тасмании обращается к нему с просьбой избавить их от вервольфа. Что это? Суеверие дикарей? Возможно, это страшная тайна, связанная с расположенной неподалеку атомной электростанцией? Пятая книга о Йозефе и Сириусе удивит даже самых преданных поклонников.
* * *
Я тоскую по тебе, Сириус, и никогда еще не тосковал так сильно, как сейчас, когда должен покинуть тебя, чтобы продолжить рассказ о моем отце. Впрочем, возможно, моему повествованию уготована та же участь, что постигла истории для мальчишек: когда о войне перестали говорить и внимание среднего западного юнца переключилось на другие опасности и других злодеев, авторы были вынуждены подчиниться требованиям времени и читателей.
* * *
Судно плывет себе по морю, а высоко над ним – облако мелких птиц. Их сносит ветром в сторону северо-запада, в том же направлении, куда движется судно. Птицы черного цвета заливаются:
– Чир, чир, чир!
Не пора ли уже земле показаться на горизонте?»
III
(18 июня 1944 года)
4
«Запах овсяной каши разносится по дому и привычно долетает до ноздрей мальчугана, спящего в чердачной комнатушке. Он мгновенно просыпается, отбрасывает одеяло, спускает ноги на пол и проверяет, нет ли чего на простыне или на пижамных штанах. Нет, там ничего нет, и он доволен собой. Подскочив на цыпочках к стулу, он начинает натягивать на себя сложенную на сиденье одежду, еще с вечера приготовленную для него сестрой. Мягко очерченные губы мальчугана трогает улыбка, когда он видит, что сестра не поленилась погладить даже его бабочку. Он повязывает ее на шее, одергивает рукава рубашки, открывает створку люка и ныряет вниз.
Дверь в комнату сестры распахнута, но там никого нет. Отцовская дверь приоткрыта лишь слегка, там тоже никого не видно, и кровать не заправлена. Мальчуган продолжает свой путь вниз по лестнице, навстречу обещанной вкусной каше. Никто не умеет готовить овсянку так, как его сестра. В его сознании значимость сестры была совершенно несоизмерима с теми тремя годами, что разделяли их по возрасту. Она вела все домашнее хозяйство с тех пор, как исчезла их мать. Родители тогда отправились к острову Дрáунгэй в морскую поездку, организованную Исландской ассоциацией плавания, когда вдруг, как по мановению руки, оказалось, что матери больше нет на палубе с другими пассажирами. Отец после случившегося был вне себя от горя, замкнулся и с головой ушел в изучение старинных рукописей. Он корпел над ними, разложив на специально изготовленных для этого подсвеченных столах в Университете Исландии. А дочь заботилась и об отце, и о брате.
Мальчуган замирает от неожиданности, когда видит, что это не сестра, а его отец – палеограф – стоит у плиты и помешивает в кастрюле. У них в семье уже сложилась традиция: брат и сестра всегда проводят утро вместе, а старикан перед работой ест свой завтрак на кладбище, даже по праздникам. Однако сегодня этот двухметровый великан стоит, склонившись над кашей, и тычет в нее деревянной ложкой, словно зажатой в огромных пальцах штопальной иглой.
– Доброе утро! – приветствует мальчуган и усаживается за стол.
– У кого-то, может, и доброе…
Свободной рукой мужчина поправляет седые пряди, белым водопадом спадающие ему на плечи, быстро поворачивается от плиты и кладет порцию каши на тарелку сына. Его движения безупречно выверены – если бы старикан не был многократным чемпионом по плаванию, можно было бы подумать, что он все утро тренировался накладывать кашу. Сын молча берется за ложку, а отец одним движением умудряется шлепнуть кастрюлю обратно на плиту, выудить из холодильника бутылку сливок и полить ими взгорбившуюся на тарелке сына овсянку:
– На здравие!
Так в жизни мальчугана начинается странный день. Жители Рейкьявика готовятся отпраздновать тот факт, что вчера они стали независимым народом с чистокровнейшим исландским президентом. И это вам не какой-то там “президент Йон”, а самый что ни на есть настоящий, чей портрет уже красуется на первой серии марок, спешно выпущенной свободной Исландией назло недавней поработительнице – Дании. Впрочем, об этом настоящем президенте исландские граждане знают еще меньше, чем о своем бывшем заморском короле, которого большинству имеющих право голоса исландцев все же довелось увидеть собственными глазами во время его визита в Исландию в 1936 году и запомнить по прекрасным манерам за столом. (Рукопожатие короля, к примеру, было поистине крепким и уверенным.) Но, с другой стороны, когда такое бывало, чтобы простой народ знал тех, кто несет его штандарты?
Новоиспеченный президент – этакий типичный конторский служака, у него даже черные круги под глазами имеются. И никого это не смущает, а, наоборот, укрепляет в мысли, что нечего страшиться этой зловонной, полной призраков лужи под названием “современная действительность”.
Да, все это мальчугану известно со слов отца…
– И куда она запропастилась, твоя сестра, а?
Старик уже выключил огонь под кастрюлей и теперь держит в руках двухлитровый кувшин. Бросив быстрый взгляд через плечо, мальчуган видит, как отец выливает в кувшин две бутылки тминной водки.
– Она, видимо, решила, что мы вообще никуда не пойдем?
Мальчишка не находится что сказать, и мужчина отвечает за него:
– Да, приятель, она такая же, как ваша мама. Она просто сообразила, что на этот их изысканный праздник независимости кого ни попадя не приглашают. Так что лучше и вправду туда не соваться…
Тяжело плюхнувшись на табуретку напротив сына, он в один присест опустошает половину кувшина и продолжает свой монолог:
– Нет, для этого мало нацепить на себя какой-то мешок и позировать этому кропалке Трńггви [9]… – Старик проводит рукой по белой бороде, струящейся вниз по груди, под самые соски, как шерсть породистого барана. – Можно подумать, что человек отпускает бороду и наращивает мясо на костях лишь для того, чтобы стать натурщиком для герба нации, не знающей разницы между драконом и змеем. – Отец вытирает рот тыльной стороной ладони и оголяет в оскале зубы, будто у него во рту их три ряда. – Ну уж нет, горный великан [10]…
“взаправду”, как выражается народ в Теневом квартале [11]… Да! Горный великан взаправду лучше посидит у себя дома! Вот на кой, я спрашиваю, на кой хрен нужно было менять герб? Старый[12]куда больше подходит этому отребью, которое я вижу каждый день: бык там больше похож на паршивую овцу, гриф – на ощипанного петуха, дракон – на пса-астматика с удушьем, а горный великан – на жеманного актеришку, забывшего свою реплику.
Старикан бухает кулаком по столешнице так, что подпрыгивает посуда. Каша застревает у мальчугана в горле. Он будто очутился не в своей истории! В его истории он, четырнадцатилетний рейкьявикский паренек, во второй день новоиспеченной республики отправляется болтаться по городу в компании своих сверстников. Они собираются за местной школой, выкуривают по очереди одну сигарету, а потом идут в центр посмотреть, как готовится празднование. Затем они бегут на улицу И́нгольфсстрайти, к разбитому там лагерю американцев, чтобы разжиться спиртным у солдатика, который не просит за бутылку ничего, кроме поцелуя от каждого из них. Да, так проходит их день, заполненный всякой веселой ерундой. Они перекусывают в торговой палатке или даже в пивной, потому что, видишь ли, все они сейчас на летних каникулах и все подрабатывают. Вечером на танцах они собираются строить глазки девчонкам и уверены, что те будут строить им глазки в ответ…
Но нет, всего этого с мальчуганом не случится. Главный герой сегодняшнего дня – его восьмидесятидвухлетний отец, а сам он – лишь второстепенный персонаж, если вообще не сторонний наблюдатель. Пошарив рукой по полу, старик поднимает огромных размеров дубовый посох:
– Ну зато хоть эта чертова палка у меня осталась…
Он воинственно взмахивает посохом, и висящая над столом люстра разлетается вдребезги. Осколки стекла дождем осыпают отца и сына.
* * *
СТАРИК И КОБЫЛА
Так умер твой дед.
Не обращая внимания на протесты своих глупых батраков, он приказал им подковать бешеную кобылу. Все считали ее пригодной лишь для жаркого, но он видел в ней покладистую детскую лошадку и даже назвал ее Золушкой в поддержку своей точки зрения.
Когда люди вдоволь набегались за кобылой по горам и долам, подзывая ее и вовсю растопыривая руки и ноги, будто вдруг постигнув, как схватить в охапку саму природу, им наконец удалось загнать тварюгу на ковочное место у хутора.
Однако приблизиться к ней никто не решался, так что подбить на нее подковы выпало на долю твоего деда-старожила, а родился он в середине сентября 1778 года.
И вот, пожелав трусам прямой дорожки в адово пекло и еще куда подальше, твой дед подкрался к кобыле со стéйнгримовкой в руке. Это была подкова домашнего изготовления, названная в честь него самого. Наконец ему, то угрожая, то приговаривая “шу! шу!”, удалось ухватить конягу за левую заднюю ногу, подтянуть к себе копыто, пристроить к нему подкову и подзакрепить первый гвоздь. Но как только старикан занес молоток для удара, кобыла решила, что теперь настал не ее, а его час. Сбросив набойку, она бодро лягнулась, хорошенько треснув старика по голове, так что он, описав высокую дугу, пролетел по воздуху задом наперед и приземлился под стеной хуторского дома. После чего этот недюжинной силы гигант – каковым и был он, твой дед – поднялся на ноги без посторонней помощи, и, бросив свирепый взгляд на сборище, стоявшее полукругом и с ужасом взиравшее на него, прорычал:
– На что вы, сукины дети, пялитесь?
И, прежде чем те успели ответить, что кобыла вбила ему посреди лба ухнáль [13], свалился без сознания.
Первое, что попросил Хáральд Скýггасон, гомеопат, прибежавший по вызову к больному, так это клещи. Несколько дней подряд все хуторские мужики по очереди пытались вытянуть из хозяйского лба злополучный гвоздь, но, ясное дело, всё без толку: родителем кобылы был нńкур [14]из озера в Кáппастадир, а твой дед был родом с полуострова Троллей. Наконец на третий день он сел в постели и продекламировал так громогласно, что косари на окрестных лугах оторвались от работы и изумленно оглянулись:
Вскинулся викинг взморенный жаждой жгуче желанье жар утопить…
Тогда приставили к нему молодую деву – поить его. И пришлось ей вливать в него мńсу [15]и днем и ночью. Такая жажда навалилась на него от этого ухналя, что пил он без остановки, однако ж только тогда, когда напиток подносила ему эта самая дева – твоя бабушка. И вот как-то ночью, решив, что хватит с нее без продыху таскать твоему деду мису, схватила она клещи, лежавшие на сундуке у кровати, уселась враскорячку на старика и изо всей силы вцепилась в гвоздь. Некоторое время она расшатывала его, когда из отверстия фонтаном брызнула кровь – да прямо ей в лицо! Ты можешь сам догадаться, что было дальше – там из твоего деда еще кое-что забило фонтаном. Да, именно так был зачат твой отец! И поэтому теперь есть ты!
* * *
День проходит так: старик шатается по дому, умудряясь в каждой из комнат свалиться замертво. Однако он тут же воскресает, но лишь для того, чтобы переместиться на новое место. И каждый раз, воскреснув, он рассказывает сыну о собственном зачатии, а в промежутках ругается сам с собой, доказывая, что вовсе не случайно именно его, а не какого-нибудь другого ныне живущего исландца выбрали позировать для обновленного герба новой республики.
Сын следует за отцом по пятам и следит, чтобы тот не поранился – будто можно помешать троллю укокошить самого себя или кого-нибудь другого на своем пути. Друзьям сын сказал, что отцу нездоровится. Обычно во время пьяных странствий этого колосса по дому на вахте дежурит сестра. Мальчуган же запирается у себя на чердаке, натягивает на уши балаклаву, чтобы поменьше слышать, что происходит внизу, и изучает свою коллекцию марок. Старик считает это занятие глупым.
И вот они уже добрались до ванной комнаты. Отец восседает на краю ванны и грозит кулаком в окошко. В правом верхнем углу окна встроена вентиляционная решетка, через нее с улицы доносится праздничный гул. Старик вскакивает на ноги, складывает ладони рупором и горланит вслед народу, который, принарядившись, спешит на центральную площадь:
– Да здравствует плебспублика!
Парнишка задергивает окошко занавеской. Ему понятна причина дурного настроения отца, она не в том, что старику не предложили ни почетного места с шерстяным пледом на торжественной церемонии в национальном заповеднике “Тńнгветлир”, ни участия в воссоздании нового герба в виде tableau vivant на площади Лáйкьярторг. Нет, отец злится, потому что его сын не примет от него эстафету в плавании. А еще старик подозревает, что его дочь спуталась с иностранным солдатиком.
Мальчуган же точно знает, что так оно и есть. Он также знает, что перестал мочиться по ночам в постель, когда отрубил себе кончик среднего пальца на правой руке – как раз в тот день, когда должен был начать тренировки с командой плавательного клуба “Áйгир”».
IV
(11 марта 1958 года)
5
«Этим утром самой первой проснулась черная козочка, дремавшая у стены сарая на заднем дворе представительного деревянного дома. Дом стоит на улице, которая ведет к центру небольшого городка [16], а городок, в свою очередь, расположен на острове в северной части Атлантического океана – в самом уголке бухты. Козочка неуклюже вспрыгивает на ноги и постреливает по сторонам желтыми глазками – как там в мире дела? Всё, похоже, на своих местах, на всем лежит красноватый отблеск утреннего солнца. На углу сарая в наполненном до краев ведре посверкивает дождевая вода. Козочка трусит туда. Вдоволь напившись и стряхнув с себя раннюю весеннюю муху, она ковыляет от сарая к дому номер 10а по улице Ингольфсстрайти. Она проголодалась.
* * *
Лео Лёве в Национальной галерее Исландии. Здесь открывается фотовыставка под названием “Лица исландцев”. Министр культуры произносит речь о том, как ландшафт страны и ее климат формируют душу народа и как эта душа отражается в его лицах. Министр говорит без бумажки, слова распускаются на его языке, словно северные лютики на горной вершине. Сам он невысок – люди великих идей всегда ростом пониже их. Его речь – сама красота:
– Это связь между землей и ее народом, это история человека и природы, это благая весть, схваченная фотографом в одном-единственном мгновении. Благодаря достижениям техники глазок фотоаппарата открывается и видит истинную реальность: человек и страна едины. Исландия говорит с нами в лицах, обращенных к снежно-белым горным вершинам, огненно-красной лаве, чернично-синим склонам. Из поколения в поколение ликует народ, созерцая свою страну, и это ликование сияет в ясных чертах его лиц.
Министр делает паузу, и гости выставки благодарят его робкими аплодисментами.
Повернувшись к фотографу, высокому мужчине с ястребиным взглядом, министр дотрагивается до его плеча. Тот в ответ лишь слегка наклоняет голову, тем самым давая понять, что готов услышать больше. Министр отводит руку от плеча фотографа, но не опускает ее, а продолжает держать в воздухе между ними:
– И это не только, как говорится, сегодняшние дети страны нашей смотрят на нас с фотографий, нет, когда мы встречаемся с ними взглядом, мы всматриваемся в глаза самой тысячелетней Исландии. И мы спрашиваем себя: а нравится ли этим глазам то, что они видят?
(Эффектная пауза)
– Да, мы спрашиваем себя, а был ли наш путь “путем к добродетели”, как сказал наш великий поэт? [17]Господин президент, уважаемые гости, я объявляю выставку “Лица исландцев” открытой!
Теперь уже раздаются бурные аплодисменты и фотограф кланяется президенту, министру культуры и гостям, снимки большинства из которых включены в экспозицию. Люди расходятся по залам в поисках самих себя, в их числе и Лео Лёве. Стены галереи плотно увешаны фотопортретами почти всех ныне живущих исландцев, все сгруппировано по округам и населенным пунктам, за исключением Рейкьявика – там фотографии расположены в алфавитном порядке по названиям улиц.
В полукруглом зале, вместившем в себя всех жителей столицы, Лео замечает антрополога, который сопровождал фотографа во время его трехлетнего вояжа по стране. Он стоит в окружении господ в твидовых костюмах и с галстуками-бабочками – это университетская аристократия. Сам антрополог возвышается над собратьями – седовласый, со всклокоченной, жесткой, с проседью бородой. В компании чувствуется некоторое возбуждение, и кое-кто уже схватился за сигарету. Антрополог рассказывает им что-то забавное. Он говорит как человек из народа, с резким северным акцентом – цедит слова сквозь стиснутые зубы так, будто у него во рту лежит недожеванная голова форели:
– Я должен вам кое-что показать…
Он делает знак следовать за собой и ведет их через зал к тому месту, где на стене над фотографиями черной краской нарисованы буквы “И – К”. Лео увязывается за компанией и видит, как антрополог, тыча пальцем, разыскивает на стене чье-то лицо, а группа людей вокруг него уже еле стоит на месте, изнывая от нетерпения.
– Инг-инг-инг-инг… – Палец парит перед фотографиями. – Улица Ингольфсстрайти!
Палец антрополога зависает на месте, но Лео не видит, где именно, так как ученые мужи, все как один, наклоняются вперед и… замолкают. Лео пытается протиснуться поближе – ведь он тоже живет на улице Ингольфсстрайти. Антрополог ждет реакции своих коллег, предвкушая веселье до слез, сам вот-вот лопнет. Однако вместо того, чтобы заколыхаться в приступе хохота, словно гречиха на ветру, твидовая братия медленно расправляет складки костюмов, с неловкостью поглядывая друг на друга и пряча взгляды от антрополога. Закончив поправлять свои бабочки, все разом обнаруживают, что девушка с подносом, уставленным напитками, как раз явилась, чтобы их спасти.
А антрополог так и остается стоять с застрявшим в горле неизрасходованным хохотом. Возможно, Лео сможет посмеяться вместе с ним? Хотя антропология со своим изощренным юмором часто поступает с людьми не лучшим образом, вовсе не обязательно отыгрываться за это на отдельных антропологах.
Лео подходит поближе к стене. Ну да, вот тут его соседи… Из антрополога вырывается звук, похожий на сдавленное блеяние.
– Так, с ним надо поосторожней… Ну-ка посмотрим: Ингольфсстрайти, 2, Ингольфсстрайти, 3, Ингольфсстрайти, 4 (там никто не живет, там старый кинотеатр), Ингольфсстрайти, 5, Ингольфсстрайти, 6 (тут, кажется, не хватает Хьёрлейва), Ингольфсстрайти, 7…
В тот момент, когда Лео доходит до своего дома, антрополог наконец взрывается:
– Мбхе-хех…
Но давится воздухом и прикусывает язык, поймав на себе сочувствующий взгляд Лео.
Поиски фотографии на стене продолжаются, а антрополог уже стонет, не в силах сдержаться. И тогда Лео замечает самого себя – его имя четкими буквами напечатано на полоске бумаги, приклеенной под черной рамкой: “Лео Лёве, бригадир”. Но на фотографии вовсе не Лео, а большой палец ноги. Он заполняет все пространство снимка – с темным деформированным ногтем и вульгарно торчащим на суставе пучком волос.
– Мбхе-хее, мбхе-хее… – блеет антрополог и тычет пальцем в сторону Лео.