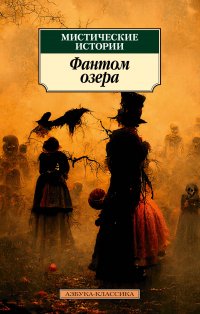Читать онлайн Тайное поклонение бесплатно
© Антонов С., составление, перевод на русский язык, 2024
© Брилова Л., перевод на русский язык, 2024
© Бобович А., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Токарева Е.О., перевод на русский язык, 2024
© Волжина Н., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Озерская Т., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Полищук В., перевод на русский язык, 2024
© Харитонов В., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Ибрагимов А.Ш., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Джозеф Шеридан Ле Фаню
1814–1873
Случай с церковным сторожем
Те, кто знал Чейплизод четверть века – или больше – тому назад, вспомнят, возможно, тогдашнего церковного сторожа. Боб Мартин наводил благоговейный ужас на юных разгильдяев, которые по воскресеньям забредали на кладбище, читали надписи или играли в чехарду на надгробиях, взбирались по плющу в поисках летучих мышей и воробьиных гнезд или заглядывали в таинственное отверстие под восточным окном, где виднелась туманная перспектива ступеней, которая терялась внизу в еще более густой темноте; там, среди пыли, рваного бархата и костей, которыми усеяли склеп время и бренность, жутко зияли отверстые гробы. Боб, разумеется, был грозой таких безумно любопытных или озорных юнцов. Но хотя должность Боба Мартина внушала трепет, как и его сухопарая, облаченная в порыжелое черное одеяние фигура, все же, глядя на его сморщенное личико, подозрительные серые глазки, каштановый, с оттенком ржавчины парик-накладку, каждый заподозрил бы в нем любителя веселого времяпрепровождения; и верно, моральные устои Боба Мартина не всегда оставались неколебимы – ему случалось откликаться на зов Бахуса.
Ум у Боба был пытливый, память же хранила немало веселых, а также страшных историй. По роду службы ему были близки могилы и гоблины, а по склонности души – свадьбы, пирушки и всяческие забавные проделки. А поскольку самые ранние его воспоминания относились к событиям почти шестидесятилетней давности, у него скопился обильный запас достоверных и поучительных рассказов из местной деревенской жизни.
Доходы, приносимые службой при церкви, были далеко не достаточны, и Бобу Мартину, дабы удовлетворить свои особые потребности, приходилось обращаться к приемам, мягко говоря, не вполне подобающим.
Нередко, когда его забывали позвать в гости, он приглашал себя сам; Боб Мартин случайно присоединялся в трактире к знакомым ему небольшим теплым компаниям, развлекал собравшихся странными и ужасными историями из неисчерпаемого хранилища своей памяти и никогда не отвергал благодарности, которая выражалась в стаканчике горячего пунша с виски или другого напитка, имевшегося на столе.
В ту пору пивной напротив старой заставы владел некий Филип Слейни, человек по натуре меланхолический. Сам по себе он не был склонен к неумеренным возлияниям, но, постоянно нуждаясь в компаньоне, который разгонял бы его мрачные мысли, на удивление привязался к церковному сторожу. Без общества Боба Мартина ему уже трудно было обходиться; под влиянием озорных шуток и удивительных историй своего приятеля трактирщик забывал, казалось, о своем угрюмом настроении.
Эта дружба не добавила собутыльникам ни богатства, ни доброй славы. Боб Мартин поглощал намного больше пунша, чем полезно для здоровья и совместимо со званием служителя церкви. Филип Слейни также стал позволять себе излишества, ибо трудно было не поддаться добродушным уговорам приятеля; и поскольку Слейни приходилось платить за двоих, кошелек его страдал еще больше, чем голова и печень.
Как бы то ни было, повсеместно считалось, что Боб Мартин споил Черного Фила Слейни (под этим прозвищем был известен трактирщик), а Фил в свою очередь окончательно сбил с пути Боба. При таких обстоятельствах в заведении напротив заставы счета несколько запутались, и одним отнюдь не прекрасным летним утром, когда, несмотря на жару, небо было обложено тучами, случилось следующее: Фил Слейни вошел в маленькую заднюю комнату, где хранил свои бухгалтерские книги (и где грязное окно смотрело прямо в глухую стену), запер на засов дверь, взял заряженный пистолет, сунул дуло в рот и снес себе верхушку черепа, забрызгав при этом потолок.
Это страшное несчастье глубоко потрясло Боба Мартина; отчасти из-за этого, а отчасти по той причине, что ему грозила отставка, после того как его несколько раз обнаруживали на большой дороге в отсутствующем – почти что бесчувственном – состоянии, а возможно (говорили некоторые), и оттого, что некому стало его угощать после смерти бедняги Фила Слейни, но Боб Мартин на время отказался от всех крепких напитков и сделался образцом умеренности и трезвости.
К великой радости жены Боба Мартина и в назидание соседям, ее супруг следовал своему разумному решению достаточно твердо. Он редко прикладывался к бутылке, никогда не напивался допьяна, и лучшая часть общества приняла его в свои объятия как блудного сына.
Приблизительно через год после упомянутого жуткого происшествия помощник городского священника получил по почте уведомление о предстоящих похоронах; в письме содержались некоторые указания по поводу того, где именно на чейплизодском кладбище нужно выбрать место для могилы. Помощник священника послал за Бобом Мартином, дабы сообщить ему то, что относилось к его служебным обязанностям.
Осенняя ночь была мрачна; грозовые облака, медленно поднявшись из-за горизонта, сошлись на небе в зловещий, чреватый бурей навес. В неподвижном воздухе далеко разносились раскаты отдаленного грома; под гнетом предгрозовой атмосферы вся природа, казалось, притихла и съежилась.
Когда Боб, облачившись в потрепанный черный сюртук, который носил на службе, был готов отправиться к начальству, шел уже десятый час.
– Бобби, дорогой, – проговорила жена, прежде чем отдать ему его шляпу, – ты ведь не станешь, Бобби, дорогой… не станешь… сам знаешь что.
– Ничего я не знаю, – бросил он, делая попытку схватить шляпу.
– Ты не станешь закладывать за воротник, Бобби, ведь правда? – продолжала жена, не отдавая шляпы.
– С чего бы это, женщина? Ну, дашь ты мне шляпу или нет?
– Ты обещаешь мне, Бобби, дорогой… ведь обещаешь?
– Ну да, конечно… с чего бы?.. Ну, отдавай шляпу, и я пошел.
– Но ты же не пообещал, Бобби, голубчик; ты так и не пообещал мне.
– Ладно, дьявол меня забери, если до возвращения я выпью хоть глоток, – в сердцах отозвался церковный сторож. – Этого тебе довольно? Теперь ты отдашь мне шляпу?
– Вот она, дорогой; Господь да хранит тебя в пути.
Произнеся это прощальное благословение и проводив мужа глазами, миссис Мартин закрыла дверь, потому что было уже совсем темно, и в ожидании его прихода снова села вязать; после разговора с мужем на сердце у нее полегчало: ведь она опасалась, что для человека, вступившего на стезю трезвости, он в последнее время стал слишком часто выпивать, и полдюжины «пивнушек», мимо которых ему придется идти в другой конец города, окажутся чересчур сильным соблазном.
Пивные были еще открыты и, пока Боб тоскливо следовал мимо, испускали восхитительные пары виски, но Боб засовывал руки в карманы, отворачивался и, исполнясь решимости, принимался насвистывать, а в голове у него, вместе с образом помощника священника, витали думы о будущем вознаграждении. Он уверенно провел корабль своей добродетели мимо рифов соблазна и благополучно достиг дома, где жил помощник священника.
Того, однако, дома не оказалось, так как его неожиданно вызвали к больному, и Бобу Мартину пришлось дожидаться его возвращения в холле, барабаня пальцами от скуки. Отлучка хозяина, к несчастью, затянулась; когда Боб Мартин отправился домой, уже, вероятно, пробило полночь. К этому времени грозовые облака еще более сгустились, темень стояла непроглядная, в скалах и лощинах Дублинских гор прокатывался гром, бледно-голубые вспышки молний выхватывали из мрака фасады домов.
Двери уже всюду были закрыты, но Боб, тащась домой, невольно отыскал глазами пивную, принадлежавшую раньше Филу Слейни. Слабый свет просачивался через щели ставен и окошко над дверью, так что фасад был окружен неярким ореолом.
Боб успел уже привыкнуть к темноте, и этого свечения ему хватило, чтобы разглядеть человека в просторном сюртуке для верховой езды, сидевшего на скамье, которая стояла тогда под окном. Незнакомец, глаза которого были скрыты низко надвинутой шляпой, курил длинную трубку. Рядом с ним неясно виднелись очертания стакана и бутылки объемом в кварту; большая лошадь под седлом, слабо различимая во тьме, терпеливо дожидалась хозяина.
Без сомнения, странное зрелище представлял собой путешественник, которому вздумалось в такой час под открытым небом подкрепиться стаканчиком, однако церковный сторож легко объяснил происходящее тем, что после закрытия пивной на ночь посетитель прихватил остатки угощения, дабы завершить пиршество здесь, на открытом воздухе.
В иные времена Боб, проходя мимо, приветствовал бы незнакомца дружелюбным «доброй вам ночи», но нынче он был не в духе, к общению не расположен и собирался молча проследовать дальше, однако незнакомец, не вынимая изо рта трубки, поднял бутылку и без церемоний поманил ею Боба; наклонив голову и плечи и одновременно перемещаясь на конец сиденья, он без слов пригласил Боба разделить с ним скамью и пиршество. В воздухе витал дивный аромат виски, и Боб было дрогнул, но, начав колебаться, тут же вспомнил свое обещание и сказал:
– Нет, благодарствую, сэр, мне сегодня нельзя задерживаться.
Незнакомец стал делать ему неистовые знаки и кивать на пустой конец скамьи.
– Благодарю за любезное приглашение, – сказал Боб, – но я припозднился и должен спешить, поэтому желаю вам доброй ночи.
Путешественник звякнул стаканом о горлышко бутылки, намекая, что задерживаться необязательно – можно сделать глоток и на ходу. Боб в душе разделял его мнение, но клятвы своей не забывал; он сглотнул слюну, твердо и решительно покачал головой и продолжил путь.
Незнакомец, с трубкой во рту, поднялся со скамьи и, сжимая в одной руке бутылку, а в другой стакан, двинулся по пятам за церковным сторожем; окутанная мраком лошадь последовала за хозяином.
В такой назойливости было что-то подозрительное и загадочное.
Боб ускорил шаги, но незнакомец не отставал. Церковный сторож почуял неладное и обернулся. За спиной он обнаружил своего преследователя, который все так же нетерпеливыми жестами предлагал ему попробовать содержимое бутылки.
– Я вам уже сказал, – произнес Боб, одновременно разозленный и испуганный, – не стану пробовать, и все тут. Не хочу я иметь дела ни с вами, ни с вашей бутылкой; и ради бога, – добавил он громче, заметив, что незнакомец приближается, – отойдите и оставьте меня в покое.
Эти слова, по-видимому, рассердили незнакомца – он с яростью затряс бутылкой, но, несмотря на этот угрожающий жест, все же отстал. Однако Боб видел, что незнакомец следует за ним в отдалении, потому что удивительное красное сияние, исходившее от трубки, окружало тусклым светом всю его фигуру, которая уподоблялась таким образом огненному метеору.
– Пусть бы дьявол забрал себе свое добро, – пробормотал Боб в сердцах. – Знаю я, где бы ты тогда был, парень.
Когда Боб во второй раз обернулся, он с испугом обнаружил, что наглый незнакомец подобрался к нему еще ближе, чем вначале.
– Будьте вы прокляты! – вскричал мастер лопат и черепов вне себя от ярости и страха. – Чего вам от меня нужно?!
Незнакомец, казалось, воспрянул духом; кивая головой и протягивая стакан и бутылку, он все больше приближался, и Бобу Мартину стало слышно, как фыркает лошадь, которая следовала в темноте за хозяином.
– Не знаю, что там у вас, но приберегите это для себя; с вами водиться – только беду накликать, – холодея от испуга, крикнул Боб Мартин, – отвяжитесь, оставьте меня в покое.
Безуспешно рылся он в бурлящей путанице своих мыслей, пытаясь вспомнить какую-нибудь молитву или заклинание. Он ускорил шаги почти до бега и вскоре достиг своего дома, который стоял у реки, под нависшим берегом.
– Впусти меня, бога ради, впусти, Молли, открой, – завопил Боб, добежав до порога и прислонившись спиной к двери.
Преследователь остановился прямо напротив, на дороге; трубки у него во рту уже не было, но густо-красное сияние не исчезло. Издавая нечленораздельные глухие звуки, какие-то звериные, не поддающиеся описанию, он, как показалось Бобу, наклонил бутылку и стал наполнять стакан.
Церковный сторож принялся с отчаянными воплями изо всех сил лягать дверь.
– Во имя всемогущего Господа, отвяжитесь от меня наконец.
Разъяренный преследователь плеснул содержимое бутылки в сторону Боба Мартина, но вместо жидкости из горлышка вырвалась струя пламени, которая растеклась и завертелась вокруг них; на миг их обоих окутало неяркое свечение, но тут налетевший порыв ветра сорвал с незнакомца шляпу, и церковный сторож увидел, что под ней ничего нет. Вместо верхней части черепа Боб Мартин созерцал зияющую дыру, неровную и черную; через мгновение испуганная жена отворила дверь, и Боб без чувств свалился на пол собственного дома.
Едва ли эта правдивая и вполне понятная история нуждается в толковании. Всеми единодушно признано, что путешественник был не кем иным, как призраком самоубийцы, который, по наущению врага рода человеческого, подстрекал гуляку-сторожа нарушить его подкрепленный нечестивыми словами обет. Если бы призраку это удалось, то, без сомнения, темный конь, который, как заметил Боб Мартин, ждал, оседланный, неподалеку, унес бы в то место, откуда явился, двойную ношу.
Об истинности происшедшего свидетельствовало колючее деревце, росшее у двери: утром увидели, что оно опалено вырвавшимся из бутылки адским пламенем, словно ударом молнии.
1851
Мертвый причетник
Закаты в ту пору были красны, ночи долги, в воздухе стоял приятный морозец. Близилось Рождество – радостный провозвестник Нового года. В ту ночь в прелестном городке Голден-Фрайерс, в известном по всем графствам древней Нортумбрии кабачке «Святой Георгий и Дракон», случилась трагедия, о которой до сих пор вспоминают старики зимними вечерами у каминов – золотистая дымка минувших лет придает былым ужасам восхитительный аромат.
В старом каретном сарае, во дворе кабачка, покоилось тело Тоби Крука, церковного причетника. Его нашли мертвым за полчаса до начала нашей истории, при весьма странных обстоятельствах, в месте, где оно могло бы еще добрую неделю лежать незамеченным. Страшное подозрение закралось в безмятежные души обитателей Голден-Фрайерса.
Лучи зимнего заката пробивались сквозь ущелья величественных гор на западе, окутывая пламенем голые ветви облетевших вязов и крохотные серпики зеленой травы на обширных лугах, окружавших старинный городок.
Нет на свете места чудеснее тихого Голден-Фрайерса: остроконечные крыши со стройными каминными трубами, невесомые, как дуновение ветерка, венчают аккуратные домики из светло-серого камня, выстроившиеся ровной чередой вокруг живописного озера. На противоположном берегу озера грандиозным амфитеатром встает высокая горная гряда, чьи заснеженные пики, подсвеченные красноватым сиянием заходящего солнца, смутно вырисовываются на белесом фоне зимнего неба. Если окажетесь в тех краях, непременно взгляните на Голден-Фрайерс с самой кромки тихого озера: вы поневоле залюбуетесь островерхими каминными трубами, стройными коньками крыш, забавным старым кабачком с причудливой вывеской, изящной башенкой старинной церкви с высоким шпилем, венчающей чудесную картину. Тому, кто увидит городок в час заката или в сиянии луны, среди чарующих красот природы, откроется чудесная тайна: он решит, что попал в волшебную страну эльфов и фей.
Накануне вечером Тоби Крук, причетник здешней церкви, долговязый тощий субъект лет за пятьдесят, посидел часок-другой с деревенскими приятелями за добрым кувшином горячего пива в уютной кухне постоялого двора. Обычно он заглядывал туда часов в семь послушать сплетни. Этого ему вполне хватало: говорил он мало и глядел всегда угрюмо.
Теперь-то про него многое рассказывают.
В юности Тоби слыл отпетым лентяем. Он разругался с хозяином, дубильщиком кож из Браймера, у которого служил в подмастерьях, и ушел куда глаза глядят; сотню раз попадал в переделки и выходил сухим из воды. Перемыв ему все косточки, обитатели Голден-Фрайерса пришли к выводу, что для всех, кроме, возможно, его самого, а в особенности для убитой горем матери было бы лучшим выходом, если бы он с тяжелым камнем на шее покоился на дне тихого озера, в котором отражаются серые крыши, раскидистые вязы и высокие окрестные горы. В разгар этих пересудов Тоби Крук внезапно вернулся. Обитатели городка едва узнали его: это был другой человек, зрелый мужчина сорока лет.
Пропадал он двадцать лет, и никто не знал, где его носило.
И вдруг он ни с того ни с сего объявился в Голден-Фрайерсе – угрюмый, молчаливый и благонравный. Мать его давно лежала в могиле, но поселяне приняли «блудного сына» с открытой душой.
Добросердечный викарий, доктор Дженнер, говорил жене:
– Долли, дорогая, его каменное сердце смягчилось. Я видел, как на вчерашней проповеди он вытирал глаза.
– Не удивляюсь, милый мой Хью. Я помню то место: «Есть радость на небесах». До чего прелестно! Я сама чуть не заплакала.
Викарий добродушно рассмеялся, поцеловал жену и нежно похлопал по щеке.
– Ты слишком высоко ставишь проповеди своего мужа, – заметил он. – Понимаешь ли, Долли, я читаю их прежде всего для бедняков. Если уж они поймут меня, то другие – и подавно. Надеюсь, мой простой стиль находит путь и к сердцу их, и к разуму…
– Почему же ты раньше не сказал мне, что он плакал. Ты так красноречив! – воскликнула Долли Дженнер. – Никто не умеет читать проповеди лучше моего мужа. В жизни не слышала ничего подобного.
Охотно верим, ибо за последние двадцать лет почтенная дама вряд ли слыхала более шести проповедей из уст других священников.
Обитатели Голден-Фрайерса горячо обсуждали возвращение Тоби Крука.
Доктор Линкоут заметил:
– Должно быть, немало ему довелось хлебнуть. Высох, как вобла, а мускулы крепкие. Служил, поди, в солдатах – выправка у него военная, а отметина над правым глазом – ни дать ни взять шрам от ружейного выстрела.
Другой бы спросил, как человек мог выжить после огнестрельной раны над глазом. Но Линкоут был врачом, и не простым, а военным – в молодости; кто в Голден-Фрайерсе мог тягаться с ним в делах хирургических? Жители городка сошлись во мнении, что та метка и впрямь была оставлена пистолетной пулей.
Мистер Джалкот, адвокат, «головой ручался», что Тоби Крук в долгих странствиях набрался ума, а честный Тэрнбелл, владелец «Святого Георгия и Дракона», задумчиво произнес:
– Надо подыскать Тоби работенку, чтоб было куда руки приложить. Пора делать из него человека.
В конце концов его назначили причетником церкви Голден-Фрайерса.
Тоби Крук исполнял свои обязанности на редкость добросовестно. Не вмешивался ни в чьи дела: человек он был молчаливый, и друзей у него не водилось. В компании держался особняком, любил прогуливаться в одиночку по берегу озера, пока другие играли в «пятерку» или в кегли, иногда заглядывал в «Святой Георгий» и, потягивая спиртное, с угрюмым видом прислушивался к общему разговору. Было в лице Тоби Крука что-то недоброе, а если к тому же у него не все ладилось, то он казался просто злодеем.
О Тоби Круке шепотом рассказывали немало историй. Никто не знал, как эти сплетни попали в город. Нет ничего более загадочного, чем пути распространения слухов. Словно разлили флакон с ароматическим бальзамом. Слухи разлетаются, подобно эпидемии, то ли от малейшего дуновения ветерка, то ли подчиняясь столь же непостижимым космическим законам. Рассказы эти, весьма расплывчатые, относились к долгому периоду отсутствия Тоби Крука в родном городке, однако так и не приняли мало-мальски определенной формы; никто не мог сказать, откуда они пошли.
В добром сердце викария не было места дурным мыслям. Если до него доходили рассказы о гнусном прошлом Тоби Крука, он не принимал их на веру, требуя доказательств. Таким образом, причетник нес свою службу без всяких помех.
В тот злосчастный вечер – подробности всегда вспоминаются после катастрофы – мальчишка, возвращавшийся вдоль кромки озера, встретил причетника. Тот присел на поваленном дереве под скалой и считал деньги. Сидел он скорчившись, подтянув колени к подбородку, и торопливо пересыпал серебряные монеты с ладони на ладонь. Длинные пальцы так и мелькали. Он взглянул на мальчика, как гласит старая английская пословица, «как дьявол на город Линкольн». Но хмурые взгляды не были чем-то необычным для мистера Крука; у него никогда не находилось ни улыбки для ребенка, ни доброго слова для усталого путника.
Тоби Крук жил в сером каменном доме возле церковного крыльца, тесном и холодном. Лестничное окно смотрело на кладбище, где проходила большая часть рабочего дня причетника. Тоби занимал лишь одну комнату, в остальном же дом был необитаем.
Старуха, следившая за домом, спала на деревянной скамье в крохотной каморке у черного хода, выстланной черепицей, среди сломанных табуреток, старых саквояжей, трухлявых сундуков и прочего хлама.
Поздно ночью она проснулась и увидела у себя в комнате человека в шляпе. В руке он держал свечу и заслонял рукавом ее пламя, чтобы свет не падал в глаза спящей. Незнакомец стоял спиной к кровати и рылся в ящике, где старуха обычно хранила деньги.
Однако в тот день старуха получила жалованье за три месяца, два фунта стерлингов, и спрятала их, завернув в тряпицу, в самом дальнем уголке буфета, в старой чайнице.
При виде незнакомца старуха до смерти перепугалась: а вдруг незваный гость явился с близлежащего кладбища? Она села на постели, прямая как палка, седые волосы встали дыбом так, что чепец приподнялся, и, справившись с мурашками по спине, дрожащим голосом спросила:
– Что вам тут надо, Христа ради?
– Где твоя мятная настойка, женщина? У меня внутри огнем горит.
– Уж месяц как вышла, – отвечала старуха. – А ежели вы к себе уйдете, я вам горяченького чайку приготовлю.
Но гость ответил:
– Не стоит, хлебну лучше джина.
И, повернувшись на каблуках, вышел.
Наутро причетник исчез.
Начались расспросы.
Его не только не было дома; Тоби Крука не могли найти по всему Голден-Фрайерсу.
Может быть, рано утром он ушел по своим делам куда-нибудь в дальнюю деревню. У причетника не было близкой родни, и никто не стал ломать себе голову над его исчезновением. Люди предпочитали подождать: рано или поздно вернется, никуда не денется.
Часа в три пополудни добрый викарий, стоя на пороге своего дома, любовался крутыми горными пиками, окружавшими живописное озеро, как вдруг заметил, что к берегу причалила лодка. Двое мужчин вышли на берег и направились прямиком через зеленый луг. Они несли какой-то предмет, небольшой, но, судя по всему, довольно увесистый.
– Взгляните-ка, сэр, – сказал один из них, опустив к ногам викария малый церковный колокол, из тех, что в старинных перезвонах дают дискантовый тон.
– Пуда на два потянет, не меньше. Вчера только слыхал, как он на колокольне звонит.
– Как! Один из церковных колоколов? – воскликнул растерявшийся викарий. – О нет! Не может быть! Где вы его взяли?
Лодочник рассказал вот что.
Утром он нашел свою лодку привязанной ярдах в пятидесяти от того места, где оставил ее накануне, и не мог понять, как это произошло. Едва они с помощником собрались сесть за весла, как вдруг обнаружили на дне, под куском парусины, церковный колокол. Там же лежали кирка причетника и его лопата – «лопатень», как называли они этот чудной инструмент с широким штыком.
– Удивительно! Посмотрим, не пропало ли на башне колокола, – в смятении заявил викарий. – Крук еще не вернулся? Знает кто-нибудь, где он?
Причетник не объявился.
– Странно. Ну и досада! – сказал викарий. – Что ж, откроем моим ключом. Положите колокол в передней; разберемся-ка, что все это значит.
Во главе с викарием процессия отправилась в церковь.
Священник открыл замок собственным ключом и вошел в притвор.
На земле лежал полураскрытый саквояж, рядом с ним – кусок веревки. Лодочник отпихнул сумку ногой – внутри что-то звякнуло.
Викарий приоткрыл дверь и заглянул в церковь. Тусклое сияние вечерней зари, проникавшее через узкие окна, выхватывало из темноты колонны и своды, украшенные старинным резным дубом, выцветшие статуи, печально взиравшие на гаснущее пламя предзакатного неба.
Викарий встряхнул головой и закрыл дверь. Тьма сгущалась. Пригнувшись, он приоткрыл узкую дверцу, за которой начиналась винтовая лестница, ведущая на первый чердак; оттуда на звонницу можно было подняться по грубой стремянке футов двадцати пяти высотой.
В сопровождении лодочников викарий вскарабкался по узкой лестнице на первый чердак.
Там было очень темно: слабые лучи света проникали лишь через узкую бойницу в толстой стене. Снаружи вспыхивали алым пламенем листья плюща, по густым побегам весело скакали воробьи.
– Не будете ли вы добры подняться наверх и пересчитать колокола? – обратился викарий к лодочнику. – Там должно быть…
– Эй! Что это? – воскликнул тот, отскочив от подножия стремянки.
– О Господи! – ахнул его приятель.
– Боже милосердный! – пробормотал викарий.
Он заметил на полу что-то темное и нагнулся, чтобы получше разглядеть, что это такое. Пальцы его коснулись холодного лица покойника.
Они подтащили труп к полосе дневного света на полу.
Это был мертвый Тоби Крук! Лоб его от виска до виска пересекала глубокая рана.
Объявили тревогу.
На место происшествия тотчас примчались доктор Линкоут, мистер Джалкот и Тэрнбелл, владелец «Святого Георгия и Дракона». Вслед за ними подоспела целая толпа перепуганных зевак.
Было установлено, во-первых, что причетник умер много часов назад. Во-вторых, череп его проломлен страшным ударом. В-третьих, у него сломана шея.
Шляпа его валялась на полу, где он, по-видимому, ее и бросил, в ней лежал носовой платок.
Тайна начала проясняться, когда в углу нашли откатившийся туда колокол, снятый с колокольни. На ободе его запеклась кровь с волосами, что в точности отвечало проломленной ране на лбу причетника.
Осмотрели саквояж, найденный в притворе. Там оказалась вся церковная утварь, серебряный поднос, пропавший месяц назад из кладовой доктора Линкоута, золотой пенал викария, который он считал позабытым в приходской книге, а также серебряные ложки и прочая посуда, исчезавшие время от времени из самых разных домов, вследствие чего добропорядочное городское общество начало в последние годы заметно волноваться. Из звонницы были сняты два колокола. Сопоставив факты, самые проницательные из собравшихся проникли в нечестивые замыслы угрюмого причетника, чей искалеченный труп лежал на полу в той самой башне, где всего два дня назад он раскачивал священный колокол, призывая добрых христиан Голден-Фрайерса на молитву.
Тело перенесли во двор «Святого Георгия и Дракона» и положили в каретном сарае.
Горожане то и дело небольшими кучками заходили взглянуть на труп, с мрачным видом толпились вокруг сарая и разговаривали вполголоса, как в церкви.
Почтенный викарий в гетрах и широкополой шляпе с загнутыми полями стоял посреди мощеного двора в центре небольшого кружка местной элиты, состоявшей из доктора, адвоката, сэра Джеффри Мардайкса, случившегося в городе, и трактирщика Тэрнбелла. Они только что закончили осмотр тела, вокруг которого, почтительным шепотом высказывая самые ужасные предположения, толпами слонялись деревенские зеваки.
– Ну, что скажешь? – с дрожью в голосе спросил побледневший Том Скейлз, конюх из «Святого Георгия», прохаживаясь вокруг каретного сарая с Диком Линклином.
– Дьявол своего добился, – шепнул Дик на ухо приятелю. – Свернул причетнику шею, как он сам когда-то свернул парню из Скарсдейлской тюрьмы. Помнишь, солдат заезжий рассказывал в «Святом Георгии»? Ей-богу, никогда тот случай не забуду.
– Сдается мне, все это чистая правда, – ответил конюх. – И про то, как он спящему приятелю кочергой поперек лба заехал, тоже не врут. Взгляни, как ему колокол мозги раскрошил, точь-в-точь как он тому парню. Диву даюсь, почему дьявол среди ночи его тело не уволок, как труп Тэма Ландера с Мултернской мельницы.
– Ну, ты скажешь! Да кто дьявола в церкви видал?
– Да, видок у него такой, что самого сатану напугает. Но ты, пожалуй, прав. Вельзевул свое рыло в церковь и на кончик ногтя не сунет.
Пока конюх с приятелем обсуждали случившееся, сливки общества, собравшиеся посреди двора, отправили извещение коронеру в близлежащий городок Гекстэн.
К этому часу на потемневшем небе угасли последние лучи заходящего солнца; следовательно, до утра о дознании не могло быть и речи.
Чудовищные обстоятельства смерти не вызывали сомнений: причетник хотел обчистить церковь, собрал в саквояж всю серебряную утварь и лишился жизни, вынося со звонницы второй колокол: спускаясь по полусгнившей стремянке, он спиной вперед рухнул на пол и при падении сломал шею. Тяжелый колокол свалился прямо на него и острым ободом разрубил несчастному лоб.
Вряд ли найдется человек, который за одно мгновение был бы убит дважды.
Колокола и содержимое саквояжа причетник, видимо, собирался ночью переправить через озеро и закопать теми самыми киркой и лопатой в Клустедском лесу, а через пару часов незаметно вернуться в город – задолго до утра, пока никто его не хватился. Убегая с добычей, он наверняка намеревался произвести в церкви разгром, чтобы люди подумали, будто туда вломились грабители. Отвел бы подозрения от себя, а потом, дождавшись удобного случая, выкопал зарытое сокровище и – поминай как звали.
Тут-то и всплыли самые разнообразные сплетни, что ранее нашептывались у Тоби за спиной. Старая миссис Пуллен вспомнила, что, впервые увидев тощего причетника, упала в обморок и заявила доктору Линкоуту, что «этот прохвост» как две капли воды похож на разбойника, пристрелившего кучера в ту ночь, когда ее карету ограбили на дороге в Ханслоу-Хит. Отставной солдат с деревянной ногой тоже припомнил немало случаев, половину из которых до сих пор никто не принимал всерьез.
Теперь же общественное мнение ухватилось за них, как утопающий за соломинку.
На западе угас последний отблеск зари, сумерки сменились ночной мглой.
Публика, собравшаяся в гостиничном дворе, начала понемногу расходиться.
Наступила тишина.
Мертвого причетника оставили в темном каретном сарае, ключ от которого покоился в кармане Тома Скейлза, верного конюха из «Святого Георгия».
Часов около восьми старый конюх, покуривая трубку, стоял в одиночестве возле раскрытых дверей «Святого Георгия и Дракона».
В морозном небе светила яркая луна. На дальнем берегу озера, словно призраки, вставали сумрачные горы. В воздухе не слышалось ни дуновения ветерка. Не шелестела ни одна веточка в безлистых кронах облетевших вязов. Ни малейшая рябь не нарушала темно-синей глади озера, мерцающей, как полированная сталь, отраженным сиянием луны. Ослепительно белела дорога, что вела от порога харчевни вдоль берега озера.
Среди темной листвы падуба и можжевельника белые колонны ворот викария маячили возле обочины, точно привидения. Венчающие их каменные шары глядели, словно головы, на случайного прохожего чуть левее харчевни, в сотне ярдов вверх по берегу озера.
На улицах не было ни души: обитатели тихого городка Голден-Фрайерс ложились рано. Никто не отваживался выходить за порог, кроме завсегдатаев, собравшихся в обеденном зале таверны.
Том Скейлз подумывал, не пойти ли обратно в кабачок. Ему было не по себе. В голову лезли мысли о мертвом причетнике: застывшее лицо так и стояло перед глазами.
В эту минуту до ушей конюха донесся далекий стук копыт по промерзшей дороге. «Еще один гость в нашу таверну», – инстинктивно подумал Том. Опытное ухо распознало, что всадник приближается по дороге из Дардейла, той самой, что, миновав широкое унылое торфяное болото, огибает южные отроги гор по ущелью Даннер-Клюк и, соединившись с Мардайкской дорогой, вступает в Голден-Фрайерс у берега озера, неподалеку от ворот викария.
В том месте возле поворота растет куртинка высоких деревьев; но луна светила над озером, и черные тени падали в сторону, не затемняя дорогу.
Топот копыт перешел в дробный перестук – невидимый всадник пустил лошадь галопом.
Том подивился, как далеко разносится в морозном воздухе стук копыт.
Догадка его оказалась верной. Незнакомец приближался по горной дороге со стороны Дардейлского болота. Всадник, похожий на тень, окутанную дымкой лунного света, мчался галопом по ровной полоске дороги, огибающей берег озера, между воротами викария и «Святым Георгием». Видимо, он завернул за угол дома викария в тот миг, когда Том Скейлз, устав, на мгновение отвел глаза.
Конюху недолго довелось гадать, почему незнакомец пустил животное в столь яростный галоп и как получилось, что он услышал топот копыт по меньшей мере мили за три. Мгновение спустя лошадь остановилась у дверей таверны. Это был могучий вороной жеребец из породы ирландских гунтеров, какие встречались в этих местах столетие назад. Такая скотина могла нести всадника весом в шестнадцать стоунов из конца в конец страны. Добрый боевой конь. Волосок к волоску. Он фыркал, бил копытом, выгибал шею, не в силах спокойно стоять на месте – так не терпелось ему поскорее тронуться в путь.
Легко, как пушинка, всадник соскочил наземь. Был он высок, жилист. На плечах у него развевалась короткая мантия, голову венчала лихо заломленная треуголка, на ногах красовались высокие ботфорты, какие можно было увидеть в самых глухих уголках Англии вплоть до конца прошлого века.
– Держи поводья, – бросил он старому Скейлзу. – Нет нужды прогуливать или обтирать его – этот конь никогда не потеет и не устает. Задай ему овса и оставь в покое, пусть как следует наестся. Эй, в доме! – крикнул незнакомец: это старомодное приветствие до сих пор бытует в деревенской глубинке. Голос у него был зычный, низкий.
Том Скейлз повел коня в стойло. Тот оглянулся на хозяина и призывно заржал.
– Спокойней, старина, спешить некуда! – с грубым смехом крикнул незнакомец своему коню и зашагал в дом.
Конюх отвел жеребца в гостиничный двор. Проходя мимо ворот каретного сарая, за которыми покоился мертвый причетник, конь фыркнул, ударил копытом и пригнул голову, словно прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри, а затем снова издал короткое пронзительное ржание.
У конюха мороз пробежал по коже. Какое дело этой зверюге до лежащего в сарае мертвеца? Странная скотина нравилась ему все меньше и меньше.
Тем временем хозяин коня подошел к дверям таверны.
– Загляну-ка в обеденный зал, – пугающим басом заявил он буфетчику, встретившемуся в коридоре.
Он уверенно направился дальше, словно знал это заведение всю жизнь. Шагал он не спеша, с ленцой, однако мигом обогнал опешившего слугу и очутился в обеденном зале «Святого Георгия» прежде, чем буфетчик успел миновать полпути по коридору.
Сухие дрова в камине весело потрескивали, освещая просторную, но уютную залу. Языки пламени отражались в начищенных боках горшков и кастрюль, ярко блестели высокие стопки оловянных тарелок в посудных шкафах. По стенам плясали причудливые тени длинных связок лука и огромных окороков, свисавших с потолка.
И адвокат, и доктор, и даже сэр Джеффри Мардайкс не сочли ниже своего достоинства по столь необычному случаю выкурить трубочку у кухонного очага, в самой гуще сплетен и пересудов, разгоревшихся вокруг страшного события.
Рослый незнакомец вошел без приглашения.
Ему можно было дать лет сорок. Был он сухопар, сложен атлетически, с дочерна загорелым лицом и длинным костистым носом. На вид его можно было принять за испанца. Из-под полей шляпы яростно сверкали черные глаза, глубокий рубец «заячьей губы» делил пополам густую щетку черных усов.
Когда незваный гость появился на пороге, сэр Джеффри Мардайкс с трактирщиком при горячей поддержке доктора и адвоката в четвертый раз строили догадки о коварных замыслах Тоби Крука.
Незнакомец изобразил на лице подобие улыбки и приподнял шляпу.
– Как называется это место, джентльмены? – спросил он.
– Это город Голден-Фрайерс, – вежливо ответил доктор.
– Трактир «Святой Георгий и Дракон», сэр; Энтони Тэрнбелл, к вашим услугам, – торжественно поклонился хозяин. Оба ответа прозвучали одновременно, словно доктор с трактирщиком хором распевали старинную балладу.
– «Святой Георгий и Дракон», говорите, – повторил всадник, протягивая к очагу длинные руки. – Святой Георгий, он же король Георг, и дракон, то есть дьявол. Роскошный кумир у вас за порогом, сэр, ничего не скажешь. Заманиваете к себе невинных путников: и придворных, и бродяг, всякое лыко в строку, верно? Добро пожаловать каждый, лишь бы пил побольше! Свари-ка нам чашу-другую пунша. Я угощаю. Сколько нас тут? Посчитай и налей сколько нужно. Джентльмены, я намерен заночевать в этом заведении, конь мой стоит в конюшне. По какому поводу собралось столько приятных лиц? Что у вас – праздник или ярмарка? Сдается мне, я тут уже бывал; в прошлый раз вы глядели куда печальнее. Было это в воскресенье, самый тоскливый из праздников; и если бы не здешний причетник, мистер Крук, святой человек, впору бы совсем загоревать. – Он огляделся и будто невзначай заметил: – Ба! Не он ли это там?
Компания не на шутку перепугалась. Все, разинув рты, уставились в ту сторону, куда кивком указал незнакомец.
– Да нет, не он, откуда ему взяться? – с напускной уверенностью заявил трактирщик Тэрнбелл: ему отнюдь не улыбалось, чтобы по городу пошел слух, будто в «Святом Георгии» завелась нечистая сила. – С ним, сэр, случилось несчастье – он умер. Он уже не с нами и потому быть здесь никак не может.
Компания охотно поведала незнакомцу о случившемся во всех подробностях. Говорили все разом, заглушая друг друга, и никому из рассказчиков не удавалось произнести более двух фраз кряду без того, чтобы его перебили и поправили.
– Стало быть, он на небесах. Это так же верно, как то, что вы сидите здесь, – заявил незнакомец, дослушав рассказ. – Ну и ну! Хотел стащить церковный колокол и поплатился за это. Вот ведь как бывает! Эй, хозяин, налей выпить. Господь покарал причетника за то, что тот стянул церковный колокол, за который дергал десять лет! Ха-ха-ха!
– Полагаю, сэр, вы прибыли по Дардейлской дороге? – спросил доктор; народ в деревне любопытен. – Унылое это место – Дардейлское болото, верно, сэр? Всем ветрам открытое, особенно когда с другой стороны в горы поднимаешься.
– Мне все здесь нравится! И Дардейлское болото, гнилое и черное, как могила, и эта зазубренная стена, что вы называете дорогой, белая под луной, точно мелом вымазанная, и ущелье Даннер-Клюк, темное, как угольная яма, и эта таверна, и пылающий очаг, и вы, добрые люди, и этот славный пунш, и мертвец в каретном сарае. Где труп, там и стервятники. Эй, хозяин, налей-ка нам нектара. Пейте, джентльмены, все пейте. Заварите еще чашу. До чего божественно воняет алкоголь! Надеюсь, джентльмены, вам нравится пунш: весь пропитан специями, точно мумия. Пейте, друзья. Хозяин, наливай! Пейте! Плачу за всех!
Порывшись в кармане, гость достал три гинеи и сунул их в пухлую ладонь Тэрнбелла.
– Пусть пунш льется рекой. Я старый друг этого дома. Частенько сюда заглядывал. Я тебя, Тэрнбелл, хорошо знаю, хоть ты меня и не узнаешь.
– У вас передо мной фора, сэр, – произнес Тэрнбелл, вглядываясь в темное зловещее лицо – он готов был поклясться, что в жизни не встречал никого похожего на странного гостя. Но в кармане приятно позвякивали полновесные гинеи. – Надеюсь, сэр, вам тут понравится.
– Есть для меня комната?
– Да, сэр, кедровая спальня.
– Знаю ее, уютная каморка. Нет, мне больше пунша не надо. Позже, может быть.
Беседа шла своим чередом, но странный гость замолчал. Он уселся на дубовую скамью у камина и с наслаждением протянул к огню ноги и руки. Лицо его, однако, по-прежнему скрывалось под треуголкой.
Постепенно компания начала редеть.
Первым ушел сэр Джеффри Мардайкс, за ним потянулись гости попроще. По кругу шла последняя чаша пунша. Незнакомец вышел в коридор и приказал буфетчику:
– Принеси фонарь. Надо проведать коня. Зажги. Нет, не ходи за мной.
Долговязый путешественник взял у слуги фонарь и вышел на конский двор.
Том Скейлз, стоя посреди мощеного двора, разглядывал лошадей в окно конюшни, как вдруг кто-то потянул его за рукав. Вздрогнув, конюх обнаружил, что находится с глазу на глаз с тем самым человеком, о котором только что думал.
– Говорят, там есть на что посмотреть. – Незнакомец указал на каретный сарай. – Пойдем-ка взглянем.
В эту минуту Том Скейлз пребывал в таком смятении чувств, что с легкостью готов был покориться любому, кому не лень будет помыкать им. Он послушно поплелся вслед за гостем в каретный сарай.
– Войди и подержи мне фонарь, – приказал тот. – Заплачу как следует.
Старый конюх отпер висячий замок.
– Чего ты боишься? Войди и посвети ему в лицо, – велел неумолимый гость. – Открой заслонку и встань вон там. Нагнись, он тебя не укусит. Пошевеливайся, не то запру с ним на всю ночь!
Тем временем посетители «Святого Георгия» разошлись по домам.
Вскоре после этого Энтони Тэрнбелл, который, как и подобает хорошему хозяину, последним ложился в постель и первым вставал, окинул прощальным взглядом обеденный зал и хотел заглянуть напоследок в конский двор, как вдруг в кухню, шатаясь, ввалился бледный как смерть Том Скейлз. Волосы у него стояли дыбом. Он рухнул на дубовую скамью, дрожащей рукой утер пот со лба и, не в силах заговорить, хватал ртом воздух. Добрый глоток бренди вернул ему дар речи.
– У нас в доме сам дьявол! Ей-богу! Нужно послать за батюшкой. Пусть прочтет ему Священное Писание, глядишь, и прогонит нечистого. Господи, помилуй нас! Я, мистер Тэрнбелл, человек грешный. Вот те крест, нынче ночью я с ним под одной крышей не останусь.
– Ты о том черномазом с перебитым носом? У него карман набит гинеями да конь фунтов пятьдесят стоит!
– Конь этот ездоку под стать. Все наши лошадки рядом с ним дрожмя дрожат и потом обливаются. Я их отвел подальше, в конюшню для почтовых, так они мимо него нипочем идти не хотели. Это еще не все. Смотрю я в окно на лошадок, а он подкрался и хвать за плечо. Велел мне открыть каретный сарай и держать ему свечу, пока он мертвеца разглядывать будет. Бог свидетель, я сам видел, как покойник глаза раскрыл и рот разинул, словно сказать что хочет. Меня как громом поразило. Волосы дыбом встали. Наконец я очнулся и завопил: «Эй! В чем дело?» А этот гад оглянулся на меня, точно дьявол, захохотал так гнусно и выбил фонарь из рук. Пришел я в себя уже во дворе. Луна светила ярко, и труп лежал на столе, где мы его оставили. Он как пнет дверь ногой! «Запри», – говорит. Я так и сделал. Вот ключ, возьмите, сэр. Он мне деньги предлагал, богачом, говорит, сделаю, если труп мне продашь да вытащить поможешь.
– Да ну тебя! На что ему труп? Он же не костоправ, чтобы его резать. Дразнил он тебя, вот и все.
– Нет, труп ему нужен. Нам с вами невдомек, что он с ним сделает. Он его добудет, всеми правдами и неправдами, а добудет. Душу из меня вынет. Он из тех, что пугает добрых людей на Дардейлском болоте; там вся нечисть ночами собирается. Если только он не сам дьявол, спаси нас Господь.
– А где сейчас этот бес? – спросил хозяин, не на шутку встревожившись.
– Поднялся по черной лестнице к себе в комнату. Топал, как лошадь, удивляюсь, как вы не слыхали. Хлопнул дверью так, что весь дом затрясся. Черт его знает, бес он или кто. Позовем-ка лучше викария, пускай с ним потолкует.
– Ну и ну, парень, вот уж не думал, что тебя так легко напугать, – сказал хозяин, сам побелев, как простыня. – Хорошенькое будет дельце – раззвонить повсюду, что в доме завелась нечисть! Нашему заведению конец настанет. Ты уверен, что запер труп?
– Еще бы, сэр.
– Пошли, Том, оглядим напоследок двор.
Бок о бок, то и дело испуганно озираясь, они молча вышли во двор, большой, четырехугольный, со всех сторон окруженный конюшнями и прочими хозяйственными службами, стены которых на старинный манер укреплялись скрещенными темными балками.
Остановившись в тени, под скатом крыши, они внимательно оглядели двор и прислушались.
Было тихо.
Возле конюшни горел фонарь. Тони Тэрнбелл снял его с крюка и, придерживая Тома Скейлза за плечо, направился к каретному сараю. Пару шагов он тащил Тома за собой, потом остановился и толкнул его еще на шаг. Так, короткими перебежками, точно пехотинцы под огнем, они добрались до двери каретного сарая.
– Видишь, заперт крепко, – шепнул Том, указывая на замок – тот, хорошо различимый в свете луны, висел на своем месте. – Говорю тебе, пошли лучше обратно.
– А я тебе говорю, пошли туда! – храбро возразил трактирщик. – Чтоб я позволил всяким проходимцам шутки шутить с покойником! – Он указал на дверь сарая. – Утром явится коронер, а у нас никакого трупа – хорошенькое дело! – С этими словами трактирщик передал фонарь Тому и отпер висячий замок. – Зайди-ка, Том, – продолжал он. – Фонарь у тебя, взгляни, все ли так, как было.
– О нет, ради святого Георгия, только не я! – испуганно взмолился Том, отступая на шаг.
– Чего ты боишься? Дай фонарь, все одно я войду.
Трактирщик осторожно приоткрыл дверь и, высоко подняв фонарь, одним глазом заглянул в узкую щель, словно опасался, что в лицо ему вспорхнет неведомая птица. Не произнося ни слова, он опять запер дверь.
– Невредим, как вор на мельнице, – шепнул он товарищу. В тот же миг тишину разорвал грубый хохот, от которого встрепенулись и закудахтали куры на птичьем дворе.
– Вон он! – Том схватил хозяина за руку. – В окне!
Окно кедровой спальни на втором этаже было открыто, в темноте смутно вырисовывался черный силуэт человека, опиравшегося локтями на подоконник. Он смотрел на них сверху вниз.
– А глаза-то, взгляни! Горят, точно угли! – ахнул Том.
Зрение у трактирщика было похуже, чем у Тома, к тому же от страха у него поджилки дрожали.
– Эй, сэр! – окликнул гостя Тони Тэрнбелл, похолодев: он различил в темноте пылающий взгляд кроваво-красных глаз. – Добрым людям давно пора быть в постели и крепко спать!
– Крепко, как ваш причетник! – язвительно ответил постоялец.
– Пошли отсюда! – шепнул трактирщик конюху, дернув его за рукав.
Они вбежали в дом и заперли дверь.
– Надо было его пристрелить. – Трактирщик со стоном привалился к стене. – Не буду я ложиться, Том. Посиди со мной. Пойдем-ка в оружейную. Ни один подонок не утащит труп у меня со двора, пока я в силах нажать на курок.
Оружейной в «Святом Георгии» служила небольшая комнатка футов двенадцати в длину и ширину. Окно ее выходило на конный двор, и из него можно было охватить взглядом весь каретный сарай. Через узкое боковое окно была хорошо видна задняя дверь гостиницы, выходившая во двор.
Тони Тэрнбелл выбрал мушкетон – самое грозное оружие в доме – и зарядил его целой горстью пистолетных пуль.
Он накинул длинное пальто, какое надевал обычно по ночам, когда ходил на озеро пострелять диких уток. Том тоже экипировался как следует. Они сели у раскрытого окна, глядя во двор, залитый ярким светом луны.
Трактирщик положил мушкетон на колени. Оба не отрываясь всматривались в самые темные уголки двора. Дверь каретного сарая была заперта, и друзья чувствовали себя более или менее спокойно. Так прошел час, другой.
Часы пробили один раз. Тени немного сместились, однако луна по-прежнему заливала каретный сарай и конюшню, где стояла лошадь незнакомца.
Тэрнбеллу послышались шаги на черной лестнице. Том выглянул в боковое окно на заднюю дверь; от напряжения у него заслезились глаза. Энтони Тэрнбелл, затаив дыхание, прислушался у двери.
Тревога оказалась ложной.
Тэрнбелл вернулся к окну, выходящему во двор.
– Эй! Гляди-ка!
Из тенистого левого угла двора появилась рослая фигура незваного гостя в коротком плаще и ботфортах. Он распахнул дверь конюшни и вывел могучего черного коня. Провел его через двор к старому каретному сараю и, опустив поводья, оставил стоять у дверей, а сам направился к воротам и распахнул их ударом каблука. Створки задрожали сверху донизу. Незнакомец подошел к коню. При его приближении запертая дверь, за которой лежал мертвый причетник, отворилась сама собой. Он вернулся с трупом в руках, перекинул его через спину лошади и вскочил в седло.
– Огонь! – заорал Том. Раздался ужасающий грохот. В густом плюще вспорхнули тысячи воробьев. Яростно залаял сторожевой пес. В воздухе стоял звон и свист. Мушкетон разорвался на куски до самого приклада. Отдача швырнула трактирщика на пол. Тома Скейлза отбросило к стене оконной ниши, что избавило его от более серьезных повреждений. Всадник с чудовищной ношей выехал из ворот, вдалеке угас его злорадный хохот.
Возможно, читатель слышал эту историю из уст Роджера Тэрнбелла, нынешнего хозяина таверны «Святой Георгий и Дракон», внука того самого Тони, что заправлял в таверне в день кончины Тоби Крука. Он любит рассказывать ее в уютном обеденном зале, том самом, где черт угощал постояльцев горячим пуншем.
Я так и не узнал, кто из обитателей ада завладел трупом негодяя и что он с ним сделал. Прояснить это может бытующая в тех краях легенда о вампире, как две капли воды похожем на причетника Крука.
Страшный взрыв, раздавшийся после того, как Тэрнбелл выстрелил в убегавшего нехристя, в точности согласуется с мнением Эндрю Мортона, изложенным в любопытном трактате «История призраков».
Вот что он пишет: «Предостерегаю опрометчивых храбрецов, утверждающих, что они не боятся нечистой силы, против того, чтобы они пытались бороться с ней обычным оружием, какое человек использует против человека. Они могут нанести себе непоправимый вред. Один такой смельчак выстрелил в привидение, и ружье разорвалось у него в руках на сотню обломков. Другой пытался проткнуть призрака шпагой – клинок разлетелся на куски и жестоко ранил хозяина в руку. Безумием было бы сражаться таким образом с любым потусторонним существом, будь то ангел или дьявол».
1851
Сделка сэра Доминика
Легенда Дьюнорана
Ранней осенью 1838 года мне пришлось отправиться по делам на юг Ирландии. Погода стояла восхитительная, все окружающее – и пейзаж, и люди – было для меня внове, поэтому я отослал багаж, под присмотром слуги, с почтовой каретой, а сам нанял на почтовой станции крепкую лошадку и, исполненный любознательности, не спеша пустился в двадцатипятимильное верховое путешествие, намереваясь достигнуть места назначения проселочными дорогами. Мой живописный маршрут пролегал по болотам, холмам и равнинам, мимо разрушенных замков и извилистых рек.
Я выехал поздно и, преодолев чуть больше половины пути, решил ненадолго остановиться в первом же подходящем месте, чтобы дать отдых лошади, а также подкрепиться.
К четырем часам дорога, постепенно поднимавшаяся в гору, забралась в узкое ущелье: налево от меня оказался крутой обрыв горной гряды, а направо внезапно черной тенью возник скалистый холм.
Внизу, под вереницей гигантских вязов, виднелись соломенные крыши деревушки, меж ветвей поднимались из низких труб тонкие струйки дыма. Слева, на несколько миль вверх по склону вышеупомянутой горной гряды, расстилался парк, где среди трав и папоротников торчали тут и там пятнистые от лишайника, разрушенные ветрами скалы. В парке кучками росли деревья, за деревушкой, к которой я приближался, имелся даже лес, который одевал неровный склон живописной, местами пожелтевшей листвой.
На спуске дорога, слегка извиваясь, следует справа от серой ограды (она сложена из ничем не скрепленных камней и местами окутана плющом) и пересекает неглубокий ручей; когда деревня была уже недалеко, я заметил, что за стволами мелькает длинный фасад старого, разрушенного дома, который стоял среди деревьев, приблизительно на середине косогора.
Одинокий и печальный вид этих развалин вызвал у меня любопытство; я добрался до трактира (крытого соломой убогого домика с изображением св. Колумбкилла на вывеске, с мантиями, митрой и крестом на оконных перемычках), присмотрел, чтобы накормили лошадь, сам поел яичницы с беконом и, припомнив заросший склон с руинами, решился совершить получасовую прогулку в этот глухой лесной уголок.
Имение, как я выяснил, называлось Дьюноран. По ступенькам рядом с воротами я перебрался через стену и в приятном раздумье побрел по парку к разрушенному дому.
Длинная, поросшая травой дорожка, виляя и поворачивая, привела меня к старым стенам, на которые бросали тень обступившие их деревья.
Вблизи дома дорожка шла по кромке оврага, крутые склоны которого были одеты орешником, карликовым дубом и колючим кустарником; распахнутая парадная дверь безмолвного дома смотрела в сторону этого темного обрыва и леса, громоздившегося на противоположном его краю. Мощные деревья окружали дом, заброшенный двор и конюшни.
Я бродил, осматриваясь, по заросшим крапивой и сорными травами коридорам, из комнаты в комнату, где потолочные перекрытия давно сгнили, а с больших балок, ветхих и потемневших, свешивались усики плюща. Высокие стены, с которых осыпалась штукатурка, были покрыты пятнами плесени, кое-где слышался треск – это ходили ходуном остатки панельной отделки. Окна (от их переплетов уцелело немногое), также завешенные плющом, пропускали мало света, вокруг высоких труб носились галки, а из темной массы гигантских деревьев на противоположном краю обрыва доносился непрестанный гам грачей.
Прогуливаясь по печальным коридорам и заглядывая в комнаты (но не во все, поскольку это было небезопасно: настил пола прогибался и посередине полностью отсутствовал, а от крыши сохранились только жалкие остатки), я не переставал удивляться, почему же был заброшен прекрасный обширный дом, расположенный в таком живописном окружении. Я представил себе, как стекались сюда в давние времена толпы гостей, какие сценки, напоминающие пиры Редгонтлета, могли разыгрываться здесь в полночные часы.
Широкая лестница была сделана из дуба, удивительно хорошо сохранившегося; я присел на ступеньки и погрузился в туманные раздумья о бренности всего земного.
За исключением хриплых криков грачей, слабо доносившихся издалека, ничто не нарушало глубокой тишины. Прежде я редко испытывал такое одиночество. Воздух был неподвижен, в коридорах не слышалось даже шелеста сухих листьев. Это действовало угнетающе. Высокие деревья вокруг создавали густую тень, отчего здание навевало, помимо печали, некоторую робость.
Охваченный таким настроением, я был неприятно удивлен, когда услышал голос, протяжно и, как мне показалось, глумливо повторявший: «Пища для червей, смерть и тлен; все в руке Божьей!»
Поблизости в очень толстой стене находилось окно, впоследствии застроенное, так что на его месте образовалась глубокая ниша; там, в тени, я разглядел человека с костлявым лицом, сидевшего свесив ноги. Его пронзительные глаза были устремлены на меня, губы насмешливо улыбались; прежде чем я успел оправиться от испуга, незнакомец произнес двустишие:
- – Если бы жизнь за деньги покупали,
- Богатые бы жили, а бедные умирали.
– В свое время, сэр, это был богатый дом, – продолжил незнакомец, – Дьюноран-Хаус, и владели им Сарзфилды, старинное семейство. Сэр Доминик Сарзфилд был в роду последним. Он лишился жизни здесь, менее чем в шести футах от того места, где вы сидите.
Произнося это, незнакомец спрыгнул на пол.
Передо мной стоял маленький горбун с худым смуглым лицом и указывал тростью на ржавое пятно, видневшееся на стенной штукатурке.
– Видите эту отметину, сэр? – спросил он.
– Да, – подтвердил я, вставая и разглядывая пятно, и приготовился выслушать интересную историю.
– Здесь семь или восемь футов от пола, сэр; нипочем не догадаетесь, что это такое.
– Нет, наверное, – согласился я, – разве что это следы непогоды.
– Если бы так, сэр, – отозвался незнакомец с той же ухмылкой и кивнул, по-прежнему указывая тростью на пятно. – Это брызги крови и мозгов. Они здесь уже век и останутся, пока стоит стена.
– Значит, он был убит?
– Хуже, сэр, – ответил незнакомец.
– Покончил с собой, наверное?
– Еще хуже, сэр, огради нас этот крест от всякого зла! Я старше, чем кажусь; нипочем не догадаетесь, сколько мне лет.
Он замолчал и поднял взгляд на меня, ожидая, по всей видимости, ответа.
– Ну что ж, думаю, около пятидесяти пяти.
Он усмехнулся, взял понюшку табака и произнес:
– Ровно столько, сэр, и еще чуток. На Сретение мне стукнуло семьдесят. А ведь по виду ни за что не скажешь.
– Клянусь, я бы вам столько не дал; мне и теперь не верится. Но все же вы, вероятно, не были свидетелем смерти сэра Доминика Сарзфилда? – сказал я, разглядывая зловещее пятно на стене.
– Нет, сэр, это случилось задолго до моего рождения. Но мой дед давным-давно служил здесь дворецким, и много раз я слышал его рассказы о том, как умер сэр Доминик. С той поры большой дом оставался без хозяина. Но о доме заботились двое слуг, одной из этих двоих была моя тетка; она держала меня при себе, покуда мне не исполнилось девять, – в тот год она взяла расчет и отправилась в Дублин, тогда за домом перестали присматривать, и он начал ветшать. Ветром сорвало крышу, дерево прогнило из-за дождей, и мало-помалу за шесть десятков лет все стало таким, как вы видите. Но мне здесь все равно нравится, потому что я помню прежние времена, и когда случается проходить мимо, я каждый раз сюда заглядываю. Вряд ли я еще долго буду любоваться старыми местами, ведь не за горами уже и смерть.
– Вы еще молодых переживете, – возразил я. А потом, оставив банальную тему, добавил: – Неудивительно, что вас сюда тянет: красота здесь редкостная, такие великолепные деревья.
– Хотел бы я, чтобы вы увидели этот овраг, когда созревают орехи – слаще их, наверное, нет во всей Ирландии, – вставил мой собеседник, понимавший красоту сугубо практически. – Вы бы набили себе карманы, не сходя с места.
– Прекрасный старый лес, – заметил я, – красивей в Ирландии я не встречал.
– Э, ваша честь, что сейчас, вот раньше тут был лес. Когда мой отец еще пешком под стол ходил, все окрестные горы были покрыты лесами, а самым громадным был лес Мурроа. Больше всего росло дубов; их вырубили, и горы стали гладкими, как дорога. Ничего не осталось, что могло бы сравниться с прежними деревьями. Каким путем ваша честь изволили сюда прибыть – из Лимерика?
– Нет. Из Киллало.
– А, значит, вы проезжали там, где когда-то рос лес Мурроа. Вы побывали под Лиснаваурой – это крутой холм с круглой вершиной, в миле или около того от деревни. Лес Мурроа был оттуда неподалеку, как раз там сэр Доминик Сарзфилд впервые встретился с дьяволом – Господи упаси нас от всякого зла, – и это был недобрый день для сэра Доминика и для Сарзфилдов.
Меня заинтересовали приключения, сценой которых была столь очаровавшая меня местность. Мой новый знакомец, маленький горбун, не заставил себя долго упрашивать и, когда мы вновь уселись, рассказал вот что:
– Это было прекрасное имение, когда оно досталось по наследству сэру Доминику, и он закатил пир горой, музыкантов собрали чуть ли не со всей округи, привечали всякого, кто бы ни пришел. Хорошее вино лилось рекой, самогона было – хоть купайся, а для мальчишек с девчонками и стариков вроде меня – целое море пива и сидра. Праздник затянулся чуть ли не на месяц, пока не испортилась погода и не раскисла от дождя лужайка, где танцевали джигу, да и ярмарка в Аллибалли-Келлудин была уже на носу, вот и пришлось всем забыть о веселье и подумать о своих свинках.
Всем, но не сэру Доминику – он еще только начал веселиться. Каких только способов избавиться от денег и от имения он не перепробовал: пьянки, кости, бега, карты и все такое прочее. Совсем немного лет прошло, и имение оказалось в долгах, а сэр Доминик совсем обнищал. Пока можно было, он не показывал виду, а потом продал собак и бóльшую часть лошадей и объявил, что отправляется путешествовать во Францию и еще куда-то, так что он на время пропал и года два или три от него не было ни слуху ни духу. И вот наконец как-то ночью нежданно-негаданно кто-то постучал в окно большой кухни. Шел уже одиннадцатый час, и старый Коннор Хэнлон, дворецкий, мой дед, сидел один-одинешенек у очага и грел себе ноги. Той ночью вдоль горной гряды дул пронзительный холодный ветер, он свистел в кронах деревьев и уныло завывал в трубах. – Рассказчик бросил взгляд на ближайшую видимую с его места дымовую трубу. – Поэтому мой дед вначале не понял, что значит этот стук, встал и глянул в окно – и узнал хозяина.
Дед был рад видеть хозяина живым и здоровым, ведь от него уже долгое время не приходило никаких известий, но все же горько было думать, что имение уже не такое, как прежде, что за домом следят только двое – сам дед и Джагги Броудрик, – да один человек служит на конюшне, и что хозяин вернулся вот так, на своих двоих.
Сэр Доминик пожал Кону руку и говорит:
«Я пришел кое-что тебе сказать. Дика с лошадью я оставил на конюшне – быть может, он мне еще понадобится до утра, а может, и вовсе не понадобится».
С этими словами он вошел в большую кухню, придвинул скамеечку и сел к огню.
«Сядь напротив меня, Коннор, и послушай, что я тебе скажу, а потом будь готов выложить без боязни, что ты об этом думаешь».
Он произнес это, не сводя глаз с огня и грея руки, и вид у него был усталый и измученный.
«А с чего мне бояться, мастер Доминик? – говорит дед. – Вы были мне добрым господином, а до вас батюшка ваш – да покоится он в мире, – и я душу готов прозакладывать за любого Сарзфилда из Дьюнорана, а за вас и подавно, это уж точно».
«Со мной все кончено», – говорит сэр Доминик.
«Господи, не попусти!» – воскликнул дед.
«Молись не молись, – говорит сэр Доминик, – но истрачено уже все до последней гинеи, теперь очередь за домом. Придется его продать, и я пришел сюда сам не знаю зачем, словно привидение, в последний раз взглянуть на старые места и снова удалиться во тьму».
Потом сэр Доминик велел Кону, если тот услышит о его смерти, отдать дубовую шкатулку, что хранится в чулане при спальне, его двоюродному брату, Пату Сарзфилду, живущему в Дублине, а кроме нее – шпагу и пистолеты, которые были с его дедом при Огриме, и еще пару-тройку безделиц вроде этого.
А дальше он и говорит:
«Сказывают, Кон, если взять деньги у дьявола, то наутро они оборачиваются камешками, щепками и ореховой скорлупой. Знать бы, что он не обманет, я готов был бы сегодня заключить с ним сделку».
«Господи, спаси!» – воскликнул дед, вскакивая на ноги и осеняя себя крестом.
«Говорят, вокруг полным-полно вербовщиков, которые набирают солдат для французского короля. Если кто-нибудь из них мне попадется, я не отвечу отказом. Как все меняется! Сколько лет прошло с тех пор, как мы с капитаном Уоллером дрались на дуэли в Ньюкасле?»
«Шесть лет, мастер Доминик; вы тогда с первого выстрела раздробили ему бедро».
«Вот именно, Кон, – говорит сэр Доминик, – а теперь я бы предпочел, чтобы он прострелил мне сердце. У тебя есть виски?»
Дед вынул из буфета виски, хозяин налил немного в кубок и выпил.
«Пойду присмотрю за лошадью», – сказал он и встал. Натягивая капюшон, он глядел угрюмо, словно задумал что-то дурное.
«Я тотчас сбегаю на конюшню и сам позабочусь о лошади», – говорит мой дед.
«Я не на конюшню собрался, – остановил его сэр Доминик. – Признаюсь, раз уж ты, видно, все равно догадываешься, я намерен пройтись по оленьему парку; жди меня через час, если я вообще вернусь. Но только лучше за мной не ходи, иначе я тебя застрелю, а это будет плохой конец для нашей с тобой дружбы».
Сэр Доминик свернул в этот коридор, отпер ключом боковую дверь в его конце и вышел на улицу, где светила луна и дул холодный ветер; мой дед поглядел, как сэр Доминик с трудом бредет к стене парка, подошел к двери и с тяжелым сердцем закрыл ее.
Дойдя до середины парка, сэр Доминик приостановился и задумался; выходя, он не знал, что делать дальше, а от виски у него хотя и прибавилось храбрости, но в голове не прояснилось.
Он не боялся сейчас ни холодного ветра, ни смерти, его не заботило вообще ничто, кроме позора и падения старинного рода.
И он решился, если по дороге ему не придет в голову ничего лучше, повеситься в лесу Мурроа на дубовом суку, сделав петлю из галстука.
Ночь стояла ясная, лунная, лишь изредка по луне пробегало легкое облачко, а в остальное время было светло почти как днем.
И сэр Доминик направился вниз, прямиком к лесу Мурроа. Каждый шаг, который он делал, казалось, не уступал длиной добрым трем обычным, и, не успев опомниться, он очутился под большими дубами; их корни переплетались, а сучья тянулись над головой, как балки ободранной крыши; под лучами луны они отбрасывали на землю кривые тени, черные, как мой башмак.
К тому времени сэр Доминик малость протрезвел; он замедлил шаг и подумал, не лучше ли будет записаться в армию французского короля и посмотреть, что из этого получится, ведь покончить счеты с жизнью человек волен в любую минуту, а вот воскреснуть будет уже не так просто.
Едва он решил не накладывать на себя руки, как вдруг послышался четкий стук шагов по сухой земле под деревьями, и вскоре перед ним показался нарядный джентльмен, шедший ему навстречу.
Это был красивый молодой человек, вроде самого сэра Доминика, в треуголке, обернутой золотым кружевом (такое нашивают на офицерские мундиры), а одет он был, как одевались тогда французские офицеры.
Джентльмен остановился напротив сэра Доминика, и тот тоже застыл на месте.
Оба приветствовали друг друга, сняв шляпы, и незнакомый джентльмен сказал:
«Я набираю рекрутов, сэр, для моего повелителя, и вы убедитесь, что мои деньги назавтра не обратятся в камешки, щепки и ореховую скорлупу».
И он вытащил большой кошелек, набитый золотом.
С первой минуты сэру Доминику почудилось в молодом джентльмене что-то необычное, а при этих словах волосы у него на голове поднялись дыбом.
«Не пугайтесь, – говорит джентльмен, – золотые вас не обожгут. Если они окажутся настоящими и пойдут впрок, то я хотел бы предложить вам сделку. Сегодня последний день февраля; я буду служить вам семь лет, а когда этот срок пройдет, вы должны будете служить мне; я приду за вами через семь лет, в минуту, когда кончится февраль и начнется март, и первого марта – не раньше и не позже – вы отправитесь со мной. Вы увидите, что я хороший господин, да и слуга неплохой. Я люблю тех, кто мне принадлежит, и в моей власти все наслаждения и роскошь этого мира. Семилетний срок начинается сегодня, а истечет в полночь того дня, который я назвал, в году… (и он назвал год, не помню какой, но вычислить его было нетрудно), а если вы желаете повременить с подписью, то через восемь месяцев и двадцать восемь дней приходите сюда снова. Однако до той поры я смогу вам помочь лишь немногим, а если вы не подпишете и тогда, то и это немногое исчезнет и вы останетесь в том же положении, что и сегодня, и будете рады повеситься на первом же попавшемся суку».
Кончилось это дело тем, что сэр Доминик решил подождать и вернулся домой. Сэр Доминик снова постучался в кухонное окошко и, войдя, швырнул на стол мешок, выпрямился и расправил плечи, словно человек, сбросивший тяжелый груз; он смотрел на мешок, а мой дед – на хозяина, потом на мешок и опять на хозяина. И сэр Доминик, белый как полотно, произнес: «Не знаю, Кон, что там внутри, но тяжелее груза мне носить не доводилось».
Похоже было, он боится туда заглянуть; он велел деду подбросить в очаг торфа и дров, чтобы пламя загудело, а потом наконец открыл мешок и убедился, конечно, что внутри полным-полно золотых гиней, новехоньких и сияющих, будто прямо с монетного двора.
Сэр Доминик, приказав моему деду сесть рядом, сосчитал все до последней монеты.
Закончив считать, уже незадолго до рассвета, сэр Доминик заставил моего деда поклясться никому ни словом не обмолвиться о происшедшем. И его секрет надежно сохранялся многие годы.
Когда восемь месяцев и двадцать восемь дней почти уже миновали, сэр Доминик вернулся сюда сам не свой, гадая, что делать дальше, и ни одна живая душа не ведала, что с ним приключилось, кроме моего деда, да и тому не все было известно.
Назначенный день – в конце октября – приближался, и сэра Доминика все больше донимала забота.
Одно время он решил, что джентльмен из леса Мурроа и все прочие той же породы ему не товарищи и разговаривать с ними не о чем. А потом сэр Доминик вспомнил о долгах, о том, что ему некуда податься, и сердце его дрогнуло. А за неделю до условленного дня все дела у него пошли наперекосяк. Из Лондона доставили письмо, где было сказано, что сэр Доминик заплатил три тысячи фунтов не тому, кому следовало, и придется платить заново; появился кредитор, о котором сэр Доминик раньше не знал, и потребовал денег; другой, в Дублине, отказался признать оплату громадного счета, а сэр Доминик не мог найти расписку, и так все остальное, за что ни возьмись.
Когда приблизилась ночь двадцать восьмого октября, у сэра Доминика голова шла кругом из-за кредиторов, опять набросившихся на него со всех сторон, а надеяться было не на что, только на ночную встречу в ближнем дубовом лесу со своим жутким знакомцем.
Ничего другого не оставалось, кроме как довершить начатое, и приблизительно в час своей прошлой прогулки в лес сэр Доминик снял с себя небольшое распятие, в котором прятал евангельское изречение и кусочек подлинного креста, – ведь сэр Доминик был католик и носил распятие на шее не снимая, потому что, взяв деньги у нечистого, стал трусить и всеми путями стремился от него оборониться. Но в ту ночь сэр Доминик не осмелился взять распятие с собой. Он вложил его в руки моего деда, не говоря ни слова, и, бледный как смерть, прихватив шляпу и шпагу, велел деду дожидаться и пошел испытать свою судьбу.
Ночь была прекрасная, тихая, луна – правда, не такая яркая, как в прошлый раз, – лила свет на вересковый ковер, скалы и унылый дубовый лес, раскинувшийся внизу.
Когда сэр Доминик приблизился к опушке, сердце его бешено колотилось. Все затихло; из деревни, оставшейся далеко позади, не доносилось даже лая собак. Второго такого тоскливого места не было во всей округе, и если бы долги и денежные потери не подталкивали его вперед, лишая разума и заставляя забыть о душе, о надеждах на райское блаженство и обо всем, что нашептывал ангел-хранитель, сэр Доминик повернул бы обратно, послал бы за священником, исповедался и покаялся, изменил бы свою жизнь и стал бы вести себя примерно – для этого он был достаточно напуган.
В тени дубовых сучьев сэр Доминик замедлил шаги, а приблизившись к тому месту, где ему в прошлый раз встретился злой дух, остановился и огляделся; он чувствовал, что холодеет как мертвец, а когда заметил того же джентльмена, выходящего из-за большого дерева совсем рядом, то – сами понимаете – от этого ему не полегчало.
«Деньги вам пригодились, – говорит джентльмен, – но их было мало. Не важно, вы получите достаточно, еще и с лихвой. Я позабочусь о вашей удаче и укажу, где ее искать; а если пожелаете меня видеть, то достаточно будет прийти сюда, представить себе мое лицо и пожелать, чтобы я явился. К концу года за вами не останется ни шиллинга долга; в картах, игре в кости, на скачках везение всегда будет на вашей стороне. Хотите?»
У сэра Доминика перехватило дыхание, но он все же сумел выдавить из себя одно или два слова согласия; вслед за тем нечистый протянул ему иглу, велел нацедить три капли крови из руки, собрал кровь в желудевую чашечку и дал сэру Доминику перо, чтобы тот записал под диктовку на двух тонких полосках пергамента несколько непонятных слов. Один пергамент нечистый дух взял себе, а второй погрузил в ранку на руке сэра Доминика и сомкнул ее края. Все это так же верно, как то, что вы здесь сидите!
И сэр Доминик отправился домой. Он был смертельно испуган, да оно и понятно. Однако в скором времени он стал успокаиваться. Как бы то ни было, он очень быстро расплатился с долгами, деньги на него так и валились: за что бы он ни взялся, все удавалось; в пари, в игре – всюду ему везло, но, несмотря на это, самый последний бедняк во владениях сэра Доминика был счастливей хозяина.
И сэр Доминик взялся за старое, потому что вместе с деньгами вернулись и прежние привычки: собаки, лошади, море вина, веселье, гульба и кутежи здесь, в большом доме. Кое-кто поговаривал, будто сэр Доминик думает жениться, но другие (а таких было больше) им не верили. Так или иначе, но отчего-то он сильнее обычного беспокоился и однажды ночью втайне от всех отправился в одинокий дубовый лес. Мой дед подозревал, что его тревоги были связаны с красивой молодой леди, которую он ревновал и любил до безумия. Но это всего лишь догадка.
В тот раз в лесу на сэра Доминика напал еще больший страх, чем раньше; он уже собирался развернуться и поскорей унести ноги, когда заметил рядом прежнего джентльмена, который сидел на крупном камне под деревом. Но теперь он выглядел не нарядным молодым человеком в золотых кружевах и пышном платье, а настоящим оборванцем и казался в два раза выше ростом против прежнего; лицо его было испачкано сажей, а на коленях лежал жуткого вида стальной молот, большой и претяжелый, с рукоятью в добрый ярд длиной. Под деревом было так темно, что сэр Доминик не сразу его разглядел.
Джентльмен поднялся и оказался настоящим великаном. Что произошло между ними, мой дед так и не узнал. Но после этой встречи сэр Доминик сделался черен как туча, ничему не радовался, почти ни с кем не разговаривал и становился все угрюмей и мрачней. И тогда этот малый – кто бы он ни был – повадился являться к нему сам по себе, без приглашения; он подстерегал сэра Доминика в уединенных местах, то в одном, то в другом обличье, и временами составлял ему компанию, когда тот ночью возвращался домой верхом; так продолжалось, пока сэр Доминик не перетрухнул окончательно и не послал за священником.
Священник просидел у него долго и, когда выслушал всю историю, пустился на лошади за епископом; на следующий же день сюда, в большой дом, приехал епископ и дал сэру Доминику хороший совет. Он сказал, чтобы тот бросил играть в кости, божиться, пить и якшаться с дурными людьми; пусть ведет тихую, добродетельную жизнь, пока не истечет семилетний срок, и если дьявол не явится за ним в первую же минуту марта, сразу после боя часов, то уговор потеряет силу. До конца срока оставалось тогда месяцев восемь или десять, не больше, и сэр Доминик все это время строго следовал совету епископа и жил как анахорет.
Вы можете себе представить, что он чувствовал, когда настало утро двадцать восьмого февраля.
Как было условлено, явился священник, и сэр Доминик с его преподобием удалились вон в ту комнату и возносили молитвы, пока не пробило двенадцать, и еще добрый час после того, и все было тихо, никого они не видели; а потом священник проспал ночь в комнате по соседству со спальней сэра Доминика так спокойно, что лучше не бывает, а наутро они обменялись рукопожатием и поцелуем, как соратники после выигранного боя.
И тут сэру Доминику подумалось, что настала пора после всех постов и молитв провести приятный вечер, и он послал полудюжине соседей приглашение на обед, остался отобедать и священник, и на столе задымилась чаша с пуншем, и не было конца вину, божбе, игре в кости и карты, и переходили из рук в руки гинеи, и звучали песни и рассказы, пригодные не для всяких ушей; его преподобие, увидев, какой оборот принимает дело, потихоньку удалился, а когда до полуночи оставались считаные минуты, сэр Доминик, сидевший во главе стола, поклялся, что «ни разу еще так весело не проводил день первого марта в обществе друзей».
«Сегодня не первое марта», – говорит мистер Хиффернан из Балливурина. Он был человек ученый и всегда имел у себя календарь.
«Тогда какое же сегодня число?» – вздрогнув, спросил сэр Доминик и вытаращился на мистера Хиффернана.
«Двадцать девятое февраля, ведь год нынче високосный», – говорит тот.
И не успел он умолкнуть, как часы пробили полночь, и мой дед, который дремал в холле, устроившись в кресле у очага, открыл глаза и увидел, что как раз в том месте, где сейчас на стену падает луч света, стоит маленький коренастый человечек, закутанный в плащ, с копной черных волос, торчащих из-под шляпы.
Мой горбатый приятель указал концом трости на стену, куда падал, разгоняя сгущавшийся в коридоре сумрак, закатный луч.
«Доложи своему хозяину, – произнес человечек страшным голосом, похожим на звериный рев, – что я явился как условлено; пусть спустится ко мне сию же минуту».
И мой дед взошел по тем самым ступенькам, на которых вы сидите.
«Передай ему, что я не могу сейчас спуститься, – говорит сэр Доминик, у которого на лице выступил холодный пот, и обращается к гостям: – Бога ради, джентльмены, не может ли кто-нибудь из вас выпрыгнуть в окошко и привести сюда священника?»
Гости обменялись взглядами, не зная, что и думать, а тем временем снова вошел мой дед и, весь дрожа, доложил:
«Он говорит, сэр, если вы не спуститесь к нему, то он поднимется к вам».
«Ничего не понимаю, джентльмены, пойду посмотрю, в чем дело», – сказал сэр Доминик, стараясь не подавать виду, что боится, и вышел из комнаты, как приговоренный, которого ожидает палач. Он спустился по ступенькам, и двое или трое джентльменов следили за ним через перила. Мой дед сопровождал его, отстав шагов на шесть или восемь, и видел, как посетитель выступил навстречу сэру Доминику, обхватил его и, крутанув, стукнул головой об стену; тут же дверь холла рывком распахнулась, свечи погасли, а подхваченная ветром зола из очага искрами пробежала по полу под ногами у сэра Доминика.
Джентльмены ринулись вниз. Хлопнула парадная дверь. Народ со свечами в руках забегал вверх-вниз по лестнице. С сэром Домиником все было кончено. Тело подняли и прислонили к стене, но он не дышал. Он уже остыл и начал коченеть.
Той ночью Пат Донован возвращался в большой дом поздно; в полусотне шагов за ручейком, который пересекает дорогу, собака Пата вдруг свернула в сторону, перепрыгнула через стену в парк и подняла такой вой, что слышно было, наверное, на целую милю вокруг; в ту же минуту Пат заметил спускавшихся от дома двух джентльменов, которые молча прошли мимо, – один был коротенький и коренастый, другой фигурой походил на сэра Доминика, но в тени под деревьями встречные и сами мало чем отличались от теней; не уловив даже вблизи шума их шагов, Пат в испуге отшатнулся к стене; в большом доме он застал суматоху и лежавшее вот здесь тело хозяина с разбитой вдребезги головой.
Рассказчик поднялся и концом трости указал точное место, где лежало тело; пока я глядел, тени сгустились, красный закатный луч, упиравшийся в стену, исчез, солнце спряталось за отдаленным холмом у Ньюкасла, оставив овеянный тайной пейзаж тонуть в серых сумерках.
Мое прощание с рассказчиком не обошлось без взаимных добрых пожеланий и скромного даяния, принятого им, судя по всему, весьма охотно.
Я вернулся в деревню, когда уже наступила ночь и взошла луна, взобрался на свою лошадку и в последний раз окинул взглядом местность, где родилась страшная легенда Дьюнорана.
1872
Роберт Льюис Стивенсон
1850–1894
Маркхейм
– Да, сэр, – сказал хозяин лавки, – в нашем деле не всегда угадаешь, с какой стороны придет удача. Среди клиентов попадаются невежды, и тогда мои знания приносят мне проценты. Попадаются люди бесчестные… – Тут он поднял свечу повыше, так что свет резко ударил в лицо его собеседнику. – Но в таком случае, – заключил он, – я выгадываю на своем добром имени.
Маркхейм только что вошел в лавку с залитой светом улицы, и его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, разреженной кое-где яркими бликами. Эти неспроста сказанные слова и близость горящей свечи заставили его болезненно сморщиться и отвести взгляд в сторону.
Антиквар усмехнулся.
– Вы приходите ко мне в первый день Рождества, – продолжал он, – зная, что, кроме меня, в доме никого нет, что окна в лавке закрыты ставнями и что я ни в коем случае не буду заниматься торговлей. Ну что ж, вам это будет накладно. Вы поплатитесь за то, что я потрачу время на подсчет нового итога в моей приходной книге, а также за некую странность вашего поведения, которая уж очень заметна сегодня. Я сама скромность и никогда не задаю лишних вопросов, однако, если клиент не смотрит мне в глаза, с него за это причитается.
Антиквар снова усмехнулся, но тут же перешел на свой обычный деловой тон, хотя все еще с оттенком иронии.
– Как всегда, вы, разумеется, дадите мне исчерпывающее объяснение, каким образом вещь попала к вам в руки, – сказал он. – Все из того же шкафчика вашего дядюшки? Какой он у вас замечательный собиратель редкостей, сэр!
И тщедушный, сгорбленный антиквар чуть не привстал на цыпочки, всматриваясь в Маркхейма поверх золотой оправы очков и с явным недоверием покачивая головой. Mapкхейм ответил ему взглядом, полным бесконечной жалости и чуть ли не ужаса.
– На этот раз, – сказал он, – вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет никаких диковинок на продажу; в шкафчике моего дядюшки хоть шаром покати. Но если бы даже он был набит, как прежде, я, пожалуй, скорее занялся бы его пополнением, потому что за последнее время мне сильно везло на бирже. Цель моего сегодняшнего прихода проще простого. Я подыскиваю рождественский подарок для одной дамы. – Он говорил все свободнее, входя в колею заранее приготовленной речи. – И, разумеется, я приношу вам свои извинения за то, что потревожил вас по столь ничтожному поводу. Но вчера я не удосужился заняться этим; мое скромное подношение надо сделать сегодня за обедом, а как вы сами отлично понимаете, богатой невестой пренебрегать не годится.
Последовала пауза, во время которой антиквар как бы взвешивал слова Маркхейма. Тишину нарушало только тиканье множества часов, висевших в лавке среди прочей старинной рухляди, да отдаленное громыхание экипажей на соседней улице.
– Хорошо, сэр, – сказал антиквар. – Пусть будет по-вашему. В конце концов, вы мой давний клиент, и если вам действительно удастся сделать хорошую партию, не мне быть этому помехой. Вот, пожалуйста, отличный подарок для дамы, – продолжал он. – Ручное зеркальце. Пятнадцатый век, подлинное и из хорошей коллекции. Из чьей именно, я умолчу в интересах моего клиента, который, подобно вам, уважаемый сэр, приходится племянником и единственным наследником одному замечательному коллекционеру.
Говоря все это сухим, язвительным тоном, антиквар нагнулся достать зеркало с полки, и в тот же миг судорога пробежала по телу Маркхейма, у него затряслись руки и ноги, на лице отразилась буря страстей. Все это прошло так же мгновенно, как и возникло, не оставив после себя и следа, кроме легкой дрожи руки, протянутой за зеркалом.
– Зеркало, – хрипло проговорил он и замолчал, потом повторил более внятно: – Зеркало? На Рождество? Да можно ли?
– А что тут такого? – воскликнул антиквар. – Почему не подарить зеркало?
Маркхейм устремил на него какой-то особенный взгляд.
– Вы спрашиваете почему? – сказал он. – Да возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну что? Приятно? Ведь нет. И никому не может быть приятно.
Щуплый антиквар отскочил назад, когда Маркхейм внезапно подался к нему с зеркалом, но, убедившись, что ничто более страшное ему не угрожает, сказал с улыбкой:
– Ваша будущая супруга, сэр, видимо, не так уж хороша собой.
– Я пришел к вам, – сказал Маркхейм, – за рождественским подарком, а вы… вы предлагаете мне вот это проклятое напоминание, напоминание о прожитых годах, прегрешениях и безумствах. Ручное зеркало – это же ручная совесть! Вы это нарочно? С задней мыслью? Признайтесь! Для вас же будет лучше, если признаетесь чистосердечно. И расскажете о себе. Есть у меня подозрение, что на самом-то деле вы человек сердобольный.
Антиквар пристально посмотрел на своего собеседника. Как ни странно, Маркхейм не смеялся; в лице его словно бы промелькнула яркая искорка надежды, но уж никак не насмешки.
– Куда вы клоните? – спросил антиквар.
– Неужто не сердобольный? – хмуро проговорил Маркхейм. – Не сердоболен, не благочестив, не щепетилен, никого не любит, никем не любим. Рука, загребающая деньги, кубышка, где они хранятся. И это все? Боже правый, неужели это все?
– Сейчас я вам скажу, все или не все, – резко заговорил антиквар, но тут же снова усмехнулся: – Впрочем, понимаю, понимаю, вы вступаете в брак по любви и, видимо, успели выпить за здоровье вашей суженой.
– А-а! – воскликнул Маркхейм, почему-то вдруг загоревшись любопытством. – А вы-то сами были когда-нибудь влюблены? Расскажите, расскажите мне.
– Я? – воскликнул антиквар. – Я – и любовь! Да у меня времени на это не было, и сегодня я не намерен его тратить на всякий вздор. Берете вы зеркало?
– Куда нам спешить? – возразил ему Маркхейм. – Стоим, беседуем – это так приятно. Жизнь наша коротка и ненадежна, зачем бежать ее приятностей, даже столь скромных, как эта? Надо цепляться за всякую малость, которую можно урвать у жизни, как цепляется человек за край обрыва над пропастью. Если вдуматься, так каждый миг нашей жизни – обрыв, крутой обрыв, и кто сорвется вниз с этой крутизны, тот потеряет всякое подобие человеческое. Так не лучше ли отдаться приятной беседе? Давайте расскажем каждый о себе. Зачем нам носить маску? Доверимся друг другу. Как знать, быть может, мы станем друзьями?
– Мне осталось сказать вам только одно, – проговорил антиквар. – Покупайте или уходите вон из моей лавки!
– Правильно, правильно, – сказал Маркхейм. – Хватит дурачиться. К делу. Покажите мне что-нибудь еще.
Антиквар снова нагнулся, на сей раз чтобы положить зеркало на место; реденькие белесые волосы свесились ему на глаза. Маркхейм чуть подался вперед, держа одну руку в кармане пальто; он расправил плечи и вздохнул всей грудью, и сумятица чувств проступила у него на лице: страх, ужас, решимость, упоение и физическая гадливость, – и под мучительно вздернувшейся верхней губой блеснули зубы.
– Может, вот это вам подойдет? – сказал антиквар, и, когда он стал выпрямляться, Маркхейм бросился на свою жертву сзади. Длинный, как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил. Антиквар забился, точно курица, стукнувшись виском о полку, и бесформенной грудой рухнул на пол.
Время заговорило в лавке десятками негромких голосов – и степенных, неторопливых, как подобало их почтенному возрасту, и дробно стрекочущих наперебой. Хитросплетения этого хора отсчитывали своим тиканьем секунду за секундой. Но вот громкий топот мальчишки, пробежавшего по тротуару, примешался к этим более тихим голосам, и Маркхейм, очнувшись, вспомнил, где он находится. Он в страхе огляделся по сторонам. Свеча стояла на прилавке, ее огонек с торжественной мерностью покачивался на сквозняке, и от этого чуть приметного движения вся лавка полнилась бесшумной суетой, и все в ней колыхалось, как взбаламученное море: покачивались высокие тени, густые пласты тьмы вздымались и опадали в ритме дыхания, лица на портретах и у фарфоровых божков меняли выражение и подергивались зыбью, точно отражаясь в воде. Внутренняя дверь лавки стояла приотворенная, и длинная полоска дневного света указующим перстом протягивалась в этот стан теней.
Полный страха, блуждающий взгляд Маркхейма вернулся к телу его жертвы, которая лежала съежившись и в то же время словно распластавшись на полу и казалась до невероятия маленькой и, как ни странно, еще более жалкой, чем при жизни. В своей убогой, ветхой одежонке, в этой нелепой позе антиквар стал похож на кучу опилок. Минуту назад Маркхейм боялся на него посмотреть, а оказалось – вот только и всего! И тем не менее под его взглядом эта охапка заношенной одежды и лужа крови начинали обретать весьма выразительный голос. Вот так оно будет лежать; некому привести в действие хитроумные пружинки этого тела или управлять чудом движения – так ему и придется лежать до тех пор, пока его не обнаружат. Обнаружат! А тогда что? Тогда эта мертвая плоть так возвысит свой голос, что он разнесется по всей Англии и отзвуки погони наполнят весь мир. Да, мертвый, живой ли, он все еще враг. «Было время, когда у жертвы череп размозжен, кончался человек, и все кончалось», – вспомнилось ему, и мысль его сразу ухватилась за это слово: время! Теперь, после того как дело сделано, время, остановившееся для жертвы, обрело огромное безотлагательное значение для убийцы.
Эта мысль все еще владела Маркхеймом, когда сначала одни, потом другие – в разном темпе, на разные голоса, то густые, как у колокола на соборной колокольне, то звонко отстукивавшие начальные такты вальса – часы начали отбивать три пополудни.
Внезапный говор стольких языков, нарушивших безмолвие, ошеломил Маркхейма. Он заставил себя прийти в движение среди зыбких теней, которые обступали его со всех сторон, и со свечой в руке заходил по лавке, обмирая от страха при виде своих беглых отражений, возникавших то тут, то там. Эти отражения, точно скопище шпионов, замелькали в богатых зеркалах – английской, венецианской и голландской работы; глаза Маркхейма встречались с собственным шарящим взглядом, звуки собственных шагов, хоть и приглушенных, будоражили окружавшую тишину. И пока он набивал себе карманы, разум с томительным упорством твердил ему о тысяче просчетов в его замысле. Надо было выбрать час затишья; надо было позаботиться об алиби; не надо было убивать ножом; надо было действовать осмотрительнее и только связать антиквара и засунуть ему в рот кляп; или же, напротив, проявить бóльшую смелость и убить заодно и служанку – все надо было делать по-иному. Мучительные сожаления, непрестанная тягостная работа мысли, выискивающая, как изменить то, чего уже не изменишь, как наладить другой, теперь уже запоздалый ход, как заново стать зодчим непоправимо содеянного. И рядом с этой работой мысли безжалостные страхи, точно крысы, снующие на заброшенном чердаке, поднимали бурю в далеких уголках его мозга: вот рука констебля тяжело ложится ему на плечо – и нервы его дергались, как рыба на крючке; перед ним вихрем проносились картины: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб.
Мысль о прохожих на улице осаждала его со всех сторон, как неприятельское войско. Ведь не может же быть, думал он, чтобы отзвуки насилия не достигли чьего-либо слуха, не пробудили чьего-либо любопытства. И он представлял себе, что в соседних домах сидят люди, замерев на месте, насторожившись, – одиночки, встречающие Рождество воспоминаниями о прошлом и вдруг оторванные от этого сладостного занятия, и счастливые, семейные, и вот они тоже замолкают за праздничным столом, и мать предостерегающе поднимает палец. Сколько их, самых разных – по возрасту, положению, характеру, – и ведь хотят дознаться, и прислушиваются, и плетут веревку, на которой его повесят. Иногда ему казалось, будто он ступает недостаточно тихо; позвякивание высоких бокалов богемского стекла отдавалось в его ушах, как удары колокола; опасаясь полнозвучного тиканья часов, он готов был остановить маятники. А потом тревога начинала нашептывать ему, что самая тишина лавки зловеща, что она насторожит прохожих и заставит их задержать шаги. И он ступал смелее, не остерегаясь, шарил среди вещей, загромождавших лавку, и старательно, с напускной храбростью, подражал движениям человека, не спеша и деловито хозяйничающего у себя дома.
Но теперь страхи так раздирали Маркхейма, что покуда одна часть его мозга была начеку и всячески хитрила, другая трепетала на грани безумия. И с особой силой завладела им одна галлюцинация. Бледный как полотно сосед, замерший у окна, или прохожий, во власти страшной догадки остановившийся на тротуаре, – эти в худшем случае могут только заподозрить что-то, а не знать наверное, сквозь каменные стены и ставни на окнах проникают лишь звуки. Но здесь, в самом доме, один ли он? Да, разумеется, один. Ведь он выследил служанку, когда она отправилась по своим амурным делам в убогом праздничном наряде, каждый бантик которого и каждая ее улыбка говорили: «Уж погуляю сегодня вволю». Нет, конечно, он здесь один. И все же где-то наверху, в недрах этого пустынного дома, ему явственно слышался шорох тихих шагов – сам не зная почему, он ясно ощущал чье-то присутствие здесь. Да, несомненно! В каждую комнату, в каждый закоулок дома следовало за этим его воображение; вот оно, безликое, но зрячее, вот превратилось в его собственную тень, вот приняло облик мертвого антиквара, вновь ожившего, вновь коварного и злого.
Время от времени он через силу заставлял себя посмотреть на открытую дверь, которая все еще как бы отталкивала от себя его взгляд. Дом был высокий, фонарь в крыше маленький, грязный, день слепой от тумана, и свет, еле просачивавшийся сверху до нижнего этажа, чуть заметно лежал у порога лавки. И все же – не тень ли чья-то колыхалась там, в этом мутном световом пятне?
Вдруг какой-то чрезвычайно весело настроенный джентльмен начал колотить снаружи палкой во входную дверь лавки, сопровождая удары возгласами, шуточками и то и дело окликая антиквара по имени. Оледенев от ужаса, Маркхейм бросил взгляд на мертвеца. Нет, убитый лежал неподвижно; он ушел далеко-далеко, туда, куда не достигали эти призывы и стук, утонул в пучине безмолвия, и его имя, которое он различил бы прежде даже сквозь рев бури, стало пустым звуком. Вскоре, однако, весельчак бросил ломиться в дверь и удалился.
Вот он, красноречивый намек, что надо поскорее все доделать, уйти из этих мест, которые несут в себе осуждение, погрузиться в глубь лондонского людского моря и достичь – уже по ту сторону минувшего дня – своей постели, этой надежной, оберегающей от улик гавани. Один гость сюда уже наведался; в любую минуту может появиться другой, более настойчивый. Но сделать то, что сделано, и не пожать плодов – такая неудача будет непереносима. Деньги – вот о чем думал теперь Маркхейм, и средством к достижению этой цели были ключи.
Он оглянулся через плечо на дверь, где все еще маячила, колыхаясь на пороге, та самая тень, и без душевного содрогания, но чувствуя, как ему сводит желудок, подошел к своей жертве. В ней не осталось ничего живого, человеческого. Руки и ноги, разбросанные по полу, скорченное туловище, точно чучело, набитое опилками, – и все же в этом трупе было что-то отталкивающее. На взгляд он такой жалкий, невзрачный, но, когда прикоснешься, не почувствуешь ли в нем чего-то большего, значительного? Маркхейм взял антиквара за плечи и перевернул его навзничь. Он был на удивление легкий и податливый, руки и ноги, будто сломанные, под несуразными углами легли на пол. Лицо лишено всякого выражения, желтое как воск, а на правом виске страшно расползлась кровь. Только это и резануло Маркхейма и мгновенно унесло его назад, к одному памятному ярмарочному дню в рыбацкой деревушке: серый день, посвистывающий ветер, людские толпы на улице, рев медных труб, буханье барабанов, гнусавый голос уличного певца и маленький мальчик, шныряющий среди взрослых. Мальчика раздирают любопытство и страх, и, пробившись наконец на площадь, туда, где толпа всего гуще, он видит балаган и большую доску с нелепыми, грубо размалеванными картинками: Элизабет Браунриг со своим подмастерьем, чета Мэннингсов и убитый ими гость, Уир, задушенный Тертеллом, и еще десятка два других прогремевших на всю страну преступников. Это возникло перед ним как видение; он снова был тем маленьким мальчиком, снова с таким же чувством гадливости разглядывал мерзкие картинки, оглушительная барабанная дробь по-прежнему звучала у него в ушах. В памяти пронесся обрывок песенки, услышанной в тот день, и тут впервые его охватила дурнота и чуть затошнило, и он почувствовал слабость во всех членах, которую надо было немедленно пресечь и побороть.
Он решил, что разумнее будет не отмахиваться от этих новых мыслей и не бежать их, а смелее взглянуть в мертвое лицо, заставить себя осознать сущность и огромность своего преступления. Ведь совсем недавно в этом лице отражалась каждая смена чувств, эти бледные губы выговаривали слова, это тело было согрето волею к действию, а теперь, после того, что сделал он, Маркхейм, эта частичка жизни остановлена, подобно тому как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов. Но тщетны были все его доводы: на угрызения совести он не мог себя подвигнуть. Сердце, содрогавшееся когда-то при виде аляповатых изображений убийств, бестрепетно взирало на действительность. Он чувствовал лишь проблеск жалости к тому, кто, будучи наделен всеми способностями, которые могут превратить мир в волшебный сад, так и не использовал их, и не жил настоящей жизнью, и теперь лежал мертвый. Но раскаяние? Нет, раскаяния в его душе не было и тени.
И, стряхнув с себя все эти мысли, он отыскал ключи и подошел к внутренней двери; она все еще стояла приоткрытая. На улице хлынул ливень, и шум дождевых струй по крыше прогнал тишину. Точно в пещере, со сводов которой капает, по дому ходило несмолкаемое эхо дождя, глушившее слух и мешавшееся с громким тиканьем часов. И когда Маркхейм подошел к двери, он услышал в ответ на свою осторожную поступь чьи-то шаги, удалявшиеся вверх по лестнице. Тень у порога все еще переливалась зыбью. Он подтолкнул свою мускулатуру всем грузом решимости и затворил дверь.
Слабый свет туманного дня тусклым отблеском лежал на голом полу и ступеньках, на серебристых рыцарских доспехах с алебардой в рукавице, загромождавших лестничную площадку, на резных фигурках и на картинах в рамах, развешанных по желтым стенным панелям. Шум дождя так громко отдавался во всем доме, что в ушах Маркхейма он начинал дробиться на разные звуки. Шаги и вздохи, маршевая поступь солдат где-то в отдалении, звяканье монет при счете и скрип осторожно открываемых дверей – все это как бы сливалось со стуком дождя по крыше и хлестанием воды в сточных трубах. Чувство, что он не один здесь, доводило Маркхейма почти до безумия. Какие-то призраки следили за ним, обступали его со всех сторон. Ему чудилось движение в верхних комнатах; слышалось, как в лавке встает с пола мертвец, и когда он с огромным усилием стал подниматься по лестнице, чьи-то ноги тихо ступали впереди него и тайком следовали за ним. Быть бы глухим, думалось ему, вот тогда душа была бы спокойна! И тут же, вслушиваясь с обостренным вниманием, он снова и снова благословлял это недреманное чувство, которое все время было начеку, точно верный часовой, охранявший его жизнь. Он непрестанно вертел головой по сторонам; глаза его, чуть ли не вылезавшие из орбит, всюду вели слежку, и всюду мелькало нечто, чему не подобрать имени, и всякий раз скрывалось в последний миг. Двадцать четыре ступеньки на верхний этаж были для Маркхейма пыткой, перенесенной двадцать четыре раза.
Там, наверху, три приотворенные двери, точно три засады, грозившие пушечными жерлами, хлестнули его по нервам. Никогда больше не почувствует он себя защищенным, отгороженным от все примечающих людских взглядов; ему хотелось домой, под охрану своих стен, – зарыться в постель и стать невидимым для всех, кроме Бога. И тут он подивился, вспомнив рассказы о других убийцах, об их страхе перед карой небесной. Нет, с ним так не будет. Он страшился законов природы – как бы они, следуя своим жестоким, непреложным путем, не изобличили его. И еще больше испытывал он рабский, суеверный ужас при мысли о каком-нибудь провале в непрерывности человеческого опыта, какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее законов. Он вел свою искусную игру, полагаясь на правила, выводя следствия из причин. Но что, если природа, как побежденный самодур, опрокидывающий шахматную доску, поломает форму этой взаимосвязи? Нечто подобное (как утверждают историки) случилось с Наполеоном, когда зима изменила время своего прихода. Так же может случиться и с ним; плотные стены вдруг станут прозрачными и обнаружат его здесь, как пчелу, хлопочущую в стеклянном улье; крепкие половицы вдруг уйдут из-под ног, точно трясина, и удержат его в своих цепких объятиях; да и более заурядные случаи могут принести ему погибель. Вдруг дом рухнет и заточит его под обвалом рядом с убитым или загорится соседний и со всех сторон к нему двинутся пожарные. Вот что его страшило, и ведь в какой-то мере все это можно будет счесть десницей Господней, подъятой против греха. Впрочем, с Богом он как-нибудь поладит: он содеял, бесспорно, нечто исключительное, но, как известно Богу, не менее исключительны и причины, приведшие его к этому. И там, в небесах, а не от людей, ждал он справедливого суда.
Когда он благополучно добрался до гостиной и затворил за собой дверь, у него отлегло от сердца. Комната эта была в полном беспорядке, к тому же без ковра, ее загромождали упаковочные ящики и самая сборная мебель: высокие трюмо, в которых он отражался под разными углами, точно актер на сцене, много картин в рамах и без рам – все поставленные лицом к стене, прекрасный шератоновский буфет, горка с инкрустацией и широкая старинная кровать под гобеленовым пологом. Окна здесь шли до самого пола, но, по великому счастью, нижняя половина их была закрыта ставнями, и это скрывало Маркхейма от соседей. И вот, придвинув один из ящиков к горке, он начал подбирать к ней ключи. Дело это оказалось затяжным, да и докучным, ибо ключей было много, а в горке могло и не найтись то, что он искал, между тем как время летело быстро. Однако кропотливость этого занятия успокоила его. Уголком глаза он видел дверь – изредка даже посматривал на нее, точно полководец в осаде, довольный надежностью своей обороны. Да, он был спокоен. Дождь за окнами шумел так естественно и уютно. А вот на другой стороне улицы проснулось чье-то фортепьяно, и хор детских голосов подхватил напев и слова гимна. Какая величавая и умиротворяющая мелодия! Какая свежесть в юных голосах! Подбирая ключи, Маркхейм с улыбкой слушал их, и в памяти у него толпились ответные мысли и картины: дети на пути в церковь и раскаты органа; дети на лугу, в полях, среди зарослей ежевики, купанье в речке, воздушные змеи под облаками, плывущими в небе по ветру; а с новой строфой гимна он снова в церкви, и снова дремотность летних воскресных дней, сладкий тенор пастора (вспомянутый с легкой улыбкой), раскрашенные надгробия времен короля Якова и полустертые буквы на доске с десятью заповедями в часовне.
Так он сидел, машинально перебирая ключи, и вдруг вскочил на ноги. Ледяная волна, волна огненная, кровь, забурлившая в жилах, захлестнули его; потрясенный, он замер на месте. Неспешные, мерные шаги послышались на лестнице, и вот чьи-то пальцы коснулись дверной ручки, язычок ее звякнул, и дверь отворилась.
Страх тисками сжимал Маркхейма. Он не знал, чего ему ждать. Кто это? Мертвец ли идет сюда, или должностные вершители человеческого правосудия, или какой-нибудь свидетель, который случайно забрел в лавку и теперь препроводит его на виселицу? Но вот чье-то лицо показалось в дверной щели, глаза обежали комнату, остановились на нем – кивок и дружеская, словно знакомому, улыбка, а вслед за тем лицо это исчезло, дверь затворилась, и страх, с которым Маркхейм уже не мог совладать, вырвался наружу в хриплом крике. И, услышав его, неведомый посетитель вернулся.
– Ты звал меня? – приветливо спросил он, вошел в комнату и затворил за собой дверь.
Маркхейм стоял и смотрел на него, не отрываясь. Оттого ли, что глаза ему застилало туманом, очертания этого пришельца словно бы менялись и подергивались зыбью, как у тех фарфоровых божков в зыбком освещении лавки. И то ему казалось, будто он знает его, то мерещилось в нем сходство с самим собой; и ужас глыбой давил ему грудь при мысли, что перед ним предстало нечто чуждое и земле, и небесам.
Однако в пришельце этом, с улыбкой смотревшем на Маркхейма, было что-то самое заурядное, и когда он спросил:
– Ты, наверно, ищешь деньги? – вопрос его прозвучал равнодушно-вежливо.