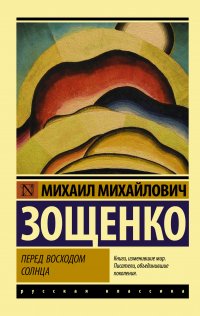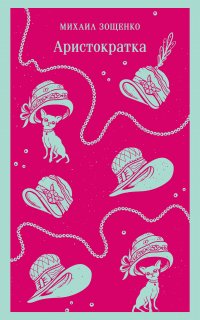
Читать онлайн Аристократка бесплатно
- Все книги автора: Михаил Зощенко
Зощенко о себе
Я родился в 1895 году
Я родился в 1895 году. В прошлом столетии! Это меня ужасно огорчает.
Я родился в XIX веке! Должно быть, поэтому у меня нет достаточной вежливости и романтизма к нашим дням, – я юморист.
О себе я знаю очень мало.
Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом – этак. По-видимому, один из документов – «липа». Который из них липа, угадать трудно, оба сделаны плохо.
С годами тоже путаница. В одном документе указано – 1895, в другом – 1896[1]. Определенно, липа.
Профессий у меня было очень много. Об этом я всегда говорю без иронии. Даже с некоторым удивлением к самому себе.
Наиболее интересные профессии, кроме самых разнообразных военных, были такие:
1. Студент Петроградского университета.
2. Комендант почт и телеграфа. (При Керенском.)
3. Агент уголовного розыска. (Район Ленинград – Ораниенбаум.)
4. Инструктор по кролиководству и куроводству. (Смоленская губ., гор. Красный. Совхоз «Маньково».)
5. Постовой милиционер. (В Лигове.)
6. Телефонист пограничной охраны.
7. Сапожник.
8. Конторщик Петроградского военного порта.
Было и еще множество других профессий. Всего не вспомнишь.
Между прочим, о ремесле сапожника. Я очень люблю это спокойное, благородное ремесло. Я почти год (1920) работал подмастерьем у сапожника Воскресенского (или Вознесенского) на Васильевском острове по Второй линии, напротив Румянцевского сквера.
Однажды произошла такая встреча. В подвал к нам пришел человек в крылатке. Я разговорился с ним. Он назвал себя писателем Н. Шебуевым. За руку я с ним не здоровался, но разговаривал о чем-то долго. Я был тогда никому не известный юноша. Литературой в то время не занимался. А на коленях, на зеленом фартуке, у меня лежали дамские недочиненные ботинки. И поэтому, вероятно, я не назвал Шебуеву своей фамилии. Воображаю, с каким удивлением Н. Шебуев будет читать эти строчки!
Во второй раз Н. Шебуев пришел к нам вместе со своей женой. Мы опять о чем-то долго разговаривали. Однако я не чинил ему сапоги. Чинил хозяин.
Самая пышная должность у меня была в 17 году. После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в «Астории».
Я на полчаса являлся в Главный почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.
При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького; Шаляпина как-то раз встречал у Горького. Знаком с Дм. Цензором. Иногда встречаю Липатова. Два раза сидел с Сергеем Есениным в пивной. На Михайловской улице.
- Старик Есенин нас заметил
- И, в гроб сходя, благословил…
Рабиндраната Тагора не пришлось увидеть. Но твердо верю, что встречу и этого почтенного старца.
Сейчас у меня биография скудная. Писатель. Кажется, это последняя профессия в моей жизни. Мне жаль, что я остановился на этой профессии.
Это очень плохая профессия, черт ее побери! Самая плохая из двенадцати, которые я знаю.
Сентябрь 1927
О себе, о критиках и о своей работе
Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.
Критики не знают, куда, собственно, меня причислить – к высокой литературе или к литературе мелкой, не достойной, быть может, просвещенного внимания критики.
А так как большая часть моих вещей сделана в неуважительной форме – журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена.
Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка.
Это, конечно, не так.
Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.
А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.
Вот в литературе существует так называемый социальный заказ. Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.
Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.
Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, – заказывают, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.
Я взял подряд на этот заказ.
Я предполагаю, что не ошибся.
В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.
Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести – это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказики – журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, – это неверно.
И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства.
Правда, по внешней форме повесть моя ближе подходит к образцам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их лично для меня одинакова.
А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.
Вот отчего так, казалось бы, резко делится моя работа на две части.
Но критика обманута внешними признаками…
… Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня – почти карамзиновский. Их фразы – карамзиновские периоды.
Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.
Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, – Виктор Шкловский.
Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он «ввел воздух» в свои статьи. Стало удобно и легко читать.
Я сделал то же самое.
Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.
Может быть, поэтому у меня много читателей.
(1928)
Автобиография
Родился в 1895 году (10 августа) в г. Полтаве. Отец – художник-передвижник. (Его картины имеются в Третьяковской галерее и в Суворовском музее.)
Отец – из потомственных дворян, украинец. Мать – русская.
Я окончил 8-ю гимназию в Петербурге (в 13-м году) и продолжал учение в Петербургском университете (юридический факультет).
В 1915 году (закончив ускоренные военные курсы) ушел на фронт в чине прапорщика.
На фронте пробыл два года. Участвовал во многих боях, был ранен и отравлен газами. Имел четыре боевых ордена и чин штабс-капитана.
Годы 15–17-е находился в должностях – полкового адъютанта, командира роты и батальона – 16-го гренадерского Мингрельского полка Кавказской дивизии. После Февральской революции служил в Петрограде в должности коменданта Главного почтамта и телеграфа, и позже – в сентябре 17-го года – был адъютантом архангельской дружины.
После Октября вернулся в Петроград и служил в пограничных войсках – в Стрельне и в Кронштадте.
В сентябре 18-го года перевелся из пограничного отряда в действующую армию и до весны 19-го года пробыл на фронте в 1-м образцовом полку Деревенской бедноты (адъютантом полка).
В апреле 19-го года был демобилизован по болезни сердца и снят с военного учета. С апреля 1919 года служил следователем в Уголовном надзоре (Лигово – Ораниенбаум).
В 1920 году поступил в Петроградский военный порт – делопроизводителем. И в этом же году занялся литературой.
В 1921 году вышла в свет первая книга моих рассказов (в издательстве «Эрато»).
За последующие двадцать лет было издано большое количество моих книг, перечислить которые я не в состоянии. Из больших работ могу только отметить: «Сентиментальные повести» (1923–1936), «Возвращенную молодость» (1933), «Голубую книгу» (1935) и «Исторические повести» («Черный принц», «Керенский», «Возмездие»).
В 1941 году (в начале Отечественной войны до октября) работал в ленинградских газетах, на радио и в журнале «Крокодил».
В октябре 41-го был эвакуирован в Алма-Ату и там до весны 43-го года работал в сценарной студии («Мосфильм»), написал сценарий («Солдатское счастье»), который был утвержден кинокомитетом и пущен в производство (43-го года). (Сценарий этот напечатан в моем однотомнике 1946 года, Госиздат.)
В марте 1943 года я вернулся в Москву и работал членом редколлегии журнала «Крокодил».
Осенью 1943 года я напечатал в журнале «Октябрь» мою повесть «Перед восходом солнца», за которую подвергся резкой критике.
В 1944-46 годах работал для театров. Две мои комедии были поставлены в Ленинградском драматическом театре. Одна из них («Парусиновый портфель») выдержала 200 представлений за 45–46-е годы.
В августе 1946 года (после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград») я был исключен из ССП. За годы 46–52 я главным образом занимался переводческой работой. Было издано четыре книги (в моем переводе: 1. М. Лассила «За спичками», 2. М. Лассила «Воскресший из мертвых», 3. Антти Тимонен «От Карелии до Карпат», 4. М. Цагараев «Повесть о колхозном плотнике Саго» (в издательствах Госиздат КФССР и «Советский писатель» – Москва).
В июне 1953 года я вновь принят в ССП.
В настоящее время работаю в сатирическом жанре – в журналах «Крокодил» и в «Огоньке». Кроме того, работаю для театра и пишу книгу рассказов.
5 июля 1953
Рассказы
Исповедь
На страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась – купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.
Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.
Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.
Исповедь происходила у алтаря за ширмой.
Бабка Фекла встала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать. За ширмой долго не задерживали.
Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.
«Торопится поп, – подумала Фекла. – И чего торопится. Не на пожар ведь. Неблаголепно ведет исповедь».
Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.
– Как звать-то? – спросил поп, благословляя.
– Феклой зовут.
– Ну, рассказывай, Фекла, – сказал поп, – какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к Богу прибегаешь?
– Грешна, батюшка, конечно, – сказала Фекла, кланяясь.
– Бог простит, – сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью. – В Бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?
– В Бога-то верую, – сказала Фекла. – Сын-то, конечно, приходит, например, выражается, осуждает, одним словом. А я-то верую.
– Это хорошо, матка, – сказал поп. – Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?
– Осуждает, – сказала Фекла. – Это, говорит, пустяки – ихняя вера. Нету, говорит, не существует Бога, хоть все небо и облака обыщи…
– Бог есть, – строго сказал поп. – Не поддавайся на это… А чего, вспомни, сын-то еще говорил?
– Да разное говорил.
– Разное! – сердито сказал поп. – А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если Богато нет? Сын-то ничего такого не говорил, откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это? Припомни – не говорил он об этом? Дескать, все это химия, а?
– Не говорил, – сказала Фекла, моргая глазами.
– А может, и химия, – задумчиво сказал поп. – Может, матка, конечно, и Бога нету – химия все…
Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.
– Ну иди, иди, – уныло сказал поп. – Не задерживай верующих.
Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая. Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.
1923
Богатая жизнь
Кустарь Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.
Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:
– Ну и ну… Ну и штука… Да что же это, братцы?..
Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.
Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.
– Ну, что ж теперь делать-то будешь? – спрашивал я. – Чего покупать намерен?
– Да чего-нибудь куплю, – говорил Спиридонов. – Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства… Штаны, конечно…
Илья Иваныч получил наконец из банка целую груду новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более двух месяцев.
Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.
Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.
Сам Илья Иваныч очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами.
– Ну, как? – спросил я.
– Да что ж, – уныло сказал Спиридонов. – Живем. Дровец, конечно, купил… А так-то, конечно, скучновато.
– С чего бы?
Илья Иваныч махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иваныч сказал:
– Вот все говорят: буржуи, буржуи… Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом… А чего в этом хорошего?
– А что?
– Да как же, – сказал Спиридонов. – Нуте-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины, – со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два… Жена, супруга то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет… Это, скажем, три… Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо – дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.
Илья Иваныч с отчаянием махнул рукой.
– Чего же ты теперь делать-то будешь? – спросил я.
– А я не знаю, – сказал Илья Иваныч. – Прямо хоть в петлю… Я как в первый день получил деньги, так все и началось, все несчастья… То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов.
А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях. Поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля.
А Мишка, женин братишка, наибольше колбасится.
– Довольно, – говорит, – стыдно по два рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть.
Ну, слово за слово, руками по столу – драка. Кто кого бьет – неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.
Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.
Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшена на два года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю – жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни сроку.
«Не дело, – думаю. – Хоть и баба она, а все-таки равноправная баба. Стоп, – думаю. – Возьму, – думаю, – ей в помощь небольшую девчонку. Пущай девчонка продукты стряпает».
Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена, на досуге, сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла… Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.
Дал я, конечно, супруге денег.
– Сходи, – говорю, – хотя бы в клуб или в театр. Я бы, – говорю, – и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.
Ну, поплакала баба – пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет – на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.
А после председатель заходит и говорит:
– Ты, – говорит, – что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, – говорит, – девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, – говорит, – на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл…
Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.
– Плохо, – сказал я.
– Еще бы не плохо, – оживился Илья Иваныч. – Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут… А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет – боится под суд идти… Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится – влезть хочет… Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать!
Илья Иваныч расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:
– А чего это самое… Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысчонку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета…
Илья Иваныч одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.
1923
Жертва революции
Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.
– Заживают, – с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. – Ничего не поделаешь – седьмой год все-таки пошел.
– А что это? – спросил я.
– Это? – сказал Ефим Григорьевич. – Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут… Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой – я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.
Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:
– Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив – я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?
– Нет.
– Ну, так вот… У этого графа я и служил. В полотерах… Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать – только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.
Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:
– Иди, – говорит, – кличут. У графа, – говорит, – кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.
Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу – и к ним.
Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты.
Гляжу – сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.
Увидела она меня и говорит сквозь слезы:
– Ах, – говорит, – Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?
– Что вы, – говорю, – что вы, бывшая графиня! На что, – говорю, – мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, – говорю. – Извините за выражение.
А она рыдает.
– Нет, – говорит, – не иначе, как вы сперли, комси-комса.
И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:
– Я, – говорит, – чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, – говорит, – это дело я так не оставлю. Руки, – говорит, – свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, – говорит, – отселева.
Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.
Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.
И лежу я день и два – пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.
И вдруг – на пятый день – как ударит меня что-то в голову.
«Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».
Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.
И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы энто, думаю.
Спрашиваю у прохожих. Отвечают:
– Вчера произошла Октябрьская революция.
Поднажал я – и на Офицерскую.
Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит… Ну, ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:
– Чего тут происходит?
– А это, – говорят, – мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.
И вдруг вижу я – ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу:
– В кувшинчике, – кричу, – часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.
А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.
Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.
«Ну, думаю, есть одна жертва».
Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:
– Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит, – тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод – хозяйский.
1923
Аристократка
Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:
– Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.
А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.
А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.
– Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера?
– Я, – говорит, – из седьмого.
– Пожалуйста, – говорю, – живите.
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
– Да, – отвечает, – действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц – привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.
Дальше – больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать – не знаю, и перед народом совестно. Ну а раз она мне и говорит:
– Что вы, – говорит, – меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, – говорит, – как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.
– Можно, – говорю.
И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.
На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой – внизу сидеть, а который Васькин – аж на самой галерке.
Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я – на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу – антракт. А она в антракте ходит.
– Здравствуйте, – говорю.
– Здравствуйте.
– Интересно, – говорю, – действует ли тут водопровод?
– Не знаю, – говорит.
И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее и предлагаю:
– Ежели, – говорю, – вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.
– Мерси, – говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.
А денег у меня – кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег – с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю:
– Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
– Нет.
И берет третье.
Я говорю:
– Натощак – не много ли? Может вытошнить.
А она:
– Нет, – говорит, – мы привыкшие. И берет четвертое.
Тут ударила мне кровь в голову.
– Ложи, – говорю, – взад!
А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.
А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.
– Ложи, – говорю, – к чертовой матери!
Положила она назад. А я говорю хозяину:
– Сколько с нас за скушанные три пирожные?
А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет.
– С вас, – говорит, – за скушанные четыре штуки столько-то.
– Как, – говорю, – за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.
– Нету, – отвечает, – хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.
– Как, – говорю, – надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.
А хозяин держится индифферентно – перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.
Одни говорят – надкус сделан, другие – нету.
А я вывернул карманы – всякое, конечно, барахло на пол вывалилось – народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.
Сосчитал деньги – в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.
Заплатил. Обращаюсь к даме:
– Докушайте, – говорю, – гражданка. Заплачено.
А дама не двигается. И конфузится докушивать.
А тут какой-то дядя ввязался.
– Давай, – говорят, – я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои-то деньги.
Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.
А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:
– Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездют с дамами.
А я говорю:
– Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись.
Не нравятся мне аристократки.
1923
На живца
В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне.
Народ там более добродушный подбирается.
В переднем вагоне скучно и хмуро и на ногу никому не наступи. А в прицепке, не говоря уже о ногах, много привольней и веселей.
Иногда там пассажиры разговаривают между собой на отвлеченные философские темы – о честности, например, или о заработной плате. Иногда же случаются и приключения.
На днях ехал я в четвертом номере.
Вот два гражданина против меня. Один с пилой. Другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит человек бутылку в руках и пальцами по ней щелкает. А то к глазу поднесет и глядит на пассажиров через зеленое стекло.
Рядом со мной – гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая или больная. И даже глаза по временам закрывает. А рядом с гражданкой – пакет. Этакий в газету завернут и бечевкой перевязан.
И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него поглядывает.
– Мамаша! – говорю я гражданке. – Гляди, пакет унесут. Убери на колени.
Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала таинственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, снова закрыла глаза.
Потом опять с сильным неудовольствием посмотрела на меня и сказала:
– Сбил ты меня с плану, черт такой…
Я хотел было обидеться, но гражданка язвительно добавила:
– А может, я нарочно пакет этот отложила. Что тогда? Может, я и не сплю, а все как есть вижу и нарочно глаза прикрываю?..
– То есть как? – удивился я.
– Как, как… – передразнила гражданка. – Может, я вора на этот пакет хочу поймать…
Пассажиры стали прислушиваться к нашему разговору.
– А чего в пакете-то? – деловито спросил человек с бутылкой.
– Да я же и говорю, – сказала гражданка. – Может, я нарочно туда костей-тряпок напихала… Потому – вор не разбирается, чего в нем. А берет, что под руку попадет… Знаю я, не спорьте. Я, может, с неделю так езжу…
– И что же – попадают? – с любопытством спросил кто-то.
– А то как же, – воодушевилась гражданка. – Обязательно попадают… Давеча дамочка вкапалась… Молоденькая такая, хорошенькая из себя. Черненькая брунеточка… Гляжу я – вертится эта дамочка. После цоп пакет и идет… А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга…
– С транвая их, воров-то, скидывать надоть! – сказал сердито человек с пилой.
– Это ни к чему – с трамвая, – вмешался кто-то. – В милицию надо доставлять.
– Конечно, в милицию, – сказала гражданка. – Обязательно в милицию… А то еще другой вкапался… Мужчина, славный такой, добродушный… Тоже вкапался. Взял прежде пакет и держит. Привыкает. Будто свой. А я молчу. И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет тихонько… А-а, говорю, товарищ, вкапался, гадюка…
– На живца, значит, ловишь-то? – усмехнулся человек с бутылкой. – И многие попадают?
– Да я же и говорю, – сказала гражданка, – попадают.
Она замигала глазами, глянула в окно, засуетилась и пошла к выходу.
И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и снова сказала:
– Сбил ты меня с плану, черт такой! Начал каркать на весь вагон. Теперь, ясно, никто на пакет не позарится. Вот и схожу раньше времени.
Тут кто-то с удивлением произнес, когда она ушла:
– И зачем ей это, братцы мои? Или она хочет воровство искоренить?
Другой пассажир, усмехнувшись, ответил:
– Да нет, ей просто охота, чтоб все люди вокруг воровали.
Человек с пилой сердито сказал:
– Вот какие бывают дьявольские старухи, воспитанные прежним режимом!
1923
Стакан
Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.
И меня пригласила.
– Приходите, – говорит, – помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас, – говорит, – не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте, сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.
Я говорю:
– В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.
– Ну, – говорит, – приходите тем более.
В четверг я и пошел.
А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.
А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать, – шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.
Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.
Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.
Вдова отвечает:
– Никак, батюшка, стакан тюкнули?
Я говорю:
– Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.
А деверь нажрался арбуза и отвечает:
– То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.
А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.
– Это, – говорит, – чистое разорение в хозяйстве – стаканы бить. Это, – говорит, – один – стакан тюкнет, другой – крантик у самовара начисто оторвет, третий – салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?
А деверь, паразит, отвечает:
– Об чем, – говорит, – речь. Таким, – говорит, – гостям прямо морды надо арбузом разбивать.
Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:
– Мне, – говорю, – товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, – говорю, – товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, – говорю, – чай у вас шваброй пахнет. Тоже, – говорю, – приглашение. Вам, – говорю, – чертям, три стакана и одну кружку разбить – и то мало.
Тут шум, конечно, поднялся, грохот.
Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.
И вдова тоже трясется мелко от ярости.
– У меня, – говорит, – привычки такой нету – швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, – говорит, – Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов… Я, – говорит, – щучий сын, не оставлю вас так после этого.
Ничего я на это не ответил, только говорю:
– Тьфу на всех, и на деверя, – говорю, – тьфу.
И поскорее вышел.
Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.
Являюсь и удивляюсь.
Нарсудья дело рассматривает и говорит:
– Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, – говорит, – этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.
Я говорю:
– Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.
Вдова говорит:
– Подавись этим стаканом. Бери его.
На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.
Ничего я на это не сказал, только говорю:
– Передай, – говорю, – своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.
Потому, действительно, когда характер мой зайдет – я могу до трибунала дойти.
1923
Собачий нюх
У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.
Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.
– Шуба-то, – говорит, – больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.
И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища – коричневая, морда острая и несимпатичная.
Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону – и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.
Рухнула бабка на колени перед агентом.
– Да, – говорит, – попалась. Не отпираюсь. И, – говорит, – пять ведер закваски – это так. И аппарат – это действительно верно. Все, – говорит, – находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.
Ну, народ, конечно, ахнул.
– А шуба? – спрашивают.
– Про шубу, – говорит, – ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное – это так. Ведите меня, казните.
Ну, увели бабку.
Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.
Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.
Побелел управдом, упал навзничь.
– Вяжите, – говорит, – меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, – говорит, – за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.
Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.
Побледнел гражданин, свалился перед народом.
– Виноват, – говорит, – виноват. Я, – говорит, – это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, – говорит, – жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!
Растерялся народ.
«Что, – думает, – за такая поразительная собака?»
А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.
– Уводи, – говорит, – свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, – говорит, – пропадает енотовая шуба. Пес с ней…
А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.
Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.
Заблекотал купец, побледнел.
– Ну, – говорит, – Бог правду видит, если так. Я, – говорит, – и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, – говорит, – братцы, не моя. Шубу-то, – говорит, – я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!
Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих – кто подвернулся – и держит.
Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.
Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.
И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.
– Кусайте, – говорит, – меня, гражданка. Я, – говорит, – на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру…
Чего было дальше – неизвестно. Я от греха поскорее смылся.
1923
Брак по расчету
– Раньше, граждане, было куда как проще, – сказал Григорий Иванович. – А которые женихи – тем все было как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот ее мама, а вот приданое. А если приданое, то опять-таки какое это приданое: деньгами или, может быть, домик на фундаменте.
Ежели деньгами – благородный родитель объявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то опять-таки иная речь – какой это домик? Может, деревянный, а может, он и каменный. Все видно, все понятно, и нету никакой фальши.
Ну а теперь? Нуте-ка, сунься теперь, который жених – не разбери-бери! Потому что у теперешнего родителя привычки такой нет – давать деньгами. А которые женихи на имущество ориентируются – еще того хуже.
Скажем, недвижимое имущество – висит шуба на вешалке. Ну, висит и висит. Месяц висит и два висит. Каждый день, например, ее можно видеть и руками щупать, а как до дела, то шубу эту, не угодно ли, комнатный жилец повесил и вовсе она не невестина. Или перина. Глядишь – перина, ляжешь на нее – она пером набита.
Вот вам и имущество! С таким имуществом крови больше испортишь.
Ах, чего только не делается на свете – не разбери-бери!
Я старый революционер с девятого года, во всех партиях перебывал, и то у меня голова кругом, и не разбираюсь.
Только и есть одно – которые невесты служат. У тех без обмана: ставка, разряд, категория… Но и тут обмишуриться можно.
Мне вот понравилась одна. Перемигнулись. Познакомились. Тары да бары, где, говорю, служите, сколько получаете? Дескать, разряд ваш и ставка?
– Служу, говорит, на складе. Ставка такая-то.
– Ну, говорю, мерси и отлично. Вы, говорю, мне нравитесь. И разряд ваш симпатичный, и ставка ничего себе. Будем знакомы.
Стали мы с ней кинематографы посещать. Плачу я. Посещали неделю или две – ультиматум ей ставлю: вводите, говорю, в дом.
Ввела в дом. Ну, конечно, в доме старушка-мамочка. Папашка – этакий старый революционер. Дочь – невеста, и при ней я – жених вроде бы.
Дальше – больше. Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю: дескать, как им живется, не туго ли? Не придется ли, оборони Создатель, помогать?
– Нет, – отвечает, – насчет помощи нам не надо. А что до приданого, не совру, – приданого нету. Хотя бельишко и полдюжины ложек можно отсыпать.
– Ах, – говорю, – старушка, божий цветочек! Полдюжины или вся дюжина – там видно будет. Стоит ли об этом говорить раньше времени. Мне, – говорю, – ваша дочка и так нравится – все-таки разряд пятнадцатый, льготы, талоны… Это мне вроде бы приданое.
Ну, старушка, божий цветочек, – в слезы. И папочка, старый революционер, прослезился.
– Что ж, – говорит, – женись, милый, если так.
Ну, обручение. Разговоры. Вздохи.
А старушка, божий цветочек, насчет церкви намекает. Неплохо бы, дескать, в церкви окрутиться.
А я говорю:
– Окрутимся и так. Я, – говорю, – старый революционер. Не дожидаясь чистки, ушел из партии. Не могу идти против своей совести. Не настаивайте.
Поплакала старушка. И папаша, старый революционер, прослезился. Однако соглашаются.
Женились мы.
По утрам молодая, красивая супруга отбывает на службу, а в четыре – назад возвращается. А в руках у ей сверток.
Ну, конечно, снова нежные речи – дескать, вставай, Гриша, пролежни пролежишь.
И опять слезы от счастья и медовый месяц.
И вот длится эта дискуссия два месяца по новому стилю.
Но только однажды приходит молодая, красивая супруга без свертка и вроде рыдает.
– О чем, – говорю, – рыдаете, не потеряли ли свертка, оборони Создатель?
– Да нет, – говорит, – что значит сверток? Уволили меня по сокращению.
– Да что вы, – говорю, – помилуйте!
– Да, – говорит.
– Позвольте, – говорю, – я от вас приданого не требую, но, – говорю, – я на службу ориентировался.
А молодая супруга неутешна.
– Да, – говорит, – уволили, как замужнюю.
– Помилуйте, – говорю, – да я сам на вашу службу пойду, объяснюсь. Это немыслимо.
И вот надел я поскорее штаны и вышел.
Прихожу. Заведующий – этакий старый революционер с бородкой.
Я ему, подлецу, объясняю всю подноготную, а он уперся и говорит: ничего не знаю. Я ему про приданое, а он говорит – в семейные дела не касаюсь.
Я говорю:
– Я тоже старый революционер, с пятого года.
А он из помещения просит честью.
Попрощался с ним – и домой. Прихожу. Супруга сидит и не плачет.
– Что ж, – говорю, – плакать перестали! Я, – говорю, – на вас женился, а вы сокращаетесь?
Беру ее за руку, и идем к мамаше.
– Спасибо, – говорю, – за одолжение. Думаете, дюжину ложек дали, и баста?
Ну, старушка, божий цветочек, в слезы. И папаша, старый революционер, прослезился.
– Все, – говорит, – от Бога. Может, – говорит, – и так проживете.
Хотел я папашке за это по роже съездить, да воздержался. Еще, думаю, в суд стерва подаст.
Плюнул я другу в жилетку и вышел…
А теперь я развелся и ищу невесту…
1923
Неизвестный друг
Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте. И жил хорошо. Богато. Хозяйство, и гардероб, и сундуки, полные добра… Было у него даже два самовара. А утюгов и не счесть – штук пятнадцать.
Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить, в смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил. А то, думает, в его отсутствие разворуют вещички.
Ну а однажды получил Петр Петрович письмо по почте. Письмо секретное. Без подписи. Пишет кто-то:
«Эх, ты, – пишет, – старый хрен, степа – валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Жена-то твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем. Как я есть твой неизвестный друг и все такое, то сообщаю: ежели ты, старый хрен, придешь в Сад трудящихся в семь часов вечера в субботу, двадцать девятого июля, то глазами удостоверишься, какая есть твоя супруга гулящая бабочка. Протри глаза, старый хрен. С глубоким почтением «Неизвестный друг».
Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. Стал вспоминать, как и что. И вспомнил: получила Катерина Васильевна два письма, а от кого – не сказала. И вообще вела себя подозрительно: к мамаше зачастила и денег требовала на мелкие расходы.
«Ну клюква! – подумал Петр Петрович. – Пригрел я змею… Но ничего, не позволю над собой насмехаться. Выслежу, морду набью – и разговор весь».
В субботу, двадцать девятого июля, Петр Петрович сказался больным. Лег на диван и следит за супругой. А та – ничего, хозяйством занимается. Но к вечеру говорит:
– Мне, – говорит, – Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, – говорит, – мамаша опасно захворала.
И сама нос пудрой, шляпку на затылок и пошла.
Петр Петрович поскорей оделся, взял в левую руку палку, надел калоши – и следом за женой.
Пришел в Сад трудящихся, воротничок поднял, чтоб не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит – у фонтана супруга сидит и в даль всматривается. Подошел.
– А, говорит, – здравствуйте. Любовника ожидаете? Так-с, вам, – говорит, – Катерина Васильевна, морду набить мало…
Та в слезы.
– Ах, – говорит, – Петр Петрович, Петр Петрович! Не подумайте худого… Не хотела я вам говорить, но приходится…
И с этими словами вынимает она из рукава письмо.
А в письме, в печальных тонах, написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в Сад трудящихся в субботу, двадцать девятого июля.
– Странно, – говорит. – Кто же пишет?
– Я не знаю, – отвечает Катерина Васильевна. – Я пожалела и пришла. А какой это человек – я не знаю.
– Так-с, – говорит Петр Петрович, – пришла. А ежели пришла, так и сиди и не двигайся. Я, – говорит, – за фонтан спрячусь. Посмотрю, что за фигура. Я, – говорит, – намну ему бока.
Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит. А супруга напротив – бледная и еле дышит. Час проходит – никого. Еще час – опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана.
– Ну, – говорит, – не хнычьте, Катерина Васильевна. Тут, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли… Нагулялись… Не ваш ли братец-подлец подшутил?
Покачала головой Катерина Васильевна.
– Нет, – говорит, – тут что-нибудь серьезное. Может, неизвестный человек испугался вас и не подошел.
Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел.
И вот приезжают супруги домой. А дома – разгром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет – грабеж. А на стене булавкой пришпилена записка:
«Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из дома не вытащишь. Сидят, как сычи… А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруге твоей – наше нижайшее с кисточкой и с огурцом пятнадцать».
Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, как маленькие.
1923
Агитатор
Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.
– Ну что ж, товарищ Косоносов, – говорили ему приятели перед отъездом, – поедете, так уж вы, того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается… Может, мужички на аэроплан сложатся.
– Это будьте уверены, – говорил Косоносов, – поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу.
В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в Совет.
– Вот, – сказал он, – желаю поагитировать. Как я есть приехавши из города, так нельзя ли собрание собрать?
– Что ж, – сказал председатель, – валяйте, завтра соберу мужичков.
На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.
Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом:
– Так вот, этого… – сказал Косоносов, – авияция, товарищи крестьяне… Как вы есть народ, конечно, темный, то, этого, про политику скажу… Тут, скажем, Германия, а тут Китай. Тут Россия, а тут… вообще…
– Это ты про что, милый? – не поняли мужички.
– Про что? – обиделся Косоносов. – Про авияцию я. Развивается, этого, авияция… Тут Россия, а тут Китай.
Мужички слушали мрачно.
– Не задерживай! – крикнул кто-то сзади.
– Я не задерживаю, – сказал Косоносов. – Я про авияцию… Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю…
– Непонятно! – крикнул председатель. – Вы, товарищ, ближе к массам…
Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал:
– Так вот, этого, товарищи крестьяне… Строят еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится – бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь…
– Не птица ведь, – сказали мужики.
– Я же и говорю, – обрадовался Косоносов поддержке, – известно – не птица. Птица – та упадет, ей хоть бы хрен – отряхнулась и дальше… А тут на-кась, выкуси… Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иваныч Попков. Полетел, все честь честью, бац – в моторе порча… Как бабахнет…
– Ну? – спросили мужики.
– Ей-богу… А то один на деревья сверзился. И висит, что маленький. Испужался, блажит, умора… Разные бывают случаи… А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик – и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо – разобрать невозможно… Собаки тоже, бывает, попадают.
– И лошади? – спросили мужики. – Неужто и лошади, родимый, попадают?
– И лошади, – сказал Косоносов. – Очень просто.
– Ишь черти, вред им в ухо, – сказал кто-то. – До чего додумались! Лошадей крошить… И что ж, милый, развивается это?
– Я же и говорю, – сказал Косоносов, – развивается, товарищи крестьяне… Вы, этого, соберитесь миром и жертвуйте.
– Это на что же, милый, жертвовать? – спросили мужики.
– На ероплан, – сказал Косоносов.
Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.
1923
Баба
Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое – муж и жена. Самогонщики.
– Так как же, – спрашивает судья, – значит, вы, обвиняемый, не признаете себя виноватым?
– Нету, – говорит подсудимый, – не признаю… Она во всем виновата. Она пущай и расплачивается. Я ничего не знаю про это…
– Позвольте, – удивляется судья, – как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. Не знаете даже, чем занимается ваша жена.
– Не знаю, гражданин судья… Она во всем…
– Странно, – говорит судья. – Подсудимая, что вы скажете?
– Верно уж, начальник судья, верно… Я во всем виновата… Меня и казните… Он не касается…
– Гражданка, – говорит судья, – если вы хотите выгородить своего мужа, то напрасно. Суд все равно разберет… Вы только задерживаете дело… Вы сами посудите: не могу же я вам поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает… Что, вы не живете с ним, что ли?
Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой.
– Не живу я с ней, – говорит он, – вот именно: не живу. Некоторые думают, что я живу, а я нет… Она во всем виновата…
– Верно это? – спрашивает судья у подсудимой.
– Уж верно… Меня одну казните, он не причастен.
– Вот как? – говорит судья. – Не живете… Что ж вы, характером не сошлись?
Подсудимый кивает головой.
– Характером, гражданин судья, и вообще… Она и старше меня, и…
– То есть как это старше? – спрашивает подсудимая. – Ровесники мы с ним, гражданин судья… На месяц-то всего я и старше.
– Это верно, – говорит подсудимый, – на месяц только… Это она правильно, гражданин судья… Ну а для бабы каждый месяц, что год… В сорок-то лет…
– И нету сорока. Врет он, гражданин судья.
– Ну хоть и нету, а для бабы и тридцать девять – возраст. И волос все-таки седой к сорока-то, и вообще…
– Что вообще? – возмущается подсудимая. – Ты договаривай! Нечего меня перед народом страмить. Что вообще?
Судья улыбается.
– Ничего, Марусечка… Я только так. Я говорю – вообще… и кожа уж не та, и морщинки, ежели, скажем, в сорок-то лет… Не живу я с ней, гражданин судья…
– Ах, вот как! – кричит подсудимая. – Кожа тебе не по скусу? Морщинки тебе, морда собачья, не ндравятся? Перед народом меня страмить выдумал… Врет он, граждане судьи! Живет он со мной, сукин сын. Живет. И самогонный аппарат сам покупал… Я ж для него, для сукиного сына, кровь порчу, спасаю его, а он вот что. Страмить… Пущай вместе казнят…
Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок. Подсудимый оторопело смотрит на жену. Потом с отчаянием машет рукой.
– Баба, баба и есть, чертова баба… Пущай уж, гражданин судья… Я тоже… И я виновный. Пущай уж… У-у, стерва…
Судья совещается с заседателями.
1923
Любовь
Вечеринка кончилась поздно.
Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:
– Обождите, радость моя… Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле… Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете… Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши… Так ведь и захворать можно по морозу…
– Нет, – сказала Машенька, надевая калоши. – И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?
– Так я вспотевши же, – говорил Вася, чуть не плача.
– Ну, одевайтесь!
Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.
Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.
– Ах, какая вы неспокойная дамочка, – сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. – Не будь вы, а другая – ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.
Машенька засмеялась.
– Вот вы смеетесь и зубки скалите, – сказал Вася, – а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу…
– Да бросьте вы, – сказала Машенька, – посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!
– Да, замечательная красота, – сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. – Действительно, очень красота… Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства… Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу… Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку – ударюсь.
– Ну, поехали, – сказала Машенька не без удовольствия.
– Ей-богу, ударюсь. Желаете?
Парочка вышла на Крюков канал.
– Ей-богу, – снова сказал Вася, – хотите вот – брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать…
Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.
– Ах! – закричала Машенька. – Вася! Что вы!
Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.
– Что разорались? – тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.
Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.
Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.
– Ну, ты, мымра, – сказал человек глухим голосом. – Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь – стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!
– Па-па-па, – сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?
– Ну! – Человек потянул за борт шубы.
Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.
– И сапоги тоже сымай! – сказал человек. – Мне и сапоги требуются.
– Па-па-па, – сказал Вася, – позвольте… мороз…
– Ну!
– Даму не трогаете, а меня – сапоги снимай, – проговорил Вася обидчивым тоном, – у ей и шуба и калоши, а я сапоги снимай.
Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:
– С ее снимешь, понесешь узлом – и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?
Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.
– У ей и шуба, – снова сказал Вася, – и калоши, а я отдувайся за всех…
Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:
– Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься – пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка…
Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез.
Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.
– Дождались, – сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. – Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?
Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:
– Караул! Грабят!
Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.
1924
Жених
На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще повезло человеку.
Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом – никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из Местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.
Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.
Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха.
– Так как же ты, Егорка, сватался-то? – спрашивали мужики, подмигивая.
– Да так уж, – говорил Егорка, – обмишурился.
– Заторопился, что ли?
– Заторопился, – говорил Егорка. – Время было, конечно, горячее – тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтре ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.
– Ну, – говорю я ей, – спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, – говорю, – до осени, а осенью помирайте.
А она отмахивается.
Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:
– Медицина, – говорит, – бессильна что-либо предпринять. Не иначе как помирает ваша бабочка.
– От какой же, – спрашиваю, – болезни? Извините за нескромный вопрос.
– Это, – говорит, – медицине опять-таки неизвестно.
Дал все-таки лекарь порошки и уехал.
Положили мы порошки за образа – не помогает. Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.
Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее – тут и носить, тут и косить, а без бабы немыслимо. Чего делать – неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.
Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.
Приезжаю в Местечко. Хожу по знакомым.
– Время, – говорю, – горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, – говорю, – среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, – говорю, – женитьбой.
– Есть, – говорят, – конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, – говорят, – к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете.
Вот я и пошел.
Прихожу. Смотрю – сидит на сундуке баба и ногу чешет.
– Здравствуйте, – говорю. – Перестаньте, – говорю, – чесать ногу – дело есть.
– Это, – отвечает, – одно другому не мешает.
– Ну, – говорю, – время горячее, спорить с вами много не приходится, вы да я – нас двое – третьего не требуется, окрутимся, – говорю, – и завтра выходите на работу снопы вязать.
– Можно, – говорит, – если вы мной интересуетесь.
Посмотрел я на нее. Вижу – бабочка ничего, что надо, плотная и работать может.
– Да, – говорю, – интересуюсь, конечно. Но, – говорю, – ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?
– А лет, – отвечает, – не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать – не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.
– Ну, – говорю, – время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.
– Нет, – говорит, – не вру, за вранье Бог накажет. Собираться, что ли?
– Да, – говорю, – собирайтесь. А много ли имеете вещичек?
– Вещичек, – говорит, – не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.
Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.
Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает – как жить будет да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить – три года не хожено.
Наконец приехали.
– Вылезайте, – говорю.
Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает – боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу-ты, думаю, глупость какая!
– Что вы, – говорю, – бабочка, вроде бы хромаете?
– Да нет, – говорит, – это я так, кокетничаю.
– Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, – говорю, – в хозяйстве хромать не требуется.
– Да нет, – говорит, – это маленько на левую ногу. Полвершка, – говорит, – всего и нехватка.
– Пол, – говорю, – вершка или вершок – это, – говорю, – не речь. Время, – говорю, – горячее – мерить не приходится. Но, – говорю, – это немыслимо. Это и воду понесете – расплескаете. Извините, – говорю, – обмишурился.
– Нет, – говорит, – дело заметано.
– Нет, – говорю, – не могу. Все, – говорю, – подходит: и мордоворот ваш мне нравится, и лета – одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините – промигал ногу.
Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.
Съездила она мне раз или два по морде – не считал, а после и говорит:
– Ну, – говорит, – стручок, твое счастье, что заметил. Вези, – говорит, – назад.
Сели мы в телегу и поехали.
Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.
«Время, – думаю, – горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развозить невест по домам».
Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку – и к лесу.
А на этом дело кончилось.
Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.
1924
Счастье
Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.
С тех пор как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.
Иные шуточкой на это отделываются – дескать, живу – хлеб жую. Иные врать начинают – дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.
И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.
– Счастье-то? – спросил он меня. – А как же, – обязательно счастье было.
– Ну, и что же, – спросил я, – большое счастье было?
– Да уж большое оно или оно маленькое – неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось.
Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.
– А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите родила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.
Ну а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сижу и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.
И только я так подумал – слышу разные возгласы. Оборачиваюсь – хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть.
– Нету, – кричит, – вашему брату солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.
А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.
– Я, – кричит, – такой же, как и вы. Желаю за столик присесть.
Ну, посетители помогли – выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло. И теку.
А стекло зеркальное – четыре на три, и цены ему нету.
У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.
– Что ж это, – кричит, – граждане! Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье – два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, и без стекла посетители обижаются.
А посетители действительно обижаются:
– Дует, – говорят, – из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.
Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.
– Я, – говорю, – любезный коммерсант, стекольщик.
Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:
– А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?
– Нету, – говорю, – любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.
– Что ты, – говорит хозяин, – объелся? Садись, – говорит, – обратно за столик и пей чай. За такую, – говорит, – сумму я лучше периной заткну отверстие.
И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.
И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются – дескать, темно и некрасиво чай пить.
А один, спасибо, встает и говорит:
– Я, – говорит, – на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?
Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.
Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.
Прибегаю в стекольный магазин – магазин закрывается. Умоляю и прошу – впустили.
И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску – пять, итого сорок.
И вот стекло вставлено.
Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после – рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь – на них пей, хочешь – на что хочешь.
Эх и пил же я тогда. Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.
– Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было.
Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.
Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было.
Впрочем, может, я не заметил.
1924
Не надо иметь родственников
Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника, Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил.
Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит – что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич – да! Так и есть – Серега Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах.
– Ну! – закричал Тимофей Васильевич. – Серега! Ты ли это, друг ситный?
Кондуктор сконфузился, поправил, без всякой видимой нужды, катушки с билетиками и сказал:
– Сейчас, дядя… билеты додам только.
– Ладно! Можно, – радостно сказал дядя. – Я обожду.
Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам:
– Это он мне родной родственник, Серега Власов. Брата Петра сын… Я его семь лет не видел… сукинова сына…
Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему:
– А я тебя, Серега, друг ситный, два дня ищу. По городу роюсь. А ты вон где! Кондуктором. А я и по адресу ходил. На Разночинную улицу. Нету, отвечают. Мол, выбыл с адреса. Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной родственник. Не знаем, говорят… А ты вон где – кондуктором, что ли?
– Кондуктором, – тихо ответил племянник.
Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя счастливо смеялся и с любовью смотрел на племянника, а племянник явно конфузился и, чувствуя себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, что ему говорить и как вести себя с дядей.
– Так, – снова сказал дядя, – кондуктором, значит. На трамвайной линии?
– Кондуктором…
– Скажи какой случай! А я, Серега, друг ситный, сел в трамвай, гляжу – что такое? Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь-восемь!.. Ну, я же рад… Ну, я же доволен…
Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:
– Платить, дядя, нужно. Билет взять… Далеко ли вам?
Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.
– Заплатил бы! Ей-богу! Сядь я на другой номер или, может быть, вагон пропусти – и баста – заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь!.. А я еду, Серега, друг ситный, до вокзалу.
– Две станции, – уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.
– Нет, ты это что? – удивился Тимофей Васильевич. – Ты это чего, ты правду?
– Платить, дядя, надо, – тихо сказал кондуктор. – Две станции… Потому как нельзя дарма, без билетов, ехать…
Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника.
– Ты это что же – с родного дяди? Дядю грабишь?
Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.
– Мародерствуешь, – сердито сказал дядя. – Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требоваешь за проезд. С родного дяди? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами.
Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.
– Что же это, братцы, такое? – обратился Тимофей Васильевич к публике. – С родного дяди требует. Две, говорит, станции… А?
– Платить надо, – чуть не плача сказал племянник. – Вы, товарищ дядя, не сердитесь. Потому как не мой здесь трамвай. А государственный трамвай. Народный.
– Народный, – сказал дядя, – меня это не касается. Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить. Мол, спрячьте, дядя, ваш трудовой гривенник. Езжайте на здоровье. И не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал… Не родной кондуктор, а и тот говорит: пожалуйста, говорит, Тимофей Васильевич, что за счеты… Так садитесь… И довез… не родной… Только земляк знакомый. А ты это что – родного дядю… Не будет тебе денег.
Кондуктор вытер лоб рукавом и вдруг позвонил.
– Сойдите, товарищ дядя, – официально сказал племянник.
Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник, потом опять спрятал.
– Нет, – сказал, – не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить. Лучше пущай сойду.
Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.
– Дядю… родного дядю гонишь, – с яростью сказал Тимофей Васильевич. – Да я тебя, сопляка… Я тебя, сукинова сына… Я тебя расстрелять за это могу. У меня много концов…
Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая.
1924
Крестьянский самородок
Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется – Овчинников. А имя у него было простое – Иван Филиппович.
Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.
Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или газетку.
– Хотя бы одну штуковину напечатали, – говорил Иван Филиппович. – Охота посмотреть, как это выглядит в печати.
Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:
– К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу… Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удют, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю… Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка… Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.
Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.
– С рифмами я стихотворения не пишу, – признавался Иван Филиппович. – Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно – один черт, что с рифмой, что и без рифмы.
Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил – не брали…
Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:
– Ну как? Не берут?
– Не берут, Иван Филиппович.
– Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пущай не сомневаются – чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были – все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало, даже смех кругом стоит: «Да чего вы, говорят, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других…» – «Нету, говорим, знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пущай не сомневаются…
– Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.
– Ну, это уж они тово, – возмущался Иван Филиппович. – Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись… Как это не созвучные, раз я сыздетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка… За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пущай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пущай хотя одну штуковину возьмут.
Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.
Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.
И, наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.
– Ага, – сказал я, – поэмку принесли?
– Поэмку принес, – добродушно подтвердил Иван Филиппович, – очень сильная поэмка вышла… Два дня писал… Как прорвало. Удержу нет…
– С чего бы это?
– Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье…
– Вдохновенье! – сказал я. – Стишки пишешь… Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы…
Иван Филиппович оживился и просиял.
– Дайте, – сказал он. – Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти…
– То есть как? – удивился я. – А поэзия?
– Какая поэзия, – сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. – Жрать надо… Поэзия!.. Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти… Поэзия…
Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.
А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.
Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики – поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».
1924
Честный гражданин
(Письмо в милицию)
Состоя, конешно, на платформе, сообщаю, что квартира № 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет окромя того с трудящихся три шкуры. А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы одной копейки, то в долг нипочем не доверяет и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихает в спину.
А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира № 8 тоже, без сомнения, подозрительна по самогону, в каковой вкладывают для скусу, что ли, опенки или, может быть, пельсинные корки, отчего блюешь сверх нормы. А в долг, конешно, тоже не доверяют. Хушь плачь!
А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне и в помещение, чисто ли варят, не впущает. А в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на потребителя и рвет ноги. Эта пудель, холера ей в бок, и мене ухватила за ноги. А когда я размахнулся посудой, чтоб эту пудель, конешно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит:
– На, – говорит, – идол, обратно деньги. Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь.
А я, если на то пошло, эту пудель не мучил, а размахивался посудой.
– Что вы, – говорю, – вредная гражданка! Я, – говорю, – не трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно. – Я говорю: – Недопустимо, чтоб пудель рвал ноги. За что боролись?
А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые и упали у плите. Деньги лежат у плите, а ихняя пудель насуслила их и не подпущает. Хушь плачь.
Тогда я, действительно, не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых один рубль насуслин и противно взять в руки, а с другого – объеден номер, и госбанк не принимает. Хушь плачь.
Тогда я обратно, не отрицаю, пихнул пудель в грудку и поскорее вышел.
А теперича эта вредная гражданка меня в квартиру к себе не впущает и дверь все время, и когда не сунься, на цепке содержит. И еще, стерва, плюется через отверстие, если я, например, подошедши. А когда я на плевки ихние размахнулся, чтоб тоже по роже съездить или по чем попало, то она, с перепугу, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть.
Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутре. Даже до слез обидно. О чем имею врачебную записку и, окромя того, кровь и теперя текеть, если, например, ежедневно сдирать болячки.
А еще, окромя этих подозрительных квартир, сообщаю, что трактир «Веселая Долина» тоже, без сомнения, подозрителен. Там мене ударили по морде и запятили в угол.
– Плати, – говорят, – собачье жало, за разбитую стопку.
А я ихнюю стопку не бил, и вообще очень-то нужно мне бить ихние стопки.
– Я, – говорю, – не бил стопку. Допустите, – говорю, – докушать бутерброть, граждане.
А они мене тащат и тащат и к бутербротю не подпущают. Дотащили до дверей и кинули. А бутерброть лежит на столе. Хушь плачь.
А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается.
Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите.
Теперича еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе и против долой дурман, хоша и уволен по сокращению за правду.
А еще прошу, чтоб трактир «Веселую Долину» пока чтоб не закрывали. Как я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре, без сомнения, поправлюсь и двинусь. Бутерброть тоже денег стоит.
1924
Пациентка
В сельскую больницу Анисья приехала за тридцать верст.
Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.
– Хирург-то принимает? – спросила она мужика, сидевшего на крыльце.
– Хирург-то? – с интересом спросил мужик. – А ты не больна ли будешь?
– Больна, – ответила Анисья.
– Я, милая, тоже больной, – сказал мужик. – Пшеном объелся… Седьмым записан.
Анисья привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.
Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом.
Анисья вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.
– Больна, что ли? – спросил Иван Кузьмич.
– Больна я, – сказала Анисья. – То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.
– С чего бы это? – равнодушно спросил фельдшер. – С каких пор?
– С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Димитрий Наумыч приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Димитрий Наумыч любил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь, Димитрий Наумыч-то? В городе он советский депутат…
– Позволь, бабонька, – сказал фельдшер, – ври, да не завирайся. Чем больна-то?
– Да я ж и говорю, – сказала Анисья, – стою возле стола, кручу лепешки… Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. «Иди, кричит, Анисьюшка, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет будто по улице с мешком и с палкой». Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою дурой и лепешки мну… Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый теленок стоит и хвостишкой мух пугает. Взглянула я на теленка – слезы каплют. Вот, думаю, Димитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому теленку…
– Позволь, – хмуро сказал фельдшер, – ты дело говори.
– Я ж и говорю, батюшка, Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю… Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли, – налево церковь, коза ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой серединке, гляжу – Димитрий Наумыч идет. Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная, Пресвятая Богородица! Ой, думаю, тошненько!
А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по воздуху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах… Как увидела я штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский… Встала я дурой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою. А он-то, Димитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.
«Здравствуйте, говорит, Анисья Васильевна. Сколько, говорит, лет, сколько зим не виделись с вами…»
Мне бы, дуре, мешок у Димитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь. Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.
А Димитрий Наумыч отвечает басом:
«Ох, говорит, какая ты есть. Темная, говорит, ты у меня, Анисья Васильевна. Про что, говорит, я с тобой теперь разговаривать буду? Я, говорит, человек просвещенный и депутат советский. Я, говорит, может, четыре правила арифметики знаю. Дробь, говорит, умею… А ты, говорит, вон какая! Небось, говорит, и фамилию не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность».
А я стою у плетня и лепечу слова: дескать, конечно, Димитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит.
А он берет меня за ручку и отвечает:
«Я шутку пошутил, Анисья Васильевна. Оставьте думать. Я, говорит, это так. Что вы…»
Снова закатилось у меня сердце, икота подступает.
«Я, говорю, Димитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию на бумаге подписывать. Я, говорю, не осрамлю вас, образованного…»
Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.
– Ну, ну, – сказал он, – хватит, завралась… Чем болеешь-то?
– Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче будто стало теперь. На здоровье не могу пожаловаться… А он-то, Димитрий Наумыч, говорит: «Пошутил, говорит, я». Вроде как, значит, шутку он выразил.
– Ну да, пошутил, – сказал фельдшер. – Конечно, пошутил… Порошков, может, тебе дать?
– А не надо, – сказала Анисья. – Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне, конечно, теперь сильно полегчало. Чувствительно спасибо. Досвиданьице.
И Анисья, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.
– Дробь-то мне, Иван Кузьмич… Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?
– К учителю, – сказал фельдшер, вздыхая, – конечно, к учителю. Медицины это не касается.
Анисья низко поклонилась и вышла на улицу.
1924
Баня
Говорят, граждане, в Америке бани отличные.
Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет – мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.
Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:
– Гут бай, дескать, присмотри.
Только и всего.
Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают – стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, заплатаны. Житьишко!
А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.
У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку) – дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.
А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать – некуда. Карманов нету. Кругом – живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.
Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.
Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.
Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.
Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает.
– Ты что ж это, – говорит, – чужие шайки воруешь? Как ляпну, – говорит, – тебе шайкой между глаз – не зарадуешься.
Я говорю:
– Не царский, – говорю, – режим шайками ляпать. Эгоизм, – говорю, – какой. Надо же, – говорю, – и другим помыться. Не в театре, – говорю.
А он задом повернулся и моется.
«Не стоять же, – думаю, – над его душой. Теперича, – думаю, – он нарочно три дня будет мыться».
Пошел дальше.
Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался – не знаю. А только тую шайку я взял себе.
Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться – какое же мытье? Грех один.
Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.
А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся – опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки – мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.
«Ну их, – думаю, – в болото. Дома домоюсь».
Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу – все мое, штаны не мои.
– Граждане, – говорю. – На моих тут дырка была. А на этих эвон где.
А банщик говорит:
– Мы, – говорит, – за дырками не приставлены. Не в театре, – говорит.
Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают – номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок – нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.
Подаю банщику веревку – не хочет.
– По веревке, – говорит, – не выдаю. Это, – говорит, – каждый гражданин настрижет веревок – польт не напасешься. Обожди, – говорит, – когда публика разойдется – выдам, какое останется.
Я говорю:
– Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, – говорю. – Выдай, говорю, по приметам. Один, – говорю, – карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, – говорю, – верхняя есть, нижних же не предвидится.
Все-таки выдал. И веревки не взял.
Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.
Вернулся снова. В пальто не впущают.
– Раздевайтесь, – говорят.
Я говорю:
– Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, – говорю. – Выдайте тогда хоть стоимость мыла.
Не дают.
Не дают – не надо. Пошел без мыла.
Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?
Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.
1924
Нервные люди
Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.
Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.
Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.
Оно, конечно, после Гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.
А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.
Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.
Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!»
И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.
Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:
– Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.
Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:
– Пожалуйста, – отвечает, – подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, – говорит, – до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.
Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.
Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.
Так является этот Иван Степаныч и говорит:
– Я, – говорит, – ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, – говорит, – покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, – говорит, – на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.
Тут снова шум, и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.
– Что это, – говорит, – за шум, а драки нету?
Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.
А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать – троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду – с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.
А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:
– Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.
Гаврилыч говорит:
– Пущай, – говорит, – нога пропадает! А только, – говорит, – не могу я теперича уйти. Мне, – говорит, – сейчас всю амбицию в кровь разбили.
А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.
Инвалид – брык на пол и лежит. Скучает.
Тут какой-то паразит за милицией кинулся.
Является мильтон. Кричит:
– Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!
Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.
«Вот те, – думают, – клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»
Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.
Через две недели после этого факта суд состоялся.
А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался – прописал ижицу.
1924
Хозрасчет
На праздниках бухгалтер Горюшкин устроил у себя званый обед. Приглашенных было немного.
Хозяин с каким-то радостным воплем встречал гостей в прихожей, помогал снимать шубы и волочил приглашенных в гостиную.
– Вот, – говорил он, представляя гостя своей жене, – вот мой лучший друг и сослуживец.
Потом, показывая на своего сына, говорил:
– А это, обратите внимание, балбес мой… Лешка. Развитая бестия, я вам доложу.
Лешка высовывал свой язык, и гость, слегка сконфуженный, присаживался к столу.
Когда собрались все, хозяин, с несколько торжественным видом, пригласил к столу.
– Присаживайтесь, – говорил он радушно. – Присаживайтесь. Кушайте на здоровье… Очень рад… Угощайтесь.
Гости дружно застучали ложками.
– Да-с, – после некоторого молчания сказал хозяин, – все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись – кусается. Червонец скачет, цены скачут.
– Приступу нет, – сказала жена, печально глотая суп.
– Ей-богу, – сказал хозяин, – прямо-таки нету приступу. Вот возьмите такой пустяк – суп. Дрянь. Ерунда. Вода вроде бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водица стоит?
– М-да, – неопределенно сказали гости.
– В самом деле, – сказал хозяин. – Возьмите другое – соль. Дрянь продукт, ерунда сущая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоит.
– Да-а, – сказал балбес Лешка, гримасничая, – другой гость как начнет солить, тык тока держись.
Молодой человек в пенсне, перед тем посоливший суп, испуганно отодвинул солонку от своего прибора.
– Солите, солите, батюшка, – сказала хозяйка, придвигая солонку.
Гости напряженно молчали. Хозяин со вкусом ел суп, добродушно поглядывая на своих гостей.
– А вот и второе подали, – объявил он оживленно. – Вот, господа, возьмите второе – мясо. А теперь позвольте спросить, какая цена этому мясу? Нуте-ка? Сколько тут фунтов?
– Четыре пять осьмых, – грустно сообщила жена.
– Будем считать пять для ровного счету, – сказал хозяин. – Нуте-ка, по полтиннику золотом? Это, это на человека придется… сколько нас человек?..
– Восемь, – подсчитал Лешка.
– Восемь, – сказал хозяин. – По полфунта… По четвертаку с носа минимум.
– Да-а, – обиженно сказал Лешка, – другой гость мясо с горчицей жрет.
– В самом деле, – вскричал хозяин, добродушно засмеявшись, – я и забыл – горчица… Нуте-ка, прикиньте к общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набежит…
– Да-а, по рублю, – сказал Лешка, – а небось, когда Пал Елисеевич локтем стеклище выпер, тык небось набежало…
– Ах да! – вскричал хозяин. – Приходят, представьте себе, к нам раз гости, а один, разумеется нечаянно, выбивает зеркальное стекло. Обошелся нам тогда обед. Мы нарочно подсчитали.
Хозяин углубился в воспоминания.
– А впрочем, – сказал он, – и этот обед вскочит в копеечку. Да это можно подсчитать.
Он взял карандаш и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съеденное. Гости сидели тихо, не двигаясь, только молодой человек, неосторожно посоливший суп, поминутно снимал запотевшее пенсне и обтирал его салфеткой.
– Да-с, – сказал наконец хозяин, – рублей по пяти с хвостиком…
– А электричество? – возмущенно сказала хозяйка. – А отопление? А Марье за услуги?
Хозяин всплеснул руками и, хлопнув себя по лбу, засмеялся.
– В самом деле, – сказал он, – электричество, отопление, услуги… А помещение? Позвольте, господа, в самом деле, помещение! Нуте-ка – восемь человек, четыре квадратные сажени… По девяносто копеек за сажень… В день, значит, три копейки… Гм… Это нужно на бумаге…
Молодой человек в пенсне заерзал на стуле и вдруг пошел в прихожую.
– Куда же вы? – закричал хозяин. – Куда же вы, голубчик, Иван Семенович?
Гость ничего не сказал и, надев чьи-то чужие калоши, вышел не прощаясь. Вслед за ним стали расходиться и остальные.
Хозяин долго еще сидел за столом с карандашом в руках, потом объявил:
– По одной пятой копейки золотом с носа.
Объявил он это жене и Лешке – гостей не было.
1924
Паутина
Вот говорят, что деньги сильней всего на свете. Вздор. Ерунда.
Капиталисты для самообольщения все это выдумали.
Есть на свете кое-что покрепче денег.
Двумя словами об этом не рассказать. Тут целый рассказ требуется.
Извольте рассказ.
Высокой квалификации токарь по металлу, Иван Борисович Левонидов, рассказал мне его.
– Да, дорогой товарищ, – сказал Левонидов, – такие дела на свете делаются, что только в книгу записывай.
Появился у нас на заводе любимчик – Егорка Драпов. Человек он арапистый. Усишки белокурые. Взгляд этакий вредный. И нос вроде перламутровой пуговицы.
А карьеру между тем делает. По службе повышается, на легкую работу назначается и жалованье получает по высшему разряду.
Мастер с ним за ручку. А раз даже, проходя мимо Егорки Драпова, мастер пощекотал его пальцами и с уважением таким ему улыбнулся.
Стали рабочие думать, что и почему. И за какие личные качества повышается человек.
Думали, гадали, но не разгадали и пошли к инженеру Фирсу.
– Вот, – говорим, – любезный отец, просим покорнейше одернуть зарвавшегося мастера. Пущай не повышает своего любимца Егорку Драпова. И пальцем пущай не щекотит, проходя мимо.
Сначала инженер, конечно, испугался – думал, что его хотят выводить на свежую воду, но после обрадовался.
– Будьте, – говорит, – товарищи, благонадежны. Зарвавшегося мастера одерну, а Егорку Драпова в другое отделение переведу.
Проходит между тем месяц. Погода стоит отличная. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А любимчик – Егорка Драпов – карьеру между тем делает все более заманчивую.
И не только теперь мастер, а и сам любимый спец с ним похохатывает и ручку ему жмет.
Ахнули рабочие. И я ахнул.
«Неужели же, – думаем, – правды на земле нету? Ведь за какие же это данные повышается человек и пальцами щекотится мастером?»
Пошли мы небольшой группой к красному директору Ивану Павловичу.
– Вы, – говорим, – который этот и тому подобное. Да за что же, – говорим, – такая несообразность?
А красный директор, нахмурившись, отвечает:
– Я, – говорит, – который этот и тому подобное. Я, – говорит, – мастера и спеца возьму под ноготь, а Егорку Драпова распущу, как собачий хвост. Идите себе, братцы, не понижайте производительность.
И проходит месяц – Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду. Балуют его, и милуют, и ручку со всех сторон наперерыв ему жмут. И директор жмет, и спец жмет, и сам мастер, проходя мимо, щекотит Егорку Драпова.
Взвыли тут рабочие, пошли всей гурьбой к рабкору Настину. Плачутся:
– Рабкор ты наш, золото, драгоценная головушка. Ругали мы тебя, и матюкали, и язвой называли: мол, жалобы зачем в газету пишешь. А теперича, извините и простите… Выводите Егорку Драпова на свежую воду.
– Ладно, – сказал Настин. – Это мы можем, сейчас поможем. Дайте только маленечко сроку, погляжу, что и как и почему человек повышается. Хвост ему накручу – будьте покойны.
И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. Птички по воздуху порхают и бабочки крутятся.
А Егорка Драпов цветет жасмином и даже пестрой астрой распушается.
И даже рабкор Настин, проходя однажды мимо, пощекотал Егорку и дружески ему так улыбнулся.
Собрались тут рабочие обсуждать. Говорили, говорили – языки распухли, а к результату не пришли.
И тут я, конечно, встреваю в разговор.
– Братцы, – говорю, – я, – говорю, – первый гадюку открыл, я ее и закопаю. Дайте срок.
И вдруг на другой день захожу я в Егоркино отделение и незаметно становлюсь за дверь. И вижу. Мастер домой собирается, а Егорка Драпов крутится перед ним мелким бесом и вроде как тужурку подает.
– Не застудитесь, – говорит, – Иван Саввич. Погодка-то, – говорит, – страсть неблагоприятная.
А мастер Егорку по плечу стукает и хохочет.
– А и любишь, – говорит, – ты меня, Егорка, сукин сын.
А Егорка Драпов почтительно докладывает:
– Вы, – говорит, – мне, Иван Саввич, вроде как отец родной. И мастер, – говорит, – вы отличный. И личностью, – говорит, – очень, – говорит, – вы мне покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиков не было.
А мастер пожал Егоркину ручку и пошел себе.
Только я хотел из-за двери выйти, шаг шагнул – рабкор Настин прется.
– А, – говорит, – Егорушка, друг ситный! Я, – говорит, – знаешь ли, такую давеча заметку написал – ай-люли.
А Егорка Драпов смеется.
– Да уж, – говорит, – ты богато пишешь. Пушкин, – говорит, – и Гоголь дерьмо против тебя.
– Ну спасибо, – говорит рабкор, – век тебе не забуду. Хочешь, тую заметку прочту?
– Да чего ее читать, – говорит Егорка, – я, – говорит, – и так, без чтения в восхищении.
Пожали они друг другу ручки и вышли вместе. А я следом.
Навстречу красный директор прется.
– А, – говорит, – Егорка Драпов, наше вам… Ну-ка, – говорит, – погляди теперича, какие у меня мускулы.
И директор рукав свой засучил и показывает Егорке мускулы.
Нажал Егорка пальцем на мускулы.
– Ого, – говорит, – прибавилось.
– Ну спасибо, – говорит директор, – спасибо тебе, Егорка.
Тут оба-два – директор и рабкор – попрощались с Егоркой и разошлись.
Догоняю я Егорку на улице, беру его, подлеца, за руку и отвечаю:
– Так, – говорю, – любезный. Вот, – говорю, – какие паутины вы строите.
А Егорка Драпов берет меня под руку и хохочет.
– Да брось, – говорит, – милый… Охота тебе… Лучше расскажи, как живешь и как сынишка процветает.
– Дочка, – говорю, – у меня, Егорка. Не сын. Отличная, – говорю, – дочка. Бегает…
– Люблю дочек, – говорит Егорка. – Завсегда, – говорит, – любуюсь на них и игрушки им жертвую…
И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду.
А вчера, проходя мимо, пощекотал я Егорку Драпова.
Черт с ним. Хоть, думаю, и подлец, а приятный человек.
Полюбил я Егорку Драпова.
1924
Альфонс
– Папаша мой, надо сказать, был торговцем, – сказал Иван Иванович Гусев. – При царском режиме папаша торговали в Дерябинском рынке… Ну а теперича через эту папашу мне форменная труба получается. Потому не приткнуться. Не берут в государственную службу. Что касается свободных профессий или там какого отхожего промысла, то этого тоже не горазд много.
Мне вот случилась на днях работишка, вроде отхожий промысел, – не сумел воспользоваться.
А промысел этот предложила девица одна. Кет – заглавие. Соседка. Рядом жили.
Так – ее комната, а так – моя. А перегородка тоненькая. И насквозь все слышно: и как девица домой к утру является, и как волосики свои на щипцах завивает, и как пиво пьет, и как с кавалерами на денежные темы беседует. Все насквозь слышно, только что выражения лица не видать.
А раз утром девица встала и стучит кулаком в стенку.
– Эй, – говорит, – мон шер, нет ли у вас спичек?
– Как же-с, – отвечаю через стенку, – есть. Я, – говорю, – хотя и безработный и питаюсь не ахти как, но, – говорю, – спички есть. Взойдите.
Является. В пенюаре, в безбелье, и туфельки кокетливо надеты на босу ногу.
– Здравствуйте, – говорит. – Мне завиться нужно, а спичек-то и нет. Я, – говорит, – сейчас верну вам ваши спички.
– Да уж, – говорю, – пожалуйста. Я, – говорю, – человек безработный, без образования, мне, – говорю, – не по карману спичками швыряться.
Слово за слово – разговорились.
– На какие шиши, – спрашиваю, – живете и почем за квадратную сажень вносите?
А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмысленно.
– Раз, – говорит, – вы человек безработный и голодуете, то, – говорит, – могу вам от чистого сердца работишку предоставить.
– Какую же, – спрашиваю, – работишку?
– Да, – говорит, – альфонсом.
– Можно, – говорю, – объяснитесь, – говорю, – короче.
– А очень, – говорит, – просто. Ежели, – говорит, – я в ресторан одна явлюсь – мне одна цена, а ежели я с мужчиной и мужчина вроде родственника, то цена мне другая и повышается. Вот, – говорит, – мы и будем вместе ходить. Вместе придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь: ах, дескать, Кет, у меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час придете. Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться?
– Только и всего? – спрашиваю.
– Да, – говорит. – Принарядитесь только получше. Пенсне на нос наденьте, если есть. Сегодня мы и пойдем.
– Можно, – говорю, – работа не горазд трудная.
И вот к вечеру оделся я. Пиджак надел, свитер. Пенсне на нос прилепил – откуда-то она достала. И пошли.
Входим в ресторанное зало. Присаживаемся к столику. Я говорю:
– Дозвольте очки снять. Ни черта, с непривычки, не вижу и могу со стула упасть.
А она говорит:
– Нет. Потерпите.
Сидим. Терпим. Жрать нестерпимо хочется, а вокруг жареных курей носят, даже в носу щекотно.
А она мне шепчет в ухо:
– Пора, – говорит, – уходите.
Я встаю, двигаю нарочно стулом.
– Ах, – говорю, – Кет, я тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня, – говорю, – может, родная мама захворала. Вы тут посидите. Я за вами приду.
А она головой кивает, дескать, ладно, катитесь.
Снял я очки и вышел на улицу.
Полчаса походил по улице, замерз как собака, губа на губу не попадает.
Возвращаюсь назад. Гляжу: сидит моя девица за столиком, палец-мизинец отодвинула и жрет что-то. А рядом буржуй к ней наклонился и шепчет в ушную раковину.
Подхожу.
– Ах, – говорю, – вот и я. Не пора ли, – говорю, – Кет, нам с вами домой тронуться?
А она:
– Нет, – говорит, – Пьер, я, – говорит, – еще посижу немного со знакомой личностью. А вы идите домой.
– Ну, – говорю, – как хотите. Я и один пойду.
Потоптался я, потоптался, а уходить неохота. И жрать к тому же хочется это ужасно как.
– Вот, говорю, я сейчас пойду, только, – говорю, – присяду на минуточку по-родственному и как альфонс. Замерз как собака.
Она мне глазами мигает, а мне ни к чему.
Посижу, думаю, и уйду. Не просижу, думаю, ихние стулья.
Сел и сижу. А буржуй сконфузился и перестал шептать.
Я говорю:
– Вы не стесняйтесь… Я ейный родственник, шепчитесь себе на здоровье.
А он:
– Помилуйте, – говорит, – не желаете ли портеру выкушать?
– Можно, – говорю. – Отчего, – говорю, – родственнику портеру не выпить.
Выпил я портеру и захмелел вдруг – с голоду, что ли. Принялся чью-то котлету есть.
– Не будь, – говорю, – я родственником, не стал бы я эту котлетину есть. Ну а родственнику отчего не съесть? Родственнику глаз да глаз нужен.
– Помилуйте, – говорит буржуй. – Это что за намеки вы строите?
– Да нет, – говорю, – какие же намеки? Тоже, – говорю, – ихнее дамское дело, каждый обмануть норовит. Глаз да глаз нужен.
– То есть, – говорит, – как обмануть? Как понимать ваши слова?
– Да уж, – говорю, – понимайте, как хотите. Мне, – говорю, – некогда объясняться. Мне торопиться надо. А уж вы, будьте любезны, расплатитесь по-настоящему с ней, без обману.
Надел я пенсне на нос, поклонился всем вежливо и вышел.
А теперича девица Кет в морду лезет.
Этак на каждый промысел и морды не напасешься.
1924
Актер
Рассказ этот – истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актер-любитель.
Вот что он рассказал.
«Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего.
Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.
Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики – знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь – подмигивают с партеру – дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь – дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.
Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.
Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват?». Из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.
Так вот поставили эту пьесу.
А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре до того его, бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.
Режиссер Иван Палыч мне говорит:
– Не придется, – говорит, – во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын, все лампочки. Может, – говорит, – ты заместо его сыграешь? Публика-дура – не поймет.
Я говорю:
– Я, граждане, не могу, – говорю, – к рампе выйти. Не просите. Я, – говорю, – сейчас два арбуза съел. Неважно соображаю.
А он говорит:
– Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, – говорит, – просветительной работы.
Все-таки упросили. Вышел я к рампе.
И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика хотя и дура, а враз узнала меня.
– А, – говорят, – Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы…
Я говорю:
– Робеть, граждане, не приходится – раз, – говорю, – критический момент. Артист, – говорю, – сильно под мухой и не может к рампе выйтить. Блюет.
Начали действие.
Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет.
Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов.
Отбиваюсь от них. Прямо по роже бью. Ей-богу!
– Не подходите, – говорю, – сволочи, честью прошу.
А те по ходу пьесы это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник (восемнадцать червонцев) и к часам прутся.
Я кричу не своим голосом:
– Караул, дескать, граждане, всерьез грабят.
А от этого полный эффект получается. Публика-дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит:
– Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их, дьяволов, по башкам.
Я кричу:
– Не помогает, братцы!
И сам стегаю прямо по головам.
Вижу – один любитель кровью исходит, а другие, подлецы, в раж вошли и наседают.
– Братцы, – кричу, – да что ж это? За какое самое это страдать-то приходится?
Режиссер тут с кулис высовывается.
– Молодец, – говорит, – Вася. Чудно, – говорит, – рольку ведешь. Давай дальше.
Вижу – крики не помогают. Потому чего ни крикнешь – все прямо по ходу пьесы ложится.
Встал я на колени.
– Братцы, – говорю. – Режиссер, – говорю, – Иван Палыч. Не могу больше! Спущайте занавеску. Последнее, – говорю, – сбереженье всерьез прут!
Тут многие театральные спецы – видят, не по пьесе слова – из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает.
– Кажись, – говорит, – граждане, действительно у купца бумажник свистнули.
Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли. Напоили.
– Братцы, – говорю. – Режиссер, – говорю, – Иван Палыч. Да что ж это, – говорю. – По ходу, – говорю, – пьесы ктой-то бумажник у меня вынул.
Ну, устроили обыск у любителей. А только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кулисы кинул.
Деньги так и сгинули. Как сгорели.
Вы говорите – искусство? Знаем! Играли!»
1925
Кризис
Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли. Ей-богу!
У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось – тьфу, тьфу, не сглазить!
Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина небось по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборты разрешат – то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.
Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь… Мало ли! Делов-то найдется при такой свободной жизни.
Ну а пока что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса.
Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.
Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановиться негде – вещей положить некуда.
Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами – оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу без вещей. Подыскиваю помещение.
Наконец в одном доме какой-то человечек по лестнице спущается.
– За тридцать рублей, – говорит, – могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка, – говорит, – барская… Три уборных… Ванна… В ванной, – говорит, – и живите себе. Окон, – говорит, – хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите, – говорит, – напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть цельный день.
Я говорю:
– Я, дорогой товарищ, не рыба. Я, – говорю, – не нуждаюсь нырять. Мне бы, – говорю, – на суше пожить. Сбавьте, – говорю, – немного за мокроту.
Он говорит:
– Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.
– Ну что ж, – говорю, – делать? Ладно. Рвите, – говорю, – с меня тридцать и допустите, – говорю, – скорее. Три недели, – говорю, – по панели хожу. Боюсь, – говорю, – устать.
Ну, ладно. Пустили. Стал жить.
А ванна действительно барская. Всюду, куда ни ступишь – мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в аккурат в мраморную ванну.
Устроил тогда настил из досок, живу.
Через месяц, между прочим, женился.
Такая, знаете, молоденькая, добродушная супруга попалась. Без комнаты.
Я думал, через эту ванну она от меня откажется и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:
– Что ж, – говорит, – и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, – говорит, – случае перегородить можно. Тут, – говорит, – к примеру, будуар, а тут столовая…
Я говорю:
– Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы, – говорю, – дьяволы, не дозволяют. Они и то говорят: никаких переделок.
Ну, ладно. Живем как есть.
Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребеночек рождается.
Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем – и живем.
И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок то есть ежедневно купается и совершенно не простуживается.
Одно только неудобство – по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться.
На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.
Я уж и то жильцов просил:
– Граждане, – говорю, – купайтесь по субботам. Нельзя же, – говорю, – ежедневно купаться. Когда же, – говорю, – жить-то? Войдите в положение.
А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И, в случае чего, морду грозят набить.
Ну, что ж делать – ничего не поделаешь. Живем как есть.
Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.
– Я, – говорит, – давно мечтала внука качать. Вы, – говорит, – не можете мне отказать в этом развлечении.
Я говорю:
– Я и не отказываю. Валяйте, – говорю, – старушка, качайте. Пес с вами. Можете, – говорю, – воды в ванную напустить – и ныряйте с внуком.
А жене говорю:
– Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.
Она говорит:
– Разве что братишка на рождественские каникулы…
Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.
1925
Бедность
Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а?
Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.
Дело это, не спорю, громадной важности – Советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого. Не дороже денег. Я не об этом говорю.
А вот про что.
Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего – поповской свечкой светится. Беда прямо!
А тут проводить свет стали.
Первым провел уполномоченный. Ну, провел и провел. Мужчина он тихий, вида не показывает. Но ходит все-таки странно и все время задумчиво сморкается.
Но вида еще не показывает.
А тут дорогая наша хозяюшка Елизавета Игнатьевна Прохорова приходит раз и предлагает квартиру осветить.
– Все, – говорит, – проводят. И сам, – говорит, – уполномоченный провел.
Что ж! Стали и мы проводить.
Провели, осветили – батюшки-светы! Кругом гниль и гнусь.
То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперича зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обойки отодраны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит – от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится…
Батюшки-светы! Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.
Канапе, например, такое в нашей комнате стояло. Я думал, ничего себе канапе – хорошее канапе. Сидел часто на нем по вечерам. А теперича зажег электричество – батюшки-светы! Ну и ну! Ну и канапе! Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канапе – душа протестует.
Ну, думаю, не богато я живу. Противно на все глядеть. Работа из рук падает.
Вижу, и хозяюшка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается.
– Чего, – спрашиваю, – возитесь, хозяюшка?
А она рукой машет.
– Я, – говорит, – милый человек, и не думала, что так бедновато живу.
Взглянул я на хозяйкино барахлишко – действительно, думаю, не густо: гниль, и гнусь, и тряпицы разные. И все это светлым светом залито и в глаза бросается.
Стал я приходить домой вроде как скучный.
Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку.
После раздумал, получку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутинки смел, канапе убрал, выкрасил, раздраконил – душа поет и радуется.
Но хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал – отрезала хозяйка провода.
– Больно, – говорит, – бедновато выходит при свете-то. Чего, – говорит, – этакую бедность освещать клопам на смех.
Я уж и просил, и доводы приводил – никак.
– Съезжай, – говорит, – с квартиры. Не желаю, – говорит, – я со светом жить. Нет у меня денег ремонты ремонтировать.
А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился.
Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо.
1925
Административный восторг
Хочется рассказать про одного начальника. Очень уж глубоко интересная личность.
Оно, конечно, жалко – не помню, в каком городе эта личность существует. В свое время читал об этом начальнике небольшую заметку в харьковской газете. А насчет города – позабыл. Память дырявая. В общем, где-то около Харькова.
Ну, да это не суть важно. Пущай население само разбирается в своих героях. Небось узнают – фамилия Дрожкин.
Так вот, извольте видеть, было это в небольшом городе. Даже, по совести говоря, не в городе, а в местечке.
И было это в воскресенье.
Представьте себе – весна, весеннее солнышко играет. Природа, так сказать, пробуждается. Травка, возможно, что зеленеть начинает.
Население, конечно, высыпало на улицу. Панели шлифует.
И тут же среди населения гуляет собственной персоной помощник начальника местной милиции товарищ Дрожкин. С супругой. Прелестный ситцевый туалет. Шляпа. Зонтичек. Калоши.
И гуляют они ну прямо как простые смертные. Не гнушаются. Прямо так и прут под ручку по общему тротуару.
Доперли они до угла бывшей Казначейской улицы. Вдруг стоп. Среди, можно сказать, общего пешеходного тротуара – свинья мотается. Такая довольно крупная свинья, пудов, может быть, на семь.