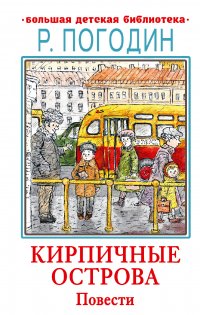Читать онлайн Я догоню вас на небесах бесплатно
- Все книги автора: Радий Погодин
© Р. П. Погодин (наследник), 2024
© А. В. Етоев, статья, 2024
© Оформление
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *
Я догоню вас на небесах
Я не боюсь смерти. Не боюсь позора. Не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня. Боюсь города, где я нищий. Я боюсь нищеты. Город мой неопрятен.
Я просыпаюсь рано. Лежу и боюсь – страх свивается у меня под сердцем во сне.
Начинает говорить радио. О перестройке. О катастрофах. Нынче многие умирают в немыслимых катастрофах. Это лучше – по крайней мере не скучно. Молодых жалко.
Включаю телевизор. Телевидение показывает катастрофы и видеоклипы. Видеоклипы очень похожи на катастрофы.
За окном город. Он на грани истерики. Со всего украдено. От всего откушено.
Мы станем сильными и подлинно великими, когда весь мир пройдет сквозь нас. Мир уже прошел сквозь нас. Оставил холод в наших сердцах.
Я подхожу к окну, чтобы взглянуть на небо, далекое и голубое. Говорят, оно в трещинах.
Старые немыслимые петербуржцы влачат по улицам ампирную мораль и потому, что сами они уже далеко позади греха, тычут ею в лицо молодым. Грех на медном коне обогнал стариков, обскакал орденоносцев и комсомол. Дети его догонят и обратят в свою пользу. Старики не пускают детей. Но понимают, что удержать их нельзя. Дети рвутся вперед. Старики пытаются придержать их рассказами о войне.
Ко мне приходит Писатель Пе, мой фронтовой друг. Он приходит не каждый божий день, но все же часто. Он говорит: «Брось думать о небе. Ты же сильный мужик. При стечении обстоятельств мог бы стать кандидатом наук. Радуйся. Мы, старик, весело жили. Мы жили банкетно. Мы видели небо в алмазах. Мы боролись за урожай».
Он говорит уже не так гордо: «Мы, не думай, не виноваты. Не бойся дня».
И я повторяю себе каждое утро: «Не бойся дня. У тебя есть костюм, есть ботинки».
Я надеваю костюм. Я выхожу.
Город мой неопрятен. Голубое небо над головой, говорят, дало трещину. И древние боги заливают мои следы скудным своим половодьем.
– Ой, не ходи ты чужими дорогами, – говорят они мне.
– Да кабы знать, какие дороги наши.
И я иду на войну. И в детство, где я был богат. Под голубое небо, пробитое пулями, но еще не потрескавшееся, как пережженная гербовая эмаль.
Поезд был сформирован в Бологом только до Чудова: запломбированный пульман, цистерна, уголь, зачем-то коровы симментальской породы, осоловевшие от свежего сена, присыпанного отрубями и солью. И пассажирских вагонов два – старорежимные, зимние, с узкими окнами. Пассажиры – в основном женщины с ребятишками-школьниками. В основном ленинградки. И мужчин трое. Средних лет полувоенный с лобастым мальчиком-крепышом. Путеец высокого ранга, осанистый, хорошо выбритый, с той отмытостью кожи, которая бывает у людей, привыкших высыпаться и пользоваться парфюмерией. Путеец вез девочку лет четырех. Третий – парнишка шестнадцати лет, у которого ничего не было, кроме мучительной способности краснеть.
На станции Дубцы поезд стал. Серый от бессонницы машинист сказал, вернувшись из станционного зданьица, что откатит в Малую Вишеру: мост через Волхов разбомбили, в Чудово вот-вот войдут немцы. Кто-то из женщин его осадил: мол, насчет немцев в Чудове – вражеская пропаганда – за такое в висок получить можно.
Машинист посерел еще больше.
Полувоенный подтолкнул вперед своего лобастого сына, и они зашагали по шпалам. Брюки у них были подвернуты, заплечные мешки хорошо подогнаны. За ними потянулись женщины с кошелками и узлами. Поначалу их мотало от рельса к рельсу. Они дергали своих ребят – получалось, что ребята специально путаются у них под ногами. Потом движение наладилось.
Был август сорок первого года. Бубенчики льна звенели по Волхову.
Парнишка шел в Ленинград. Там у него была мать. Там у него был дом.
Станет этот парнишка солдатом – сержантом. Закончит войну в Берлине. В орденах и медалях, шрамах от ран, с заиканием от контузии. А на тот августовский теплый день он еще ни выстрелов не слышал, ни смерти не видел.
В первые дни войны, как и все его одноклассники, двинулся тот парнишка в военкомат, но был унижен и оскорблен черствостью военных чиновников, не желавших знать, что право на героизм – неотъемлемое право советского человека. Потом решил, если уж не суждено ему участвовать в быстром разгроме фашистской силы, поехать на лето в деревню.
Оттуда он и возвращался, полный нервного страха, рожденного словами и образами, вдруг потерявшими смысл. Иногда он повторял про себя: «Осоавиахим», «Ворошиловский стрелок», «Броня крепка, и танки наши быстры». Не наполняя эти слова иронией, он как бы ощупывал их и, ощупав, клал на место.
Парнишка помахал машинисту рукой, и машинист ему помахал в ответ. Поезд пятился неуверенно, словно в туфлях без задника. Но вот фукнул паром в черный песок и пошел, набирая скорость. И, уже порядочно откатившись, машинист дал гудок, прощаясь с ними, решившимися на неведомое.
Люди шли по шпалам. Женщины в пестрых платьях. С ними ребята. Собственно, ребята и послужили причиной этого похода. Родители вывозили их из деревень, куда отправили еще до объявления войны. И путеец ездил за своей девочкой в деревню – наверное, жена его была деревенская. Сам-то из инженерской семьи, может быть из профессорской, – наверное, тоже профессор.
Девочка прыгала со шпалы на шпалу и вскоре устала. Путеец посадил ее себе на плечи. Девочка закрывала ему глаза и смеялась. Он улыбался и целовал ей ладошки.
Парнишка замыкал шествие. Шел трудно. Ноги у него болели. Руки болели.
Из деревни в Бологое он отправился лесом. В лесном озере решил искупаться: когда ему еще так придется – поплавать в лесном озере, зеленом и прозрачном, как леденец.
Где-то посередине озера у него свело ноги. Сразу обе. Он бы не выплыл и утонул бы – исчез в безгласном лесу, видя все вокруг черным, захлебываясь и хрипя, позабыв о кролях и брассах. Но вдруг почувствовал, что стоит на чем-то непрочном.
Пообвыкнув, он осторожно окунулся, пытаясь под водой размять окаменевшие икры и пальцы ног, наползшие один на другой. Выпрямился вздохнуть – услышал шум автомобильного двигателя. Малоезженной лесной дорогой шла полуторка. Он закричал. Замахал руками. Полуторка остановилась. «Быстрее!» – велели ему. Но быстрее он не мог: «Судорога у меня!» Но все же поплыл, не шевеля ногами, приныривая, чтобы удержать тело в горизонтальности.
К нему саженками подмахал мужик, тот самый – полувоенный, который шел сейчас впереди всех со своим лобастым крепышом сыном. Мужик подтолкнул его разок-другой. И помог встать, когда он выполз на берег. И помог в машину залезть. В кузове, уже на ходу, они оба оделись. Вот тогда старуха в белом платочке, завязанном под маленьким сморщенным подбородком, сказала: «Сейчас купаться нельзя. Судорога вся от тяжелых мыслей. Она в голове…»
Парнишку подташнивало. Ломило икры. А парнишка думал, что было бы даже смешно вот так утонуть в начале войны в пустом лесу, когда немец прет к Ленинграду. Парнишка негодовал. И от негодования у него дрожал подбородок и отсыревал нос. Сердце внезапно падало, он всхрапывал – это было рыдание, освобождение от смертельной тоски.
Впоследствии лесное озеро настойчиво возвращало его память к своему неподвижному мягкому блеску, к своей тишине, тоже мягкой и мягко-прохладной. Парнишка уверился, что он один жил тогда в озере – плавал и дышал, остальное все оцепенело в ожидании решения, жить ему или нет, и, когда решение вышло положительным, кто-то, может быть души уже ушедших, подставили ему под ноги свои плечи.
Путеец иногда прыгал через шпалу, а то и через две. Девочка тогда смеялась. Слушая ее смех, парнишка стал согреваться. И в голове его стали возникать героические картины его будущих подвигов.
Самолет вынырнул из-за леса. Что летит немец, все поняли сразу. Но стояли, смотрели в оторопи и любопытстве к летательному аппарату и к летчику. Что им бояться, бабам? Видно же сверху, какое их войско ситцевое.
Самолет пошел низко над железной дорогой. Отделяясь от свистящего рева пропеллера, отчетливо и капризно застучал пулемет.
Пули расшвыривали щебенку, отрывали от шпал щепу. Этот смертельный пунктир надвигался. Женщины завизжали, бросились врассыпную, подхватив детей. Они падали, зарывались в высокие травы, вскакивали, кричали своим ребятам, чтобы те головы не высовывали. Ребята вели себя проще и собраннее.
Самолет прошел над парнишкой – грохот, взвихренный воздух, кресты. Парнишка даже не испугался, только рот открыл. Самолет ушел в перспективу и взмыл вверх.
В двух шагах от парнишки стоял путеец. Девочки на его плечах не было. Она лежала на шпалах. На правом боку. Руки прижимала к груди. Ноги ее слегка согнулись в коленях и скосолапились трогательно, как у всех малышей, когда они спят. Лицо было тихим.
Потом парнишка все думал, почему не прочитывалась на ее лице боль. И, только став взрослым понял, что ткани ее лица, никогда не знавшие страха, еще какое-то время жили и, отъединенные от сознания, успокоились, возвратились к привычному безмятежному состоянию, к состоянию счастья и радости, любви и тепла. Девочка лежала, как бы ожидая, что ее накроют мягким одеялом и поцелуют на ночь. И завтра все будет снова ярко и чудесно.
У парнишки в голове было черно. Ему хотелось пасть на колени от какого-то всеохватного стыда. Летчиков парнишка ставил превыше всего – летчики начинали двадцатый век. У него отчим был летчик.
Мыслей в голове у парнишки не было, только тоска.
«Он же летчик, – бормотал парнишка. – Как он мог – он же летчик…» – но эти слова нельзя было назвать словами, они уже не имели смысла. Смыслы рушились, как дома, как мосты, как храмы.
Подошли женщины с ребятишками. Они окружили путейца и его дочь разноцветным венком. Дети стояли рядом с матерями. И не плакал никто. А война, еще не осознанная как безумие, вдруг осозналась. Вдруг осмыслилась. И у всех заострились черты.
Солдаты в серых шинелях лежат на озимом поле. Вокруг ростки, миллионы зеленых лучиков. Солдаты похожи на не пропаханные плугом кочки, на плешины, куда не легло зерно. Эта картина будет для парнишки впоследствии как бы символом смерти на войне, ее безмерности – поле до горизонта, и на нем все кочки, кочки… Но долго эта картина не держится, ее взрывает яркий августовский день сорок первого года. Девочка, скосолапив ножки, лежит на прогретых бурых шпалах. Девочка заслоняет все видения солдата. И голос ее обезумевшего отца заглушает все голоса: «Анечка… Анечка…»
А парнишка тот – я.
Часть, в которой служил Сержант – будем его покамест так называть, – шла на Потсдам через Михендорф и Потсдамский лес. Сержант по причинам разведки мчал на машине по другому шоссе вдоль узкого Тельтов-канала, торопился в свою бригаду, чтобы вместе со всеми, а может, и впереди других, попасть в этот город среди озер.
Сержант попадет в Потсдам, попадет, но в тот день он попал в окружение.
Остатки батальонов Девятой армии фюрера и просто одинокие немецкие солдаты, позабывшие номера и названия своих частей, отупевшие от бессонницы и отступления, заросшие грязью и злым волосом, стремились уйти за Эльбу.
В небольшом поселке в одну улицу – домов тридцать и все розовые, с красными черепичными крышами, – сгрудились пять «тридцатьчетверок», батарея гаубиц и бронетранспортер Сержанта – семь человек, включая водителя.
Поселок, названия которого Сержант так и не узнал, был зажат между кряжами, поросшими сосновым лесом, не подсочным, тонкоствольным, будто подстриженным, но матерым, кондовым – сосна к сосне, все красавицы.
На выезде из поселка «тридцатьчетверки» встретились с отступающей немецкой колонной, подбили три сине-черных «бенца» с радиаторами, похожими на кулаки. Техника, шедшая за «бенцами», попятилась, покатила в объезд, но пехота, усталая, злая и отупелая, пошла кряжами. С улицы поселка было видно, как она идет, – каждый солдат по отдельности. Каждый сам себе и оружие, и машина, и человек, полумертвый, отказавшийся от всех иллюзий.
Там, за Эльбой, он поднимет руки. Смотреть в глаза американцам, подняв руки над головой, ему будет все же полегче, можно сказать – совсем легко: американцеву маму не расстреливали, американцеву сестру не угоняли, американцева меньшого брата не били по голове.
Танкисты сразу же заперли входы в поселок: три танка в одном конце улицы, два танка в другом.
Капитан-танкист сказал молодому лейтенанту-артиллеристу:
– Поставь по две гаубицы позади нас, чтобы нам хвосты фаустами не подпалили. Да не стреляй, слушай, по ним – не воюй.
Сержант такую просьбу капитана мысленно одобрил: пока немцы уходят каждый сам по себе – не страшно, но разозли их, они тут же организуются, немцы это делают быстро – айн, цвай, драй! Сойдут с кряжей – и амба: пехоты в поселке – семь разведчиков.
– А ты, Сержант, – сказал капитан, – ты, наоборот, постреливай. Стань в теньке, чтобы все видеть и слышать. Ты у нас основная живая сила. Так что постреливай. Пусть помнят – спускаться сюда не надо. Конец войне не тут, конец войне там. В Берлине…
Берлин и «конец войне» были недалеко – за лесом, за озерами и плотинами, за поселками Николае-Зее, Целендорф, Лихтерфельде, маленькими и уютными, как ленинградская Стрельна. В той стороне, в небе, висела серая шапка пыли и копоти. Берлин гудел тысячами непримиримых звуков: криками атакующих рот, пулеметными очередями, ржанием лошадей – грохотом тротиловых ниагар.
Вот такая была дислокация.
Воевал в экипаже Сержанта Писатель Пе, тоже сержант. Парень смелый. По военной необходимости излишне вежливый. Но можно, наверное, так сказать – вежливо-незастенчивый. Имя у него было Валерий.
Когда в роту приехал майор из газеты писать очерк о разведчике, ему отрядили Валерия. Валерий майору рассказывать отказался, объяснил необидно, что сам имеет намерение стать писателем.
Майор посоветовал ему, с чего нужно начать: мол, с уважения к старшим и к чистой бумаге.
Теперь о певице по имени Розита Сирано.
Была у немцев такая певица, модная, как у нас Изабелла Юрьева.
Возил Писатель Пе маленький патефончик и, когда позволяла обстановка, слушал Розиту Сирано. Представлялась она ему в черных чулках и страусиных перьях – в этакой белой пене. Вокруг нее мужчины с тросточками, в тесных пиджаках, в канотье. И не вскипало у него к немецкой певице никакой неприязни, хотя, прямо скажем, была она ему чужая насквозь.
– Пойду пройдусь, – говорит этот Писатель Пе. – Может, пластиночка новая попадется.
– Ты понимаешь, что мы в окружении? – спросил Сержант.
– Тут все насквозь – если что, за мной дело не станет.
Ударила гаубица резко да еще с каким-то шлепком, это она подпрыгнула от выстрела на асфальте. Запахло горелой расческой. Не выдержал молодой лейтенант – пальнул.
Сержант подумал, подумал да и отправился с Писателем Пе – надо же осмотреть поселок. Может быть, воевать придется, если молодой лейтенант не возьмет себя в руки.
По кряжам над поселком шли немцы. По сосновому бору. Сержант чувствовал их движение, упорное и глухое, как будто шел по лесу пожар без пламени и без дыма.
Солнце почти вплотную придвинулось к земле.
Перед домиками чернели тюльпаны.
– Зайдем сюда, – предложил Писатель.
Домик, им выбранный, отличался от других домиков окнами. Окна у него разные: и стрельчатые, и прямые, и круглые. Они придавали домику веселый пристальный вид, будто не Сержант рассматривал его, а он, домик, рассматривал Сержанта и находил его нестрашным. Но распотешил Сержанта цоколь, украшенный осколками чайной посуды с цветами и птичками. Осколки были вмазаны по всему цоколю, уплотняясь и укрупняясь к углам: там сияли половинки и даже целые блюдца.
Соседние дома – такие же двухэтажные, с дорожками из перекаленного, положенного на ребро кирпича, с белыми рамами и кустами бульдонежа, не подступающего близко к стенам, чтобы не заводилась на стенах сырость, – тоже были аккуратно сработаны, но не было в них проникающей во все детали согретости и умилительной колыбельности, такой, будто дом накрыт кружевами, и облака над ним не простые, но тюлевые.
Сержант покуривал, дожидаясь Писателя Пе с пластинкой Розиты Сирано, на которой будет изображена белая собака, слушающая граммофон, и улыбался фарфоровой выдумке. Был в ней какой-то детский подход к красоте, хотя, если подумать, желание Бога – есть детское желание прижаться к маме.
И захотелось Сержанту пить.
Сержант поправил автомат, приспособленный для стрельбы с ремня, поднялся на крыльцо неспешно и, нажав изогнутую кованую ручку с шаром-противовесом, потянул дверь на себя. Дверь пошла тяжело и бесшумно, выпуская на Сержанта мыльный запах тревоги и ожидания беды.
В чистой намастиченной прихожей у стрельчатого окна на подставочке стоял горшок с бегонией, похожей на вислоухого пса.
Из прихожей внутрь дома вели три двери и лестница наверх. Наверху Писатель Пе перебирал грампластинки. Одна из дверей, правая от входа, вела в подвал – жители во всех домах ютились в подвалах, побеленных и обставленных для ночлега.
Сержант прошел на кухню. Из водопровода вода не текла, но кран был начищен. Все было вымыто, выскоблено. Но не было мужика в этом доме, такого старательного и умелого, – в стене у двери, ведущей во двор, торчал согнутый гвоздь. Забивали его зло, гвоздь согнулся, его так и оставили, не зная, что делать, как его выпрямить, не вытаскивая, и вытаскивать не желая – нужен был этот гвоздь, – наверно, натягивали в кухне веревку для просушивания пеленок в дождливые дни.
Сержант зачерпнул ковшиком воды из ведра – эмалированного, с крышкой. На столе стояли маленькие кастрюльки, в каких варят малышам манку и кипятят молоко. Сержант отодвинулся от стола.
Услыхав какие-то звуки, Сержант вышел в прихожую.
У двери в подвал стоял немец-солдат в грязной шинели, с лицом веснушчатым, плоским и светлоглазым. Впалость щек, и щетина, и воспаленные веки – особенно дрожание губ – придавали ему вид помешанного. Он собирался с силами, чтобы открыть дверь в подвал, – поднимал руку и вновь опускал ее. Страшно было ему. Страшно не за себя. Сержант сразу понял, что это хозяин – вирт, – война сделала Сержантово сердце понятливым. Понял Сержант, что привело этого некрасивого плосколицего немца сюда, к этой двери в подвал, – там сейчас была та, кого он любил, может быть, больше жизни. Но понимал Сержант, что не надо было немцу это делать, надо было идти войной, не сворачивая к дому своему…
Немец увидел Сержанта. Пальцы его сжались в кулак до побеления в суставах. Губы, вмиг загрубевшие, растянулись в оскале. Винтовка у него была закинута за спину, у Сержанта автомат на ремне, ладонь на шейке приклада, палец на спусковом крючке. Но, наверное, не было в его лице надлежащей суровости – кулаки у немца ослабли, оскал преобразовался в улыбку, и в улыбке этой была то ли просьба, то ли согласие.
– Вирт, – сказал Сержант. – Хозяин?
– Яволь. – Улыбка немцева стала растерянной, он забормотал шепотом: – Кинд… Беби… – А сам все тряс ручку двери…
Сержант левой рукой распахнул дверь в подвал.
– Гее! – сказал.
В темноту, в восковой свет свечи, вела крутая лестница.
Сержант отступил на шаг, закинул автомат за спину и кивнул немцу: ступай, мол, я тебя тут дождусь.
Улыбка немца стала смущенной, даже униженной. Он шагнул вниз, неуклюже и тяжело, – наверное, нога у него была ранена, – стал спускаться. Шинель нараспашку делала его бесформенным и громадным в свете свечи.
Скорее всего тем, внизу, он показался зверем. Выстрел прозвучал сухой и негромкий, как шлепок мухобойки. Стреляли из маленького револьвера, наверное даже никелированного. Стреляла женщина – мужик, какой ни на есть, пальнул бы из двустволки или армейского оружия. Оружием Германия была завалена.
Солдат постоял секунду, схватился за живот обеими руками, подогнул голову и покатился по лестнице, громыхая винтовкой.
Сержант прикрыл дверь. Вышел на крыльцо. Шар солнца коснулся земли.
Вслед за Сержантом вышел на крыльцо Писатель Пе с пластинкой.
– У нас такая Розита есть, зашарканная. А эта, гляди, новая. – Он вынул пластинку из конверта и, заслонившись ею и щурясь, посмотрел на солнце, запалившее лес над поселком. Он ничего не знал о пришедшем домой хозяине. Потом он сунул пластинку в конверт и сказал: – У меня чувство, что она померла. Погибла в бомбежке…
Еще раз резко ударила гаубица – что-то почудилось молодому лейтенанту-артиллеристу в разливах закатного пламени. Короткими очередями отозвались пулеметы Сержантовой машины.
Ночью поток отступающих немцев иссяк.
Утром Сержант уже воевал в Потсдаме. Правда, войной это можно было назвать условно, поскольку Сержанту было велено от боя не уклоняться, но стрелять выше кустов.
– Понял? – спросил его генерал, командир части, именно он дал Сержанту такой приказ. – Ты ленинградец, ты понять обязан. Представь себе Петергоф. Довоенный, конечно. Это похоже. Парк прекрасный. За кустами мраморные Артемиды. Они хрупкие.
– Так точно, – ответил Сержант. – Понял. Немцы, если они там окажутся, будут стараться нас ухлопать, а мы в ответ будем весело палить в небо.
– Зачем весело – пали грустно…
А приказано было Сержанту прочесать королевский парк Сан-Суси.
Немцев в парке не оказалось ни военных, ни штатских – только солнце в регулярных аллеях с подстриженными кустами, чистые стекла оранжерей да девы белого мрамора.
Одноэтажный дворец Сан-Суси, который дал свое имя всему ансамблю, тоже был пуст. В золотистых залах лежали горы летней дешевой детской и женской обуви – наверное, нечем было прикрыть драгоценный паркет от ужасных русских фугасов.
Не было на стенах ни шпалер, ни картин, и это было красиво – ничем не заслоненное рококо – из залы в залу, как ленты кружев.
Сержант действительно вспомнил довоенный Петергоф – военного ему увидеть не довелось – и по какой-то сложной ассоциации тот розовый домик с фарфоровым цоколем. Услыхал он свистящее хриплое дыхание немца-солдата, стук его тяжелой винтовки, упавшей к ногам жены, и песню Розиты Сирано, роскошно-доступную, как харч в дорогом ресторане.
Сержантом тем был я.
Писатель Пе с этим домиком меня, конечно, опередил: вставил его в какую-то свою абсурдистскую повесть – этот домик кому-то там снится. Он снится только нам – нам обоим.
Приходит однажды Писатель Пе – на груди галстук в косую полоску, брюки наглаженные, сам причесанный. Глаза удивленные, как у собаки, которой вместо каши с мясом дают компот.
– Неуютно мне, – говорит. – Надысь побывал я у студенток в библиотечном институте. Изжога…
– И что студентки?
– Молчат. Это тебе не университетский филфак. Слушай, у студенток филфака зубы в три ряда. Трехрядная гармошка. Хромка. Баян. А тут студентки тихие. Сидят, как пугливые птички. Но есть и крупные. В библиотечном институте чем крупнее студентка, тем больше она знает. Детерминанта у них, понимаешь, рост. Опора!
– Что значит «опора»?
– Слово. Слово было в начале – поэтому в жизни так много слов. Слово было лишь в самом начале – поэтому нужные слова позабылись. Слово в тебе самом. Надежды развеются, любовь пройдет – останется слово. Умирать будешь наедине с собой. Говорить только сам с собой. Если даже твои слова будут обращены ко всем. Если хочешь понравиться людям, иди к ним с вымытой головой.
Писателю Пе нечего мне сказать. Когда он приходит ко мне, у его совести всегда вид отсутствующий. Помолчав, он восклицает громко и жизнерадостно:
– А как твое здоровье, старик? Надеюсь, тебя не очень беспокоит грыжа?
Говорю:
– Ее у меня никогда не было.
– Никогда… Так это же хорошо. Ты мне пивка не нальешь?
Я выставил бутылку пива. Писатель Пе набросился. Я выставил вторую. Писатель Пе закинул ногу на ногу. Для своего способа жить он изобрел метод трагического оптимизма, и сейчас, выпив пива, изображает ангела, выпорхнувшего из химчистки.
Я же представил себе дело так: приходит Писатель Пе в хорошем костюме к студенткам, читает им что-то не совсем готовое, не понимает, брат, что студенток нужно смешить, потом говорит им экспромтом, что вовсе не глаза, а наши вопросы есть зеркало нашей души. «Поспрашивайте, – говорит, – меня. Не стесняйтесь».
Студентки тихо разглядывают маникюр, тихо жалеют Писателя Пе и тихо дышат, гадая, кто же, кто встанет и, принеся себя в жертву приличию, задаст вопрос безвкусный, как взбитый белок: «Над чем вы сейчас работаете?»
Наконец этот вопрос произнесен. Писатель Пе дает невразумительный ответ.
Букет улыбок. Лукавство в глазках. Все довольны тем, что встреча кончилась. Писателя ведут на кафедру пить чай.
Но оказывается, было все не так.
Сразу поднялась крупная студентка Мария. Активистка.
– Я, – говорит, – не удовлетворена. Творчество Писателя Пе представляется мне излишне элегантным, изысканным, эстетским – комильфо. Так о войне не пишут.
Другие, мол, писатели изображают войну хлестко и очень правдиво. Не скрывая грязи. До сего дня она не подозревала, что Писатель Пе воевал сам и даже награжден орденами, был самолично ранен и контужен, участвовал в сокрушении Берлина и даже имеет темные пятна в биографии. Тем более она удивлена. Покачивая бедрами:
– Ответьте, почему вы не описываете грязь войны?
Писатель Пе разоблачен, повержен. На нем стоит красивая нога в колготках за семь семьдесят.
И говорит он снизу:
– Студентка милая Мария. Видите ли, дорогая, в Великую Отечественную войну со стороны фашистов воевали асы, суперлюди, тигры, викинги, нибелунги, мертвые головы, белокурые бестии, а с нашей стороны учителя, художники, артисты, поэты, доктора. Я называю не профессию, но склад души. И не могло быть двух солдат с одинаковым внутренним зрением. Одному бегущему в атаку запомнилась цветущая сирень, другому – оторванная взрывом нога, о которую он споткнулся.
О Мария, почему вам требуется грязь как правда? Мы на войне, Мария, очень часто мылись. Даже под дождем.
– Вы могли съесть хлеб убитого?
– Конечно. Зачем убитому хлеб? Оружие ему тоже не нужно.
– И сапоги?
– Мария, солдаты на передовой были обуты в башмаки с обмотками.
Затем Писатель Пе попробовал встать на ноги с помощью метафоры. Мол, представьте – из квартиры, где жил великий человек, все вынесли в музей. Сначала бриллианты, изумруды, произведения искусства, дорогую мебель, фраки. Потом мебель поплоше, белье, кухонную утварь…
И вот, когда квартира опустела, явились разыскатели – такие, с лихорадочно блестящими глазами. Где-то нашли окурок, где-то соскребли плевок. «Вот правда, скрытая от нас!» – воскликнули они, давясь восторгом. Побежал по их жилам кипяток ликования, и почувствовали они себя почти богами. А может, даже надбогами, ведь приобщение к великому через дерьмо – такая радость. И немцы в каждом кинофильме, такие ражие, такие Зигфриды, принялись резвиться под струей в фонтанах, водопадах, в Карпатах, в Альпах, в Арктике. А наши люди, Мария, погружались в такую необходимую вам грязь.
Мария, вам не жаль, что в нынешнем искусстве золотоискателя вытеснил дерьмоискатель?
Тихие студентки-птички распушили перышки. Наверно, они не все любили отличницу Марию.
Но она не убрала свою красивую ногу с груди поверженного Пе. Она сказала:
– У ваших произведений хромает форма. Если вы выстраиваете гору Фудзияму, то гора эта пустая внутри.
– Я не выстраиваю гору Фудзияму. Я создаю сосуд. Чтобы вы наполнили его вином своей любви и своего воображения. Ах, вы не пьете. Увы! Я создаю сосуд из хрусталя, чтобы ваш любимый суп с большим количеством моркови налить в него было по меньшей мере неловко.
– Так и сказал?
– Ну не совсем. Профессора сидят, доценты, кандидаты. Примут на свой счет. Сказал: синдром судьи – услада неофита. Вы судите Деву Пречистую за целомудрие. Вы не устали, Мария? Великий Фидий создал чашу для вина, сняв форму с девичьей груди. Форма Фидиевой чаши совершенна – в сущности, солдаты идут в бой за Деву…
Я познакомился с Писателем Пе давно. Мы вместе воевали. Он не курил. Был непривычен к хмельному. Горд до строптивости. Когда окончилась война, ему еще двадцати не было. Он прожил трудовую жизнь, но на нем это вроде и не отразилось. Если бы ему пришлось выбирать из ста производств, он выбрал бы что-то слепящее – хрусталь или иконы.
Именно этот его осуществленный выбор влияет и на мое видение мира. Он так настойчив, а мне так смешно…
Над полем озимой пшеницы высоко в небе кружили итальянские бомбардировщики «Каприни-Капрони». Их называли просто «макаронники». Бомбардировщики не пикировали, вываливали бомбочки с высоты. Напитанная влагой земля взметывалась черными хвостами.
На озими топтались солдаты. Они пришли сюда первыми. Солдаты падали, сминая нежные ростки пшеницы, и засыпали. На межу они не желали падать, межа была крепкой, как корка черного деревенского хлеба.
Солдаты пили спирт из алюминиевых мятых кружек с закопченным дном. Старшина получил спирт за все прошлые месяцы сразу – в пивных бутылках. Возить столько стекла ему было не с руки, да и не на чем, и он раздал весь спирт солдатам. Некоторые говорили, что старшина поступил неправильно, что нужно его пустить под суд. Но он поступил правильно: все молодые солдаты, а их в роте было более двух третей, отравились и на долгое время потеряли охоту к вину, даже к разговорам о винопитии. А вина было много – Румыния. Спирт не давали, не давали и – нате вам! – выдали.
Башковитые старики придумали следующее: как только молодой обслюнявленный солдатик, улыбаясь, падал, они легохонько с прибаутками отбирали у него бутылку, сливали спирт в канистру и ухмылялись, как коты.
А этот, будущий Писатель Пе, выпил полкружки спирта, запил водой, заел хлебом с консервами, расхрабрился и еще налил. Его дружки-приятели, я в том числе, стояли наготове с водой. Пе глотнул закипающий на языке спирт, схватил, не глядя, кружку, но в кружке той была не вода, но опять же спирт.
Дыхание Пе остановилось. Глаза вылезли. Их выдавливали изнутри коленом. В голову сунули раскаленный камень. Кожу исхлестали хлыстом. Облили чем-то неароматным.
Пе закружил по полю, сжимая бутылку слабыми пальцами. Он материл всех нас в ритме вальса. В «Каприни» он плюнул, но не попал. Один солдат рядом пожелал попасть в «Каприни» струей, но струю отнесло ветром на нас.
Аве, Мария!
Потом Пе отглотнул из бутылки еще глоток, уже весело и бесшабашно, и упал в воронку, мягкую, как илистый берег, – от пашни шел запах талой воды, – поднялся на локте, ласково оглядел поле, вытер нос грязной рукой, устроился в воронке поудобнее и уснул, похожий на шкварку в ржаном тесте. Взрыв рядом присыпал его всходами пшеницы, как укропом.
Некоторые его товарищи, я в том числе, еще боролись с вращением планеты, но в основном уже спали, свернувшись калачиком в черных воронках. И никто не обращал никакого внимания на «макаронников», которые все закладывали виражи и бросали с небес свои бомбочки. Летчики, наверно, сфотографировали павших противников и, наверно, получили за храбрость и меткость при бомбометании итальянские медали.
Когда солдаты проснулись, суглинок, высохший на щеках, так стянул кожу, что нижние веки вывернулись и все они казались бешеными.
А на следующий день мы лежали в передовом окопе под дождичком, хоть и бисерным, но весьма мокрым. Такое впечатление было, что он падал не с небес, а зарождался прямо над нами.
Чтобы вода со дна окопа не заливалась за шиворот, под голову я подсунул толстый кусок дернины.
И говорю:
– Спишь, Пе? А у меня задница так намокла и набухла, что, полагаю, стала белой и рыхлой, как рыбье брюхо. Полагаю, на ней можно сеять табак.
– Почему именно табак? Почему не сорго?
– Потому что курить хочется.
– Ты и мою и свою махорку выкурил – сдохнешь. Посмотри, бабочка под дождем. Ты когда-нибудь видел бабочку под дождем?
Бабочка порхала над бруствером, хотела сесть на землю, но земля была водой. Бабочка снова вздымалась. И снова садилась. И снова вздымалась. Но вот она нырнула в окоп, прицепилась под нешироким земляным карнизом и медленно, даже величественно, сложила крылья.
Писатель Пе сказал:
– Очаровательно.
Рядом с ним, втянув голову в воротник, унылый и многомудрый, сидел сержант Парин, старший группы. Мы должны были идти в тыл к румынам взрывать мост. Взорвали. Потом командование задавить хотело того, кто взорвал. Очень нужный был мост.
Не ломайте мосты, не взрывайте их, не бомбите – берегите, как храмы!
Вот Парин и говорит:
– Ну народ – сейчас в тыл идти, а они кто про задницу, кто про бабочек под дождем. Если говорить о чем, то о девках. Это самая главная тема войны – главнее математики.
– Извините нас, – ответил Парину Пе.
Он вообще извиняться любил. И сейчас считает извинение в числе главных средств налаживания коммуникации.
Сержант Парин погиб под Люблином, умер у Писателя Пе на руках. После Парина я принял машину.
Как-то мы с Писателем заночевали в немецком городке, еще не занятом нашими частями. В разведку мы ходили вчетвером, но двое ребят, не разделявших нашу любовь к губительно мягким немецким перинам, потопали по снежку в бригаду с донесением, что в городе частей противника нет и фольксштурм не наличествует. Рассчитывали они и на жаренную со свининой картошку. Ротный повар у нас был артист – пел и всегда жарил картошку для себя, для командира роты и для разведчиков, обещавших вернуться. Повар любил смотреть, как разведчики «кушают», и все расспрашивал и выведывал: подходы, подъезды, где что и что как. Случайно в котле кухни мы обнаружили восемь штук шелка. Нужно отдать повару должное – шелк он припас для барышень нашего банно-прачечного отряда. Он роздал шелк при нас и все улыбался и шаркал ногой, как народный артист Ильинский.
Мы с Писателем Пе не первый раз ночевали в городах, еще не взятых. Танки – оружие для войны днем. Фаустпатрон – такая удобная и простая штука, – мальчишкам под силу и девушкам. Танк беспомощен в городе с узкими улицами, тесными перекрестками, низкими крышами.
В город, где нет противника, танки входят колонной с рассветом.
Тут мы с Писателем Пе их и поджидали с усталым видом: мол, не сомкнули глаз – все бдели. А как же иначе…
В тот раз даже замок в дверях ковырять не пришлось: хозяева спустились в подвал, позабыли его замкнуть. Мы пожевали на кухне курятину. У немца всегда вареная курятина в стеклянных банках на крайний случай – жили они голодно. Но ведь мы и есть крайний случай.
После курятины мы в спальню. Луна, снег и звезды освещение дают – крупное все разглядеть можно. Широкая кровать, подходы к ней с двух сторон, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный стол с зеркалом. Различаем, хоть и темно все же, – что-то розовое в мелкий горошек. Может, сиреневое. Может, даже голубоватенькое…
Нам, выходцам из коммунальных квартир, все эти оттенки в немецких спальнях казались чем-то греховно и непростительно буржуйским.
Залезли мы под перину, не снимая покрывала, чтобы кровать все же не казалась такой разоренной. Конечно, в башмаках и обмотках. Конечно, с автоматами – тут уж, греши не греши, – война.
Сверху перина. Снизу перина. Спим, как зародыши. Впрочем, у разведчика сон как бы марлевый – вроде еще спишь и вроде уже проснулся.
И вот я понимаю, что мне на ноги кто-то садится, как на свое…
Я тоже сел, автомат наготове. Писатель Пе из перины торчит, готовый чуть что стрелять. А у меня на ногах женщина. По силуэту – пожилая. Это ее кровать. Она на ней ребят своих зачала, и, наверно, воюют ее ребята где-то незнамо где – тоже солдаты. А может быть, уже не воюют. Наверно, она пришла взять что-то из тумбочки.
Писатель Пе говорит ей:
– Пардон, мадам. Извините, пожалуйста.
«Пардон, мадам» – понимают все.
Руки ее взлетают к лицу и вперед, словно она хочет нас оттолкнуть. Еще бы! Город ожидал русских. Откуда угодно. На чем угодно – на ослах, на верблюдах. Но не из ее любимой старинной кровати. И она рухнула. Без крика, без стона.
Мы поправили перины, положили женщину на кровать, рассчитывая, что, очнувшись, она примет все за мгновенный кошмарный сон, за причуду уставших от страха нервов.
До утра дремали мы в пустой пивной при въезде в город. Ее хозяин предусмотрительно оставил двери незапертыми, чтобы русские их не сорвали с петель.
– Пе, – говорил я, – если бы ты свое «извините, пожалуйста» не произнес, может, она и не рухнула бы. «Извините, пожалуйста» несовместимо с войной. Лучше бы ты «хенде хох!» крикнул. Старуха потеряла сознание не от страха – от абсурдности ситуации.
В другой раз, ночуя в еще не занятом нами немецком городке, мы положили под подушку будильник – танки должны были пойти в шесть.
Когда будильник зазвенел и мы, моргая, уселись в перинах, в комнате было темно и холодно. Трое фольксштурмовцев устраивались у окна с фаустами и пулеметом. Они только что вошли. И мы, в общем-то, не смогли бы сказать с уверенностью, что разбудило нас, их приход или будильник. Наверно, будильник треском своим перекрыл пробудившее нас чувство опасности.
Все дальнейшее зависело от квалификации. Мы хоть и спали, но в ритме войны. Фольксштурмовцы, озябшие от безнадежности, засуетились. Винтовки они поставили к стене, и каждый пожелал взять непременно свою.
Лица их были серо-зелеными, как их эрзац-мыло.
Уходя, мы долго ополаскивали лицо и руки. Вытирались чистыми махровыми полотенцами, пахнущими лавандой. И, надев шинели, застегнули их на все крючки.
В небе солнце белого золота. Каждый лист в парке узорчат. Лужайки свежи. И вдоль дорожек мраморные девы с нежными припухлостями – в ожидании Пигмалиона.
Бронетранспортер, ощеренный стволами, подкатил наконец обратно, к дворцу Сан-Суси.
Дворец был удивителен своей пустотой – отмытый солнцем от наростов живописи, гобеленов и портьер. Нам захотелось пройти по нему еще раз, уже не торопясь.
У дверей стоял ефрейтор в новенькой зеленой фуражке с новехонькой самозарядной винтовкой Токарева. К стволу примкнут штык-кинжал. Рожа у ефрейтора наглая, стоечка хозяйская, как у осодмиловца на танцплощадке.
– Вот это хват, – сказал упрямо-медленный Егор. Перевалился через борт и подошел к ефрейтору. Тот штык перед собой выставил. И так это невежливо Егору:
– Назад!
– Сразу и назад. Мы победители, желаем дворец осмотреть. Ты глянь-ка, глянь, какое небо – это же куст сирени, его Господь нюхает.
– Сказано, назад! Капитана позову. Вы уже осматривали.
– Осматривали один раз. А ты, значит, за нами потихоньку по-за кусточками. На полусогнутых воюешь? Сохраняешь себя для крематория?
– Иди – стрелять буду!
– Стрельнешь – они тебя в эту дверь вколотят по крошечкам, по атомам. – Егор кивнул на нас. – Похоже, тебя мама от злости родила.
Ефрейтор сглотнул, прижался спиной к дверям, он понимал, что превысь он какой-то допустимый в его положении уровень хамства – и его действительно в дверь вколотят. А вот Егор не понимал – что же такое случилось? Почему этот ефрейтор перед ним не трепещет? Не восторгается? Не предлагает закурить? Не чтит?
– А по соплям? – сказал ефрейтору Егор.
– Под трибунал пойдешь.
– Да там же ничего нет, во дворце! Что ты охраняешь, ублюдок?
– Под трибунал пойдешь, – повторил ефрейтор, в голосе его уже вызревал визг. Сейчас он выстрелит. Не в Егора – в воздух. Прибежит начальник караула. Мы, конечно, уедем. Но не хотелось. Нам было обидно.
Мы, конечно, были герои. Мы даже понимали что-то, хотя у героев с пониманием туго, – чувствовали, что у такого вот ефрейтора мы, кроме злобы, других чувств не вызываем, что этого кота войны, такого гладкого от сала, сливок, девок, подкармливают и дрессируют на нас, как на мышей, а мы стоим под подозрением, под приказом об усилении дисциплины в армии вплоть до расстрела. Мы уже были лишними на войне. Какая там разведка? Зачем? Рвущийся к победному майскому дню фронт с маршалами, генералами, героями уже накрывала волна тылов – специалистов, экономистов, искусствоведов, прокуроров, комендантов и конвойных рот.
Егор психанул вдруг:
– Пустоту охраняешь, сука! А если я вот этой мраморной Диане да по титькам?
– Валяй. – Ефрейтор осмелел снова, заблестел рожей. – Я двери охраняю во дворец. А статуи хоть разнеси. Мне они тьфу. Вы их катком. Во захрустят.
У бронетранспортера перед радиатором каток, чтобы можно было столкнуть и смять что-то, мешающее на пути.
Егор пистолет выхватил из-за пазухи.
– Нас сюда посылали, чтобы мы тут ни-ни, не зашибли, не повредили. Искусство! Не дай бог! А ты, гниль. Дерьмо собачье. – Егор навел пистолет на мраморную деву. – Я ее, курву Афродиту. Я, значит, воюю, а эти суки по кусточкам – и медаль.
Я выкатился из машины, прыгнул Егору на спину. Он долбанул меня локтем в солнечное сплетение так, что я скорчился под кустом барбариса. Ребята, показалось мне, были на стороне Егора, даже будущий Писатель Пе, интеллигент паршивый.
– Не будь свиньей, – сказал я Егору, икая и пуская слюну, он разбил мне живот, как пустой грецкий орех. – Другие тоже хотят.
– Чего хотят?
– Стрельнуть в нимфу.
– Пускай стреляют. Вон их тут сколько. Курвы.
Шофер Саша помог мне встать. Посетовал, что статуя не бронзовая, на бронзовой дырки можно было бы зачеканить.
Из машины выпрыгнуло все отделение. Парни называли места, в которые желательно было попасть с точностью до миллиметра.
– Они не спрашивали, когда Петергоф жгли. Может, нам тут и нос выколотить нельзя?
Ствол пистолета шарил по мраморному телу Девы. Егор выискивал местечко, куда вогнать пулю.
Наверно, в такие минуты что-то происходит в природе: облака стали темными, небо выцвело, парк с ровно постриженными кустами определился в перспективе, он собирался в одну точку там, за спиной Девы, и в этой точке должен был возникнуть Трактор – бешеная машина. Она бы ворвалась в парк, в тишину, где тяжело дышали мы и, затаив дыхание, стояли мраморные Артемиды. Вон как их много за свежей зеленью постриженных кустов. Торчат их головы. Их руки. Их пальцы почти прозрачные. Их груди – они вмещаются в ладонь… Трактор все сокрушит. Раздавит. Перемолотит. Бешеная машина. Мы были Трактором.
Раздался крик:
– В писю-ю! Бей в писю-ю!..
Кричал ефрейтор. Он пританцовывал у двери. Лицо его блестело от пота, губы были вывернуты. Он шевелил пальцами, похожими на окурки.
Егор прыгнул к нему, выбил у него из рук винтовку ногой, сорвал с головы новенькую зеленую фуражку и фуражкой той, захватив ее изнутри двумя пальцами, с наслаждением защемил ефрейтору нос. Пальцы у Егора были железными. Когда он их разжал, шкуры на ефрейторском носу не было. Из глаз текли слезы, и слова вымолвить он не мог. Егор поднял его винтовку и зашвырнул в кусты.
Уже в машине, когда мы отъехали, Егор сказал мне: «Извини, сержант». Он был постарше нас и за свою холодную отвагу пользовался особым уважением. Он никогда не срывался – психануть мог любой, но не он, – он был спокойно-ленив. Но ефрейтор обжег его душу.
– Вот кусок, – бормотал он. – Вот ведь прыщ на сгибе. И главное, такие прыщи над вами, ребята, будут стоять.
– А над тобой?
– Я на Север подамся.
От дворца послышался выстрел. Это ефрейтор, достав свою самозарядную винтовку из кустов, вызвал начальника караула.
Но мы не прибавили скорости, мы не убегали, мы ехали себе по песочку гордо и несколько расслабленно.
У распахнутых чугунных ворот, ведущих в город, на зеленую безлюдную улицу, стоял кирпичный каретник. К стене его были прислонены высокие плоские ящики. Тут же штабелем лежали доски. И кучи стружек, не столярных, но чистых и ровных – лентообразных.
– Картины, – сказал я, не веря этому слову. Чувство, заполнившее мою душу, было бессилием вынырнувшего из глубокой гиблой воды: эта барабанная дробь сердца, эта флейта отрикошетившего снаряда – это осознание кровью того, что ты жив и удачлив.
Здесь: голубые облака, скирды свежих тополиных листьев над головой – деревья у сарая не стрижены, пряная тень и цветущие темные травы.
Там: парк Сан-Суси – высвеченные солнцем розовые дорожки, широкие и прямые, дворец, акварельно раскрашенный и пустой, как новенький детский садик.
Там: ефрейтор с ошкеренным носом. Там он люто страдает и пускает гадючью слюну – на нестрашных полянах.
Здесь: восторг и ужас гнездятся здесь, за дверью сарая. А вдруг все хлоркой облито и кислотой, и все в куче – узлом, как внутренности животных?..
Мы распахнули дверь – картины стояли плотно, как книги в шкафу, громадные, выше вытянутой руки.
Поскольку у каждого из нас после прицеливания в Афродиту что-то сгорело и в сердце и в голове, то при виде этих картин наши руки и все прочее: брови, губы, уши дернулись в противоречащем случаю направлении – мы жалко кривились, улыбались и даже стеснялись, как будто нас пригласили к столу, а мы не умыты.
– Тут же все… Миллионы… – бормотал Егор. – Это же лопни мои глаза. Это же… Зачем, спрашивается, дураку хрустальный рубль? – Последнюю поговорку Егор позволял себе только в минуты крайней растерянности.
Мы трогали холсты руками. Гладили лакированные поверхности, для чего протискивали руки между картин. Мы отчетливо, как стук часов, слышали усталое дыхание судьбы, чувствовали зыбкость и непрочность разума…
Такое солнце. Такой день. Такие стружки, пахнущие сосной!
Мы выдвинули один из шедевров осторожно, покачав его и убедившись, что ничто его не удерживает, не скребет. Картина полыхнула пурпуром, голубым шелком и женским телом. Глаза, затененные ресницами, глядели на нас с пониманием и тоской. Дева, похожая на ту, мраморную, была живой, дождавшейся Пигмалиона.
– А ты, сучонок, стой там, стой! – крикнул Егор. – Стереги пустой дворец. А я вот возьму сейчас закурю и спичку нечаянно уроню в стружки. – Егор вытащил спички.
– Перестань, Егор, – угрюмо предостерег его Писатель Пе. – И без твоих шуток страшно.
– Чего – перестань-то, чего – перестань? Я сейчас могу опозорить всю нашу армию. В другой день я хоть что делай – дурак, скажут. Ну, под суд отдадут. А сейчас… Никто ничего не скажет…
– Заткнись, – сказал я и шевельнул автомат.
– А-а… – протянул он скучно. – Ты, сука, можешь. – Заметив, как все подобрались, приготовились на него прыгать, Егор спрятал спички в карман. – Эх, вы, шпана. Я же теоретически. Распирает меня. Вы же не понимаете, что такой случай не каждому выпадает, что сейчас здесь присутствует дядя Бог. Миллионы! Страшенные человеческие судьбы. Национальная гордость фрицев. И я могу все спалить. И себя заодно. И вас. Житуха – она такая затейливая. После Победы уеду в Арктику – не смогу гнить по соседству с трудовой сберегательной кассой. – Егор повернулся ко мне. Он был бледен, лицо его блестело, как полированная кость. – Хорошо, что ты на меня бросился, а не на ту Венеру – заслонить своим телом. Тебе бы я морду набил, а тому сучонку вонючему… Я бы его убил.
Егор слегка расшевелил картины, вытащил из какого-то прощелка между подрамниками узкое, длинное полотно. Его все не оставляла мысль о возникновении узлов судьбы и вплетении в эти узлы чьей-то воли, способной навлечь на людей кошмар. Егор считал, что этой волей сейчас был он. Но то ли Бог, то ли еще кто повлиял на него усмирительно.
«Что человека на острие удерживает? Не говорите, что знаете. Никто не знает. Может быть, бабка моя меня удержала. Я думаю – бабка…» – говорил Егор много позже.
На узком, длинном, метра полтора, полотне был написан вечер, вернее – «Вечер в пустыне», а может быть, «Караван на склоне горы».
Зной оседает как муть. Небо мглистое, хотя и ни единой тучки на нем. И караван верблюдов уходит вдаль. Написана картина прозрачно, в серо-золотистой гамме. Там, где это нужно, попонки на верблюдах, тюки – лепными мазочками, как у Вермеера.
Мы прицепили картину к заднему борту транспортера, она поместилась как раз. Двери каретника закрутили на проволоку. И на всякий случай оттащили стружки подальше. Хотел я Егора оставить и Писателя Пе для охраны, но решил почему-то, что пик опасности для картин миновал, теперь они сохранятся.
Ехали молча, и я уверен, что все думали о какой-то давней своей удаче, такой, где они чудесным образом остались в живых. У меня в глазах блестело тихое круглое озеро в лесу под городом Бологое. Молчали птицы, молчали листья деревьев, и что-то необъяснимое и непрочное подплывало мне под ноги.
Может, для этого часа, для этих картин в Сан-Суси я тогда был спасен.
Генерал стоял, окруженный офицерами, все знакомые – наши, один капитан – чужой. Мы развернулись перед командиром бригады с достойной лихостью и подпятились к нему задним бортом.
Я выскочил из машины, доложил, что задание выполнено. Парк чист. Дворец Сан-Суси пуст. У дальних ворот парка, в каменном каретнике, – картины.
– Там сухие доски и очень много стружек. Случайная спичка, окурок – и картин не спасти.
Генерал смотрел на уходящий по склону караван.
– Снимите, – сказал он своему адъютанту.
Пока адъютант и Писатель Пе отвязывали картину, я показал на карте каретник. Генерал послал туда полувзвод автоматчиков из роты управления.
– А вы, – сказал он мне, – немедленно отправляйтесь к Люндорфской плотине. Там уже командир вашего взвода.
– Я настаиваю на строгом дисциплинарном взыскании, – возразил чужой капитан. – За хулиганское нападение на часового.
У генерала нашего было спокойное лицо с чуть прищуренными глазами, высокий рост и высокий лоб. Посмотрел генерал на капитанскую фуражку, нам даже показалось, что он имел намерение сбить с этой фуражки паучка или пылинку, но он заложил руки за спину.
– Потерпите, капитан, война скоро кончится, и они отсидят свое; я полагаю, об этом вы похлопочете. Можете идти, капитан… Да, приготовьтесь принять от нас картины по акту. Нужно, знаете ли, работать, а не куражиться у пустых дворцов… А вы что топчетесь, сержант? Задание получили и – бегом!
Я в машину взлетел. Саша-шофер дал газ. Но куда ехать, к какой плотине? Наш командир взвода стоял рядом с нашим генералом, и вид у него был такой, что мы ему как боевая единица совсем не знакомы, – может быть, даже, по его мнению, чересчур экзотичны.
Надо бы встать поперек своего пути. Самому для себя устроить плотину. Чтобы грустная вода памяти поднялась под горло, вскипела и, набрав мощи, привела в движение долота и сверла правды.
Собственно, о ком я в силах рассказать правду? Только о самом себе. Поэтому я не буду писать об атаках и языках – героическое не дает нам возможности быть к себе снисходительными. А без снисхождения к нам, беззаветным, правда станет неправдой.
Да, будучи хоть и озорным, но в высшей степени лояльным школьником-пионером, я выкалывал «козьей ножкой» глаза маршалу Блюхеру и маршалу Тухачевскому на портретах в школьном учебнике. Нынче они, уже не враги народа, поворачивают ко мне со страниц газет и журналов проколотые мною глаза и не видят меня.
Мы ослепили их. Нам не приказывали, мы ослепили их сами, по велению сердца. Нам приказывали заклеить портреты бумажкой. Но сердце наше было свободно от Бога. И сильна была наша воля.
И захотят ли обиженные мною маршалы по прошествии времени иметь там на небе меня рядом с собой?
Или там все слоями – пообидно?
И тогда мой слой те, у кого в здоровом теле крепко держался здоровый дух, кого футбол и мытые уши чаще всего заставляли быть впереди других. Этот слой, наверное, самый мощный, самый обширный. В нем нет ни гениев, ни пророков – известно, дурак дурака ничему хорошему не научит, – так кто же в нем есть?
В нем есть мы.
Бронетранспортер медленно катил по улицам Потсдама, вдоль скверов и трехэтажных домов с парадными дверями, застекленными и заглубленными в стену, с приличными небольшими колоннами серого камня и чистыми необшарпанными ступеньками, ведущими к этим парадным дверям. У дверей на стене, чаще всего серой или темно-бурой, оштукатуренной под дикий известняк, так мне помнится, были прибиты эмалированные квадратики с половинку игральной карты – номера домов. На синем поле белые цифры.
Егор стоял у заднего борта с малокалиберной винтовкой и стрелял по этим номерам. Пульки выкалывали в квадратиках эмаль. Было скучно. От скуки мы зябли. И все же когда Егор вложил винтовку в руки Писателя Пе, тот поднялся и прицелился в очередной номер и выстрелил. Нам стало еще скучнее. Писатель Пе мазал и бранился: мол, и трясет сильно, и не шофер, а водило необученное, и не машина, а шарабан.
Саша-шофер рассердился, остановил машину у тротуара.
– А пошел ты, – сказал.
Писатель Пе прицелился в номер, все ждали, что он снова промажет, надо было, чтобы он снова промазал, но он не стал стрелять.
– Музей, – сказал он и выпрыгнул.
Бронетранспортер стоял у трехэтажного особняка с двустворчатыми стеклянными дверями. По обе стороны дверей пилоны с каннелюрами, капители с ионическими загогулинами, над дверями герб, над гербом балкон – и какой-то во всем этом деле ампир, что-то конногвардейское.
А там, за дверями прозрачными, с начищенной медью, в просторном холле, в стеклянных шкафах-витринах экспонаты: роскошные мундиры с эполетами, шнурами, лентами, шлемы с плюмажами, с пиками на макушке, ботфорты и лаковые сапоги с высокими пятками, перчатки, ленты. Блеск золотых пуговиц и золотых позументов, синее и красное, черное и оранжевое, белое и серебряное.
Писатель Пе уже звонил в звонок. Тут же толпились все: Егор и Анатолий, Шаляпин, Паша Сливуха и я. Шофер Саша из машины не вылез.
– С одного музея мы уже схлопотали, – сказал он мрачно.
На звонок в холле появился старикашка с усохшей грудью и острыми плечиками – лысый и оттого ушастый. Выражение глаз его было настороженным, но не пугливым. Он был похож на старого лакея, который видел всяких господ, знает цену подкупу, шампанскому и благородным дамам. Был он в оттянутой на локтях вязаной бежевой кофте, толстых твидовых брюках, в толстой несвежей трикотажной исподней рубахе с начесом. Он застегнул кофту, чтобы рубаха из-под нее не выглядывала. И открыл дверь. А рубаха все равно высовывалась, и тонкая сморщенная птичья шея свободно проворачивалась в ее горловине.
Старик спросил, чего мы хотим. А Писатель Пе с подхалимской улыбочкой ответил ему:
– Музеум. Желаем посетить. Вен ман канн. Мы только что из Сан-Суси. Зер гут. Прекрасно. Шон.
Старик насупился, глаза его глубоко ушли под седые брови, он сделался похожим на старую, потерявшую память дворнягу или на сыча, упрямого и тупого; потом он вдруг закивал – «Музеум. Музеум…» – на его лице написалась какая-то блеснувшая ему надежда и некая хитроватая важность.
– Гешлоссен. Шлосс. – Старик попытался вежливо закрыть дверь, но Писатель Пе обнял его за плечи и внес в вестибюль, готовый, если надо, пол подмести.
– Верцайхунг, герр папаша. Мы интеллигентные люди.
Пять хищных рож сияли за его спиной.
– Шлос-с, – шипел старикашка, вяло шевелясь в объятиях Писателя Пе. Наверно, от нехватки воздуха голос его ослабел.
Тут вмешался Паша Сливуха. Отнял старикашку от Писателя Пе, кофту на нем поправил и взял разговор на себя. Когда Паша Сливуха вдохновлялся, он мог даже немного поговорить по-немецки. В сельской школе в Рязанской губернии он считался очень способным к языкам и математике.
– Не бойся, папаша, вир аккуратен. Хенде нихт немен.
Паша запер входную дверь, дав тем самым понять старикашке, что других славян, мало ли их тут будет шляться, он не допустит – только мы, интеллигентные люди, способные на причастность к духовным ценностям. Перед Пашиным внутренним взором полыхала пурпуром Дева с той громадной картины, спрятанной в каретном сарае, уходил караван, увозил бирюзу, улыбалась избежавшая злой пули мраморная Диана с нежной грудью, легко умещавшейся в его ладонь.
Старичок кашлял.
Мундиры в витринах были красивы. Шлемы парадны. Сапоги начищены. От всего этого так и веяло кайзером и Мендельсоном. Одежда генералов всегда немножко для дам. И древние бравые полководческие выкрики, наверное, были похожи на «ку-ка-ре-ку!».
В воздухе стоял запах свечи и сердечных капель.
На стенах в холле висели картины в золотых багетах – битвы и натюрморты со съестным припасом: дичью, фруктами и овощами.
По второму этажу холл опоясывала колоннада. На потолке цвета снега висела сердитая люстра.
Мы шли по широкой мраморной лестнице тесным клином. Впереди Писатель Пе, как самый из нас просвещенный.
Наверно, не туда мы шли – старичок прокашлялся, наконец суетливо забежал вперед, раскинул руки крестом и запаниковал, борясь с одышкой.
– Найн! Шлосс! Верботен! Хальт! – выкрикивал он.
– Вир аккуратен, – терпеливо возражал ему Паша. – Хенде нихт немен. – Паша готов был помочь старичку почистить картофель, выколотить ковер, вбить, если надо, гвоздь в стену – у Паши чесались тимуровские прививки. Он похлопал старичка по плечу и открыл первую от лестницы белую с виньетками дверь. За ней была спальня с неприбранной кроватью. Стоял тот же запах сердечных капель. Мы переглянулись. Но и тогда еще ничего не поняли.
А старичок мышкой забежал в следующую комнату с такими же молочно-белыми высокими дверями. И оставил двери открытыми.
Это был кабинет. Большой. Светлый. Строгий.
Когда мы, оробев, втянулись в него, старик сидел за письменным столом. Кулаком правой руки он опирался на колено, левую вытянул вдоль стола к лампе, отчего левое его плечо поднялось и круглая голова оказалась как бы на склоне гипотенузы – вот-вот покатится. Лицо его было поспешно гордым. Глаза окаймлены красными веками. И от этих красных век по щекам разбегались красные трещинки. Он был очень стар, но морщины не обезображивали его, к тому же по природе он, наверно, был смешливым.
И вот что – он не был жалок.
Он был потрясающе монументален в теплой исподней рубахе, окончательно овладевшей его воинственной шеей. На лысине у него темнело родимое пятно, как пупок, отчего голова делалась похожей на детский животик.
О господи, прости нас за грехи наши, но деда этого мы разглядывали сквозь влажную призму какой-то бессознательной, но безусловной симпатии.
На столе, большом, темного золотистого клена, под настольной лампой с золоченой ампирной подставкой и гофрированным абажуром из плотной мраморной бумаги, похожей на пергамент, стояла серебряная рамка и в ней портрет – рьяный кайзеровский генерал, усатый, с круглыми глазами, в шлеме с плюмажем.
Мы переводили взгляд с портрета на старика – это был он. Безусловно, он – реликт, хвощ, тираннозавр…
На стенах висели картины в багетах – баталии, пейзажи с руинами и впечатляющий портрет старика, тогда еще молодого генерала. На портрете он стоял ровно, без намека на малейшую вольность, стиснув колени и прижав локти к бокам, как на Большом Смотру перед кайзером.
Сейчас старикашка напоминал гимназиста, гримасничающего перед зеркалом в безнадежном порыве стать на минуточку отцом нации. От напряжения у старика вздулись вены на шее и на висках. Это его «ку-ка-ре-ку!» могло плохо кончиться. Все мы молчали.
Паша Сливуха вздыхал.
Вдруг он пошевелил старика за руку.
– Эх, гроссфатер. Найн зерсторен унзер херц. Гляйх шпрехен зофорт: «Их бин генераль-аншеф». А мы что? Мы вам митфухлен.
Что-то в старом генерале надломилось. Он упал грудью на стол, вытянул перед собой руки, сухими кулачками ударил по блестящему дереву. Паша Сливуха очень душевно погладил его по голове. Острые лопатки старика, как обломанные надкрылья, шевельнулись под вязаной кофтой.
И я, и Писатель Пе подумали об одном – о женщине, упавшей в обморок возле своей кровати, из которой мы вылезли, как из броневика. Но ей было легче, она могла, очнувшись, списать нас как галлюцинацию – болезнь измученного страхом мозга. У старика такой возможности не было…
Наверно, все же надо было бы ему надеть добротный костюм – на роль истопника он не годился, на роль шута – тем более. Но не было противника, равного ему по чину, он это предвидел, – не перед кем было шпагу ломать. А вот комедию…
Он застонал, заколотил кулачками по столешнице.
Мы вытолкались из кабинета. Но не ушли.
Егор и Анатолий на балкон вылезли, дверь туда была приоткрыта для воздуха. Писатель Пе исчез – наверно, наткнулся на граммофонные пластинки, отыскал Розиту Сирано. Шаляпин брякал на рояле собачий вальс. Паша Сливуха появился откуда-то взъерошенный, поманил меня в короткий коридорчик на задней стороне особняка.
Окна тут выходили в сад. Я думал, он кухню нашел с чем-нибудь вкусным, но он открыл незаметную среди прочих дверь.
Это была большая кладовка, снизу доверху набитая добротными кожаными сундуками и чемоданами. Ясное дело – хозяин в свое время много воевал и путешествовал, может быть даже в Африке.
– Ну и что? – спросил я.
– А то – почему он свою амуницию не поклал в сундуки, а выставил ее на обозрение? Почему не смылся перед нашим приходом?
– Старый потому что. Никому не нужный.
– Нет, он дает понять, что он чихал как на Гитлера, так и на нас. Это его такой надменный сарказм. Недаром он генерал-аншеф.
– Почему ты думаешь, что аншеф?
– А может, генерал-фельдмаршал…
Но тут послышалось:
– Комм, фрау, комм…
Мы с Пашей выскочили на галерею.
Ходоком у нас был Шаляпин. Но он играл собачий вальс.
Писатель Пе откуда-то с третьего этажа вел за руку женщину лет пятидесяти – может, генеральскую дочку, а может быть, генеральскую экономку, но очень важную.
Она шла сдаваться величественно и надменно.
Писатель Пе подвел ее к кабинету.
– Герр генераль весьма кранк. Паша, скажи ей, что у ее аншефа может случиться кровоизлияние в мозг. Ферштейн? – спросил Писатель у важной дамы. – Герр генераль ер бин гросе кранк. – Писатель Пе считался у нас знатоком медицины. Он роды принимал у коровы. На Украине. Литр самогона заработал.
Больше в генеральском доме нам делать было нечего. Мы попросили фрау, чтобы она за нами закрыла, и посоветовали ей либо занавесить двери шторой, либо убрать мундиры из витрин – эта отчаянная наглость старику уже не по годам и не по здоровью. Да и промашка в замысле – у наших солдат любознательность превалирует над почтительностью.
Она кивала, то ли улыбаясь нам напудренными щеками, то ли презирая. Что ж, она старика знала хорошо – ей было виднее.
У бронетранспортера мы нос к носу столкнулись с капитаном, желавшим нас засадить. Он обшарил нас взглядом – не тащим ли мы из этого особняка что-нибудь. Тогда бы он нас скрутил за мародерство – шкуры с носа ефрейтора для нашего ареста все же было, как ни верти, маловато. Потом капитан подошел к дверям.
– Музей! – сказал он удивленно. – Везет вам на музеи.
А мы ему сказали:
– Это не музей, капитан. В этом доме наш знакомый генерал-фельдмаршал проживает, старинный заслуженный антифашист. Вы уж приглядите за стариком, не сочтите за труд. Сердце у генерала-фельдмаршала от радостной встречи с нами частит. Мы на вас надеемся, капитан.
Комендантские капитаны любят хвататься за пистолет, но этот был все же умный. Он сказал даже не очень зло:
– Доберусь я до вас. Наглецы.
А там наверху, в кабинете, перед своим блистательным портретом умирал старик. Сам виноват, не нужно было даже в мелком лукавить. Надо было встретить нас в самом красивом парадном мундире и в шлеме с плюмажем. Мы представили себе старика – в красно-синем, с золотыми пуговками. Вот он спускается по мраморной лестнице. Останавливается на середине… И переламывает шпагу о колено. Можно было бы ее подпилить предварительно. А важная дама несет нам всем на серебряном подносе кофе. Мы говорим: «Зер гут. Гитлер капут».
И все-таки интересное дело – выбор врага. Для капитана врагами были, конечно, мы, причем уже давно, и, как враги, вызывали в нем самую сильную страсть – немцев он готов был любить. Он станет их благодетелем и в конце концов почетным гражданином города Потсдама и окрестностей. Для нас же врагами были не он и не его дурак-ефрейтор – мы о нем уже и позабыли, – у нас был впереди Берлин и многое другое. Впереди были мы сами.
О Мария, я понимаю, что не смог насытить ваше любопытство к неопрятному. Вот если бы мы изнасиловали важную напудренную даму! А умирающий старик – кому он нынче нужен?
Он нужен мне.
Когда мне в руки попадает школьная «козья ножка», я думаю о красных полководцах: маршале Блюхере и маршале Тухачевском.
От этих мыслей сдавливает виски. И тогда потсдамский старикан бросается на стол лицом, вытягивает руки и стучит кулачками по лакированной столешнице. Если бы не старческие пигментные пятна, не седые волосы на вздутых венах, его руки могли бы показаться детскими – своей беспомощностью. Такая судьба для красных маршалов была бы во сто крат страшнее.
Они зачтут мне то, что я дошел до Берлина, и встретят меня пускай не с распростертыми объятиями, но и не ослепленные обидой.
Писатель Пе (причудливый каприз, конечно) утверждает, что часто по ночам беседует со старым генерал-аншефом – о странных судьбах немецкого и русского народов, о волхвах, о феях. О том, что Крошка Цахес, один из самых изощренно современных персонажей, не вылупился из недр общественного сознания, как из фольклорно-инкубаторского яйца: Гофман был милосерден к людям – Крошку следует понимать как злой туман, поднимающийся по воле фей, на стыке романтического и меркантильного.
Вы же, Мария, требуете разоблачения волхвов, срывания покровов и упразднения непорочного зачатия, прекрасной выдумки зороастрийцев. Непорочное зачатие, Мария, как предприятие вне греха, вне войны и вне корысти, как предприятие, замысленное исключительно во имя грядущей Девы и грядущих знамен любви, более не ритуально – оно насущная необходимость всех.
Путеец поднял дочь. Прижал к груди. Постоял в растерянности, даже в смущении. Из его горла вырвался хрип, он сказал нам что-то, скорее всего: «Извините», притиснул девочку к себе, вскрикнул: «Господи!» – и пошел обратно в Дубцы, все убыстряя и убыстряя шаг.
Женщины глядели в центр круга, где только что лежало тело девочки, но вот их ситцевый венок смешался; плача, они сошли с пути: на ржавых шпалах, на щебне, среди пятен мазута алела кровь.
Потом я видел много крови, но никогда она не была такой акварельной.
Женщины шли чередой. Впереди молодая, с головой, похожей на осенний осиновый веник, и две ее большеглазые дочки. Позади всех, чуть приотстав, шагал я. Убитая девочка закрывала мои глаза ладошками, как совсем недавно еще закрывала отцу…
Но надежда сноровиста и живуча. Она пробилась в сознание словом «переправа»! Ну взорвали мост, разбомбили, победим – отстроим. Широкий и легкий, как лезвие бритвы. А на это время наладят переправу: буксир, баржу или речной пассажирский пароход, Волхов – река судоходная.
Мне представились молчаливые пожилые саперы, свайный пирс из тесаных желтых сосен. Саперы курят махорку. Лицо, шея, мысок на груди, кисти рук у них цвета хорошо копченных колбас, а вот лоб, плечи, руки – белые. Когда они моются, это видно. Острые топоры они заворачивают в вафельные полотенца.
Саперов не было.
Переправы не было.
Полувоенный и его сын-крепыш отчерпывали воду из полузатопленной зеленой лодки, принадлежавшей, наверно, смотрителю моста или обходчику – в ней лежали весла и форменная железнодорожная фуражка.
– Нас возьмите! – Женщины полезли в лодку и совсем ее утопили бы, но полувоенный сказал резко:
– Нельзя, гражданки! Лодка течет. – Он был хмур и правдив. – Сначала мы вдвоем переправимся на ту сторону – Вова без устали будет отчерпывать. Я достану там хорошую лодку, большую. Найду добровольцев на весла; может быть, даже катер. Переправим всех. Не волнуйтесь, гражданки, потерпите еще час-полтора.
Женщина с осиновым веником на голове долго глядела на тот берег. Дочки ее скинули сандалии, зашли в воду, и война отступила от них. Сначала они взялись брызгаться, потом сняли платья и поплыли – по дну руками.
Переправится полувоенный – за нами катер пришлют. Два катера!..
– Сына оставил бы, – сказала полувоенному женщина-веник. – Может, он уже там…
Ее поняли все, даже дети. Девочки вылезли из воды, схватили свои платья и сандалии.
– Что это вы? – с тревогой и возмущением сказал полувоенный. – Этого не может быть. Что это вы?.. – Он вгляделся в тот берег: глухие черные крыши, березы, снова крыши, тополя, как зеленые горы, и опять крыши. – Мы переправимся. Вова будет отчерпывать… – Полувоенный провел лодку по мелководью, впрыгнул в нее, расставил белые икрастые ноги и навалился на весла.
Мы смотрели, как они удаляются, как поклевывают лодку, пронзают ее насквозь солнечные ножи.
Посередине реки, в светлых нестрашных брызгах, без огня и грохота, лодка исчезла. Немцы вколотили в нее снаряд резко, как гвоздь в мокрую доску.
Женщины подхватили ребятишек, бросились от кромки берега в кусты.
Тихо стало. Так тихо бывает в зной. Солнечная метла запахала реку, и снова – нет горя.
Мы ждали: может быть, выплывет полувоенный, может быть, его сын-крепыш. Когда поняли, что никто здесь не выплывет – течением отнесет, чувство вины охватило нас всех, будто мы подтолкнули полувоенного, поторопили.
Женщины вдруг уставились на меня. Дыхание мое прекратилось, как в перетопленной бане.
– Возвращайтесь в Окуловку, – сказал я. – Оттуда на Кириши. Там, наверно, поезда идут. А я вниз по реке. Вам с ребятами не пройти, да и кто знает, что там…
Еще полчаса назад женщины, полные решимости и боевого духа, не стали бы меня слушать, даже смотреть не стали бы, но сейчас разум их повернулся в сторону реальности и здравого смысла. Кто-то попросил меня, если дойду, позвонить мужу. Другие тоже забеспокоились. Нашлась тетрадка, карандаш. Я записал телефоны и адреса. И они потянулись назад к Дубцам, вдруг уставшие и разобщенные. Осталась только «веник» с дочками.
– Мы с тобой, – сказала она. Ее дочки подошли ко мне, взяли за руки и строго, как младшие сестры, на меня посмотрели.
Мне стало неловко даже думать об их матери как о «венике». Но худа она была, и желтые волосы дыбом, хотя, я это уже понимал, не лишена женственности и привлекательности.
– Как вашу маму зовут? – спросил я девочек.
– Наталья.
В моде тогда были Ната и Тата. Наталья – звучало, как если бы Анну назвали Нюрка.
– Может, лучше «Наташа»?
– Не лучше. Она «Наташа» не любит. Так ее ейный муж называл. Она его ненавидит. «Наталья» – чего тебе не нравится.
– Наталья Сергеевна, – сказала «веник» с ухмылкой.
Это меня устроило.
– Пошли, – сказал я. – Наталья Сергеевна, вы себе отдаете отчет?
– Я никому отчетов не отдаю, даже себе, – сказала она.
Мы пошли. Девочки впереди, вприскочку. За ними Наталья Сергеевна. И, поотстав, я. Насвистывая.
Поселок вниз по реке назывался Волховская пристань.
На улице никого. И на самой пристани никого. И никаких пароходов.
Старик высунулся из будки. Сказал:
– Ушли пароходы – все уплыли…
Я сел на скамейку лицом к мосту. Его не было видно. Но я видел. Он был нарисован на небе – многоарочный и бесконечный.
Я любил мосты. Я верил в них. Верил в звезду, в слово, но больше всего в мосты. Мост для меня был главным знаком. Мне даже во сне мосты снились и снятся сейчас. Но особенно в детстве. Они вели меня в какой-то чудесный город, пропахший морем. Мне туда и сейчас очень хочется.
Мосты! Величественный Пон-дю-Гар, виадук Гарби, мосты через залив Ферт-оф-Форт, мосты Хокусая, мосты Марке, мосты деревянные, деревенские, над которыми неподвижно висят стрекозы.
Потом я взрывал мосты, и всегда у меня перехватывало дыхание, когда разламывалась сталь, ферма с хрустом, даже как бы со стоном, опускалась в воду. Это как человек, убитый у реки, – голова в воде, а ноги на берегу – это как бы двойная смерть.
До вечера я просидел на пристани. Наталья Сергеевна с дочками пошла разузнать «о возможностях транспорта» – так она выразилась.