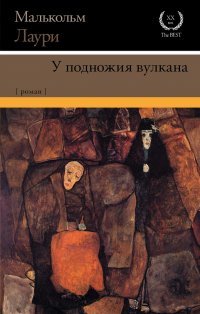Читать онлайн Услышь нас, Боже бесплатно
- Все книги автора: Малькольм Лаури
Neoclassic: проза
Malcolm Lowry
HEAR US O LORD FROM HEAVEN THY DWELLING PLACE
Перевод с английского
Издание печатается с разрешения Sterling Lord Literistic, Inc. и The Van Lear Agency LLC
© Margerie Bonner Lowry, 1961
© Malcolm Lowry, 1953
© Stuart Osborne Lowry, 1954
© Перевод. Т. Покидаева, 2023
© Перевод. И. Гурова, наследники, 2024
© Перевод. О. Сорока, наследники, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
- Гимн рыбаков с острова Мэн
- Услышь нас, Боже, с горней высоты!
- Как древле, без тебя изнемогаем.
- Ярится море, мрак непроницаем,
- Единый свет и упованье – ты.
- Бьет буря наши утлые челны.
- Яви же лик свой в незакатном блеске,
- Гряди, как встарь по водам Галилейским,
- Смири рукою мощной гнев волны…
- Неустрашимый кораблик
Неустрашимый кораблик
Был день соленых брызг и летящих клочьев пены, а с моря за горы, пророча дождь, уносились черные тучи, гонимые бешеным мартовским ветром.
Но чистый серебряный морской свет лился от горизонта, и само небо там было как сияющее серебро. А в неизмеримой дали, в Америке, оснеженный вулканический пик Маунт-Худ плавал в вышине, лишенный подножия, отсеченный от земли и все-таки слишком, слишком близкий, что было еще более верным предзнаменованием дождя, словно горы надвинулись на море или все продолжали надвигаться.
В парке у порта раскачивались огромные деревья, и самыми высокими были трагические Семь Сестер, созвездие из семи благородных кедров, которые простояли тут не одну сотню лет, но теперь умирали, изуродованные, с голыми, лишенными коры верхушками и засыхающими ветвями. (Они умирали, лишь бы не жить дольше в соседстве с цивилизацией. И тем не менее, хотя все давно забыли, что это название дали им в честь Плеяд, и считалось, будто местные патриоты нарекли их так в честь семи дочерей мясника, которые семьдесят лет назад, когда растущий город именовался Гэспул, танцевали все вместе в витрине какого-то магазина, ни у кого не хватало духа срубить их.)
Ангельские крылья чаек, круживших над верхушками деревьев, пронзительно белели на фоне черного неба. Снег, выпавший накануне ночью, тянулся далеко вниз по склонам Канадских гор, чьи оледенелые вершины, громоздящиеся друг над другом пирамиды и шпили рваной цепью уходили к северу, насколько хватал глаз. И надо всем – орел, нацеленный, как горнолыжник, без конца устремлялся вниз, на мир.
В отражавшем все это и еще многое другое зеркале старых автоматических весов, чье чело опоясывала надпись «Ваш вес и ваша судьба» и которые стояли на набережной между конечной остановкой трамвая и ларьком, где продавались рубленые бифштексы, в этом зеркале вдоль окаймленной камышами полосы воды, именуемой Потерянной Лагуной, приближались две фигуры в макинтошах – мужчина и прекрасная, полная огня девушка, оба простоволосые, оба поразительно белокурые, державшиеся за руки, так что они показались бы вам юными влюбленными, если бы не были похожи, как брат и сестра, и если бы теперь не стало видно, что мужчина, хотя его походка была по-юношески стремительной, выглядит старше девушки.
Мужчина – красивый, высокий и тем не менее коренастый, очень загорелый; при взгляде с более близкого расстояния, несомненно, много старше девушки, одетый в один из тех синих с поясом дождевиков, к которым привержены офицеры торговых судов всех стран, но без соответствующей фуражки (к тому же рукава плаща были ему коротки и вы могли разглядеть на запястье татуировку, а когда он подошел еще ближе, разобрать, что это как будто якорь), тогда как плащ девушки был из какого-то завораживающего древесно-зеленого вельвета – мужчина время от времени замедлял шаг, чтобы посмотреть на прелестное смеющееся лицо своей спутницы, и раза два оба они остановились, большими глотками впивая соленый чистый морской и горный воздух. Им улыбнулся ребенок, а они улыбнулись ему. Но ребенок был чей-то чужой, а эту пару не сопровождал никто.
В лагуне плавали дикие лебеди и очень много диких уток – кряквы, чирки-свистунки, шилохвости, нырки и кудахтающие черные лысухи с клювами, точно вырезанными из слоновой кости. Маленькие чирки часто взлетали с воды, а некоторые из них кружили, как горлицы, среди деревьев поменьше. Под этими деревьями, окаймлявшими берег, на откосе сидели другие утки, уткнув клювы в перья, которые ерошил ветер. Деревья поменьше были яблони и боярышник, уже начинавшие зацветать, прежде чем почки на них развернулись в листья, и плакучие ивы, с чьих веток на проходившую под ними пару сыпались маленькие ливни, потому что ночью прошел дождь.
По лагуне описывал широкие круги красногрудый крохаль, и вот на эту стремительную и гневную морскую птицу с гордым взлохмаченным хохолком смотрели теперь мужчина и девушка с особенным сочувствием – возможно потому, что он казался таким одиноким без своей подруги. А, они ошиблись! К красногрудому крохалю присоединилась его супруга, и с утиной внезапностью, оглушительно захлопав крыльями, две дикие птицы перелетели в другой конец лагуны. И почему-то простенькое это происшествие вновь сделало этих двух хороших людей (ведь почти все люди, которые гуляют в парках, хорошие) очень счастливыми.
Теперь вдалеке они увидели маленького мальчика, который под присмотром отца, встав на колени у самой воды, пускал плавать по лагуне игрушечный кораблик. Но порывистый мартовский ветер тут же опасно накренил крохотную яхту, и отец подтащил ее к берегу, зацепив изогнутой ручкой своей палки, и опять поставил на ровный киль перед сыном.
«Ваш вес и ваша судьба».
Внезапно лицо девушки совсем близко в зеркале весов сморщилось словно от слез; она расстегнула верхнюю пуговку плаща, поправляя шарф, и открыла золотой крестик на золотой цепочке, обвивавшей ее шею. Теперь на набережной у весов они были совсем одни, если не считать старичков, которые кормили уток внизу, и этого отца с сыном и игрушечной яхтой, но все они стояли к ним спиной, а пустой трамвай, внезапно рванувшийся назад в город, уже погромыхивал по маленькому конечному кругу; и мужчина, который все это время пытался раскурить трубку, обнял девушку и нежно ее поцеловал, а потом, прижавшись лбом к ее щеке, на мгновение привлек к себе.
Снова наискосок спустившись к лагуне, они теперь прошли мимо мальчика с корабликом и его отца. Они опять улыбались. То есть в той мере, в какой можно улыбаться, прожевывая рубленый бифштекс. И они все еще улыбались, когда обогнули заросли тонких камышей, где северо-западный дрозд-белобровник делал вид, будто он и не помышляет вить гнездо, – северо-западный дрозд-белобровник, который, подобно всем птицам в здешних краях, имеет право смотреть на человека сверху вниз, ибо он сам себе таможенник и может пересекать дикую границу, ни у кого не спрашивая разрешения.
Дальний берег Потерянной Лагуны густо зарос ариземой, чьи изгибавшиеся капюшонами листья с широким раструбом распространяли вокруг особый звериный запах. Двое влюбленных приближались теперь к лесу, где между старыми деревьями вилось несколько тропинок. Опоясанный морем парк был очень велик, и, как многим другим паркам северо-западной части Тихоокеанского побережья, ему было мудро дозволено в некоторой своей части сохранить первозданную дикость. Собственно говоря, несмотря на его уникальную красоту, вы вполне могли бы принять его за американский парк, если бы не «Юнион Джек», летящий в непрестанном галопе над одним из павильонов, и если бы в этот момент чуть повыше, на тщательно вписанном в ландшафт шоссе, которое через туннели серпантинами спускалось к подвесному мосту, не промелькнул патруль королевской канадской конной полиции, по-королевски оседлавший сиденья американского шевроле.
Перед лесом тянулся сад, где на укрытых от ветра клумбах цвели подснежники, а там и сям крокусы по два и по три поднимали из травы свои милые чашечки. Мужчина и девушка теперь, казалось, были погружены в глубокое раздумье – они шли прямо навстречу порывистому ветру, который взметывал шарф девушки у нее за спиной, как вымпел, и свирепо ворошил густые белокурые волосы мужчины.
До них доносились вопли вознесенного на фургон громкоговорителя где-то на улицах Енохвиллпорта, города, который составляли разбросанные на разных уровнях обветшалые полунебоскребы со всевозможным железным ломом на крышах, вплоть до разбитого самолета, а также заплесневелые биржевые здания, новые пивные, даже в разгар дня шевелящиеся ползучими пятнами света и больше всего похожие на гигантские общественные уборные для обоих полов с изумрудной подсветкой, кирпичные сараи с английскими кафе-кондитерскими, где вам погадает какая-нибудь родственница Максимилиана Мексиканского, тотемные фабрики, магазины тканей с лучшим шотландским твидом и с опиумными притонами в подвалах (при полном отсутствии баров, точно, подобно гнусному дряхлому развратнику, вместилищу всех тайных пороков, этот не знающий веселья город, паралично дрожа, проскрипел: «Нет-нет, это уж слишком! До чего тогда докатятся наши чистые мальчики?»), вишневое пылание кинотеатров, современные многоквартирные жилые дома и другие бездушные левиафаны, не укрывающие ли – как знать? – благородные незримые усилия и свершения литературы, драматургии, живописи или музыки, лампу ученого и отвергнутую рукопись или же неописуемую нищету и духовное падение; между этими городскими приманками там и сям были втиснуты прелестные, темные, увитые плющом старинные особняки, которые, казалось, тихо плакали, упав на колени, отрезанные от света, а на других улицах – разорившиеся больницы и один-два массивных банка, ограбленные нынче днем, и среди всего этого кое-где далеко позади грустных, никогда не бьющих, черно-белых курантов, чьи стрелки показывали три, торчали карликовые шпили, венчающие деревянные фасады с почерневшими окнами-розетками, нелепые закопченные купола в форме луковиц и даже китайские пагоды, а потому вы сперва думали, будто попали на Восток, затем – в Турцию или Россию, хотя в конце концов, если бы не тот факт, что некоторые из этих сооружений были церквами, вы пришли бы к выводу, что очутились в аду; но, впрочем, всякий, кто побывал-таки в аду, уж конечно, кивнул бы Енохвиллпорту как старому знакомому, еще более укрепившись в своем мнении при виде многочисленных и на первый взгляд довольно живописных лесопилен безжалостно дымящих и чавкающих, как демоны – Молохов, питаемых целыми горными склонами лесов, которым больше не вырасти, или деревьями, уступающими место ухмыляющимся полкам коттеджей на заднем плане «нашего растущего красавца-города», лесопилен, чей грохот заставляет содрогаться самую землю и претворяется на ветру в плач и скрежет зубовный; все эти курьезные достижения человека, в совокупности составлявшие, как мы выражаемся, «жемчужину Тихого океана», словно по крутому уклону уходили к порту, более ошеломительному, чем Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско, вместе взятые, где под всевозможными углами друг к другу на многих милях рейда стояли на якоре грузовые суда, но где единственными видимыми на этом берегу человеческими жилищами, которые как-то гармонировали с этой романтико-героической панорамой и обитатели которых еще могли считаться ей сопричастными, были, как ни парадоксально, десятка два жалких самодельных лачуг и плотовых домиков, точно вышвырнутых из города к самой воде и даже в море, где они стояли на сваях, как рыбачьи хижины (причем некоторые из них, несомненно, и были рыбачьими хижинами), или на катках, потемневшие и ветхие или недавно со вкусом покрашенные – эти последние явно строились так и в таком месте, потому что это отвечало внутренней человеческой потребности в красоте, хотя над ними и тяготела вечная угроза изгнания, и все они, даже самые угрюмые, стояли, дымя гофрированными жестяными трубами, словно игрушечные каботажные пароходики, как будто бросали городу вызов перед ликом вечности. В самом Енохвиллпорте неоновые жутковатых оттенков вывески уже давно начали свою бегущую дергающуюся пляску, которую ностальгия и любовь преображают в поэзию тоски; одна замерцала чуть веселее: «ПАЛОМАР – ЛУИС АРМСТРОНГ И ЕГО ОРКЕСТР». Огромный новый серый мертвый отель, который с моря мог показаться вехой романтических чувств, изрыгал из-за зубчатого кладбищенского парапета клубы дыма, словно в нем разгорался пожар, а за ним сверкали фонари в мрачном дворе суда (также казавшегося с моря местом свидания сердец), где один из каменных львов, недавно взорванный, был благоговейно прикрыт белой простыней и где внутри уже месяц группа незапятнанных обывателей судила шестнадцатилетнего подростка за убийство.
Ближе к парку по словно обсыпанному галькой фасаду клуба Ассоциации молодых христиан, он же варьете, заструились лампочки, глася: «ТАММУЗ великий гипнотизер, сиводня 8.30», а мимо бежали трамвайные рельсы, по которым к парку двигался новый трамвай, и их можно было проследить взглядом до самого универсального магазина, где в витрине жертва таммузовских пассов – быть может, склонная поспать правнучка Семи Сестер, чья слава затмила даже славу Плеяд, но во всеуслышанье провозглашавшая свое намерение стать женщиной-психиатром, – вот уже три дня сладко и публично дремала на двуспальной кровати, загодя рекламируя представление, объявленное на нынешний вечер.
Над Потерянной Лагуной на шоссе, которое теперь поднималось к подвесному мосту, точно идущая крещендо джазовая мелодия, газетчик кричал: «СЕН-ПЬЕР ПРИГОВОРЕН К ПЛЕТЯМ! ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК, УБИЙЦА РЕБЕНКА, БУДЕТ ПОВЕШЕН! ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!»
Погода тоже была зловещей. И все-таки при виде этих влюбленных другие прохожие на берегу лагуны – солдат-инвалид, который курил сигарету, лежа на скамье, и двое-трое из тех сирых душ, тех глубоких стариков, которые бродят в парках (ведь, оказавшись перед выбором, глубокие старики иной раз предпочитают не сохранить комнату и умереть от голода, во всяком случае в подобном городе, а как-то находить пропитание и жить без крова), – тоже улыбались.
Ибо, пока девушка шла рядом с мужчиной, опираясь на его руку, пока они вместе улыбались и с любовью глядели друг на друга или останавливались, чтобы посмотреть на парящих чаек и на вечно изменчивую панораму оснеженных канадских гор, на их пушистые густо-синие провалы, или прислушаться к торжественной звучности раскатистого рева грузового теплохода (именно из-за всего этого свирепые енохвиллпортские олдермены и воображают, будто их город красив сам по себе, и, может быть, они не так уж и ошибаются), к гудку парома, который наискось пересекал узкий внутренний залив, направляясь на север, какие только воспоминания не пробуждались у бедняги солдата, в сердце обездоленных, одряхлевших и даже (как знать?) у конных полицейских – и не только о юной любви, но и о влюбленных, подобно этим исполненных такой любви, что они боялись потерять хоть секунду из времени, которое им дано провести вместе?
И все же лишь ангел-хранитель этой пары мог бы знать (а у них, несомненно, был ангел-хранитель) то самое странное из всего странного, о чем они думали, но, впрочем, они столько раз говорили об этом прежде, и особенно, если выпадал случай, именно в этот день года, что каждый, разумеется, знал, о чем думает другой, а потому для нее не были неожиданностью – но лишь чем-то вроде вступления к священному ритуалу – слова мужчины, когда они вышли на главную лесную аллею, где сквозь укрывающие их от ветра ветви порой можно было разглядеть, точно обрывок нотной записи, фрагмент подвесного моста.
– Это был совсем такой день, как сегодня, – день, когда я пустил плыть кораблик. Это было двадцать девять лет назад в июне.
– Это было двадцать девять лет назад в июне, милый. И это было двадцать седьмого июня.
– Это было за пять лет до твоего рождения, Астрид, и мне было десять лет, и я пришел в бухту с моим отцом.
– Это было за пять лет до моего рождения, и тебе было десять лет, и ты пришел на пристань со своим отцом. Твой отец и дед вместе сделали тебе кораблик, и он получился отличный – десять дюймов в длину, хорошо отлакированный и склеенный из планок, взятых из твоего авиаконструктора, и у него был новый крепкий белый парус.
– Да, это были бальсовые планки из моего авиаконструктора, и мой отец сидел рядом со мной и говорил мне, что написать в письме, которое я в него положу.
– Твой отец сидел рядом с тобой и говорил тебе, что написать, – засмеялась Астрид, – и ты написал:
Здравствуйте!
Меня зовут Сигурд Сторлесен. Мне десять лет. Сейчас я сижу на пристани в Фирнот-Бей (графство Клэллем, штат Вашингтон, США), в пяти милях к югу от мыса Флаттери по тихоокеанскому берегу, и мой папа тут рядом говорит, что мне написать. Сегодня 27 июня 1922 года. Мой папа – лесничий Национального парка Олимпик, а мой дедушка – смотритель маяка на мысе Флаттери. Рядом со мной стоит маленькая блестящая лодочка, которую вы сейчас держите в руке. День ветреный, и папа говорит, чтобы я пустил лодочку в воду, когда я вложу в нее это письмо и приклею крышку, а это бальсовая дощечка из моего авиаконструктора.
Ну, мне нужно кончать письмо, но прежде я хочу попросить, чтобы вы написали в «Сиэтл стар», что вы ее нашли, потому что с этого дня я буду читать эту газету и искать в ней заметку, кто, когда и где ее нашел.
Большое спасибо.
Сигурд Сторлесен
– Да, и тогда мы с отцом положили письмо внутрь, и приклеили крышку, и запечатали ее сургучом, и спустили кораблик на воду.
– Ты спустил кораблик на воду, и шел отлив, и потащил его в море. Его сразу подхватило течение, и ты следил за ним, пока он не скрылся из виду.
Теперь они вышли на поляну, где в траве резвились серые белки. Там стоял чернобровый индеец, всецело поглощенный благим делом, – у него на плече сидела толстая черная белка и грызла воздушную кукурузу, которую он доставал для нее из бумажного мешочка. И они вспомнили, что надо купить арахиса для медведей, чьи клетки располагались неподалеку.
«Ursus horribilis»; теперь они бросали арахис грустным неуклюжим сонным зверям (впрочем, эти двое гризли были вместе и даже обладали чем-то вроде дома), настолько сонным, что, может быть, они даже не сознавали, где находятся, и все еще грезили о буреломе и зарослях голубики в Кордильерах, которые Астрид и Сигурд снова видели сейчас в просветах между деревьями прямо перед собой по ту сторону бухты.
Но разве они могли не думать о кораблике?
Двенадцать лет странствовал он. В зимние бури и на солнечных летних валах какие только движения прилива не играли с ним, какие только морские птицы – буревестники, бакланы, поморники, устремляющиеся за бурлящим следом корабельных винтов, темные альбатросы этих северных вод – не кидались на него с высоты, и теплые течения лениво несли его к суше, и голубые течения увлекали его следом за тунцами, туда, где белыми жирафами вставали рыболовные суда, или дрейфующий лед швырял его взад и вперед у дымящегося мыса Флаттери. Быть может, он отдыхал, покачиваясь в укрытой бухте, где касатка взбивала пеной глубокую прозрачную воду; его видели орлы и лососи, тюлененок глядел на него изумленными круглыми глазами – и все лишь для того, чтобы волны выбросили кораблик на берег в дождливых отблесках предвечернего солнца, на жестокие, обросшие ракушками скалы и оставили в мелкой лужице глубиной в дюйм, чтобы он перекатывался с боку на бок, точно живое существо или бедная старая жестянка, вся избитая и вышвырнутая на пляж; они поворачивали его, снова крутили, оставляли на камнях и снова выбрасывали еще на ярд выше или затаскивали под сваи одинокой посеревшей от соли лачужки, и он всю ночь доводил до исступления рыбака с сейнера своим жалобным тихим постукиванием, а на темной осенней заре его уносил отлив, и он опять пускался в путь над океанскими безднами и под раскаты грома причаливал к неведомому, страшному и неприютному берегу, который известен лишь ужасному Вендиго, и там даже индеец не мог бы найти его – непривеченного, заблудившегося, а потом он вновь уносился в море с великим клокочущим черным январским приливом или с огромным спокойным приливом под полной летней луной, чтобы продолжать и продолжать свое плавание…
Астрид и Сигурд подошли к большой вольере чуть в стороне от дороги, где два канадских клена (багряные кисточки, изящные предшественники листьев, уже пробивались на их ветках) возносили свои стволы над крышей, а укромная пещера сбоку служила логовом, и все вместе, если исключить переднюю стенку из прутьев, было затянуто толстой сеткой с крупными ячейками, которая считалась надежной защитой от одного из самых сатанинских зверей, еще обитающих на земле.
В клетке жили двое животных, пятнистых, как обманчиво пастельные леопарды, и похожих на изукрашенных буйнопомешанных кошек – их уши были снабжены большими кисточками, и, словно злобно пародируя канадские клены, такие же кисточки свисали с их подбородков. Их ноги были длиной с руку взрослого мужчины, а лапы, одетые серым мехом, из которого внезапно возникали когти, изогнутые, как ятаганы, не уступали по величине его сжатому кулаку.
И эти два прекрасных демонических существа без конца мерили и мерили шагами свою клетку, обследуя основание решетки, сквозь прутья которой как раз можно было просунуть смертоносную лапу (и всегда на безопасном расстоянии в один воробьиный скачок от нее почти невидимый воробей продолжал что-то клевать в пыли), с неутолимой кровожадностью высматривая добычу и в тщетном отчаянии пытаясь найти какую-нибудь лазейку наружу, ритмично встречаясь и расходясь, точно проклятые души под гнетом необоримых чар.
И все время, пока они следили за страшными канадскими рысями, в зверином облике которых словно воплотилась вся первобытная ярость природы, пока они сами грызли арахис, передавая друг другу мешочек, перед глазами влюбленных по-прежнему плыл, борясь с волнами, крохотный кораблик, игрушка еще более бешеной ярости, – плыл все годы до рождения Астрид.
О, как безмерно одинок был он среди этих вод, среди этой пустыни бурных дождливых морей, где нет даже морских птиц, во власти переменчивых ветров или исполинской мертвой зыби, которая приходит с безветрием по стопам урагана; а затем ветер задувал вновь и гнал над морем соленые брызги, точно дождь, точно мираж сотворения мира, гнал крохотный кораблик, и тот карабкался по крутым кряжам к небесам, откуда били шипящие кобальтовые молнии, и нырял в бездну, и уже снова карабкался вверх, а все море, исчерченное гребнями пены, курчавой, как руно ягненка, неслось мимо него в подветренную сторону, все необъятное увлекаемое луной пространство, подобное лугам, долинам и снежным хребтам какой-то мечущейся в горячке Сьерра-Мадре, в непрестанном движении, взмывая и падая – и маленький кораблик взмывал и падал в парализующее море белого текучего огня и курящихся брызг, которое, казалось, одолевало его; и все это время – звук, подобный пронзительному пению и тем не менее последовательно гармоничный, как звон телеграфных проводов, или как немыслимо высокий вечный звук ветра там, где некому его слушать; и может быть, его вовсе нет или же это призрак ветра в снастях давно погибших кораблей, а может быть, это был звук ветра в его игрушечных снастях, когда кораблик вновь устремлялся вперед; но и тогда – какие неизмеренные глубины пришлось ему пересечь, пока неведомо какие зловещие птицы не повернули наконец ради него к небесам, пока неведомые железные птицы с сабельными крыльями, вечно стригущие мутную мглу над безграничностью серых валов, не передали ему, одинокому нетонущему суденышку, свое таинственное умение находить родину, подталкивая его клювами под золотыми закатами в синем небе, когда он подплывал к горным облачным берегам, над которыми горели звезды, или вновь – к пылающим берегам на закате, когда за эти двенадцать лет он огибал не только чудовищные, похожие на печи для сжигания опилок на лесопильнях, забрызганные пеной рифы мыса Флаттери, но и другие неизвестные мысы, гигантские шпили, образы и подобия нагой опустошенности, к которым выброшенное на них сердце пригвождено навек! И самое странное – сколько настоящих кораблей грозило ему гибелью во время этого путешествия протяженностью всего в пять-шесть десятков миль по прямой от места, где он пустился в плавание, и до порта прибытия, когда они возникали из тумана и, не причинив ему вреда, проходили мимо все эти годы (а ведь это были и последние годы парусных кораблей, которые, поставив все паруса вплоть до трюмселей, проносились мимо навстречу своему небытию): суда, груженные пушками или сталью для надвигающихся войн, и те грузовые пароходы, ныне покоящиеся на дне морском, на которых плавал он сам, Сигурд, пароходы, чьи трюмы наполнены старым мрамором, и вином, и вишнями в морской соли, и те, чьи машины и теперь все еще где-нибудь тихо напевают: «Frère Jacques! Frère Jacques!»
Что это была за дивная поэма о милосердии Божьем!
Внезапно у них перед глазами вверх по дереву у клетки взбежала белка и, пронзительно зацокав, прыгнула вниз и шмыгнула по верхней сетке. Тут же быстрая и смертоносная, как молния, одна из рысей взвилась на двадцать футов вверх, прямо к белке на крыше клетки: от удара ее тела проволока звякнула, словно гигантская гитара, а над сеткой мелькнули ятаганы когтей. Астрид вскрикнула и спрятала лицо в ладонях.
Однако белка, целая и невредимая, уже грациозно пробежала по другой ветке, потом вниз по стволу и скрылась из виду, но разъяренная рысь снова взметнулась прямо вверх, и снова, и снова, и снова, а самка, припав к земле, шипела и рыгала внизу.
Сигурд и Астрид рассмеялись. Затем они смутно почувствовали, что все это несправедливо по отношению к рыси, которая теперь угрюмо вылизывала морду подруги. Невинная белочка, удачному бегству которой они так обрадовались, словно проделала все это напоказ и в отличие от поглощенного своим делом воробья как будто нарочно дразнила запертого в клетке зверя. После недолгого размышления им уже казалось, что такое спасение в последний миг от почти верной гибели – тысяча шансов против одного – событие самое будничное, повторяющееся чуть ли не каждый день, а потому оно утрачивало смысл. И тут же им представилось, что факт их присутствия при этом был, наоборот, исполнен смысла.
– Ты знаешь, как я прочитывал каждый номер газеты и ждал, – говорил Сигурд, пригибаясь, чтобы разжечь трубку, когда они пошли дальше.
– «Сиэтл стар», – сказала Астрид.
– «Сиэтл стар»… Моя самая первая газета. Отец утверждал, что кораблик уплыл на юг, может быть в Мексику, но дедушка, насколько помню, не соглашался: если только он не разбился на Татуше, течение унесло его прямо в пролив Хуан-де-Фука, а может, даже и в самый залив Пьюджет-Саунд. Ну, я еще долго пролистывал номера газеты и ждал, но в конце концов, как это бывает с детьми, я перестал их листать.
– А годы шли…
– И я вырос. Дедушка тогда уже умер. А отец… ты все это знаешь. Ну, теперь он тоже давно в могиле. Но я не забывал. Двенадцать лет! Только подумать… Он же плавал дольше, чем мы с тобой женаты.
– А мы женаты уже семь лет…
– Сегодня исполняется семь лет…
– Это кажется чудом!
Но их слова падали перед мишенью этого факта, словно стрелы на излете.
Они покинули лес и шли теперь между двумя длинными рядами японских вишен, которым через месяц предстояло преобразиться в воздушную аллею небесного цветения. Потом вишни остались позади и вновь показался лес – справа и слева от широкой вырубки, огибая два рукава бухты. Когда по пологому склону они начали спускаться к морю здесь, в стороне от порта, ветер сразу засвежел; чайки, сизые и сиплые, с воплями кружили и планировали в вышине и внезапно оказались уже далеко в море.
И перед ними теперь лежало море, у подножия откоса, который переходил в крутой пляж, – нагое море, колышущее внизу свои глубокие воды, без гранитной облицовки, без набережных или приветливых хижин, хотя слева и виднелись хорошенькие домики и одно окно было освещено, ласково сияя сквозь деревья на самой опушке леса, словно какой-то могучий канадский Адам хладнокровно прокрался со своей Евой назад в рай под пылающим мечом муниципального херувима.
Был отлив. Вдали от берега пенные валы убегали за мыс. Буйное отступление потока чеканного серебра было таким стремительным, что казалось, будто самая поверхность моря уносится прочь.
Дорожка перешла в шлаковую тропинку у знакомой подветренной стороны старого дощатого строения – пустого кафе, заколоченного еще с прошлого лета. Сухие листья ползли по крыльцу, за которым на откосе справа, под бушующей березовой рощицей, лежали перевернутые скамьи, столики, сломанные качели. От рева отступающего отлива все здесь и дальше казалось холодным, печальным, нечеловеческим. И однако, между влюбленными было то, что струилось подобно теплу и могло бы распахнуть ставни, поставить скамьи и столики на ножки и наполнить рощицу летними голосами и детским смехом. Под защитой павильона Астрид приостановилась, держа ладонь на локте Сигурда, и сказала слова, которые она тоже уже много раз говорила прежде, а потому они всегда повторяли их, почти как напевные заклинания:
– Я никогда не забуду его. Тот день, когда мне исполнилось семь лет и я пришла сюда в парк на пикник с папой, мамой и братом. После завтрака мы с братом спустились на пляж поиграть. Был прекрасный летний день и полный отлив, но ночью прилив был очень высок, и там, где он повернул назад, лежали полосы плавника и водорослей… Я играла на пляже, и я нашла твой кораблик!
– Tы играла на пляже, и ты нашла мой кораблик. И мачта была сломана.
– Мачта была сломана, а парус висел грязными унылыми лохмотьями. Но твой кораблик был все еще цел и невредим, хотя его покрывали царапины и следы непогоды, и от лака ничего не осталось. Я побежала к маме, и она увидела сургуч над люком, и, милый, я нашла твое письмо.
– Ты нашла наше письмо, милая моя.
Астрид вынула из кармана листок, и, вместе держа его, они наклонились (хотя буквы уже почти невозможно было разобрать и они все равно знали его наизусть) и прочитали.
– «Здравствуйте!
Меня зовут Сигурд Сторлесен. Мне десять лет. Сейчас я сижу на пристани в Фирнот-Бэй (графство Клэллем, штат Вашингтон, США), в пяти милях к югу от мыса Флаттери на тихоокеанском берегу, и мой папа тут рядом говорит, что мне написать. Сегодня 27 июня 1922 года. Мой папа – лесничий Национального парка Олимпик, а мой дедушка – смотритель маяка на мысе Флаттери. Рядом со мной стоит маленькая блестящая лодочка, которую вы сейчас держите в руке. День ветреный, и папа говорит, чтобы я пустил лодочку в воду, когда я вложу в нее это письмо и приклею крышку люка, а это бальсовая дощечка из моего авиаконструктора.
Ну, мне нужно кончать письмо, но прежде я хочу попросить, чтобы вы написали в «Сиэтл стар», что вы ее нашли, потому что с этого дня я буду читать эту газету и искать в ней заметку, кто, когда и где ее нашел.
Большое спасибо.
Сигурд Сторлесен».
Они спустились на пустынный унылый пляж, где громоздился плавник, который изваяли, закрутили в спирали, высеребрили и набросали повсюду приливы, такие исполинские, что полоса водорослей и обломков тянулась по траве далеко позади, и огромные бревна, и чурбаки, и сведенные судорогой коряги, подобные распятиям или замороженные в пламени ярости, и самое лучшее – несколько поленьев, прямо просящихся в печку, так что они машинально выбросили их за пределы досягаемости волн для неведомого прохожего, памятуя собственные нищие зимы, – и еще коряги, возле рощи и высоко на выкошенных морем лесистых обрывах по обеим сторонам, где, тоскуя над водой, росли изуродованные деревья. И повсюду, куда они ни бросали взгляд, валялись обломки – дань, собранная бешенством зимы: разбитые курятники, разбитые буи, разбитая стена рыбачьей хижины из когда-то аккуратно пригнанных досок, теперь разошедшихся, с торчащими гвоздями. И самый пляж носил на себе следы этой ярости – гряды, волны и завалы из гальки и ракушек, через которые им то и дело приходилось перебираться. А рядом – жутковатые гротескные дары моря, пропитанные его бодрящим йодистым запахом: бредовые клубни ламинарий, точно старые автомобильные клаксоны, скрепляющие бурые атласные ленты в двадцать футов длиной, фукусы, похожие на демонов или на сброшенные тщательно очищенные панцири злых духов. И снова обломки: сапоги, настенные часы, рваные рыболовные сети, развороченная рулевая рубка и возле на песке – искареженный штурвал.
И лишь на мгновение удавалось осознать, что вся эта картина, проникнутая ощущением смерти, гибели и опустошенности, была лишь видимостью, что под плавником, под обломками, даже под ракушками, которые они давили, в струях зимных ручейков, через которые они перепрыгивали, у границы прилива, как и в лесу, шевелилась и потягивалась жизнь, шло кипение весны.
Когда Астрид и Сигурд на миг укрылись за вывороченным с корнями деревом у одного из нижних валов гальки, они вдруг заметили, что тучи над морем рассеялись, хотя небо было не синим, а по-прежнему ярко-серебряным, и они различали теперь – или, во всяком случае, им так казалось – цепь островов, замыкающих ширь пролива. На горизонте резало волны одинокое грузовое судно с поднятыми стрелами. Еще удавалось уловить очертания Маунт-Худа, но, возможно, это были облака. А на юго-востоке, на пологом подножии горы, они заметили треугольник омытой бурями зелени, словно вырезанный в нависшей там серой мгле, и в нем – четыре сосны, пять телеграфных столбов и расчищенную площадку, похожую на кладбище. Позади них льдистые горы Канады спрятали яростные пики и снежные обвалы под еще более яростными облаками. И они увидели, что море посерело от белых гребней, от забурливших вдали течений и от брызг, летящих не к скалам, а от них.
Но когда их захлестнула полная сила ветра, они, посмотрев от берега, увидели хаос. Ветер уносил прочь их мысли, их голоса, даже самые их чувства, а они шли, дробя раковины, смеясь и спотыкаясь. И когда наконец они вынуждены были остановиться, продолжая держаться за руки, они уже не могли различить, соленые брызги или дождь хлещут и жалят их лица – клочья пены, унесенные с моря, или дождь, из которого родилось море… Вот к этому берегу, через этот хаос эти течения принесли из прошлого их маленький кораблик с его безыскусственной вестью, чтобы он наконец обрел безопасность и дом.
Но через какие бури пришлось им пройти!
Через Панамский канал
Из дневника Сигбьёрна Уилдернесса
- Frère Jacques
- Frère Jacques
- Dormez-vous?
- Dormez-vous?
- Sonnez les matines!
- Sonnez les matines!
- Ding dang dong
- Ding dang dong…[1]
Нескончаемая корабельная песня.
Грохот машин: повторяющийся бесконечный канон…
Выходим из Ванкувера, Британская Колумбия, Канада, в полночь 7 ноября 1947 года, на пароходе «Дидро» курсом на Роттердам.
Дождь, дождь и хмурое небо весь день.
Приезжаем в порт в сумерках, под моросящим дождем. Все вокруг мокрое, темное, скользкое. Погрузочная площадка освещена тусклыми желтыми фонарями, расположенными далеко друг от друга. Черные геометрические контуры на фоне темного неба. Местами – точечные скопления света. На корабль загружают картонные коробки с маркировкой «Сделано в Канаде».
(Сегодня утром, во время прогулки по лесу, внезапный наплыв волнения: размокшая тропинка, топкая грязь, грустные деревья, плачущие дождем, охряные опавшие листья; вот оно. Не верится, что уже завтра меня здесь не будет.)
Мы с Примроуз – единственные пассажиры на грузовом судне. Вся команда – бретонцы. Корабль американский, идет под французским флагом. Пароход класса «Либерти» водоизмещением 5000 тонн, скорость на полном ходу – 10 узлов, электросварной корпус.
Грузчики уходят, на борт поднимается шкипер. Ощущение скорого отбытия нарастает. Часы идут, ничего не происходит. Мы пьем ром в каюте старшего артиллериста, между шкипером и радистом. Примроуз надела все свои мексиканские серебряные браслеты, напряженно спокойная, наэлектризованно красивая и взволнованная.
Затем: сотрудники иммиграционного ведомства, весьма обходительные и радушные. Все вместе пили коньяк в каюте у шкипера.
Затем: зазвонили колокола, матросы отдали швартовы, с капитанского мостика прозвучали команды, и – внезапно, неспешно – мы отошли от причала. Тонкая полоса черной маслянистой воды становилась все шире… Черные тучи раздались в стороны, в небе вспыхнули звезды.
Северный Крест.
8 ноября. Крепкий соленый ветер, ясное синее небо, чертовски неспокойное море (бурные приливные течения) в проливе Хуан-де-Фука.
…Китовые очертания мыса Флаттери: плавниковый, фаллический, свирепый лик Флаттери.
Мыс Флаттери, чьи скалы, забрызганные морской пеной, похожи на печи для сжигания опилок на лесопильнях.
…Значимость выхода в море 7-го числа. Смысл в том, что Мартин, персонаж романа, который я так отчаянно пытаюсь закончить хотя бы в первом черновом варианте (прекрасно понимая, что в этом путешествии, которое продлится ровно 7 недель, я все равно не буду работать), всегда боялся пускаться в путь именно в седьмой день каждого месяца. Изначально мы собирались в Европу не раньше января. Потом нам сообщили, что январский рейс отменен и, если мы вообще хотим ехать, нам стоит плыть на «Дидро», который выходит из Ванкувера 6 ноября. В итоге он вышел 7-го. Однако самая фатальная дата для Мартина Трамбо – 15 ноября. Впрочем, если нам не придется отбыть из Лос-Анджелеса 15 ноября, все будет хорошо. Зачем я это пишу? Смысл еще и в том, что речь в романе идет о писателе, оказавшемся втянутым в сюжет романа, который написал он сам, как происходило со мной в Мексике. А теперь меня затягивает в сюжет романа, даже толком не начатого. Идея отнюдь не нова, во всяком случае, в том, что касается сближения с собственными персонажами. Гёте, «Наперегонки с тенью» Вильгельма фон Шольца. Пиранделло и т. д. Но точно ли с ними происходило что-то подобное?
Превратить поражение в победу, фурий – в воплощение милосердия.
…Неизбывное, немыслимо опустошительное ощущение, что у тебя нет права быть там, где ты есть; волны неистощимой душевной муки, преследуемой безжалостным альбатросом собственного «я»[2].
Альбатрос тоже присутствует.
Мартин думал о мглистом восходе зимнего солнца, проникающем в окна их домика; о крошечном солнце в обрамлении оконного переплета наподобие миниатюрной картинки, о белом, призрачном солнце с тремя деревьями в нем, хотя других деревьев было не видно, о солнце, что отражалось в заливе, в волнах спокойного ледяного прилива. Боюсь, как бы в наше отсутствие с домом чего не случилось. Роман будет называться «Тьма, как в могиле, где лежит мой друг»[3]. О доме лучше не говорить, чтобы не испортить Примроуз путешествие. Неприемлемое поведение: вспомним Филдинга с его водянкой, вспомним его путешествие в Португалию[4]. Как его поднимали на борт с помощью лебедок. Джентльмен до мозга костей, потрясающее чувство юмора. Ему периодически делали проколы, чтобы выкачать из него воду. Гм.
Опустошительное ощущение отчуждения, возможно, всеобщее чувство неприкаянности.
Тесная каюта – вот твое очевидное место на этой земле.
Каюта старшего артиллериста.
Прелюбопытные угрызения совести от того, что не дал чаевых стюарду. Кому давать чаевые? Не хочется никого обижать.
Ужас Стриндберга перед использованием людей. Когда используешь собственную жену в качестве кролика для вивисекции. Лучше использовать себя самого, так благороднее. К сожалению, и эта идея отнюдь не нова.
Фицджеральда спасла бы жизнь в нашем домике, размышлял Мартин (он недавно прочел «Крушение»). Последний Лаокоон. Невозможно найти человека более далекого от Фицджеральда, чем Мартин. Грустно, что Ф. ненавидел англичан. На мой взгляд, его последняя книга содержит в себе лучшие качества рыцарства и благородства, которых в нынешние времена зачастую недостает у самих англичан. Качества, составляющие самую суть истинно американского духа. Можно ли это выразить без раболепия? При хороших манерах, с точным воспроизведением жуткой наружности Мертвечины и Безвременья, этих тучных врагов Земли и всего человечества. Читайте «Алк»[5], еженедельный питейный журнал и т. д.
…Хотелось бы записать несколько мыслей о культурном долге Англии перед Америкой. Он поистине огромен, даже больше нашего государственного долга, если такое возможно. Но что нам с того? Какую мы извлекли пользу? Мальчики из государственных бесплатных школ опосредованно рыбачат, ловят хемингуэевскую форель. Или Мертвечина и Безвременье толкают речь. В Канаде англичан нынче так ненавидят, что мы быстро становимся трагическим меньшинством. Скорее умрем от голода в Стэнли-парке, чем попросим о помощи. Такое случается каждый день. В Канаде, чье сердце – Англия, но душа – Лабрадор. Разумеется, сам я шотландец. По сути же – норвежец.
- Frère Jacques
- Frère Jacques
…В исполнении Луи Армстронга и его оркестра. Арт Тейтум – фортепьяно. Джо Венути – скрипка. «Battement de tambours»[6].
Еще я думаю об О’Ниле. «Разносчик льда грядет» – прекрасная пьеса. Интересно, намеренным или случайным было сходство с тематикой «Дикой утки» Ибсена, где опьянение оправдано как «иллюзия жизни»? Жаль, О’Нил не написал больше пьес о море. О норвежских судах? Мой дед, капитан винджаммера[7] «Шотландские острова», затонул со своим кораблем в Индийском океане. Он вез моей матери какаду. Помню историю, которую рассказывали про него ливерпульские старожилы. Владельцы судна плохо загрузили трюмы: мой дед возмутился – его заставили выйти в море. Он дошел аж до самого мыса Доброй Надежды, развернулся, возвратился в Ливерпуль и добился, чтобы груз уложили как должно.
…Человек, который решил стать матросом, потому что прочел «Косматую обезьяну» и «Луну над Карибским морем». (Это был я двадцать лет назад. Отчасти моя нынешняя депрессия объясняется тем, что «Дидро» совсем не похож на знакомые мне грузовые суда. Пароход класса «Либерти» – на мой взгляд, очень красивый, хоть и романтично неторопливый. Еда выше всяких похвал; вино в изобилии подают к каждой трапезе. Дивное путешествие, на самом деле.)
…Одинокий черный альбатрос, как летучий мачете – вернее, два мачете… Альбатрос, точно левый трехчетвертной в регби, вышедший на одиночную тренировку…
Железная птица с сабельными крылами. Он и впрямь черный, хотя капитан говорит, что таких альбатросов не бывает.
Но капитан в кои-то веки не прав. Это не буревестник, хотя Примроуз говорит, что один буревестник, черный как сажа, летит за кормой. Мелвилл не любил этих птиц, приносящих несчастье. Вздор. Надеюсь, мы отплывем из Лос-Анджелеса все-таки не 15 ноября.
Мы пересекли границу и вошли в территориальные воды штата Вашингтон.
УБИТЬ АЛЬБАТРОСА – НАВЛЕЧЬ БЕДУ
(Выдержки из газеты, оставленной стюардом в каюте)
Якорь срывается, ноги ломаются, снасти запутываются, когда нарушен морской обычай.
Порт-Анджелес, штат Вашингтон («Ассошиэтед пресс») – Преподаватель Вашингтонского университета, нарушивший старую морскую традицию, впредь будет умнее. Его печальная история стала известна, когда в порт вернулось научно-экспедиционное судно Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Младший научный сотрудник университета, Джон Фермин[8], заметил белого альбатроса, пролетающего рядом с судном, что проводило разведочное глубоководное траление вблизи мыса Флаттери. Фермин попросил разрешения его застрелить и передать в университетский музей в качестве первого экземпляра белого альбатроса, замеченного в прибрежных водах штата Вашингтон.
Экипаж пришел в ужас.
Все семь членов команды в один голос воскликнули «Нет!» и напомнили Фермину о судьбе Старого Морехода у Кольриджа и о древнем матросском поверье, что убить альбатроса означает накликать беду. Но в связи с редкостью данного экземпляра – и т. д.
С другой стороны, смотрим газетную вырезку, которую я сохранил у себя:
АЛЬБАТРОС СПАСАЕТ МОРЯКА
Сидней, пятница. Английский моряк, упавший за борт круизного лайнера, обязан жизнью альбатросу, который уселся ему на грудь и направил к нему спасательную шлюпку.
Вчера днем Джон Окли, 53-летний матрос из Саутгемптона, упал в море с кормы лайнера «Южный Крест» в 10 милях от побережья Нового Южного Уэльса.
Маленький мальчик из пассажиров увидел, как он упал, и сказал вахтенному офицеру. Судно сразу же развернулось и спустило на воду спасательную шлюпку.
Высокие волны заслоняли Окли, но альбатрос, опустившийся ему на грудь, послужил ориентиром для спасателей. – Агентство «Рейтер».
…Альбатрос – одна из крупнейших в мире летающих птиц с размахом крыльев до 3,5 метров и весом около 8 кг.
Теперь уже три буревестника.
Золоченый закат в синем небе.
Несколько крупных зеленых метеоров из Геминид.
9 ноября. Примроуз и Сигбьёрн Уилдернесс счастливы в своей тесной каюте. В каюте старшего артиллериста.
Однако Мартин Трамбо не особенно счастлив.
Трамбо: это в честь Трамбауэра – Фрэнки. Бейдербек и др.
Мертвая качурка[9] на носу корабля. С синими лапами, как у летучей мыши.
У побережья Орегона.
Тысячи белых чаек. Матросы их кормят. Будут ли голодать наши чайки без нас? Невероятная хрустальная ясность иных ноябрьских дней в нашем домике, колокольный звон в тумане. Отражения солнца в воде – мельничным колесом, катящимся прямо к нам. Какое сияние для ноября! И сосновые лапы превращаются в зеленую синель.
11 ноября. Выразительный диатонический гул туманных горнов, колоколов и свистков на мосту Золотые Ворота, в густом тумане, тянущемся ранним утром к стылому Сан-Франциско. Мимо Алькатраса. Где сидит любитель птиц.
Туман рассеивается; слева – Окленд, хмурый и облачный. Мост исчезает в низких серых тучах. Справа – Сан-Франциско, небо нежно-голубого цвета. Мост вздымается аркой, со своими башнями и тросами.
Шкипер в куртке на меху, с поднятым воротником, в синей фуражке, грозный, с клювастым профилем на фоне неба. Он злится на грузчиков, изрыгает проклятия и выкрикивает команды, перемежая французский с английским. Лоцман то ли забавляется, то ли скучает, но держится уважительно. Все остальные напряженно стоят в стороне.
Блестящий комментарий от человека, которому я как-то раз одолжил почитать «Улисса». Возвращая мне книгу на следующий день: «Большое спасибо. Очень хорошо». (Лоуренс также писал: «В целом какое-то странное собрание очевидно несочетаемых фрагментов, мелькающих друг мимо друга».)
Ночью выходим из города в россыпи драгоценных камней. Как бриллианты на черном бархате, говорит Примроуз, портовые огни – как рубины и изумруды. Топазы и золотое сияние на двух мостах.
Примроуз очень счастлива. Мы обнимаемся на палубе, в темноте.
14 ноября. Лос-Анджелес. Объявление на погрузочном причале: «Следи за крюком, он не будет следить за тобой».
Теплое синее атласное море и мягкое солнце.
15 ноября. Разумеется, мы отправляемся. Кто бы сомневался.
У нас еще один пассажир. Его имя? Харон. Честное слово.
…Уходящий в дальний рейс курсом на Роттердам пароход «Дидро» покидает Лос-Анджелес вечером 15 ноября.
(Кстати вспомнилось: постановка «В дальнем рейсе»[10], которую мы с родителями смотрели в Королевском театре в Эксетере в 1923-м. Под каждый занавес – восемь склянок. Замечательная игра Глэдис Фоллиот.)
Пароход «Прибрежный», черный лоснящийся нефтяной танкер, очень близко, почти вплотную; абсолютно пустой, как корабль-призрак, красное леерное ограждение: «Мария Целеста»?
Описание заката: плывем в кипящих чернилах. Пурпурные вспышки по правому борту, с камбуза – запахи свежего хлеба и багровой свиной грудинки, за кормой – что-то вроде лиловой овсяной каши.
- Frère Jacques
- Frère Jacques
Силуэты снующих чаек. Еще несколько буревестников.
Идем вблизи горных облачных берегов черноты, под звездным небом.
Мистер Харон тоже здесь.
16 ноября. Пересекаем границу – прямиком в ночь.
…На закате свинцовые облака, черное небо, длинная линия полыхающей киновари, как лесной пожар протяженностью в 3000 миль, вдали между черным морем и небом.
Странные острова, голые, словно айсберги, и почти такие же белые.
Скалы! – Побережье Нижней Калифорнии, высокие остроконечные утесы, картины бесплодия и запустения, вечно пронзающие истомленное сердце…
Frère Jacques, Frère Жак Ляруэль[11].
Нижняя Калифорния. Мы уже в Мексике. Впереди еще тысячи и тысячи ее миль.
…Но ничто не сравнится с непостижимым одиночеством и пустынной красотой бесконечного мексиканского побережья (вдоль которого медленно идет наше судно), когда пароходная топка поет Frère Jacques: Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous – и одинокая digarilla парит над багряным пугающим берегом, и тоскливый закат…
- dormez-vous
- dormez-vous
- sonnez lamentina
- sonnez lamentina
- dong dong dong
- мрак – мрак – мрак
Digarilla – птица-фрегат с раздвоенным, как у ласточки, хвостом; птица – предвестница беды в «Тьме, как в могиле, где лежит мой друг». Птица, ставшая дурным знамением для нас с Примроуз в Акапулько три года назад. И все же через неделю «Долину смертной тени»[12] приняли к публикации. Книга будет составлена из трех частей, трех романов. «Тьма, как в могиле, где лежит мой друг», «Эридан», «La mordida». «Эридан»[13] выступит в роли типичного интермеццо, в нем говорится о лесном домике в Канаде. «Тьма, как в могиле» – о смерти Фернандо, доктора Вихиля из «Долины смертной тени». Реальной смерти, как стало известно. Действие «La mor-dida»[14] происходит в Акапулько. «Долина смертной тени» сработала как адская машина. Доктор Вихиль мертв, как и консул[15] – на самом деле. Неудивительно, что мои письма вернулись обратно.
Кто-то написал оперу о другом консуле[16]. Даже как-то обидно. Подобные вещи – тоже тема для книги.
17 ноября. Мистер Харон глядит на Мексику.
Демон на вахте: 24 часа в сутки.
Все шумы машин свелись к мелодии «Frère Jacques» (думал Мартин), но иногда вместо «Frère Jacques» слышалось «Куэрнавака, Куэрнавака»; и был еще один трюк, когда двигатель выпевал
- Живи-живи!
- Не умирай!
- Sonnez les matines…
и песню подхватывали вентиляционные шахты; клянусь, я сам явственно слышал инфернальный воздушный хор, певший в гармонии и временами вздымавшийся до пугающей высоты… А затем все начиналось сначала и вместо «динь-дон» получалось совсем уж нелепое:
- Sans maison
- Sans maison[17]
и, если напев заедало, как испорченную пластинку, он уже не умолкал.
…От жары невозможно дышать – рот превращается в рыхлые тиски, лицо распухает, губы не разлепить, можно лишь пробормотать нечто бессмысленное вроде «Я думал, тут будет… или… да ладно, уже…»
- Battement de tambours
«Тьма, как в могиле, где лежит мой друг». Фернандо похоронен в Вилья-Эрмосе. Убит. Он пил слишком много мескаля. То бишь мексиканской водки. Альфред Гордон Пим[18].
Длинноватое название: может быть, просто «Где лежит мой друг»? (Предложила Примроуз.)
Далекий пустопорожний треск электрического вентилятора, чей ветерок до тебя не дотягивается, сидишь внизу, наблюдаешь, как пот покалывает тебе руки и течет по груди.
Матросы сбивают ржавчину – молотки бьют по мозгам.
Ближе к вечеру – белые кожистые пеликаны.
Клювы, будто мачете, острием книзу. Как перевернутая рыба-меч. Голые скалы с острыми гранями или вершинами в форме конусов («Видение» Йейтса?[19]).
Проснувшись ночью с болью в глазах и дерганым зрением, пытаюсь понять (за Мартина Трамбо, за консула, которого тоже звали Фермин), куда я задевал вторую туфлю, у меня вообще была вторая туфля? Разумеется, была, и пропажа находится сразу, в положенном месте, но где сигареты, где я сам? И т. д. Наверняка где-то в тамбуре поезда, в пустоте; и этот мотор с его непрестанным Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous – как, черт возьми, тут dormez?
Грешу на последствия от скверного американского виски, купленного в Лос-Анджелесе лишь потому, что мне понравилось его название, «Зеленая речка». Но его все равно будет мало на это плавание. Впрочем, возможно, капитан пригласит Сигбьёрна Уилдернесса с супругой подняться на мостик и угоститься аперитивом.
18 ноября …давным-давно мертвое жестокое печальное необитаемое побережье Мексики.
- Frère Jacques.
Просыпаюсь в три часа ночи, брожу, спотыкаясь, по темной каюте. Где я?
В пять утра Примроуз выходит на палубу встречать рассвет. Море цвета индиго, черные обглоданные очертания гор, остроконечные острова, прекрасный кошмар на фоне золоченого неба. Два часа мы ходим туда-сюда, из каюты на палубу и обратно. Пытаемся снова заснуть и не можем. Слишком близко к Мексике?
День становится смрадно жарким и неподвижным. Берег скрылся из виду. Мы пересекаем Калифорнийский залив. Матросы в деревянных башмаках красят вентиляционные выходы.
Шкипер говорит, что они «украсивливают» корабль.
И в своем одиночестве, и в оцепенении своем завидует он Месяцу и Звездам, пребывающим в покое, но вечно движущимся. Повсюду принадлежит им небо, и в небе находят они кров и приют, подобно желанным владыкам, которых ждут с нетерпением и чей приход приносит тихую радость[20].
…на закате, острова Лас-Трес-Мариас, Три Марии, два корабля, три птицы-фрегата, словно черные брызги в янтарном небе, облака, как разваренная цветная капуста кисти Микеланджело; чуть позже – звезды, но теперь Мартин разглядел неподвижность их замкнутой упорядоченной системы: одним словом, смерть. Мысль, позаимствованная у Кейзерлинга. (Они не мертвы, только когда я смотрю на них вместе с Примроуз.) Как очень правильно выразился Лоуренс: «Я как бы черпаю силу для жизни (пишет он) из глубин вселенной, из глубин среди звезд, из необъятного мира». Примроуз, кажется, чувствует что-то похожее. И в Эридане все так и было! Но сейчас у него остается лишь смутное опосредованное ощущение – здесь, на борту корабля, что неумолимо уносит его прочь от единственного места на земле, которое он любил. Может быть, навсегда.
Наш мистер Харон, мистер Пьер Харон – француз, но исполняет обязанности консула Норвегии в Папеэте на Таити. Славный малый. В Кристобале он пересядет на другой корабль. Бонвиван. Ходит в шортах и высоких белых гетрах, называет Генри Миллера атомной бомбой. Кроме того, служил в Иностранном легионе и время от времени марширует по палубе строевым шагом. Говорит: «Vous n’avez pas de nation. La France est votre mère. Soldat de la Légion Etrangère»[21]. Кто-то уже говорил это раньше. Кто бы это мог быть? Не кто иной, как персонаж «Долины смертной тени». И мы уже знаем, что стало тогда с консулом, размышлял Сигбьёрн Уилдернесс, наливая себе четвертый стакан сарсапарильи.
Книга не просто затягивает в себя автора, она его убивает. Книга и злобные силы, которые она пробуждает. Прекрасная тема. Надо будет купить планшетку и надиктовывать духам.
…Смерть берет отпуск. На пароходе класса «Либерти».
…Или нет? Я целый день слышу, как она «гогочет, что твой пират». Фраза Роберта Пенна Уоррена. Харон и вправду отличный мужик, поит нас коньяком, говорит, что в бандане из носового платка я похож на дона Хосе. Но капитан не приглашает его на мостик угоститься аперитивом, как приглашал нас. Классический случай: два командира лицом к лицу. И кстати, кто такой дон Хосе? Парень, который убил Кармен?
Все говорят так быстро, что я не разбираю ни слова, – замечательная команда.
Эпопея будет состоять не из трех, а из шести книг, под общим названием «Бесконечное плавание», с «Долиной» посередине. «Долина» действует как стержневой дьявольский аккумулятор. Однако развязка будет триумфальной. Тут все в моей власти.
19 (или 21?) ноября. Французское правительство пало; наша принцесса выходит замуж[22]. Наша галантная французская команда пьет за здоровье принцессы Елизаветы. Специально для нас Карпантье, наш радист, читает за обедом длинную радиограмму; своеобразное произношение английских имен и названий:
«И тогда лорд Монбаттон…»
«Букенэмский дворец…»
Он не хотел никого обижать.
Эти бретонцы – прекрасные моряки; учтивые, добросердечные люди, все до единого.
В мертвых глазах читает он свое проклятие.
Англичане обычно гордятся, что хорошо говорят по-французски и мастерски разбираются в винах, и частенько ссылаются на «моего доброго друга, лучшего повара Нормандии, безусловно» с целью дискредитировать американские салаты. Вы когда-нибудь встречали француза, который старался бы приукрасить свой английский или считал себя знатоком горького эля и пудинга с почками и говядиной?
Демоны, послушные Духу Южного полюса, незримые обитатели стихий, беседуют о его мстительном замысле, и один из них рассказывает другому, какую тяжелую долгую епитимью назначил Старому Мореходу Полярный дух, возвращающийся ныне к югу.
…Но мне снится смерть, жуткий сон, этакий «Гран-Гиньоль»[23], безосновательный театр ужасов, однако настолько живой и яркий, будто в этом пугающем сновидении заключена некая реальная и осязаемая угроза, или пророчество, или предостережение; сперва происходит размежевание, я – это не я. Я – Мартин Трамбо. Но я – не Мартин Трамбо да и, пожалуй, не Фермин, я – просто голос, но голос, наделенный физическими ощущениями, я вхожу в тесное пространство, которое можно сравнить только с… нет, не буду сравнивать… пространство с зубами, что плотно смыкаются у меня за спиной, и в то же время – совершенно необъяснимо – все это похоже на прохождение через Панамский канал, когда за спиной закрывается шлюз, все-таки шлюз, а не зубы, в каком-то смысле я теперь корабль, но также и голос, и Мартин Трамбо, теперь я – я или он – в царстве смерти, и это царство незамысловато населено белыми безносыми шлюхами и шелудивыми уродами с опухшими лицами, что от прикосновения расползаются на кусочки, как размокшие в море газеты; сама Смерть – отвратительная, краснощекая тюремщица с отстреленной половиной лица и одной раздробленной ногой, чьи ошметки так и торчат «в небрежении» (потому что она извиняется за свой расхристанный вид); Смерть, старшая надзирательница в тюрьме, ведет его, или меня, или корабль через ворота прямо в кембриджский колледж Святой Екатерины и в ту самую комнату (не знаю, что это значит), но у Смерти, хоть она и страшна, нежный, ласковый голос, даже приятный на свой ужасный манер; она говорит, очень жаль, что я уже видел «все представление», и мне вспоминается водевильная сцена на входе, а именно движущиеся (как эскалаторы) стулья, на которых сидели, словно в кафетерии, какие-то жуткие духи или упыри и как будто и вправду давали какое-то представление: Смерть говорит, это значит, что я обречен, и дает мне еще 40 дней жизни, по-моему – очень щедро. Как душе выдержать такой удар и остаться в живых? Человек, точно игрушечный кораблик, запущенный в море. Трудно поверить, что этот злой, отвратительный сон порожден самой истомленной душой, страстно молящей своего бессовестного обладателя об очищении. Но так и есть.
Наверное, я съел что-то не то, несмотря на хвалебные речи по адресу французской кухни.
Мореход очнулся, и возобновляется ему назначенная епитимья.
Мартин проснулся в слезах, только теперь осознав, что питает такую страсть к ветру и восходу солнца.
Sí, hombre[24], это текила.
(Мне, вскочившему с утра пораньше и уже постиравшему рубашку, это кажется просто смешным.)
…Я – старший стюард своей судьбы, я – кочегар своей души.
Ничто не сравнится с беспредельной тоской, опустошением и убожеством подобного путешествия. (Хотя все культурно и очень достойно, экипаж – лучший из возможных, еда выше всяких похвал и т. д. И супруги Трамбо, безусловно, чертовски приятно проводят время и т. д., и т. п.)
Он презирает тварей, порожденных Спокойствием.
Буревестник, несомненно, ведет разведку.
«Левиафан» Жюльена Грина. Рассказ.
Акапулько прямо по курсу, я узнаю его сразу – еще раньше, чем шкипер. Вот Ларкета с ее маяком, медленно проплывающим мимо. Нам даже кажется, мы различаем на берегу «Кинта Эулалия».[25]
После Мансанильо Акапулько – первое место, подающее признаки жизни, на всем мексиканском побережье. Даже на таком расстоянии я слышу, как водители на берегу кричат, созывая народ в camiones[26]: «Колета! Колета!»
…Здесь, в Акапулько, происходит основное действие моего романа, над которым я бьюсь все последние месяцы: здесь Мартин Трамбо встречает своего заклятого врага. Здесь же в 1946 году Примроуз и Мартин видели digarilla. За неделю до того, как «Долину смертной тени» приняли к публикации. Вот тогда-то все и началось. История человека (по сути, его самого), который крепко джойсонулся и взлетел на воздух[27]. Меня угнетает чувство изгнанничества. И еще одно чувство, за пределами несправедливости и душевных страданий, потустороннее, гнетущее, опустошительное, приводящее меня в замешательство. Оказаться поблизости – и так вот запросто пройти мимо. Неужели когда-нибудь, проходя мимо Англии, родного дома, как теперь, в этом плавании, по какой-то причуде судьбы я не сумею сойти на берег или, хуже того, просто не захочу? Именно здесь, в Акапулько, Мартин тоже впервые ступил на мексиканскую землю. В ноябре 1936-го. Да, в День мертвых. Помню, как я сошел на причал, помню безумца с пеной у рта, подводившего свои часы; бесплотных стервятников в толще грозовых туч. И весь этот сумрачный ужас спокойно раскинулся по левому борту и медленно отодвигается за корму, благостный и невинный, как Саутенд-он-Си. Вот тогда-то и начался консул. Сцена с первым стаканчиком мескаля уже скрылась из виду. Годы, потраченные на написание ее и других вещей, погибших в огне, пока что самые счастливые в его жизни, вдвоем с Примроуз в домике на взморье… Я знаю, на что похоже это ощущение; то же самое должен чувствовать призрак, вновь и вновь посещающий определенное место на земле, куда его неодолимо тянет. Он жаждет стать зримым, но, бедный сгусток парящего газа, даже не может толком приземлиться. (И последняя капля: уже на закате шкипер совершенно бесхитростно заметил: «Вы поглядите на этот крошечный мексиканский кораблик, идущий вдоль побережья со всеми включенными огнями. Каботажная[28] человеческая душа. Правда красиво?») Его чувства состоят в равной степени из жажды мести и безмерной тоски, которую никогда не унять. Это чем-то сродни отлучению от церкви. Ущемлению духовных прав человека. Где еще ему молиться Пресвятой Деве Гваделупской, покровительнице безнадежных и отчаянных предприятий? Только здесь. В этом грязном, убогом местечке. Таков Акапулько. Уж точно не стоит того, чтобы устраивать трагедию. Но в этом медленном, бесконечном движении вдоль мексиканского побережья Мартин Трамбо как бы вновь проходил через театр борьбы всей своей жизни – уже состоявшейся и еще предстоящей, если ему что-то предстояло. Боже правый, сколько тяжких страданий претерпел Трамбо от этих до ужаса невежественных, подлых и злобных людишек – да, претерпел именно здесь, – как ему хочется их проучить, всех до единого. Особенно министра внутренних смертельных дел. Дьявольская страна Абсолютного зла. Нота протеста в ООН. Скольких канадцев и американцев убивают здесь ежегодно. Сколько дел было замято, чтобы сохранить лицо – чье лицо? Мексиканцы бывают разные: есть плохие, но есть и хорошие. Например, дон Хосе – о, дон Хосе, не его ли имел в виду мистер Харон? – из «Кинта Эулалия». На какой риск он пошел ради нас. Человек с большим сердцем. Мексиканцы – самая красивая нация на земле, Мексика – прекраснейшая из всех стран. Но мексиканское правительство, кажется, до сих пор пребывает под властью дьявола, и это единственная проблема. Все мексиканцы об этом знают, боятся и ничего с этим не делают, несмотря на многочисленные революции; по сути, нынешнее мексиканское руководство еще более коррумпировано, чем во времена Диаса. Кстати вспомнилось: «Хуарес в изгнании тайно высадился в Акапулько…»
Колета! Колета! – в воспоминаниях. Крошечные автобусы, человек, трясущийся будто в припадке, ослепительный пляж в Пьед-де-ла-Куэсте, акулы и гигантский скат, морской дьявол размером с гостиную. Мелкие сверкающие тропические рыбешки в Колете… И испорченный отпуск Примроуз, ее первый отпуск за десять лет. Я их всех привлеку к ответу, непременно привлеку, пусть даже лишь на бумаге.
Еще одна digarilla. Хищная гигантская ласточка сапотекского моря[29].
И сердится, что они живы, меж тем как столько людей погибло.
Заунывная скорбная песня еле ползущего по морю корабля; бесконечно унылое и пустое багряное побережье, над которым парит одинокий фрегат с крыльями, как у летучей мыши, и хвостом, как у ласточки, парит в своем беспрестанном, бесшумном кружении, то словно падает к самой земле, то опять взмывает ввысь.
20 (или 21) ноября.
- FRÈRE Jacques
- FRÈRE Jacques
- DORMEZ-vous?
- DORMEZ-vous?
- SONNEZ les matines!
- SONNEZ les matines!
- Мрак – мрак – мрак!
- Мрак – мрак – мрак!
Чтобы сберечь впечатления, рассудил Мартин, чтобы их не забыть, надо сразу же все записать, под аккомпанемент Frère Jacques и т. д., ведь в его сознании они представляют собой дно всех печалей и унижений.
Господи, смилуйся надо мной
Frère Jacques Frère Jacques dormez-vous?
Неужели, подумал Сигбьёрн, ему не хочется уцелеть?
Кажется, на сегодняшний день у меня не осталось амбиций…
Сигбьёрн Уилдернесс (какое хорошее у меня имя; жаль, нельзя им воспользоваться для книги) мог надеяться только на чудо, чтобы хоть отчасти вернуть любовь к жизни.
И что-то вернулось: очевидно, повторение пройденного пути было частью его испытаний; и даже теперь Мартин понимал, что это не сон, а некое странное символическое прозрение будущего.
…Французское правительство снова пало.
Хотя ночь прошла в муках борьбы с белой горячкой, Мартин Трамбо вышел к завтраку свеженький как огурчик, загорелый и бодрый.
«Вид у вас прямо цветущий».
«Bon appétit».
«Il fait beau temps…»[30] – и так далее.
(Джентльмен в белой горячке – вовсе не я. Все, что пишут о пьянстве, – вздор чистой воды. Приходится делать все самому, чтобы и конфликт был, и ужасающая печаль, равнозначная трагическому положению человека, и самопознание, и дисциплина. Конфликт очень важен. Джин с апельсиновым соком – лучшее средство от алкоголизма, чья истинная причина кроется в уродстве и невыносимой стерильности бытия в том виде, в каком его нам продают. Иначе это была бы банальная жадность. И видит Бог, это и есть жадность. Кстати, удачное замечание: надо будет хорошенько настроиться и словить небольшой бред.)
Белый голубь добирается до корабля.
Мимо пролетает поморник.
Очередное французское правительство пало.
Крошечные церковные колокольчики отбивают часы; вот что любопытно – корабельные рынды на «Дидро» звонят медленно, меланхолично, как бесконечно печальные колокола на соборе в Оахаке – Оахака, нынче по левому борту, город Фернандо Оахакского и ныне покойного доктора Вихиля, убитого в Вилья-Эрмосе.
«Вот Пресвятая Дева, покровительница всякому, кто есть один как перст»[31].
«Никто туда не шел, только тот, который есть один как перст».
«Пресвятая Дева, покровительница всякому, кто есть один как перст».
«Тьма, как в могиле, где лежит мой друг». Где теперь его девушка, которой он писал письма на стенах старого монастыря? Нам надо бы ее разыскать.
Песня для маримбы
или
В заскорузлом борделе ансамбль играет не в склад
и не в лад
- Оа-ха-ка! Оа-ха-ка!
- Оа-ха-ка! Оа-ха-ка!
- Как содрогание
- раз-би-то-го
- сердца в ночи.
- Сплошь заскорузлые лица в ночи.
- Сплошь заскорузлые лица в ночи.
- И сердца заскорузлые – вдребезги
- В темной ночи.
Лимерик
- Молодой человек из Оахаки
- Все мечтал побывать на Минтаке
- И жить в «Орионе»,
- А не в «Лионе»,
- В баре, где он напивался до краха.
Молитва
- Дай, Боже, выпить всем измученным пропойцам,
- Кто пробудился на заре от адских снов
- И с содроганием глядит в окно наружу,
- Где страшной тенью громоздится новый день.
…Из всего вышесказанного может сложиться впечатление, что Мартин был человеком угрюмым и замкнутым. Вовсе нет, даже наоборот. Одно из счастливейших сокровенных воспоминаний Мартина – случайно подслушанный разговор о нем самом: «Стоит только увидеться с этим старым паршивцем, и я хожу радостный еще дней пять. Вот те крест».
По моему впечатлению, сейчас, вопреки нормам морского права, наше судно может пойти, куда вздумается капитану – или, вернее, командиру корабля. Он сейчас может сыграть в Ахава[32], и все сойдет ему с рук. Потому что во Франции нет правительства. Команда, хоть и довольная, запросто может поднять мятеж, если вдруг захочет побунтовать, и никто – скажем, в той же Оахаке – ничего с этим не сделает. Но команде не хочется бунтовать, и на то есть простые причины: (a) это счастливый корабль, (b) всем охота к Рождеству вернуться домой. Что до самого командира, который в отличие от большинства капитанов пользуется всеобщим уважением и симпатией, то ему в высшей степени безразлично, сколько правительств уйдет в отставку. Наше судно и вправду, как говорит старший стюард (тоже страстный любитель регби), bien chargé[33]. Вот бы весь мир был таким. На борту собраны представители самых разных политических взглядов, но я ни разу не слышал ни единого недоброго слова. Эх, если б миром правили бретонцы!
Корабельный гальюн словно турецкие бани, и как можно было забыть, где находится ручка для смыва…
Сидишь в сортире, охваченный ужасом, не решаешься шевельнуться. Вдруг капитан оскорбится? Так думал Мартин Трамбо. Между двух стульев. Но между двух стульев штаны падают на пол.
Капитана правильнее называть «командир корабля». На французских судах капитан – это первый помощник. Второй помощник у них называется старшим лейтенантом и т. д. Колорит больше военно-морской, чем торговый. Командир корабля пользуется освященной веками начальственной привилегией обедать в одиночестве. Интересно, мой дед поступал так же? Если кто подумает, что на судне царят антидемократические порядки, он будет очень далек от истины. Все одинаково вежливы и любезны – первое необходимое условие любой демократии. Возможно, отчасти это обусловлено присутствием Примроуз, но у французов галантность в крови. Здесь нет притеснений, нет травли, нет того мелочного снобизма, что бытовал на английских грузовых судах. Как бывалый матрос я нюхом чую подобные вещи. Я помню вечные споры между боцманом и судовым плотником, кто из них выше по рангу; плотник все-таки выше, хотя формально он относился к техническому персоналу. Помню того беднягу, настолько затравленного всей командой в его первом рейсе, что, когда грянул шторм, он встал на палубе с наветренной стороны и молился, чтобы его смыло за борт. Что уж тут говорить о юнге, которого запирали в гальюне. К тому времени, как мы дошли до Дайрена (ныне он называется Дальний и арендован Россией), у половины команды был сифилис. За четыре месяца рейса здесь, на «Дидро», не было ни единого случая венерических заболеваний, говорит третий помощник, по совместительству – судовой врач, так что ему ли не знать. Это стоит запомнить, поскольку британцы считают, что дурные болезни – изобретение французов. И все же именно бабуля Британия открыла пенициллин. Вино к каждой трапезе – очень разумный подход. И еда, одинаковая для всех. Причем еда замечательная, в десять раз лучше, чем на старом добром американском сухогрузе, на котором мы ходили на Гаити, хотя весь провиант на обратном пути был американский. На английских судах, хотя в целом еда была лучше ее репутации, очень строго следили, чтобы простые матросы питались «поплоше», чем офицерский состав. Я два месяца не видел горячей еды на рейсе в Китай, в 1927 году. Возможно, сейчас стало лучше. Нашим единственным преимуществом был бассейн, который мы – пароход-угольщик – с помощью брезента оборудовали в запасном угольном бункере. Здесь так не получится, и очень жаль. Кочегары и помощники кочегаров – я был помощником – уже не страдают, их на судах попросту нет, но механики и машинисты страдают по-прежнему, в результате чего – очень даже достойная компенсация! – получают за едой двойную порцию вина. (Что в свою очередь объясняет, почему мы сидим за столом машинистов. Разумеется, получив недвусмысленное вежливое приглашение.)
…Кто я?..
…Большая черная птица сидит, распятая на салинге, ее крылья настолько огромны, что заслоняют свет фонаря на фок-мачте; капитан зовет нас посмотреть, говорит: «Я в жизни не стал бы стрелять в орла, да в кого бы то ни было, я никогда никого не убивал, но…» – «Зачем стрелять?! Даже не вздумайте!» – отвечает Примроуз. Это калифорнийский кондор (Gymnogyps Californianus) с размахом крыльев больше трех метров, этакий гриф-переросток или стервятник у Томаса Вулфа, очень редкий, практически вымерший вид; чуть погодя он исчезает так же таинственно, как появился.
Капитан (командир корабля) любит кошек, мастерски играет в шахматы, увлекается странными нелепицами вроде йо-йо, глушит ром перед обедом, спит в гамаке на мостике, потому что в каюте жарко, и категорически не желает говорить о политике. Он из тех капитанов, кто не просто любит свой корабль, он и есть свой корабль, но одновременно не чурается и примитивных уловок, к каким прибегают мужчины в тоске по оставшимся дома женам. В каждый рейс он берет на борт тонну песка для своих кошек, Гризетты и Пью. Замечательный человек, ходил еще под парусами, как мой дед. Юморной, доброжелательный, великодушный. Бесспорно, лучший из людей.
22 ноября. Залив Теуантепек: сапфировый штиль, долгие, почти незримые накаты волн, морская гладь словно шелк (говорит Примроуз). Летучие рыбы цвета электрик со стрекозиными крыльями мельтешат в тихом воздухе. Их внезапный стремительный след на воде, будто волшебник Просперо запускает крылатых духов, как мальчишка, пускающий «блинчики»; их недолгие восхитительные перелеты по воздуху подобны нашим мгновениям земного счастья; старая черепаха величаво проплывает мимо, глядит на нас с недоумением. Уоллес Стивенс в астральном теле пишет свои восхитительные стихи о Теуантепеке… Летучая рыба парит над сапфировым морем, а с небес ей навстречу устремляется альбатрос – чистый экстаз. Примроуз на седьмом небе… Сапотекское море… Прямо под носовой частью – акула, темный глянцевый силуэт с устрашающими плавниками, плывет быстро и плавно, уходит вглубь, становится синей, зеленой – и вот ее уже нет.
Мой верный Фенобарб[34], предатель как он есть? (Примечание для Мартина.)
23 ноября. Идем вдоль побережья Гватемалы, границу с Мексикой пересекли ближе к вечеру. Здешний берег – прирученный, укрощенный, скругленные горы зелены и прелестны, тут и там видно реку. Хотелось бы посмотреть на него ночью, с вулканами, извергающими огонь.
Шкипер рассказывает отличную историю о своем прошлом рейсе на этом маршруте: внизу все изнывает от зноя; вулканы вверху охлаждают горячие головы снегом. Шкипер гостеприимен и щедр, почти каждый день приглашает нас выпить с ним аперитив, и мы уже с нетерпением ждем этой приятственной интермедии и чуть ли не полагаем ее своим неотъемлемым правом.
Шкипер рассказывает еще одну историю: он нашел дивный средиземноморский островок и решил отдохнуть там с женой; все было прекрасно, хороший дешевый отель, замечательная еда, чистый пляж, море и никаких других отдыхающих! Какая удача! Но первой же ночью стало понятно, в чем тут подвох: крысы. Тысячи крыс, всю ночь лезущих в окна и двери.
Примроуз говорит мне: «Я загорала на палубе, и шкипер пригласил меня выпить на нижнем мостике. (Ты спал на своей верхней койке, как лев в берлоге.) Он человек дружелюбный, одинокий, веселый, грубоватый, жизнелюбивый и по-мальчишески непосредственный. Я упомянула о беспорядках во Франции, а он в ответ только смеется и говорит:
«Я не слушаю новости. Если станет совсем уж плохо, сбегу в Мексику».
Мы говорили о кошках. Я сказала, что Пью мяукает по-французски, и ему было приятно. Кошки ходят в лоток с песком, и мы обсуждаем их чистоплотность: он просит меня присмотреться, как Пью и Гризетта сперва роют ямки, делают свои дела, а потом все закапывают поглубже; он словно гордый отец, наблюдающий, как его чадо играет на пианино. Подмечает каждую мелочь и ждет от меня восхищения и похвалы».
Однако:
Над свободой каждого человека довлеет тень сотрудника иммиграционного ведомства с его переданным вам заранее маленьким (не всегда маленьким) бланком (с его пятерыми детьми, тревогами за жену, скудным жалованьем и боязнью лишиться работы, с аллергией, наследственным стоматитом и незавершенным романом) со списком вопросов, на которые вам никогда не ответить.
Сведения о пассажирах, следующих транзитом или прибывающих в зону Панамского канала на территории Республики Панама. Informacion requerida de los pasajeros en transito o con destino a la Zone del Canal or la Republica de Panama…
(Дальше идут оскорбления при содействии Карантинно-иммиграционной службы.)
Причина прибытия ______________________________
Сведения о болезнях и прививках __________________
Категория паспорта ______________________________
Особые отметки _________________________________
(Подпись) _______
История пребывания
Выехал в _______________________________________
Название судна ____________ Дата ________ (Подпись)
Вот так, потихонечку и исподволь, истинная свобода каждого путешественника теряется навсегда в его собственном мире.
Сапфировое море. Эх, стать бы летучей рыбой!
Черепаха сонно проплывает мимо, задевает о борт корабля, но – погружается в глубину… Надеюсь, она не ушиблась.
Киты плещутся за кормой, перед самым закатом.
Странно сидеть обновленным и в здравом уме в самом средоточии своей вчерашней агонии. Все-таки чудо свершилось.
- Как чудны ночи, что подобны этой,
- Когда живешь предчувствием рассвета
- И дышишь тонкой хрупкой свежей синью,
- Как будто никогда не знал унынья.
Знаю, вы думаете, это написал Теннисон, но нет, это я.
24 ноября. Идем вдоль побережья Сальвадора – впрочем, берег не виден – уже привычные сизые грозовые слоны и зубчатые громады заката, изменчивый свет на море, каждый блик как мерцание на экране в зале новейшего кинотеатра; на горизонте – старый добрый замызганный сухогруз, идет вровень с нами; вечером, внезапно, Венера…
Муки Мартина Трамбо сродни мучениям от непрестанно повторяющихся переживаний.
И непрестанная тревога заставляет его скитаться из края в край.
Никарагуанские закаты цвета недозрелых бананов и говяжьего бифштекса.
Харон в одиночестве смотрит в бинокль на запад. Гм…
Впереди – четыре шторма. Грозовые тучи, белоснежные сверху, становятся книзу все более темными, более плотными, и нависающий над горизонтом облачный фронт сгущается в черноту, резко обрываясь абсолютно прямой, четкой горизонталью над черным же морем. Между ними карандашной штриховкой – вертикальные линии дождя. С той стороны дует ветер, и ветер крепчает.
Я уже говорил, что на палубе полубака установили новый брашпиль, черный, промасленный и похожий на гигантскую вставную челюсть?
Маленький альбатрос восседает на мачте, чистит перья.
Слон маячит на горизонте.
Венера плывет в сиреневом облаке.
Машины поют «Марсельезу».
Венера в короне из света, будто луна…
Машины поют «Пляску Керри».
Примроуз… Примроуз…
25 ноября. Проходим вдоль побережья Коста-Рики. Целый день идет дождь. Чума на оба ваши дома, на все республики Центральной Америки с их коррупцией, с их дивной прелестью, с их диктаторами и mordidas, с их туристами и бестолковыми революциями, с их вулканами, с их историей и жарой!
Мерзость запустения, стоящая на святом месте[35].
Alarme
Le signal d’alarme consiste en 5 coups longs donnés par sonnerie et sifflet.
A ce signal:
– allez dans votre cabine
– couvrez-vous chaudement
– mettez votre gilet de sauvetage
– laissez-vous guider par le personnel et rendez-vous au Pont des Embarcations.
Côté à l’Abri du vent[36]
Abandon
Le signal d’abandon est donné par 6 coups brefs suivis d’un coup long.
A ce signal vous embarquerez dans le canot No. 1. Tribord ou 2. Babord
Selon la direction du vent[37].
Cie. Générale Transatlantique
Avis. S. S. Diderot[38] (Зловещее объявление в столовой)
Chacun est prié d’économiser l’eau attendu que nous ne pourrons pas nous en approvisionner avant Rotterdam.
Au cas où le gaspillage serait trop grand, nous serions obligés de rationner l’eau[39].
22 ноября 1947 г.
Первый/второй помощник
(Сэмюэль Тейлор Кольридж)
- Для вашей безопасности
- Ваш спасательный жилет хранится здесь.
- Надевайте его, как обычный жилет.
- Проденьте руки в плечевые ремни.
- Обязательно – в плечевые ремни.
- Протяните ремни через грудь
- И завяжите как можно крепче.
(Для памяти) …Прошли Сан-Франциско, под горой Дьябло, дальше на юг – Монтерей и мыс Сен-Мартен, дальше – Сан-Педро, забыли мыс Фермина (sic), еще дальше на юг на глубине 404 морских саженей у Карлсбада 16 ноября, 1045 саженей за мысом Кольнет, в полдень 17 ноября – 965 саженей, все еще идем на юг вдоль Нижней Калифорнии, в полдень 18 ноября – мимо мыса Сан-Ласаро (?) против Ла-Паса вблизи Кабо-Фальсо (Ложный мыс – очень даже неплохо) – отличное название для романа: «Ложный мыс Горн», отличное, но удручающее, нет никаких Ложных мысов Горн? – и мыс Сан-Лукас, 1800 саженей, острова Лас-Трес-Мариас 19 ноября, в полдень 20 ноября – 2712 саженей, Мансанильо, темный ром, 21 ноября – Акапулько, порт Мальконадо, 2921 сажень – Акапулько! – залив Теуантепек в полдень 22 ноября, 1883 морские сажени, 23 ноября – после залива Теуантепек – против Сан-Хосе, 2166 саженей, 24 ноября прошли Сальвадор, 1850 саженей.
После Акапулько: Б. Дульсе, Мальконадо, Морро Айука (?), Салина-Крус, Теуантепек, Ла-Пуэрта, Сакапулько – вошли в Гватемалу – Сан-Бенито, Чамперико, Сан-Хосе, в Сальвадоре – Акахутла, Ла-Либертад, Ла-Уньон – пересекаем залив Фонсека – Коринто, приближаемся к Коста-Рике…
Смерть в Жизни…
… альбатрос в полночь сидит, нахохлившись, на фок-мачте, огромный клюв с капитанского мостика кажется золотым в зыбком свете, словно третий фонарь. Наконец клюв сдвигается, так что с левого борта видны лишь хвостовые перья. Это была альбатросиха-мама. Она оставалась на месте всю ночь, а на грот-мачте, ближе к корме, сидели, прижавшись друг к другу, три ее птенца, три черных комочка… Альбатросиха-мама привела на борт свой маленький выводок, чтобы передохнуть.
Их красота и счастье.
Он благословляет их в сердце своем.
26 ноября. Утром стараниями команды одного из них изловили для Примроуз. Малыш-альбатрос с красными лапками, синим эмалевым клювом и мягкими рыжеватыми перьями сидит на кормовой палубе и шипит на всех нас. Потом, к моей радости, его отпускают…
Frère Jacques. Frère Jacques. Dormez-vous? Dormez-vous?
Побережье Панамы напоминает побережье Уэльса. Старина Харон не пришел посмотреть на птенца. После поимки маленького альбатроса еще один повод для радостного возбуждения – судно на горизонте, будто охваченное огнем; русский чартер, угольщик?
Жизнь в Смерти
Горящий корабль оказался стареньким чартерным сухогрузом: движется медленно, с натугой, пыхает дымом из труб, словно пустившийся в плавание Манчестер или погребальный костер на судне в «Юности» Конрада, с ним все в порядке; я даже немного досадую. Мне-то уже представлялась спасательная операция на море и героическое в ней участие.
И Жизнь-и-в-Смерти начинает вершить кару над Старым Мореходом.
Плохие новости: неожиданно выясняется, что в Кристобале у нас будут еще пассажиры, поэтому нас с Примроуз могут расселить по разным каютам…
Смерть в жизни.
Панамский канал. Факты и цифры
Длина канала – 81,6 км.
Минимальная глубина – 13,7 м.
Максимальная высота над уровнем моря – 26 м.
Среднее время прохождения судна – 8 часов.
Время проезда через зону канала по железной дороге – 1 час 25 мин.
Канал открыт для движения судов – август 1914 г.
Общая стоимость строительства – 543 000 000 долларов США.
(Боюсь, кто-нибудь заметит, как я записываю в тетрадь эти секретные сведения. Военная тайна для передачи врагу. Какому врагу?)
Идея для сцены в романе: пусть у супругов Трамбо будут те же тревоги, по примеру печального опыта другой супружеской пары во время последнего рейса, о котором рассказывал шкипер. Нежно любящие друг друга муж и жена боятся, что на Бальбоа их разведут по разным каютам. Решил все записать, чтобы отвлечься от мысли, что нечто подобное может произойти с нами. Не хочу даже думать о разлуке с Примроуз.
Приближаемся к Панамскому каналу.
Франсиско Писарро, по рождению португалец, жизнь свою начинал свинопасом…
Прошу прощения.
Уильям Патерсон, основатель знаменитого Английского банка – по рождению, напротив, шотландец – начинал свою жизнь бродячим торговцем, исходил всю Англию вдоль и поперек с коробом за плечами, а потом вдохновился мемуарами Лайонела Уэйфера, британского хирурга, пересекшего Панамский перешеек на пути в Перу в компании с неким Уильямом Дампиром, капером и автором книг по мореходству, и прожившего несколько лет – как позднее Уильям Блэкстон – среди местных индейцев, которые всячески его привечали и однажды вернули с порога почти верной смерти. И тогда у него, то есть у Уильяма Патерсона, родилась благородная идея – несомненно, отчасти из желания отблагодарить добрых индейцев за гостеприимство, оказанное ими писателю, которым он так восхищался, – идея захватить Гавану и завладеть Панамским перешейком, тем самым уже навсегда закрепив за Великобританией право владения ключами к вселенной, как выражались в те времена, имея в виду, что обладатель пресловутых ключей повелевает двумя океанами и диктует свои законы в мире торговли.
Как бы мы ни жалели этого Патерсона – всетаки человек самостоятельно выбился в люди и пошел в гору, – надо отметить, что восхождение его было недолгим.
(Также не могу не отметить, что почти всю информацию для данных заметок я почерпнул из занимательной книги, одолженной нам третьим помощником капитана: «Водный мост» Хелен Николей, вышедший в свет… и т. д., и т. п. Упоминаю об этом лишь потому, что, как ни странно, никогда раньше не читал книг о Панамском канале.)
Вы, наверное, тоже. Вероятно, есть более солидные, академические работы на эту тему. Их можно найти в Токио, в Москве – наверняка в Акапулько – и даже в Глазго или в библиотеке ЮНЕСКО, но книга мисс Николей отличается редким, почти домашним уютом. За что ей моя искренняя благодарность.
Итак, нам известно, что в Бристоле Уильям Патерсон сел на корабль и отправился на Багамские острова и в Вест-Индию, где завел тесную дружбу как с туземцами, так и с буканьерами: первых он обучал богословию, от вторых узнавал все, что можно, о странном регионе, куда забросила его судьба.
(Например, что вблизи Дарьенского залива нет высоких гор, а значит, там будет несложно прорыть судоходный канал.)
Разработав подробный план, пишет Хелен Николей, Патерсон вернулся в Англию, надеясь заинтересовать короля строительством канала в Панаме, однако быстро разочаровался в собственном проекте и основал Английский банк, хотя вскоре вышел из совета директоров – возможно, предполагает мисс Николей, потому что его многочисленные новаторские идеи пришлись не по нраву другим, более консервативным руководителям, – собрал 900 000 фунтов стерлингов и, видимо, во внезапном приливе патриотизма, учредил Шотландскую компанию, потому что в те времена Шотландия и Англия не были единой державой, как нынче.
В 1698 году Уильям Патерсон и еще 1000 колонистов отбыли в экспедицию, впоследствии получившую название Дарьенской, и высадились в этих краях, прославленных Бальбоа и Педрариасом – и на другой манер Китсом, – где Патерсон, без сомнения, опять завел тесную дружбу как с туземцами, так и с буканьерами: первых, как водится, обучал богословию, от вторых узнавал все, что можно, о странном регионе, куда судьба забросила его – еще одного странника в золотом царстве – и где его спутники основали колонию и назвали ее Каледонией, чтобы привнести в чужой край нечто привычное и родное (как позже назвали Новой Каледонией ту территорию, что ныне носит название Британской Колумбии), а свой город они нарекли Новым Эдинбургом. Но испанцы, возможно не одобрявшие богословия, повели себя недружелюбно, а индейцы, которым, возможно, не нравилось название Новый Эдинбург – вкупе с неодобрением богословия, – проявили себя с самой что ни на есть отвратительной стороны.
Но тут история становится трагической – эпидемия лихорадки; погибли несколько сотен человек, в том числе жена и сынишка самого Патерсона. Пока Панама и Картахена собирали морские и сухопутные силы для изгнания неугодных жителей Новой Каледонии, английский король – отчасти чтобы задобрить Испанию, отчасти чтобы потрафить британским купцам – запретил губернаторам Виргинии, Новой Англии, Ямайки, Барбадоса и Нью-Йорка оказывать помощь Дарьенской колонии.
В конце концов Патерсон впал в отчаяние, и поселенцам пришлось бросить колонию – и, как пишет мисс Николей, «посреди океана полумертвые, разуверившиеся колонисты прошли мимо судна, идущего им на помощь», а те, кто прибыл следом за ними, уже через десять месяцев тоже отказались от бесплодной борьбы. На сегодняшний день от великой мечты остались лишь два названия на карте: Каледонский залив и Пуэрто-Эскосес. И больше века никто даже не заикался о Панамском канале.
Меж тем над миром уже занималась заря новой великой эпохи. Век просвещения. Руссо, Вольтер, Адам Смит, электричество, сэр Исаак Нью-тон, Галлей, Линней, Гершель, Уайтфилд, Сведенборг, Пристли, кислород, вакцинация, дешевая почта, конные трамваи и крах Компании Южных морей. Англия с ее планами развивать американские колонии и последующими попытками их усмирить. Петр I и Екатерина II в России, Фридрих II в Пруссии, три Людовика, Великая французская революция и диктатура Наполеона. Англия воюет с Францией. Франция воюет с Испанией. Франция и Германия бьются за Эльзас. Испания воюет с Португалией. Швеция нападает на Данию. Россия – на Оттоманскую империю. Франция воюет с Россией. Англия, Франция, Голландия и Германия воюют с Испанией – после чего громят Наполеона, – а затем Англия почти непрестанно воюет с Испанией и в 1780 году отправляет две отдельные флотилии к Панамскому перешейку, одну – против испанских колоний на восточной его стороне, вторую – для захвата земель рядом с озером Никарагуа и рекой Сан-Хуан на западе, и эта вторая флотилия идет под командованием Горацио Нельсона. И хотя Горацио Нельсон был убежден, что озеро Никарагуа является ключевой точкой для всей ситуации, этаким Гибралтаром, который, если бы остался за Англией, разделил бы испанскую Америку на две части, нам теперь трудно поверить, что столько людей, живших в век просвещения
и торжества разума, могли быть так чертовски глупы, так свирепо невежественны, не учились на прошлых ошибках и продолжали творить те же самые кровавые зверства. Но именно так все и было, о чем и написано в весьма увлекательной книге авторства мисс Хелен Николей, которую мне одолжил третий помощник. Так что мне было приятно прочесть – хотя я сам англичанин, а вернее, шотландец, и потому отношусь с тайной симпатией к старине Патерсону, основавшему Английский банк, – так вот, мне было приятно прочесть, что в 1846 году США заключили договор с Новой Гранадой, согласно которому получили эксклюзивное право на транзит по территории Панамского перешейка от границ Коста-Рики до Дарьенского залива, а взамен обязались обеспечивать нейтральный статус любого канала, который может быть здесь построен, и защищать его от нападений извне, что особенно радостно для меня, поскольку один из моих собственных предков – раньше я об этом не говорил, а теперь пришлось к слову – тоже вынашивал план строительства Панамского канала, причем этот план был принят весьма благосклонно на обеде, данном в честь де Лессепса в Нью-Йорке в 1884 году.
Подходим к Бальбоа под полной луной, против сильного отливного течения, облака, словно кости, вынутые из макрели, и зловещие скалы – убийственно инопланетные закаты для отчужденных скитальцев.
(Мартин был настолько подавлен мыслью о вероятной разлуке с женой, что на какое-то время, как порою случается перед лицом настоящего бедствия, утратил всякое чувство меры и на миг как будто вправду забыл, что важнее: потенциальная катастрофа самой разлуки или то обстоятельство, что, не имея возможности купить у стюарда бутылку «Мартеля», он теперь мог рассчитывать только на выпивку, которой его угостит шкипер, – причем в выпивке он нуждался особенно остро и считал себя вправе ее получить, поскольку шкипер был еще и представителем предавшей его компании. Примроуз возвращается с мостика без новостей, и перспектива промочить горло отодвигается в неопределенную даль, потому что командир ведет свое судно против сильного отливного течения, под сгустившимися облаками, похожими на кости макрели, в гавань Бальбоа; и хотя было ясно, что под грузом такой ответственности сам шкипер тоже не станет пьянствовать – это предположение оказалось ошибочным, – Мартина все равно возмущало, что их не пригласили на аперитив; чуть погодя Мартин в сердцах выпил холодной воды, и произошло нечто весьма странное, его чувства по поводу недостижимого алкоголя снова преобразились в печаль: еще чуть погодя выпитая вода ударила в голову Мартину Трамбо, словно некое волшебство превратило ее в крепкий напиток… Тем не менее, когда корабль уже стал на якорь неподалеку от берега Бальбоа в россыпи ночных огней, а шкипер закончил рыбачить с кормы и наверняка завалился спать, потому что назавтра ему предстоит ни свет ни заря вести судно через канал, Мартин еще долго и тщетно ждал приглашения, – ждал, хотя принял за ужином по меньшей мере две кварты вина и, по идее, его страсти по выпивке должны бы отчасти уняться. Но нет: он по-прежнему напряженно прислушивался во взбудораженном ожидании, что шкипер все-таки постучит в дверь их каюты и тем самым избавит его от страданий. Боже правый, неужели бедняга стюард вот так же ждал чаевых? С той же гложущей душу тревогой, с какой мексиканцы, наверное, ждут la mordida, сиречь взятки? Мартина охватило желание немедленно спуститься вниз и дать чаевые стюарду, даже если придется выдернуть его из постели, и…)
Мистер Харон вышел с биноклем на палубу и глядел в темноту, в направлении канала…
27 ноября. Просыпаемся до рассвета – небо по-прежнему серое, луна еще светит, – разбуженные вторым помощником: в столовой нас ожидают сотрудники иммиграционного ведомства, им надо проверить наши документы, прежде чем судно войдет в Панаму. Полусонные, одеваемся впопыхах – я сам зол и встревожен, но до такой степени ненавижу всех вместе взятых иммиграционных служителей, что совсем их не боюсь, – и спускаемся вниз. Капитан muy correcto[41] в белой парадной форме, при черных с золотом эполетах и т. д., пьет бренди с представителями властей. Все формальности – за тем исключением, что выпить нам не предлагают, – занимают не больше пяти минут, и мы выходим на палубу. Надо сделать из этого потешную сценку с Мартином. Ха-ха. Digarillas парят над Бальбоа, раскинув крылья. За корпусом «Генри Такера» пароходной компании Луккенбаха уже брезжит рассвет.
В семь утра идем между бакенами, у седьмого расходимся на встречных курсах с пароходом «Партения» из Глазго; изумрудные пальмы, справа мигает огнями прибрежная гостиница на сваях; густая зелень с обеих сторон; слева – остров, плоский, как блин, заболоченная земля, изумрудные джунгли, как салат из цикория, снова пальмы, в просветах между стволами виднеются белые домики и, кажется, очень хороший пляж, бакены словно миниатюрные Эйфелевы башни – зеленый фонарь прямо по курсу обозначает вход в первый écloue (шлюз) – действительно замечательный пляж под салатом с цикорием слева, сразу за поворотом; мы приближаемся к первому бакену, справа – Бальбоа, пальмы и сооружения, похожие на загородные клубы, поля для гольфа; слева джунгли становятся гуще – 20 или 30 фрегатов парят в вышине, – справа тянется пристань, к ней подходит баркас, 20 негров с парусиновыми мешками поднимаются на борт по веревочной лестнице.
«Орион»: американский линкор устаревшего типа и подводная лодка.
Прохладный путь по каналу – справа илистые равнины, лодка, вытащенная на берег, полосатые столбы непонятного предназначения, затем нечто невинное вроде ольховой рощи в родном краю: чуть в глубине – 1 000 000 загородных клубов или борделей; маяк точно шахматная фигура, на илистых отмелях – белые цапли и гигантские дренажные трубы на фоне того же салата с цикорием. Теперь канал напоминает узкий, неспешный ручей с размытыми берегами.
Ласточки щебечут на наших мачтах, носятся вокруг наших мачт и антенн, резвятся, толкутся на марсе грот-мачты – и даже один большехвостый гракл.
Огромные фрегаты – digarillas, – обычные здесь, как стервятники в Мексике. Странное ощущение суши и птичьи трели.
Шлюзы.
Первый шлюз: Мирафлорес, 1913 г. Гигантские металлические ворота, очень высокие, но, кажется, слишком узкие – кораблю не пройти, – однако же мы проходим. Развлекаю Примроуз пересказом глупой истории из «Панча», о деревенской парочке, впервые попавшей в лондонское метро. «Нет, Марта, ты как хошь, а я в это темное гузно не полезу!»
Поднимаемся на 16,5 метров в двухкамерном шлюзе.
1000 птиц, предвещающих беды.
Второй шлюз: Педро-Мигель; 1913 г.
Опускаемся на 9,5 метров во втором, однокамерном шлюзе (символично) за 10 минут.
В салат из цикория добавляются алые акации и огненные фламбояны. Hombres кричат, несомненно, хотят la mordida.
Разрез Кулебра.
Самая черная страница в истории канала, ужас, крах, коллапс, самоубийства, убийства, лихорадка – на разрезе Кулебра. А теперь мы скользим по узкому каналу, роскошные джунгли как стена с двух сторон, потеряешься здесь, и уже через минуту-другую – либо смерть, либо очень своеобразная новая жизнь: обезьяны, птицы, орхидеи, зловещий хор джунглей. Жарко, как в турецких банях в аду. Джунгли приходится вырубать ежедневно.
Мемориальная доска на скале.
Аппаратура как для туманных горнов, водопады вдали. Вечный страх писателя, делающего заметки: как бы меня не приняли за шпиона. Водолазные поплавки. Золотые флаги, землечерпалки, одиночные станции наблюдения, в каждой сидит человек, смотрит в бинокль – высоченные тонкие башни; «Много банановых деревьев, – говорит Харон с его гортанным турецким смешком. – Когда-то здесь было полно аллигаторов, но не теперь».
РОБЕРТ ХАРОН
Консул Норвегии
Остров Таити, острова Общества
Американская землечерпалка «Тускада». Пытаюсь представить себе жизнь на таком судне в Панаме. Мутная вода. Вдоль Панамского канала тянутся джунгли, по камням носятся игуаны, кричат попугаи, поезд – такой же, как дома, в Англии, – громыхает по берегу. Какие-то кактусы, похожие издали на жимолость.
Корабль: «Ламантин» – Лондон.
Еще одно судно из Лондона, все идут встречным курсом, быстро, как по течению. (Бергсон.)
Эти грубые лондонские паршивцы, мои соотечественники, угощают французов малиной! Я изрядно пристыжен. Все равно не люблю лондонцев, поскольку сам – ливерпулец. Вот сейчас не люблю. «Вежливость – не пустая формальность, но утверждение истинного бытия человека». Взять для примера тех же мексиканцев… Прямо хоть плачь, думал Мартин. От стыда, хотя, по идее, плакать стоило бы от радости. (Если б малиной угостили его.)
По-английски «шлюз» и «замóк» пишутся и звучат одинаково, что символично. Мы заперты в шлюзах, говорит Примроуз. Под замком.
Бакен, как белый лебедь, за ним – гуща джунглей, невысокие зеленые холмы. Маяки будто шахматные фигуры, хитроумно расставленные для указания пути, все вместе – как фантастический детский сон или безумное изобретение Руба Голдберга.
…Мертвые деревья торчат из воды, вероятно, на берегу старого озера…
Обедаем на озере Гатун. Полное ощущение нереальности, как на безмоторном паруснике, идущем сквозь джунгли во сне.
Что касается самого старика де Лессепса (наливая себе вина, сказал Мартин, ощущавший некое странное сходство с этим джентльменом), если учесть, на чьем судне мы нынче находимся, то, пожалуй, лучше вообще промолчать.
Что касается лично меня, то я питаю врожденную симпатию к каналам в целом – да и с чего бы мне их не любить? Любой ребенок запросто разберется в устройстве канала, собственно, это первое инженерное сооружение, какое он осмысляет; и в любом случае этот канал все равно был бы построен, скажем, как воплощение некоей платонической идеи, что вовсе не умаляет его как достижение человеческого ума (в этом смысле я, пожалуй, даже немного завидую), но все же, по-моему, лучше бы послать все каналы к чертям, раз от них столько бед и хлопот, я на 150 процентов сочувствую непокорным индейцам Сан-Бласа, чьи территории, населенные их потомками, до сих пор остаются практически неразведанными. Правда, я также питаю симпатию к двум состоятельным американским джентльменам, рискнувшим наладить почтовое сообщение, – Джорджу Лоу и Уильяму Аспинвалю, – хотя бы потому, что последний из них дал свое имя городу, где был построен одноименный маяк, вдохновивший одного писателя на рассказ под названием «Фонарщик на маяке», о чем я при случае еще напишу.
Из всех людей, занятых на строительстве Панамского канала, чью историю я изучаю по книге мисс Николей, больше всего я сочувствую горестям 800 китайцев – их привезли сюда строить железную дорогу, – сочувствую не потому, что они китайцы, а потому, что они почти все до единого совершили самоубийство, когда их лишили привычного опиума, согласно закону, «запрещавшему употребление подобного зелья по моральным соображениям», в результате чего «они либо вешались на своих длинных косицах (теперь это стало всеобщей привычкой у англичан), либо садились на пляже и ждали, когда их утопит прилив».
(Я все думаю: далеко ли еще до Колона? До Кристобаля? До Аспинваля? И будет ли у нас возможность сойти на берег и купить спиртное? Сотрудники иммиграционного ведомства уже отбыли восвояси? Или открывают вторую бутылку?)
Кстати, где-то у мисс Николей было сказано, что начало работ по прокладке канала под руководством де Лессепса ознаменовало сезон грандиозных празднеств, особый блеск которым придала Сара Бернар, приехавшая из Парижа, чтобы выступить в панамском театре»; в то же время кое-кто из англичан, явно никогда не живших в Ливерпуле, имел наглость писать по прибытии в Панаму того периода, что «трудно найти на земле другое место, где было бы сосредоточено столько низости, подлости и болезней, столько физической и моральной скверны».
Собственно, этим все сказано – хотя, конечно, немало внимания уделено дальновидности и упорству, мастерству, предприимчивости и героизму последних строителей Панамского канала, что мы принимаем как должное, и la mordida, которая с нами всегда, вдобавок в книге есть сведения о работе канала, которых мы бы вообще никогда не узнали, даже при том, что вот прямо сейчас по нему и идем. Наши машины отключены и опечатаны. Наши матросы – возможно, поэтому старший механик торчит на палубе, разгоряченный и злой как черт, – подчиняются приказам лоцмана. И еще неизвестно, пройдем ли мы дальше, ведь плотные заросли водяных гиацинтов препятствуют навигации, и продраться сквозь них могут только специальные землечерпалки с поэтичным названием «Гиацинтовый флот». Наш добряк-капитан превратился на время в предмет декора, несмотря на его эполеты и бутылку «Мартеля»…
…и человек, сидящий на вышке в контрольно-диспетчерском пункте, глядит на модель шлюзов канала, электрифицированную модель, где регистрируется точная глубина каждого шлюза и движение каждого рычага, и таким образом видит – жуткая метафора современного мира, – что происходит в каждый отдельно взятый момент времени, возможно, видит даже меня, пишущего эти строки…
Огромная цепь, внезапно поднявшаяся из воды, не дает нам пройти слишком далеко вперед, а вода, бьющая вверх из отверстия на шлюзовом дне, заставляет нас подниматься со скоростью около метра в минуту, беззвучно и без приказов извне.
Нас ведут через шлюзы небольшие железнодорожные локомотивы на электрической тяге, не чета верблюдам Суэцкого канала – они называются «мулами» и крепятся к судну стальными тросами…
В целом же, джентльмены, вот что я имею сказать о Панамском канале: это поистине гениальное сооружение, я бы даже сказал, сооружение детского гения, что-то вроде романа – такого романа, который я, Сигбьёрн Уилдернесс, осмелюсь заметить, мог бы написать сам, и, может быть, я уже неосознанно пребываю в процессе написания книги, подбираясь к ней с двух сторон, что отличаются по характеру повествова ния и управляются разными законами, но все равно составляют единое целое, где с одной стороны громоздятся котельные и ремонтные цеха, а с другой – загородные клубы и отели, а джунгли повсюду, и одна сторона перенимает все худшие качества другой, в каком-то смысле подобной средневековому городу, и ты ожидаешь в любую минуту увидеть на пристани груды гробов или кареты скорой помощи, увозящие больных желтой лихорадкой, но видишь лишь небольшие железнодорожные локомотивы на электрической тяге, что называются «мулами» и крепятся к судну стальными тросами; и ведь все исправно работает, Боже правый, все так красиво, беззвучно работает, весь этот великолепный детский конструктор с его цепями, что поднимаются из воды, и высоченными стальными воротами, что открываются и закрываются совершенно бесшумно, послушные человеку, сидящему в контрольно-диспетчерском пункте над верхним шлюзом – между прочим, это я сам, тот диспетчер на вышке, который чувствовал бы себя совершенно комфортно, если б не знал, что над ним есть другой, высший диспетчер, сидящий в своей невидимой башне, где тоже имеется модель шлюзов канала, которая регистрирует точную глубину всего, что делаю я, и тот высший диспетчер видит все, что происходит со мной в каждый отдельно взятый момент времени, а что еще хуже: видит все, что еще только готовится произойти…
И наконец, джентльмены, справа по борту – Кристобаль, чьи здания стоят на бетонных сваях, чтобы, как пишет мисс Николей, перехитрить термитов, а это составляет интересный контраст с ножками коек в лессепсовской больнице, – там под ножки коек ставили миски с водой, чтобы защитить пациентов от ползающих насекомых, которые, вместо того чтобы ползать, плодились и размножались в этих мисках с водой, а после порхали с койки на койку, от одного человека к другому, обеспечивая таким образом непрестанный приток пациентов в лессепсовские больницы. Ибо таков путь развития цивилизации, и теперь мы имеем бетонные сваи в городе Кристобале и ряды клетушек с электрическим освещением, черной марлевой сеткой и деревянной отделкой, окрашенной в белый цвет, – вместо мисок с водой под ножками больничных коек, что само по себе было прогрессом в те времена, когда Кристобаль критиковали за слишком низкий процент смертности населения. Кстати, о мисках с водой: я уже и без подсказки понял, что здесь стакана воды не допросишься, будь то в Кристобале или Колоне (или даже Аспинвале). Хотя есть один интересный момент, о котором всетаки стоит упомянуть. В своей книге мисс Николей пишет, что завершение строительства Панамского канала прошло почти незамеченным. США отказались от планов провести военно-морской парад. Ведь Природа не шумит о своих победах, она трудится молча, а когда работа завершена, пусть результат говорит сам за себя. О чем следует помнить любому писателю!
Но я чуть не забыл об аспинвальском фонарщике на маяке. Вот здесь он и живет. Вернее, жил раньше. В воображении другого писателя: вон там, под горячим дождем, вон в том направлении, где никто не зажжет свет для нас, хотя в этом и заключался весь смысл работы бедняги-фонарщика на маяке в Аспинвале. Он обрел для себя новый свет и не сумел зажечь свет на своем маяке, фактически уснул на дежурстве, что недопустимо для всякого смотрителя маяка, даже настолько развитого духовно, чтобы обрести вдохновение в Аспинвале. И я призываю: узрите в воображении, сквозь этот горячий дождь, Аспинвальский маяк, прославленный знаменитым польским писателем Генриком Сенкевичем, чьи книги, возможно, ныне не продаются в Польше, но еще непременно будут продаваться и чей великий роман даже сейчас, как я слышал, экранизируют в Риме, с огромным размахом и многотысячной массовкой – через несколько лет этот фильм, несомненно, увидят в Америке, потому-то я считаю уместным обратиться к американцам, ведь канал их – увидят, может быть, не впервые, но впервые по столь доступной цене за билет в кинотеатр, в диапазоне, осмелюсь предположить, от доллара и 25 центов до двух долларов и 40 центов, то есть чуть меньше английского фунта. Этот масштабный проект, предпринятый как дань уважения Генрику Сенкевичу, наверняка поразил бы и мистера Патерсона, шотландца и основателя Английского банка, человека, который начал свой жизненный путь скромным бродячим торговцем и первым задумал Панамский канал… Цены указаны с учетом НДС. И вы, конечно же, знаете, о какой книге я говорю:
QUO VADIS?[42]
После обеда джунгли выглядят как гигантское скопление шпината на горизонте, с редкими вкраплениями одиноких деревьев знакомого вида вроде тех, что растут в Уэстморленде, под ветреным пасмурным летним небом…
Последний шлюз.
Гатун.
Опускаемся на 26 метров в трехкамерном шлюзе.
«Гавайский банкир» – Уилмингтон, штат Делавэр – поднимается в шлюзовой камере, как из пучины Атлантики, вроде как восстает из могилы: американцы прекрасно проводят время на мостике.
И мы сами – тоже наблюдаем, счастливые, радуясь известию, что нас вовсе не разлучат.
Гигантские бетонные фонари, как на бульваре, травяные дорожки, маяк, очевидно на поле для игры в шары, солнце, яростно бьющее в землю; вдалеке – маленькое озерцо посреди джунглей, над которыми кружат стервятники, словно там собирается черная буря; отдельные невысокие пальмы на зеленой лужайке и прямо перед глазами – огромный корабль из Уилмингтона, штат Делавэр, медленно поднимается в шлюзе, заслоняя обзор; в других шлюзах другие суда поднимаются или, наоборот, опускаются, негры тянут канаты, пассажиры на палубах щелкают фотокамерами. По причалу снуют крошечные электрокары.
Где был Килрой, теперь стоит американское семейство, все в темных очках, весело машут руками (я тоже машу), дети сосут леденцы. На фоне неба болтается огромный крюк; три больших корабля на трех разных уровнях; маяк теперь в одиночестве, флаги полощутся на ветру, американский флаг и французский триколор; в поле зрения вновь появляется солнце, черные птичьи тучи, бетон, джунгли и озеро вдалеке; на прежде невинном уэстморлендском горизонте теперь сгущается чернота; маленькие трамвайные остановки на зеленой лужайке и канатная дорога вверху, вагончики из двух кабинок (и катушкой посередине), как аттракционы в парке развлечений – американские горки; стервятники неспешно возносятся в бурю над джунглями; повсюду носятся чайки: мы добрались до Карибского моря.
Вместимость спасательной шлюпки: 4 человека.
(Мартин принял это к сведению.)
По набережной возле шлюза, прихрамывая, ковыляет старый негр в макинтоше, пробковом шлеме и гетрах, держит в руках свернутый зонт – почему на каждой набережной обязательно есть свой прихрамывающий старик? Я.
А в последнем шлюзе ныряет одинокий баклан.
Оглядываясь назад – на Панаму – с Карибского моря, ты будто оглядываешься на большой парк развлечений с его аттракционами, даже маяки вносят свой вклад в иллюзию, напоминая английские спиральные горки.
Старое русло канала де Лессепса уходит в болота по правому борту, печальный памятник незавершенным проектам, хотя на самом деле все еще хуже.
Горячий дождь, кокосовые пальмы, пеликаны.
Прощание с Хароном; высадка лоцмана сразу после прохода через канал.
…Как бы ни выглядел Кристобаль с берега – не город, а дортуар, говаривал один мой друг (Дж. Л. Д.), – при взгляде с моря, под дождем, в три часа пополудни, это одно из тоскливейших мест на земле; по одну сторону гавани, на фоне джунглей, тянется ряд сиротливых унылых домов, сравнимых по архитектуре, вплоть до малейших деталей, с квадратными электрическими генераторами: жестяные крыши, стены, сложенные из какого-то желто-коричневого материала, то ли камня, то ли кирпича, желтая окантовка оконных проемов; в удивлении я направил бинокль на сам Кристобаль, где – хотя первым мне в глаза бросилось здание, вероятно, старинной испанской постройки, с арками, предполагающими аркады, – я с изумлением обнаружил точно такие же дома-генераторы, рядами вдоль набережной; обратив свой бинокль в ту сторону, где, как я думал – возможно, ошибочно, – виднелся Колон, я разглядел, что и он тоже полностью состоит из этих электрических генераторов, едва различимых сквозь серую морось; там не было ничего интересного, разве что газовый завод и вроде бы методистская церковь, и я опять стал смотреть на тот участок, где – как на мосту между Фэрхейвеном и Нью-Бедфордом – увидел те самые, первые генераторы и ведущий от них длинный щебеночный волнорез с тонким, как кость, маяком на краю – мыс Мансанильо, – где сейчас светит зеленый (или красный) фонарь. Скоро мы возьмем на борт других пассажиров и попрощаемся с мистером Хароном. «Увидимся не в Иерусалиме, а на Таити», – сказал он (что он имеет в виду и при чем тут Мартин?), выходя на палубу под дождем.
Я забыл упомянуть, что трагедия вероятной разлуки сменилась трагедией иного рода; чета Трамбо остается в своей прежней каюте, однако в Кристобале им не позволят сойти на берег; судно стало на якорь далеко от пирса, пассажиров доставят на баркасе: море мутное и неспокойное, шкипер намерен как можно скорее уйти, а стало быть, – никто не сойдет на берег, чтобы прикупить ром и другие припасы. На мгновение мелькнула мысль обратиться к ребятам с американского «Кальвина» (почему не «Кальвадоса»?), это судно с негритянским экипажем как раз проходит – опасно – почти вплотную, на носу гроздь бананов; вдруг удастся уговорить их сойти на берег и добыть спиртного, но старший стюард не берет их бананы даже за доллар, так что «Кальвин» разворачивается по касательной и снова тонет в туманной мороси; прочие катера, следовавшие за нами, тоже отстали и развернулись в сторону Кристобаля, а вскоре на борт поднялись новые пассажиры, мы попрощались с мистером Хароном, помахали ему, исчезающему в дожде на борту американского «Филина», и тоже снялись с якоря. Трамбо остались при своей каюте, но без капли спиртного.
Мыслимое ли дело? Мартин не испытывал благодарности, равно как и сочувствия к шкиперу, простоявшему на мостике восемь часов: он сам безвылазно сидел в каюте, не решаясь выйти на палубу, чтобы не пропустить приглашения, если его все-таки позовут на аперитив. В конце концов он побрился и в последнем акте отчаяния даже налил в тазик воды и вымыл ноги, чего не делал уже много месяцев, а потом попытался постричь ногти на ногах, чего не делал уже много лет: все эти странные, парадоксальные приготовления делались в известном смысле ради аперитива, на который их явно не собираются приглашать. Примроуз сдалась первой и предложила Мартину, скорбно глядящему на корабль, видневшийся на пасмурном горизонте и напоминавший своим силуэтом Эмпайр-стейт-билдинг, купить вина у стюарда. (Попытайтесь найти причины, по которым Мартин не способен на такое простейшее действие и в итоге отправляет Примроуз поговорить со шкипером.) Вино наверняка купить можно. (Мартин, старый сквалыга, хотел прикупить pinard[43].) Но они со шкипером в одной лодке. В буквальном смысле. К тому же шкипер был не уверен, что они смогут пополнить запасы на Кюрасао. Возможно, он телеграфирует в представительство компании, чтобы им подготовили, так сказать, провиант… Долгий день тянулся до самого ужина, за которым Мартин сидел молчаливый, мрачный и пил слишком много вина – почти ненавидя его за то, что мог пить его только за ужином, – практически не в состоянии поддерживать разговор с бедными сальвадорцами и каким-то хмурым персонажем, которого видел мельком сквозь приоткрытую дверь, когда тот надевал новые деревянные башмаки. Мыслимое ли дело, что даже после ужина, даже после того как шкипер, должно быть, давно залег спать, Мартин все еще медлил, топчась на пороге каюты на своих относительно чистых, хоть и распухших ногах, все еще как бы ждал – бог весть чего – и явственно различал сквозь хриплый казачий хор ветра, треск электрического вентилятора, грохот моторов и моря, слова «аперитив, аперитив», на мотив «Frère Jacques» в бесконечном повторе…
Безмолвный, он взошел на пик у Брагман-Блафф.
Безмолвный, он взошел на пик у Манки-Пойнт.
…Как не писал Китс[44].
Прощай, территория la mordida – прощай, и пусть Господь Бог ниспошлет тебе скорбей! (Нет, беру свои слова обратно: скорбей тебе и так отпущено с лихвой. Живи, треклятая Мексика, живи, являя собой пример христианского милосердия, которое там у вас исповедует повсеместно, пока тебя не погубит мерзость запустения!)
27 ноября. Но это было ничто по сравнению с теми мучениями (когда они почти вышли из Дарьенского залива напротив Барранкильи – маленького barranca[45]?), которые Мартин испытывал на следующий день, хотя поднялся ни свет ни заря, сделал зарядку, причем самый сложный индийский комплекс, почистил зубы – бережно и осторожно, ведь в напряжении творчества, а также в стремлении к чистоте, потому что вчера, в день почти без спиртного, чистил их не менее 8 раз. В целом день получился здоровым, проведенным большей частью на солнце. С другой стороны, похоже, что теперь они прибудут на Кюрасао утром, а не ночью (как все опасались), но в воскресенье, и Мартин помнил, что все магазины будут закрыты, все будет закрыто, кроме церкви, да еще и четвертый помощник, хоть и без злого умысла, бестактно заметил: «Нет виски, нет интереса». (В реальности его замечание относилось к мрачноватому необитаемому островку, мимо которого мы тогда проходили.) Ближе к вечеру, когда мы с Примроуз занимались французским с третьим помощником в пустой salle-à-manger[46], где гулял ветер, сдувая со стола сигаретные пачки и спички, к нам зашел краснолицый механик, сердито открыл холодильник и налил себе три стакана вина. «Здрасте, мистер Уилдернесс». (Раньше был просто Сигбьёрн.) Позже Мартин вроде бы слышал, как за спиной шепчутся о нем и возводят напраслину; еще позже снова возникли сложности с покупкой вина у стюарда, и тогда же Мартин сказал механику: «Il fait beau temps», – а тот крикнул в ответ, что при таком вот ветре «мистер Уилдернесс не сможет сойти на берег на Кюрасао, а значит, не сможет добыть себе виски». Какого черта?! Однако это наводит меня на мысль: пусть Мартин считает, что история пошла по кругу. Позже агония невнятных неврозов, страх – совершенно беспочвенный – получить резкий отказ: им все-таки перепадает изрядная порция «Сен-Жюльена» (Мартин все еще тщетно пытался купить вина у стюарда, который теперь обещает испечь праздничный торт на годовщину их свадьбы. Но чего потребует этот торт от Трамбо? Сам по себе торт не иначе как сущий кошмар. Невзирая на звезды, ветер и солнце, Мартин чуть не угодил в некую сложную, абсурдную пропасть внутри себя и мог надеяться только на чудо, чтобы все-таки выбраться из нее…).
На самом деле, говорит мне Примроуз, старший механик злится на ветер, потому что при таком ветре мы можем прийти на Кюрасао ночью, где остановимся только для дозаправки, а тогда и никто не сможет купить спиртного, и всем, включая шкипера, придется сидеть на сухом пайке.
Морские водоросли как янтарные бусы, говорит Примроуз.
30 ноября. Три дня идем в южной части Карибского моря, вдоль побережья Колумбии, мимо залива Маракайбо, вдоль побережья Венесуэлы.
Во Франции, как я прочитал в панамской газете, которую Примроуз позаимствовала у наших новых пассажиров, ситуация очень серьезная: 2 миллиона объявили забастовку – транспорт не ходит – уличные беспорядки и т. д.
Кюрасао
Прибываем на Кюрасао рано утром. Низкие бесплодные холмы без травы и деревьев, кособокие вершины и аккуратный яркий городок. Волнолом – голландцы не могут без своих дамб, говорит Примроуз, – как стена древней крепости. Но где пристань? Где корабли? Мы входим в какой-то узкий канал и – бац! – уже идем прямо по главной улице Виллемстада. Понтонный разводной мост раскрывается перед нами, и канал внезапно вливается в просторную внутреннюю бухту с сотнями судов.
На Кюрасао: «Береговая охрана II», черный моторный катер, красивый понтонный мост словно парит над каналом, а по совместительству главной улицей – восхитительный городок, очень чистый, опрятный и очень голландский, красные черепичные крыши, как голландская сказка, перенесенная в тропики. Оливково-зеленая вода под пленкой нефти. Морской бриз смердит.
Прикупив ящик рома у снабженцев, мы сходим на берег. Улицы: Амстелстраат – «Пинто и Винк», все по 10 центов.
Koninklijke Nederlandsche.
Stoomboot-Maatschappij N.V.
АО «Королевская нидерландская пароходная компания»
…и
<Hoogspanning – Высокое напряжение>
<Levensgevaar – Опасно для жизни>
<Peligro de Muerte – Опасно для жизни>
<Electricidad – Электричество>
Счастливые времена!
…Моряки, навестите свой дом; «Мир кино», Клипстраат (Скалистая улица? Отличное название!); «Холодное пиво»; Ресторан «Ла Мария», Эмма-страат; Корнелис-Дирксвег; Площадь – Леонарда Б. Смита; Борайре-страат; «Юпитер» – Амстердам…
Душистые бругмансии как плоские зонтики.
На улице солидных, закрытых по случаю воскресенья чужестранных банков, что напомнили мне о «Будденброках», мы укрылись от ливня в «Чудо-баре» – невыразительном заведении с открытой верандой, тремя столиками (как в кафе-мороженом, говорит Примроуз) и коротенькой барной стойкой: два негра-бармена говорят по-английски с сильным голландским акцентом; приятно будет вспомнить, как мы пили продукцию «Болса»[47], чувствуя себя Гензелем и Гретель под воскресным тропическим ливнем, глядя на воскресные толпы, на парящий понтонный мост и огромные корабли, проходящие по главной улице.
Возвращаемся на борт у танкерного причала, все цвета (и все запахи) на воде: вокруг корабля что-то похожее на песчаные дюны в Хойлейке, но еще более голые и пустынные, больше похожие на терриконы в каком-нибудь валлийском шахтерском городке или на худшую из пустынь в мексиканском штате Сонора, и мачты трех мелких фрегатов, маленьких фрегатов, словно потерпевших крушение, торчат над невысокими скалами – мерзость запустения. Нефтехранилища, два церковных купола, как в Порт-о-Пренсе, едва видны над крышами сине-серо-бурых безликих глинобитных домов с черными прямоугольниками окон.
Вход в гавань Кюрасао – зрелище, поистине впечатляющее. Хансу Кристиану Андерсену понравился бы этот город. Ощущение моря и кораблей на Кюрасао велико как нигде, разве что за исключением Ливерпуля.
С места нашей стоянки видны еще десять судов: аргентинское, британское, костариканское, норвежское, греческое и т. д. – на фоне нефтеперерабатывающих заводов (заводских труб). Полное ощущение, что ты в Детройте, а не на далеком вест-индском острове, под акварельным дождливым небом, с редкими пятнами зелени. «Таверна» – Австралия? Судно английское. «Рио Атуэль» – Аргентина. «Матильда» – неясно. Возможно, Венесуэла. На топливной цистерне – маркировка панамериканской компании.
«Далфёун» – Ставангер (Норвегия); «Ягнер» – Гётеборг (Швеция); «Клио» – Кюрасао; «Платон» – Кюрасао; черепичные крыши на набережной. Verboden te ankeren[48]; торговый дом «Мадуро и сыновья»; «Юпитер» – Амстердам. «Князь горцев»; «Матросский приют»; «Каса Коэн»; клуб «Gezelligheid»[49]; фотоателье «Кристалл»; «Утешение корабела»; бакалея; Г. Трост, Joyeria[50].
Нелепая массовая физзарядка на борту норвежского танкера: по длинным корабельным мосткам бегают люди в спортивных трусах – что, наверное, разумно.
Сразу с ужасом вспоминается школьная дисциплина, хождение парами; я пытаюсь представить себе жизнь на нефтяном танкере: чистейший стерильный кошмар, чуть ли не хуже (как представилось на миг), чем погибель и триппер на кораблях в бытность Мартина моряком…
…На борт доставляют письмо, вызывающее у меня сильное беспокойство: брат пишет, что мама серьезно больна. Дома, в Англии. Я все же надеюсь ее увидеть, впервые за 20 лет. В последний раз мы с ней виделись на станции Рок-Ферри в Беркенхеде (где Натаниэль Готорн служил консулом), когда она провожала меня на поезд до Лондона. Куда, она думала, я уезжаю? Куда я уехал? И больше не возвращался. Но хотя бы писал, регулярно, как редко когда писал для себя.
Выходим из Кюрасао…
- Frère Jacques
- Frère Jacques
- Dormez-vous?
- Dormez-vous?
- Sonnez les matines!
- Sonnez les matines!
Вход – теперь выход – из гавани Кюрасао со стороны Венесуэлы: последний взгляд на парящий понтонный мост, непосредственное ощущение характерной оригинальности этого места.
Теперь – пустынное побережье; маленькая лагуна с крошечной церковкой справа от входа, чуть дальше – холм бурого цвета, еще дальше – холм винно-бордовый, а еще дальше – лиловый.
Единственный домик.
На крайнем правом фланге (если смотреть в сторону порта) виднеются зловещие цистерны цвета свинца или потемневшей стали, каждая – с крошечной точкой посередине (тень на одной, будто тень человека), похожие на отпиленные стволы пушек, под ними стоят нефтяные танкеры, «где козы носят зеленые очки, чтобы съесть вместо травы утреннюю газету»… Замок и справа – отвесный обрыв, как в Монтане; еще несколько средневековых замков возвышаются меж нефтяными резервуарами, маленькая лагуна с парусными судами, переходящая в некое подобие диких йоркширских болот…
Небольшие тенистые острова на закате; скальные образования, напоминающие Стоунхендж.
Последнее зрелище: три одинокие бругмансии на длиннющей песчаной косе.
Реакция на величественный закат.
…развязка…
1 декабря… Ситуация изменилась на прямо противоположную: теперь уже Мартину, раздобывшему на Кюрасао выпивку, хочется пригласить шкипера на аперитив. Мартин купил ящик рома всего за 20 долларов, спасибо шкиперу за наводку. «Почему не два ящика, месье? Я сам возьму два или три, по такой-то цене». Почему нет? Потому что Мартин не хотел предстать человеком, которому нужно два ящика рома. Как он ошибался! Как прав был шкипер. Ему уже страшно представить себе, что будет, когда закончится этот ящик, ведь второго-то у него нет, – шкипер все понимает и благородно отказывается от предложенного угощения. Тем не менее Мартин, у которого тоже есть повод тревожиться о матери, не хочет использовать ее как предлог, чтобы напиться. Подобное оправдание, хоть и вполне обоснованное, представляется в такую минуту наигрязнейшей уловкой.
…Развязка!..
Другие пассажиры.
Венгр из Нуэва-Мордида сел на корабль в Колоне. Я застал его в кают-компании за беседой с сальвадорцами. Они говорили по-испански, думали, я не пойму:
«И кто же вас выгнал?»
«Полиция».
«За что?»
Венгр разводит руками и отвечает, понизив голос, когда я подхожу:
«Ни за что».
Венгр пьет из личной серебряной стопки, с тоской смотрит на море, хочет уплыть на маленькой лодке.
«Я еду на территорию СССР… – он пожимает плечами. – Под советским правлением. Я, безусловно, рискую жизнью. Но… моя семья… И конечно же, я спортсмен».
Все верно, братец.
Сальвадорцы, крохотные человечки, муж, жена и их сын лет примерно четырнадцати – похоже, евреи, – совершенно очаровательны. Они едут в Париж. К новой жизни. Но я чувствую, что они тоже подвергались каким-то гонениям – возможно, антисемитским, quien sabe?[51] Сомерсет Моэм наверняка знает. Но как раз таки это досужее любопытство заставляет меня ненавидеть всех писателей и, кстати, мешает им быть людьми. Примроуз и сеньора Май загорают на палубе, щебечут, как птички, и красят друг другу ногти на руках и ногах. Примроуз плохо говорит по-французски, а по-испански – и того хуже. Сеньора вообще не говорит по-английски, и обе смеются над ошибками Примроуз. (Я сам говорю по-французски ужасно, а по-испански – коряво.) Позже мы с ними играем в парчис. И вправду очень приятные люди. (Снобизм романистов, чьи персонажи всегда говорят на корявом французском и пьют «нечто, что сходит за кофе».)
Вдобавок три голландских механика, возвращающихся в Голландию с Кюрасао: мингер ван Пеперкорн, мингер ван Пеперкорн и мингер ван Пеперкорн[52]. Тоже очень приятные люди, доброжелательные и любезные, но Мартин не знает, как начать разговор, разве что упомянуть об Иерониме Босхе – и потому не говорит ничего. Иеронимные алкоголики. Не путать с анонимными.
Кстати, отличное описание для романов об алкоголизме. Иеронимные алкоголики, Босх!
Идем на северо-восток по Карибскому морю и уже завтра выходим в Атлантику…
2 декабря. Годовщина нашей свадьбы. В полдень, вдали, у самого горизонта по правому борту – маяк: остров Сомбреро. (Кстати вспомнилось: весьма подходящий рассказ о Сомбреро: у Баринга-Гулда.) Я огорчен из-за матери, но сейчас совершенно нет смысла об этом думать.
Торт – уцелевший и даже съеденный – за обедом. Также добавка вина. Много тостов и поздравлений.
Минуем пролив Анегада и выходим в Атлантику.
Морские водоросли как золотая елочная мишура, говорит Примроуз. Саргассово море от нас прямо к северу. «Остров пропавших кораблей» со Стюартом Роумом, в кинотеатре «Мортон», в английском графстве Чешир: дневной сеанс в три часа пополудни, на который мы с братом не попали 26 лет назад. Теперь мы входим в Атлантический океан. Пройдем еще 4000 миль, и лишь тогда в поле зрения покажутся скала Бишоп и Лендс-Энд, сиречь Край Света. Какой край? Зачем?
Атлантическое нагорье – волны словно холмы. Atlan-terhavet[53].
Неподалеку по правому борту – Монсеррат, где я внес изменения в учебники географии, совершив восхождение на Пик Шанса в 1929 году, в компании двух католиков: негра Линдси и португальца Гомеша.
Один альбатрос.
Шесть бутылок пива на вершине горы.
Примроуз говорит, ей страшно плыть на корабле, наскоро построенном в военное время на заводе, прежде производившем стиральные машины… А вот мне судно нравится, хотя его качает похуже, чем пароход Конрада, под завязку загруженный в Амстердаме. Ошибочно думать, что у бедного старого парохода класса «Либерти» совсем нет души, лишь потому, что его наскоро сколотили за 48 часов на заводе стиральных машин. Сам-то я был собран на скорую руку биржевым хлопковым брокером, меньше чем за 5 минут. Возможно, за 5 секунд?
Еще одно судно по правому борту: «Летучая затея». Дивное имя.
3 декабря. Сильный шторм с подветренной стороны ближе к закату, проходит мимо по диагонали.
Командир корабля, из благих побуждений, раздобыл для меня старые американские журналы. Старые номера «Харперса». Ужасающе древняя, блестящая и даже в чем-то глубокая статья Девото[54] о последней повести Марка Твена[55]. (Для памяти: тема для обсуждения – проблема двойного, тройного, четверного «я».) Почти патологическая (на мой взгляд) жестокость по отношению к Томасу Вулфу. Не хотел бы Девото узнать, чтó я думаю о нем самом, сидящем в «Мягком кресле» и подвергающем разгромной критике человека великой души – и почему? Потому что, как сказал бы H.[56], тот не может ответить? Для памяти: процитировать Сатану из «Таинственного незнакомца». И в довершение этой патологической одержимости слабыми сторонами Вулфа вдруг натыкаешься на заявление: «Я (надеюсь) хороший джойсеанец». Это зачем? Для чего? Когда что-то подобное провозглашает Девото, тут поневоле возненавидишь Джойса. Я и впрямь иногда ненавижу Джойса.
…Причина оплошностей Томаса Вулфа, которую сам Девото, вероятно, прекрасно проанализировал в другом месте, в приложении к кому-то другому, к кому он не питал неприязни, например к Девото: причина в том, что Томас Вулф торопился, зная, что скоро умрет, как и H., в такой же спешке. А как же все его сильные стороны, его юмор, накал, ощущение жизни? В каждой из работ Вулфа ощущение жизни гораздо сильнее, чем во всем Джойсе, уж если на то пошло. И по-моему, несправедливо критиковать Вулфа за то, что ему вроде бы нечего сказать по существу (как утверждают). У него просто не было времени получить истинное представление о жизни. Человек великанского роста, он в душе оставался ребенком и, наверно, повзрослел бы годам к шестидесяти. Отсутствие у него времени стало трагедией для литературы: я считаю, мы должны быть благодарны за то, чтó он нам оставил. Однако в статьях Девото есть и весьма интересные пассажи; взять хотя бы те же мучительные размышления о Марке Твене. Возможно, у Девото были собственные проблемы, в его не таком уж и мягком кресле. Вплоть до белой горячки от Клеменса[57].
Море разволновалось пуще прежнего: его бурные просторы, серо-синие или дождливые, в отсутствие птиц не отзываются во мне никак: правда, теперь я хорошо понимаю страх Джойса перед морем (мало ли кто обитает в его глубинах! Не хочу даже думать об этом – прошлой ночью меня посетила кошмарная мысль. Примроуз говорит, я разбудил ее посреди ночи и спросил: «Они вернут маму в море?» О какой жути я думал? О вере в русалок?) Л. Мартину показалось, он чем-то обидел славных ребят-французов – второй механик и третий помощник держатся с ним непривычно сурово и строго; la mer morte[58], море, каким оно предстает после целого дня сильного ветра, когда ветер стихает, оставляя после себя неоглядный мертвый простор предыдущего дня, – похмелье внутри и снаружи.
СВОДКА О ПОЛОЖЕНИИ СУДНА
Пароход «Дидро»
Дата: 5 декабря 1947 г.
Широта: 27° 24´ С.
Долгота: 54° 90´ З.
Курс: 45
Расстояние: 230 миль
Осталось пройти: 2553 миль
Время: 23:40
Средняя скорость: 9/7 узлов
Ветер: С. 6
Море: неспокойное, сильный ветер
Подпись: Ш. ГАШЕ. Первый помощник.
Две бури: две кобальтовые грозы. Ветер ловит морские брызги и разносит их в воздухе мелким шквалом дождя.
Мартин был раздражителен и угрюм, целый день провалялся на койке, предрекая беду и погибель.
За последние дни, после выхода из пролива Анегада, был пройден и немалый духовный путь – что это значит?
Послеполуденный шквал налетел неожиданно, ударил миллионами молотков. Судно дрожит и трясется. Море – белое, искрящееся, словно расшитое блестками. Все завершается в мгновение ока.
Жуткий шквал ближе к закату. Грохот грома. Кобальтовые молнии бьют в шипящее море… как мираж сотворения мира.
Почему-то это обрадовало Мартина. Он поднялся с койки и вышел к ужину в замечательном настроении. А после даже не отказался сыграть в настольные игры с сальвадорцами, Андрихом и Габриелем.
…рад, что шкипер вновь меня привечает – искренне верю, что теперь я прошел через некое духовное испытание… хоть и не понимаю, какое именно.
6 декабря. День рождения моей матери. Вставая утром с постели, я испытывал странное ощущение, будто выбираюсь из-за стола после ужина.
…совершенно не помнишь, посещал уборную или нет.
…в итоге вовсе перестаешь беспокоиться; пять дней подряд – в результате боли в спине; ничего удивительного – забываешь почистить зубы, ненавидишь собственные зубы, постоянно бормочешь себе под нос что-то невразумительное вроде: я тут подумал… могло ли быть так, чтобы…
…Трагедия человека, сбежавшего из Англии в надежде тысячами миль океана отмежевать себя от бездарных громил и якобы разумных замшелых учителей английской литературы, а по прибытии в Америку обнаружившего, что здесь они укрепились еще прочнее (размышляет Мартин) и установили точно такую же диктатуру мнений – мнений, основанных не на собственном опыте и разделенных переживаниях, не на общности с определенным писателем, не на любви к литературе и даже не на некоем внутреннем знании о писательстве, мнений, которые не формируются независимо, а лишь отражают доктрину той или иной группировки, созданной с единственной целью: пресечь в зародыше всякий конкурентоспособный расцвет современного, оригинального гения, которого, однако, они не узнают, даже если их ткнут носом. Ась? Человек вроде меня (продолжает писать Мартин), самостоятельно открывший для себя Кафку почти 20 лет назад и Мелвилла – 25 лет назад, то есть примерно в пятнадцатилетнем возрасте, и ушедший в море в 17 лет, такой человек проникается отвращением, которое нелегко объяснить. Тогда Кафка многое для меня значил в духовном плане, теперь уже нет. То же самое с Мелвиллом: я никогда не смогу рассказать этим людям, что оба писателя значили для меня. Они испортили для меня этих авторов. На самом деле, чтобы вернуть хоть малую толику прежних чувств, прежней страсти, мне нужно напрочь забыть о существовании так называемой «современной литературы» и «новой критики». Но как позабыть, что буквально семнадцать лет назад я сам сообщил одному из редакторов «Нувель ревю франсез», что в их журнале был опубликован «Процесс» Кафки. Прочитав роман – ведь, конечно же, он его не читал, – тот редактор спросил у меня: «Это вы написали?» – «Э… вам понравилось?» – «Не особо… в целом довольно забавно… но у меня было стойкое ощущение, что я читаю о вас». (Через пятнадцать лет его начальник сделал из этого пьесу.) С другой стороны, пятнадцать лет назад я не смог отыскать в Нью-Йоркской публичной библиотеке ни одной книги Кьеркегора за исключением «Дневника обольстителя». (Спустя несколько лет мы нашли эту книгу на рынке в Матаморосе, в мексиканском штате Герреро.) Теперь его книги бьют все рекорды продаж, и, возможно, в отделах бестселлеров ведутся листы ожидания на дополнительные тиражи «Страха и трепета». И все же какое право эти мелкие английские хозяйчики американской литературы имеют на Кафку и Мелвилла? Скорее всего, они ходили в морские рейсы? Они голодали? Вздор. Они, скорее всего, никогда даже не были по-настоящему пьяны и не страдали от честного похмелья. И не открывали Кафку и Мелвилла своими силами… и т. д.
Блестящий образчик презрения, подумал Мартин (страдавший легкой паранойей) и чуть не облизнулся, перечитав только что завершенный отрывок. А потом добавил следующее:
Вот наглядный пример, как легко человек поддается порыву ненависти! В том, что я говорю, есть доля правды (я и впрямь ненавижу этих людей), но что получается в целом, если прочитать вдумчиво? Письменное свидетельство моей несостоятельности, моего эгоизма, моей полной растерянности! Хуже того. Давайте-ка разберем вышесказанное на части, начиная с конца, и посмотрим, какие выводы сделает наше упорное объективное «я». Во-первых, кажется очевидным, что писатель считает, будто литература существует для его личного блага, а цель жизни в том, чтобы напиваться, ходить по морям и голодать. (Возможно, так оно и есть?) Больше того: писатель определенно дает нам понять, что он сам неоднократно страдал от похмелья, часто напивался и голодал. (Хотя последнее все же сомнительно, поскольку сразу за ним идет слово «Вздор».) При вдумчивом прочтении у нас наверняка также возникает мысль, что писатель – типичная собака на сене, ведь по какой-то нераскрытой причине ему, в частности, не хочется, чтобы «мелкие английские хозяйчики американской литературы» читали Кафку и Мелвилла. Возможно, писатель и сам хотел стать «хозяйчиком литературы», но у него ничего не вышло (либо в Англии, либо в Америке, либо и там, и там)? Загадка. Столь же загадочным представляется упоминание «Страха и трепета» и «Дневника обольстителя», хотя автор явно полагает, что с ним обходятся крайне несправедливо (отчего даже испытывает мистические переживания в Нью-Йоркской публичной библиотеке), и в то же время считает себя этаким непризнанным первопроходцем, который, пожалуй, сам живет в состоянии страха и трепета и ощущает себя подсудимым на некоем Процессе. Как он гордится, что в юности его приняли за автора «Процесса», хотя эта история не похожа на правду. (Или нет? На самом деле именно так и было. Проблема в том, что Мартин столько лгал, что уже не способен говорить правду так, чтобы она не звучала как ложь.)
…Увы, еще прежде чем мы доберемся до тени безусловной правды, предположительно скрытой в некоторых обидных предложениях этого первого абзаца, явные синтаксические недостатки в том же абзаце заставят нас усомниться, точно ли сам писатель питает «любовь к литературе» (она представляется не такой уж глубокой – возможно, за всю жизнь он прочитал только три упомянутые книги, хотя даже это сомнительно), – и тут возникает вопрос: если он до такой степени презирает «хозяйчиков литературы», то почему его так беспокоит их мнение? Возможно, в душе он считает себя таким же «бездарным громилой и замшелым учителем», и тогда сразу становится ясно, почему он не сумел тысячами миль океана отмежевать себя от себя (как бы шизофренично это ни звучало), и в итоге мы приходим к тому, что представляется единственно несомненным, правдивым и по-настоящему жестоким фактом: с человеком, который писал эти строки, наверняка приключилась трагедия.
Что еще? Почти каждое написанное им слово так или иначе отмечено неврозом – неврозом и вместе с тем чем-то неистово здоровым. Пожалуй, его трагедия в том, что он остался единственным нормальным писателем на земле и именно эта нормальность усугубляет его изоляцию и чувство вины. (Но без Примроуз он не был бы ни писателем, ни нормальным человеком.)
Опять-таки каждому необходимо время от времени заниматься самобичеванием, но все же не стоит калечить себя такой сокрушительной самокритикой, какую мы наблюдаем в приведенном выше отрывке, иначе всякий талант – тут мы с улыбкой отметим, что сам Мартин называл его гением, – будет «пресечен в зародыше» и мир никогда не придет ни к чему конструктивному. Что в свою очередь подводит Мартина к проблеме или, вернее, к вопросу о внутренней выдержке.
Сдержанность никто не любит (это качество совершенно неосязаемо – как его обсуждать?), и люди, рекомендующие нам сдержанность, если можно так выразиться, почти всегда форменные уроды, которые никогда и не жили через край (продолжал писать Мартин). Однако же за всю историю человечества не было эпохи, когда так отчаянно ощущалась потребность сохранять выдержку – казалось бы, самое хладнокровное из всех состояний, – потребность в трезвости (как я ее ненавижу!). Уравновешенность, трезвость, умеренность, мудрость – эти непопулярные и неприятные добродетели, без которых немыслимы ни серьезные раздумья, ни человеческая доброта, должны быть представлены (именно потому, что они так неприятны) как состояния бытия, каковые следует принимать как порыв страсти, как саму страсть, ведь и стремление к добру тоже страсть, и таким образом они обретут привлекательные черты качеств редких и неистово обворожительных (хотя, по мне, лично вы можете нализаться, что твой петух, упившийся ежевичным бренди; правда, в таком состоянии ваши шансы сохранить выдержку стремительно падают, если вы не истинный Парацельс). Без выдержки, пусть даже только ментальной, размышлял Мартин, все наши реакции, личные и коллективные, будут чрезмерными. Например, если раньше в литературе присутствовал садизм, то теперь в ней должна проявиться равновеликая доброта и отвращение к жестокости в любой форме; мы, однако, не верим, что подобный подход предвозвещает всеобщую перемену в людях, поскольку эта мнимая доброта будет связана с другими качествами, которые сами по себе унылы и злобны, хотя, говоря о жестокости, надо отметить, что это один из вопросов, по каким у нас не должно возникать разногласий: в данном случае маятник должен качнуться до высшей точки сострадания ко всем Божьим тварям – людям и животным – и там и остаться.
И все же необходимо развить в себе навык яростно осуждать бессмысленное убийство диких животных как занятие трусливое, недостойное человека, презренное и даже самоубийственное, не испытывая при этом желания накинуться на вашего Хемингуэя; все же следует понимать, что у вашего Хемингуэя есть полное право стрелять в диких животных, и, предаваясь этому сомнительно мужественному занятию, он – по крайней мере, в данный момент – не стреляет в кого-то другого.
Бывшие мелкие громилы и замшелые школьные учителя теперь ходят в церковь, а не на собрания коммунистического кружка и с молитвенником в руках послушно следуют за общепринятым мнением. В церковь мифа стремятся иные проклятые толпы… Так, все, заткнись.
Однако люди, действительно пробудившие в обществе интерес к Кьеркегору, вытекающий из интереса к Кафке – за что им отдельное спасибо, – Эдвин и Уилла Мюир, блестящие переводчики Кафки на английский и авторы предисловия к «Замку», так и не дождались заслуженной похвалы. Если бы не их предисловие, Кьеркегор, несомненно, до сих пор пребывал бы в забвении, а мелкие громилы… Так, все, заткнись. Заткнись. Заткнись.
Когда Мартин берется за изучение французского языка после тяжкого периода воздержания – но все еще мучаясь от похмелья, – его, мягко говоря, изумляют следующие фразы из упражнения в учебнике:
Traduisez en français[59]:
1. Человек не был мертв, но жена сообщила ему, что он умер два дня назад.
2. Она нарядилась богиней смерти.
3. Она открыла дверь и предложила пьянице ужин, который выглядел крайне неаппетитно… (упражнение относится к тексту под заголовком «L’Ivrogne Incorri-gible»[60], начинавшемуся со слов: Un homme revenait tous les soirs à la maison dans un état d’ivresse complet[61], под текстом была фотография здания Торговой биржи в Париже, сделанная примерно в 1900 году).
4. Ты должен страдать за свои пороки, сказала она. Каждый вечер я буду готовить тебе одну и ту же еду.
5. Еда мне не важна, я страдаю от жажды. Каждый час ты должна приносить мне по 3 бокала вина. – На обороте учебника цвета ржавчины изображен тисненый петух (возможно, тот самый, уже упомянутый выше – упившийся ежевичным бренди), приветствующий рассвет. Под ним – золоченая надпись: Je t’adore, ô soleil[62]… Что бы это значило?
Как там у Лорки? «Хотелось пролить ей на голову реку крови».
9 декабря. Чертова непогода! Медленный, сумрачный день. В столовой тоскливо, иллюминаторы закрыты щитками, в полдень горит электрический свет, к тому же шумно, море грохочет по носовой палубе тоннами ревущей воды.
Бедные сальвадорцы. Прежде сидели на палубе, держались за руки, щебетали, как обезьянки, а теперь их тошнит, и им грустно; за обедом не съели ни крошки, залегли на скамью за столом.
Лишь Габриель бодр и весел: «Я ел, когда отбили пять склянок, и шесть склянок, и восемь. Я всегда жутко голоден, когда море штормит».
Бамс! Молоко, кофе и все прочее падает со стола на колени Примроуз и на пол. Боюсь, она обожглась (и она обожглась), но плачет вовсе не потому. Ей жалко испачканных красных вельветовых брюк, красивых и совсем новых.
Чувствую, шторм уже на подлете (хорошая строчка), недаром же я был моряком. Кстати, практически даром, если вспомнить, какие гроши получали простые матросы.
Царь гроз, чей страшен лик.
Высоченные волны, как горы в снеговых шапках пены, но южный ветер en arrière[63], так что море катится следом за нами; «Дидро» идет очень даже неплохо (но качка такая, что все в каюте ходит ходуном), как Натаниель Готорн, бредущий под порывами бури, дабы узреть дьявола в рукописных страницах[64], или винджаммер, обгоняющий ветер; проходим мимо еще одного парохода класса «Либерти», идущего встречным курсом и будто запущенного высоко в небеса; вряд ли делаем больше 20 миль в день.
Наш спасательный корабль – идет нам навстречу.
Матросы в непромокаемых штормовках и зюйдвестках, борясь с ливнем и ветром, натягивают на кормовой палубе штормовые леера. За кормой – бурное море. За кормой времени.
Грандиозное зрелище на закате: волны бьются о борт, разлетаются брызгами, но черный дым, валящий из трубы камбуза прямо к bâbord[65], однозначно свидетельствует, что ветер переменился на западный…
10 декабря. Ветер крепчает. Кажется, нас ожидает недобрая встреча с одним из конрадовских юго-западных ветров, которые так страшат моряков, – ветров, о которых впервые читаешь в школе, при свете фонарика под одеялом, когда луна, солнце и звезды исчезают на 7 дней, а тебе самому давно пора спать.
Примроуз говорит: да, это Атлантика, Западный океан, как он мне представлялся.
Он слышит какие-то звуки и видит странное движение в небесах и в стихиях.
Низкое одичалое небо, редкие проблески тусклого солнца; серое-серое море, волны высокие (grosse houle), но как бы растерянные, мечутся во все стороны. Иные накатывают друг на друга, как гребни прибоя на берег, ветер срывает фонтаны брызг с их изогнутых пенно-снежных верхушек. Иные волны сшибаются, вздымаясь зазубренными горами высоко над кораблем, их вершины ломаются, и вода льется вниз непрестанным потоком. Но самое странное, самое удивительное и прекрасное: иногда, очень редко, сквозь вершину волны пробивается свет, и тогда из-под марева водяной пыли проступает зеленоватое сияние, словно волна подсвечена изнутри зеленым пламенем.