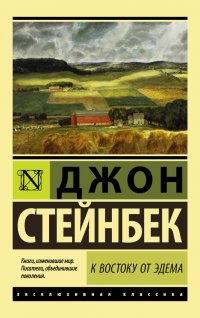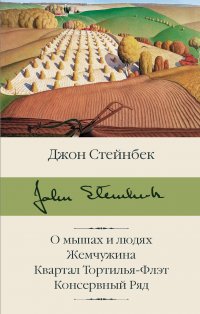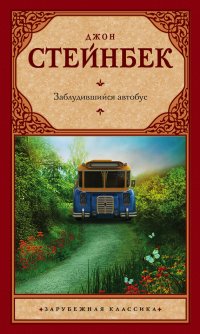Читать онлайн В битве с исходом сомнительным бесплатно
- Все книги автора: Джон Эрнст Стейнбек
John Steinbeck
In Dubious Battle
© John Steinbeck, 1936
© Перевод. Е. Осенева, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
* * *
Бесчисленные силы
Под предводительством моим дерзнули
Оспорить власть, от века
Неоспоримую, и ринулись на битву,
Колебля трон Создателя, просторы
Небесные, устои мирозданья.
Исход той битвы – сомнителен.
Мы проиграли? Нет!
В нас не угасли воля, жажда мести,
И, вкупе с мужеством,
В сердцах живет надежда,
Которую врагу не одолеть.
А если так, то впереди – победа!
Дж. Мильтон «Потерянный рай»
Глава 1
Наконец-то наступил вечер. За окном на улице зажглись огни. Неровный свет вывески соседнего ресторана замигал, задергался ярко-красными вспышками. Но в комнату Джима Нолана слепящий свет вывески проникал лишь нежно-розовым отсветом. Вот уже два часа Джим сидел неподвижно в тесном и жестком кресле-качалке, задрав ноги на белое покрывало кровати. Теперь, когда окончательно стемнело, он спустил на пол затекшие ноги и похлопал по ним. Выждав секунду, пока не прошло покалывание в икрах, он встал и потянулся к выключателю лампы без абажура. Зажегшийся свет осветил его номер в меблированных комнатах: просторную чистую постель под безупречно белым, как мел, покрывалом, бюро из золотистого дуба, тщательно вычищенный потертый до бурых проплешин красный ковер.
Подойдя к раковине в углу, Джим вымыл руки, мокрыми пальцами взъерошил волосы. На секунду он задержал взгляд на своем отражении в зеркале над раковиной. Из зеркала на него пристально глядели небольшие серые глаза. Достав из внутреннего кармана пиджака прицепленную там расческу, Джим расчесал на косой пробор прямые каштановые волосы. На нем был темный костюм и серая фланелевая рубашка с открытым воротом. Обсушив полотенцем тонкий обмылок, он кинул его в стоявший на кровати наготове бумажный пакет. Внутри уже лежали бритва «жилетт», четыре пары новых носков и сменная рубашка – такая же серая фланелевая. Обежав взглядом комнату, он защипил горловину пакета, в последний раз глянул в зеркало, после чего погасил свет и вышел. Спустившись по узким, ничем не покрытым ступеням лестницы, он стукнул в дверь у входа. Дверь приоткрылась. В щели показалась женщина. Признав Джима, она открыла дверь пошире – крупная плотная женщина с темной родинкой у рта.
Женщина улыбалась Джиму.
– Мистер Но-о-лан… – протянула она.
– Я уезжаю, – сказал Джим.
– Но вы же вернетесь… Хотите, я оставлю номер за вами?
– Нет. Я уезжаю совсем. Меня письмом вызвали.
– Сюда никаких писем для вас не было, – возразила женщина с некоторым подозрением.
– Письмо пришло мне на работу. Возвращаться я не буду, а заплатил за неделю вперед.
Улыбка слиняла с лица женщины. Приветливое выражение медленно сменялось негодующим.
– Вы должны были предупредить меня за неделю. Таковы правила, – резко бросила она. – А теперь я не отдам аванс, потому что вы поступили не по правилам.
– Знаю, знаю, – успокоил ее Джим. – Все в порядке. Я не возражаю. Просто я не знал, как долго здесь пробуду.
Улыбка вновь засияла на лице хозяйки.
– Вы были хорошим постояльцем, – сказала она. – Жили пусть и недолго, зато тихо – не шумели, не скандалили. Случится вам опять в наши края завернуть, отправляйтесь прямиком ко мне. Уж я для вас местечко найду. Какой корабль в порт ни приди, у меня все моряки останавливаются. Помнят, что здесь им всегда приют отыщется, а в другие места им даже и смысла заглядывать нет.
– Буду помнить и я, миссис Меер. Ключ я в двери оставил.
– Свет выключили?
– Да.
– Ну, хорошо. До утра подыматься к вам не стану. Может, зайдете, перекусим?
– Нет, спасибо. Мне пора.
Хозяйка прищурилась с видом хитроватым и проницательным.
– Может, у вас неприятности какие? Я ведь и тут помочь могу.
– Нет, – отвечал Джим. – Никто меня не преследует. Работу новую нашел, вот и все. Ну, доброй вам ночи, миссис Меер.
Она протянула ему испещренную старческими пятнами кисть, и Джим, переложив пакет в другую руку, пожал эту кисть, на секунду ощутив, как податлива под его пальцами ее мягкая плоть.
– Так что не забудьте, – сказала она, – комната для вас у меня всегда найдется. Я уж привыкла, что постояльцы возвращаются ко мне. И моряки, и коммивояжеры там всякие так и тянутся вереницей год за годом.
– Буду помнить. Спокойной ночи.
Он вышел через парадную дверь, спустился по бетонным ступеням крыльца, а она все смотрела ему вслед.
Дойдя до перекрестка, он взглянул на циферблат часов в витрине ювелира. Семь тридцать. Торопливо шагая в восточном направлении, он миновал район универмагов и специализированных магазинов, а затем и кварталы оптовой торговли, сейчас, в вечернее время, тихие и пустынные: узкие улочки безлюдны, ворота пакгаузов заперты и перегорожены деревянными перекладинами и железными решетками. Наконец он достиг цели – старинной улицы с кирпичными домами в три этажа: на нижних размещались закладные конторы, ломбарды и лавки подержанного хозяйственного инвентаря, верхние же облюбовали адвокаты-неудачники и прогоревшие дантисты со своими приемными. Джим торкался то в одну, то в другую подворотню, пока не отыскал нужный номер. Подъезд был плохо освещен, ступени выщербленной, истертой множеством резиновых подошв лестницы обрамлены полосами меди. На самой верхней площадке теплился тусклый свет, но в конце длинного коридора освещена была лишь одна дверь. Джим направился туда и, увидев на матовом стекле цифру «шестнадцать», постучал.
Послышалось резкое «войдите».
Открыв дверь, Джим шагнул в маленькую, скудно обставленную комнатенку: всего лишь письменный стол, металлический шкаф с картотекой, раскладушка и два стула с прямой спинкой. На столе электрическая плитка, а на ней кипит, булькает и пускает пар кофе в жестяном кофейнике. Человек за столом, строго взглянув на вошедшего, сверился с лежавшей перед ним карточкой.
– Джим Нолан? – осведомился он.
– Да.
Джим разглядывал его. Невысокого роста, в аккуратном темном костюме. Темные густые волосы зачесаны с макушки и свисают так, чтобы скрыть белый в полдюйма толщиной шрам над правым ухом. Черные зоркие глаза мужчины нервно бегают, взгляд мечется от Джима к карточке на столе, оттуда к будильнику, а от него обратно к Джиму. Нос мясистый, толстый у переносицы и тонкий у кончика. Губы, от природы, возможно, полные и мягкие, привычным упрямым сжатием вытянуты в ниточку. Хотя лет ему и не могло быть больше сорока, необходимость вечно противостоять атакам исполосовала лицо мужчины морщинами. Руки, столь же нервные, как и глаза, с широкими ладонями, большие, казались несоразмерными росту и постоянно двигались над столом. Длинные, с плоскими толстыми ногтями, чуткие, как у слепого, пальцы то щупали бумаги на столе, то гладили его край, то перебирали пуговицы на куртке мужчины – одну за другой. Затем правая рука потянулась к плитке и выдернула шнур из розетки.
Тихонько прикрыв за собой дверь, Джим приблизился к столу.
– Мне велено прийти сюда, – сказал он.
Внезапно мужчина вскочил и через стол протянул ему руку.
– Я Гарри Нилсон. У меня твое заявление. – Джим пожал мужчине руку. – Присаживайся, Джим!
Нервно изменчивый голос звучал теперь мягко, но мягкость эта, видимо, требовала определенных усилий и давалась мужчине нелегко.
Взяв себе второй стул, Джим сел напротив. Выдвинув ящик стола, Гарри достал оттуда початую банку молока, дырки в которой были заткнуты спичками, плошку с сахаром и две толстые кружки.
– Кофе будешь?
– Конечно, – отозвался Джим.
Нилсон разлил по кружкам черный кофе и сказал:
– Я должен объяснить тебе, как мы с заявлениями работаем. Твоя карточка с заявлением о приеме поступила в членский комитет, и моя задача – побеседовать с тобой и написать доклад-представление. Комитет обсудит мой доклад, и все проголосуем. Так что если я стану лезть к тебе в печенки с вопросами, то это только потому, что так положено.
Он подлил молока себе в кружку и поднял взгляд. В глазах его мелькнула смешинка.
– Ну, ясное дело, – сказал Джим. – Да я и знаю уже, слыхал, что попасть к вам не проще, чем в «Юнион-Лиг-клаб»[1]. Отбор строгий.
– А как иначе, приходится! – Нилсон кивком указал Джиму на плошку с сахаром и неожиданно задал вопрос: – А почему ты в партию вступить хочешь?
Джим помешал свой кофе и поморщился в желании, сосредоточившись, дать точный ответ, затем потупился, разглядывая колени.
– Ну… Я мог бы назвать тебе массу мелких причин, но главная – это то, что всю семью мою сгубила система эта чертова! Старика моего, отца то есть, столько били и колошматили во всех этих стачках, столько травм он получил, что совсем озверел. Говорил, что с удовольствием взорвал бы эту бойню, где работал: заложил бы динамиту, и все дела. Ему зарядом картечи в грудь перепало во время беспорядков.
– Постой-ка… – прервал его Нилсон. – Твой отец Рой Нолан, что ли?
– Ага. Три года как убили его.
– Боже ты мой… – пробормотал Нилсон, – так он же знаменитость был, опасный малый! Рассказывали, что он пятерых копов голыми руками в одиночку уложить мог.
– Похоже, так и было, – осклабился Джим, – только что толку, если после такого стоило ему за порог выйти, а его там уже шестеро копов поджидают! И тут уж оттягиваются по полной! Он домой весь в крови возвращался. Придет, бывало, и сидит как куль на кухне возле плиты. Слова не вымолвит. Тут уж мы знали, что надо его в покое оставить, не приставать с расспросами, а не то заревет. Позже, когда ему мать раны врачевала, он стонал и скулил, как пес побитый. – Джим помолчал. – Знаешь, он ведь забойщиком работал, так на бойне кровь теплую пил, чтобы силы были.
Нилсон бросил на Джима быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Помусолил карточку с заявлением – завернул уголок, потом разгладил ногтем большого пальца.
– Мать-то жива? – спросил он осторожно, мягко.
Джим прищурился:
– Месяц как померла. Я в тюрьме был. Тридцать суток за бродяжничество. Узнал, что мать при смерти. Отпустили домой с полицейским. Болезни никакой у нее вроде заметно не было, только не говорила она. Мать католичка была, но в церковь отец мой ее не пускал. Терпеть он не мог церквей этих. Я спросил ее, может, она священника позвать хочет, но она не ответила – глядит на меня и молчит. Под утро часам к четырем померла. Внезапно как-то… Тихо… Ни с того ни с сего. На похороны я не пошел. Они бы разрешили, да я сам не захотел. Думаю, ей просто жить надоело, а в ад потом или нет, тоже уже все равно было.
Гарри встрепенулся, нервно бросил:
– Кофе-то пей! Хочешь, еще налью? Ты словно в полусне… Как у тебя с зависимостью?
– Ты про наркотики? Нет, не употребляю. Да и не пью я даже.
Взяв листок бумаги, Гарри сделал на нем какие-то пометки.
– Как случилось, что ты вдруг бродягой заделался?
– Я у Талмена в универмаге работал, – с азартом принялся объяснять Джим, – начальником упаковочного цеха. Раз вечером в кино пошел, а когда возвращался, вижу, на Линкольн-сквер толпа собралась. Остановился узнать, в чем дело. Посередке парень речь держит. Я на постамент памятника сенатору Моргану влез, чтобы разглядеть получше, и тут слышу – сирены завыли. Спецотряд по разгону митингов тут как тут. И за спиной у меня другой отряд, так меня из-за спины коп и ударил прямо в затылок! А когда я в себя пришел, выяснилось, что меня уже успели в бродяги записать. Я ведь не сразу понял, что к чему, так здорово меня оглоушили. Саданули прямо вот сюда… – Джим тронул затылок у основания черепа. – Я объяснял им, что никакой я не бродяга, что работа у меня есть, и попросил связаться с мистером Уэббом, управляющим у Талмена. Связались, Уэбб спросил, где меня взяли, сержант и скажи: «На митинге радикалов». Ну, и мистер Уэбб тут же и заявил, что знать меня не знает, даже имени моего не слыхал никогда. Вот тут-то меня в тюрьму и замели.
Нилсон опять включил плитку. Вновь забулькал кофе в кофейнике.
– Ты как пьяный, Джим. Что с тобой происходит?
– Не знаю. Словно умерло во мне что-то. И прошлое отлетело. Я перед тем, как сюда прийти, из меблирашек выписался, ушел. А ведь у меня еще неделя проживания оставалась оплаченной. Наплевать. Не хочу туда возвращаться. Хочу, чтоб с концами.
Нилсон доверху наполнил обе чашки.
– Послушай меня, Джим. Мне следует обрисовать тебе всю картину, чтобы ты уяснил себе, каково это – быть членом партии. Тебе дают право голосовать за каждое решение, но после того, как голосование проведено и решение принято, ты обязан ему подчиниться. Когда у нас есть деньги, мы нашим уполномоченным на местах по двадцать долларов выдаем на пропитание. Только не припомню, чтобы были у нас когда-нибудь деньги. Прибыв на место, ты будешь работать там наравне с местными, а партийная работа – это уж после рабочего дня. На круг выходит по шестнадцать-восемнадцать часов в сутки. И кормиться сам, чем сможешь. Выдюжишь, как тебе кажется?
– Выдюжу.
Легкими касаниями пальцев Нилсон пробежал по столу.
– Даже те, ради кого ты стараешься, в большинстве своем станут тебя ненавидеть. Ты это понимаешь?
– Понимаю.
– Так почему же тогда ты хочешь вступить в партию?
Трудный этот вопрос вызвал у Джима замешательство. Серые глаза его прищурились. Подумав, он сказал:
– В тюрьме сидели несколько партийцев. Они беседовали со мной. В моей жизни все всегда было так запутанно, такая сумятица… А в их жизни никакой сумятицы не было. Они работали, двигаясь к какой-то цели. Я тоже хочу работать, двигаясь к цели. Во мне словно умерло что-то. И я подумал, что так может получиться вновь ожить.
Нилсон кивнул:
– Понимаю. Ты чертовски прав. Понимаю. Сколько лет ты в школе проучился?
– В средней только год с лишним пробыл. Потом работать пошел.
– Но говоришь ты так, словно проучился подольше.
Джим улыбнулся:
– Я книжек много прочел. Мой старик был против того, чтобы я книжки читал. Говорил, из-за них я от своих совсем отобьюсь. А я все же читал. Однажды я в парке с одним человеком познакомился. Он стал для меня списки составлять, что прочесть следует. Ой, я читал и читал как проклятый. Там в списке Платон был с его «Республикой», и «Утопия», и Беллами, и Геродот, и Гиббон, и Маколей, и Карлейль, и Прескотт, и еще философы всякие, типа Спинозы и Гегеля с Кантом, и Ницше, и Шопенгауэр. Он даже «Капитал» меня заставил одолеть. Человек этот сам себя чудаком называл, говорил, что хочет представление иметь о вещах самых разных, чтобы ничего не принимать на веру. Вот и книги подбирал соответствующие.
Гарри Нилсон помолчал, потом сказал:
– Ты должен понять, почему мы так осторожничаем. Ведь наказаний мы признаем только два – выговор и исключение. Ты всей душой стремишься в партию. Я собираюсь тебя рекомендовать, потому что, по-моему, человек ты хороший, но, конечно, могут тебя и забаллотировать.
– Спасибо тебе.
– Теперь послушай, что скажу. У тебя имеются родственники, которые могут пострадать, если ты будешь работать под настоящей своей фамилией?
– У меня дядя имеется. Теодор Нолан. Механик. Но Ноланов-то пруд пруди… Фамилия распространенная.
– Пожалуй, это так. Деньги у тебя есть?
– Примерно три доллара осталось. Было больше, да я на похороны потратился.
– Ну а остановиться где планируешь?
– Не знаю даже. Я все прежнее оборвал. Хотел начать жизнь заново, чтобы ничто надо мной не висело и меня не давило.
Нилсон покосился на раскладушку.
– Я тут и живу, в конторе. Сплю, и ем, и работаю – все тут. Если ты не против на полу спать, можешь здесь несколько деньков перекантоваться.
Лицо у Джима расплылось в счастливой улыбке.
– Да я с удовольствием. Шконки в тюрьме уж никак не мягче твоего пола.
– Ты поужинал?
– Да я и забыл об ужине.
– Если ты думаешь, что я тебя облапошить хочу, подвох какой подозреваешь, то дело твое, – сварливо пробурчал Нилсон. – Только денег у меня нет, а у тебя всего три доллара.
– Да брось ты! – засмеялся Джим. – На вяленую сельдь, сыр и хлеб хватит. А завтра мы еще накупим всякого разного и тушеное рагу соорудим. Я умею первоклассное рагу готовить.
Гарри Нилсон разлил по кружкам остаток кофе.
– Вот ты и просыпаться начал, Джим. И выглядишь получше. Но во что ты влезть хочешь, тебе неведомо. Рассказать тебе я могу много кой-чего, только все это будет без толку, пока собственной шкурой не почувствуешь.
Джим окинул его невозмутимым взглядом.
– С тобой случалось, чтобы, когда ты достигал мастерства в своем деле и надеялся на повышение, тут тебя как раз и увольняли, а на твое место брали другого? Рассуждения о славных традициях родного предприятия, о верности этим традициям слушать приходилось? Причем традиция-то одна: шпионить за теми, кто рядом! Только это им от тебя и надо! Так что терять мне, черт побери, нечего!
– Кроме одного только, – тихонько проговорил Гарри, – ненависти. Ты удивишься, когда поймешь, что перестал ненавидеть людей. Не знаю, по какой причине, но так происходит всегда.
Глава 2
Весь день Джим места себе не находил и метался по комнате. Погруженный в кропотливую работу Гарри Нилсон то и дело негодующе косился на него.
– Слушай, – наконец не выдержал он, – ты можешь и один пойти, если тебе так неймется. Почему бы и нет. Но если потерпишь еще часок, то я с тобой пойду. Просто мне мою писанину закончить надо.
– Я все думаю, так ли уж обязательно менять фамилию, – сказал Джим. – Может, это как-то отражается на человеке?
– Когда выполняешь поручения одно другого труднее и арестовывают тебя не однажды, и берешь ты фамилию то одну, то другую, тебе что фамилия, что номер арестантский – разницы нет.
Стоя у окна, Джим глядел вниз на улицу. Напротив были стена и узкий проулок между двумя зданиями. Ватага мальчишек, сгрудившись у стены, била в нее мячом. Даже через стекло доносились их громкие крики.
– В детстве я столько времени проводил в играх этих, – сказал Джим. – А еще больше, как помнится, в драках. Интересно, дерутся теперешние мальчишки, как мы когда-то дрались?
– Конечно, – отвечал Гарри, не отрывая глаз от работы. – Глянешь в окно – вечно они там. И дерутся не хуже прежнего.
– У меня сестра была, – продолжал Джим, – так в играх она могла обштопать любого. В шарики играла так, что с десяти шагов расколоть могла самый твердый, ей-богу, Гарри, я сам видел, да и в орлянке ей равных не было.
Гарри вскинул голову:
– Не знал я про сестру… А что с ней сталось?
– Мне это неизвестно.
– Неизвестно?
– Ага. Как ни смешно это может показаться. Нет, я не о том, что смешно, просто бывает такое в жизни…
– Ты что сказать хочешь? Тебе неизвестно, что произошло с сестрой?
Гарри даже карандаш выронил.
– Ну, могу поделиться с тобой всей историей. Звали ее Мэй, и была она на год старше меня. Спали мы с ней в кухне – порознь, конечно, на отдельных койках спали. Когда Мэй было около четырнадцати, а мне около тринадцати, она отгородила угол простыней, вроде как чуланчик себе соорудила, чтобы там одеваться-раздеваться. И хихикать много моду взяла. Сидит, бывало, с другими девчонками на лестнице, и хихикают они там, пересмеиваются. Веселятся, одним словом. Блондинка она была, волосы такие светлые. Что называется, хорошенькая. И вот однажды вечером возвращаюсь я домой после игры в мяч. На углу Двадцать третьей и Фултон мы играли, там тогда пустырь был, где теперь банк. Мать спрашивает: «Мэй там на лестнице не видел?» «Нет», – говорю. Потом старик с работы вернулся. «А где Мэй?» – спрашивает. Мать говорит: «Еще не возвращалась».
Подождали немного с ужином. Потом отец подбородок выпятил – бесится, значит. «Хватит, – говорит. – Ставь еду на стол! Вольничает слишком Мэй. Осмелела что-то очень. Думает, если вымахала большая, так и ремня на нее нет!»
У матери глаза голубые были, очень светлые. А тут, помнится, совсем побелели. Словно камушки белые сделались. Поужинали, и старик мой сел в свое кресло у плиты. Сидит, и злость в нем все больше закипает. Мать рядом с ним сидит. Я спать лег. Заметил, что от отца мать отвернулась и губы у нее шевелятся. Видать, молилась она. Она ведь католичкой была, а отец терпеть не мог церкви все эти. Он то и дело бурчать принимался, все грозился задать Мэй жару, когда вернется.
Часам к одиннадцати отец с матерью к себе пошли спать, но свет в кухне гореть оставили, и было слышно, что они все разговаривают и разговаривают друг с другом. Ночью я как ни проснусь, ни встану, мать тут же из комнаты своей выглядывает, а глаза у нее по-прежнему как белые камушки.
Отойдя от окна, Джим присел на раскладушку. Гарри ковырял карандашом столешницу. И Джим продолжил:
– Наутро, когда я проснулся, солнышко светило вовсю, а свет в кухне все горел. Странным это казалось, и как-то тоскливо становилось от этого света среди бела дня. Вскоре мать из комнаты своей вышла, плиту разожгла. Лицо у нее было как каменное, и смотрела она в одну точку. Потом и отец появился. Вид у него был пришибленный – точно вдарили ему между глаз. И молчит – слова не вымолвит. Уже на работу собираясь, стоя в дверях, бросил: «Я, пожалуй, в участок загляну. Может, она под машину угодила».
Ну, я в школу отправился, а сразу после школы – домой. Мать велела мне девчонок порасспрашивать, не видали ли Мэй. К тому времени уже слух пошел, что Мэй пропала. Девчонки уверяли, что никто из них Мэй не видел. Отвечали робко, выглядели напуганными. Вернулся отец. На обратном пути с работы он в полицию успел завернуть. Сказал: «Копы приметы ее взяли. Обещали быть начеку».
Вечер прошел как предыдущий. Мой старик и мама сидели рядышком, только теперь старик уже не бурчал. И опять всю ночь свет горел. Назавтра отец опять в участок наведался. Копы сыщика прислали опросить ребят соседских, и к матери полицейский пришел – побеседовать. Кончилось тем, что розыск объявили. И все. Больше мы ничего не знаем и с тех пор о ней не слышали.
Гарри упер карандаш в стол и сломал грифель.
– А с парнями постарше она не водилась? Может, сбежала с кем-нибудь, кто повзрослее?
– Не знаю я. Девчонки говорили, что нет, не водилась. Они бы знали.
– Но ты хоть подозрения имеешь, что такое могло случиться?
– Нет, пропала, и все. С глаз долой. То же самое с Бертой Райли произошло двумя годами позже – исчезла, и с концами.
Джим потер подбородок.
– Может, это только воображение мое, но мне все казалось, что мать с тех пор еще тише стала, притихла. Двигалась как автомат. И все помалкивала, слова лишнего из нее не вытянешь. И глаза у нее потухли, будто помертвели. А старик мой от всего этого еще пуще озлился. Кулаки распускать стал. На работу шел – мастера побил с мясокомбината Монеля. Ему девяносто суток ареста дали за оскорбление действием.
Гарри, поглядев в окно, неожиданно положил карандаш и встал.
– Пошли, – велел он. – Отведу тебя на место. Пора сбыть тебя с рук, чтоб закончить наконец доклад. Этим и займусь, когда вернусь.
Джим снял с радиатора две пары влажных еще носков, свернул их и бросил в бумажный пакет.
– На новом месте досушу, – сказал он.
Гарри надел шляпу и, сложив листки с докладом, сунул их в карман.
– В любую минуту сюда копы могут заявиться, – пояснил он. – Так что я стараюсь ничего здесь не оставлять.
Уходя, он запер дверь.
Они прошли через деловой центр города, миновали район многоквартирных домов и очутились наконец среди старинных домов с палисадниками. Гарри свернул на подъездную аллею.
– Пришли. Вот здесь. За этим домом.
Следуя по гравийной дорожке, они обогнули дом, за которым обнаружилась маленькая свежевыкрашенная хижина. Подойдя к двери, Гарри распахнул ее и жестом пригласил Джима войти.
В хижине оказалась всего одна большая комната с кухонькой. В комнате стояло шесть железных коек, застеленных одеялами из грубого солдатского сукна, и находились трое мужчин. Двое из них лежали на койках, третий, плотный, с лицом закаленного в боях боксера-профессионала, медленно тюкал на пишущей машинке.
Едва Гарри открыл дверь, он вскинул на него глаза, тут же встал и с широкой улыбкой двинулся ему навстречу.
– Привет, Гарри! – воскликнул он. – Зачем пожаловал?
– Это Джим Нолан, – объяснил Гарри. – Помнишь, о нем шла речь намедни? А это, Джим, Мак, человек, который агитработу знает как свои пять пальцев, другого такого не сыщешь во всем штате.
Мак сверкнул зубами в улыбке.
– Рад видеть тебя, Джим! – сказал он.
– Возьми над ним шефство, Мак, – торопливо произнес Гарри, уже стоя в дверях. – И к делу приспособь. А меня работа ждет.
Он помахал рукой двум лежавшим на койках:
– Привет, мальчики!
Когда дверь за ним захлопнулась, Джим огляделся. Дощатые стены комнаты были голы, а единственный стул стоял возле пишущей машинки. Из кухоньки несся запах стоявшей на огне солонины. Джим перевел взгляд на Мака – широкоплечий, длиннорукий, лицо скуластое и плоское, как у скандинава. Губы сухие, потрескавшиеся. Джиму он ответил таким же пристальным взглядом.
– Вот у собак, – неожиданно произнес он, – у них все проще. Обнюхали друг друга – и дело с концом: либо друзья, либо грызутся. Но Гарри говорит, что ты парень подходящий, а Гарри понимает, что к чему. Давай с ребятами тебя познакомлю. Вот этот, бледный, Дик, наш сердцеед. Сколько пирогов и пирожных получили мы через него, не сосчитать!
Лежавший на койке бледный темноволосый парень осклабился и протянул Джиму руку.
– Видишь, какой он красавчик? – продолжал Мак. – Мы зовем его Приманка. Рассказывает женщинам о рабочем движении, а те взамен шлют нам пирожные с розовой глазурью! Правда, Дик?
– Пошел к черту! – беззлобно отозвался тот.
Взяв Джима под локоть, Мак подвел к человеку на другой койке. Определить, сколько тому лет, было бы затруднительно: лицо изможденное, иссеченное морщинами, нос расплющен, а тяжелая челюсть искривлена.
– Это Джой, – представил его Мак. – Джой – наш ветеран. Верно, Джой?
– Да уж, черт возьми! – произнес Джой, глаза его ярко вспыхнули, но свет в них сразу же и погас. Джой открыл было рот, чтобы продолжить речь, но повторил лишь свое «да уж, черт возьми!», повторил с важностью, будто завершая этим некий спор. Он поглаживал рукой другую руку, и Джим заметил, что руки у него изуродованы шрамами.
– Джой руки тебе подать не может, – объяснил Мак. – У него все кости переломаны, и от рукопожатий ему больно.
Глаза у Джоя опять сверкнули.
– А все почему? – выкрикнул он пронзительно. – Потому что били меня, нещадно били! К решетке тюремной наручниками приковывали и давай по голове лупить! И копытами лошадиными давили тоже. Мутузили меня почем зря! Верно, Мак?
– Верно, Джой.
– А сдрейфил я хоть раз, Мак, скажи! Нет, я в лицо их суками обзывал, и кричал, и кричал им это до последнего, пока сознание не терял!
– Все так, Джой. А держал бы рот на замке, не били бы тебя до потери сознания.
– Да разве и вправду не суки они конченые! – Голос у Джоя так и взвился, поднявшись до визга. – Вот я и кричал им это. И пусть били они меня по голове, когда я в наручниках пошевелиться не мог, пусть копытами давили! Видишь руку мою? Мне на нее лошадь ихняя копытом наступила! Все равно я им это в лицо кричал и кричать буду! Да, Мак?
Склонившись к Джою, Мак похлопал его по плечу:
– Да, Джой, конечно! Никто не заставит тебя смириться!
– Точно, черт возьми! – пробормотал Джой, и свет в его глазах вновь померк.
– Пойдем-ка сюда, Джим, – позвал Мак, увлекая его в дальний угол комнаты, к стоявшей на маленьком столике пишущей машинке. – Печатать умеешь?
– Немножко.
– Вот и отлично. Можешь сразу к работе и приступать. – И вполголоса добавил: – А Джоя ты не пугайся. Ему малость мозги отшибло. Слишком уж часто по голове доставалось. Мы присматриваем за ним и в обиду не даем, уберечь от неприятностей стараемся.
– С моим стариком похоже было, – сказал Джим. – Однажды вижу, он по улице идет и словно круги выписывает, на ходу влево его заносит. Пришлось ему подсобить, чтобы шел ровно. Скэб[2] его медным кастетом по уху съездил, так у него, кажется, с равновесием что-то сделалось.
– Вот. Гляди, – показал Мак. – Это текст документа-обращения. В машинку я четыре копирки заложил. Нужны двадцать копий. Сделаешь, пока я ужин сварганю?
– Конечно.
– И жми на клавиши посильнее – копирка-то плоховата.
Мак удалился в кухню, крикнув: «Давай-ка, Дик, почисти лучку, если не боишься запаха этого жуткого!»
Дик встал и, засучив рукава белой рубашки едва ли не выше локтя, последовал за Маком в кухню.
Чуть только Джим приноровился к небыстрому и раздумчивому печатанию, как к нему приковылял Джой.
– Кто производит продукт? – требовательно вопросил он.
– Ну… рабочие производят.
На лице у Джоя отобразилась хитроватая ухмылка некоего сокровенного знания.
– А прибыль кто получает?
– Те, кто вкладывает деньги.
– Но они же не производят ни черта! – вскричал Джой. – Так какое же право они имеют прибыль себе забирать!
Из кухни выглянул Мак. И поспешил на крик, держа в руках половник.
– Послушай, Джой, – сказал он. – Кончай ты своих агитировать! Ей-богу, мне кажется иногда, что ребята наши только тем и заняты, что друг друга агитируют! Пойди ляг, Джой. Отдохни. Джиму работу надо сделать. Вот закончит он работу, и я, может, поручу тебе несколько конвертов – адреса писать.
– Правда, Мак? Ну, я ведь говорил им все как есть, да, Мак? Все, что думал, выкладывал. Даже когда били меня, я не молчал!
Ласково взяв его под локоть, Мак отвел Джоя к койке.
– Вот тебе экземпляр «Нью мэссиз»[3], Джой. Посмотри картинки, а я пока стряпать докончу.
Джим продолжал тюкать пальцем, печатая текст документа. Четырежды отпечатав текст, он сложил возле машинки стопку из двадцати копий и крикнул в сторону кухни: «Готово, Мак!»
Мак подошел, просмотрел копии.
– Ты здорово печатаешь, Джим. И помарок считай нет… Вот тебе конверты. Вложи в них обращения. Поедим, тогда подпишем адреса.
Мак разложил по тарелкам солонину, картошку, морковь и нарезанный сырой лук. Все разошлись по койкам – есть. В комнате было сумрачно, пока Мак не зажег свисавшую из центра потолка мощную лампочку без абажура.
Когда тарелки опустели, Мак опять пошел в кухню и вернулся оттуда с блюдом кексов.
– Вот еще одна часть партийных обязанностей Дика. Он использует постель в политических целях. Рекомендую вам, джентльмены: Дю Барри[4] нашей партии!
– Пошел к черту! – отозвался Дик.
Мак взял с койки Джима заклеенные конверты.
– Здесь у меня двадцать писем с обращениями. Каждый подпишет адрес на пяти конвертах. – Отодвинув на край стола тарелки, он достал из выдвижного ящика ручку и склянку чернил. Затем вытащил из кармана список и аккуратно написал адреса на пяти конвертах. – Твоя очередь, Джимми. Напишешь адреса на этих пяти.
– Зачем это? – удивился Джим.
– Ну, может, это особо и ни к чему, а может, и к чему. Ведь нашу почту частенько перехватывают. Вот я и подумал, что шпикам, может, потруднее будет, если адреса написать разными почерками. Мы письма в почтовые ящики кинем. Зачем на неприятности нарываться?
Пока еще два парня писали свою порцию адресов, Джим убрал со стола посуду, отнес ее в кухню, поставил стопкой на край раковины. Когда он вернулся в комнату, Мак клеил марки на конверты и совал письма в карман.
– Дик, – сказал он, – сегодня посуду тебе с Джоем мыть. Вчера вечером я один с этим справился. А сейчас иду письма отправлять. Хочешь со мной пойти, Джим?
– Ясно, хочу, – кивнул Джим. – У меня доллар есть. Я кофе куплю, и мы, когда вернемся, кофейку выпьем.
Мак протянул руку:
– Нет, кофе у нас есть, на доллар мы лучше марок купим.
И Джим отдал ему доллар.
– Ну вот, теперь я чист, – сказал он. – Теперь у меня ни цента не осталось.
Вслед за Маком он вышел в вечерний сумрак, и они направились по улице, глядя по сторонам в поисках почтовых ящиков.
– А что, Джой действительно не в себе? – спросил Джим.
– Ну да, порядком не в себе. Знаешь, последний случай с ним был самым тяжелым. Джой в парикмахерской речь держал, парикмахер сделал звоночек, и на митинг полиция нагрянула. Ну, Джой драться-то мастак, пришлось им челюсть ему дубинкой сломать, чтобы не брыкался, когда его в каталажку тащили. Не знаю уж, как ухитрялся Джой говорить со сломанной челюстью, но, похоже, он и доктора тюремного агитировал, потому что тот заявил, что не станет лечить «этих чертовых красных», и Джой промаялся в тюрьме целых три дня со своей челюстью. Вот с той поры он малость с катушек и слетел. Думаю, недолго ему на свободе гулять осталось – упекут. Слишком часто по башке получал.
– Бедняга, – пробормотал Джим.
Вынув из кармана ворох конвертов, Мак подобрал из них пять с разными почерками.
– Что ж, Джой никогда не умел язык свой придержать. Ты на Дика погляди. Ни одной царапинки на нем! А ведь в крутости наш красавчик Джою не уступит, только знает, когда показывать ее стоит. Схватят его, бывало, копы, а он им тут же: «сэр», уважительно так, и вот они в нем уже души не чают, и не успеешь оглянуться – он на свободе! А у Джоя соображения не больше, чем у бульдога!
Возле самой Линкольн-сквер, на обочине, отыскался последний из четырех требующихся ящиков. Мак бросил туда свои конверты, и они неспешно двинулись по брусчатой дорожке парка, на которой уже валялись кленовые листья. Лишь некоторые скамейки на аллеях были заняты. На высоких столбах зажглись фонари, и на землю легли черные тени деревьев. Неподалеку от центра Линкольн-сквер высился памятник бородатому мужчине во фраке. Джим указал на памятник.
– Вон там я на постаменте стоял, – заметил он, – разглядеть, что происходит, пытался. А коп, видать, подскочил и шмякнул меня по шее, сильно так, как муху прихлопывают. Догадываюсь поэтому, каково Джою приходится. У меня ведь и самого дней пять с головой плохо было. Какие-то мелкие картинки мелькали, а что к чему, понять не мог. Прямо в затылок меня угораздило.
Мак завернул к скамейке, сел.
– Да знаю я, – сказал он. – Читал доклад Гарри. И только одно это тебя в партию вступить подтолкнуло?
– Нет, – ответил Джим. – В тюрьме в камере со мной еще пятеро сидели, тогда же задержанных – мексиканец, негр, еврей, ну, и двое других – американцы, вроде меня – обычных смешанных кровей то есть. Они, понятное дело, разговоры со мной вели. Но не это меня подтолкнуло. Читать-то читал я побольше ихнего. – Джим поднял с земли кленовый листок и стал задумчиво отщипывать его края, превращая лист в округлое подобие ладони со скелетиком из жилок внутри. – Понимаешь, – сказал он. – Дома нам все время бороться приходилось с тем или иным, в основном с голодом. Отец с хозяевами своими боролся. Я тоже боролся – в школе. И всегда мы в проигрыше оказывались, так что постепенно, думаю, это как бы нам в мозг впечаталось, что все равно мы всегда проиграем. Мой старик бился, точно кот, которого в угол свора собак загнала. Рано или поздно та или иная псина его прикончит, а он все равно бьется, отбивается. Можешь ты понять, каково это – чувствовать безнадежность? Я вот рос с ощущением безнадежности.
– Понимаю тебя, – сказал Мак. – Миллионам людей это знакомо.
Джим помахал ободранным листком, пропустил его между пальцами – большим и указательным.
– Я больше скажу, – продолжал он, – дом, где мы жили, был вечно полон злобы. Злоба витала в воздухе, подавленная лютая злоба – на хозяина, на управляющего, на лавочника, когда он кредит закрывал. От злобы этой нам самим тошно было, а куда денешься!
– Ты давай выруливай поскорее, – поторопил его Мак. – А то не пойму, к чему ты клонишь. Может, объяснишь все-таки.
Вскочив с места, Джим стеганул себя по руке ободранным кленовым листком.
– Сейчас объясню суть. В камере со мной сидели люди, выросшие в обстановке вроде как у меня, а у некоторых и того хуже. В них тоже чувствовалась злоба, но другого рода. Каждый из них не хозяина своего ненавидел или там мясника. Они ненавидели всю эту систему, из хозяев состоящую. Вот в чем разница, Мак. И безнадежности в них не было. Они не ярились, не кипятились, а работали, делали свое дело, но где-то в подкорке у них таилось убеждение, что они найдут способ выбраться из этой ненавистной им системы. В людях этих, хочешь – верь, хочешь – нет, даже спокойствие какое-то чувствовалось.
– Ты, кажется, меня агитировать вздумал? – саркастически усмехнулся Мак.
– Нет, просто объяснить тебе пытаюсь. Я никогда не знал, что такое надежда, что такое спокойствие, и мне этого ужас как не хватало. Может, я и больше знал о всяком там радикализме, о революционном движении, чем все эти люди, вместе взятые. И читал я больше, зато в них было то, к чему я так стремлюсь. А достигли они этого, потому что дело делали, работали!
– Ну вот, ты поработал, письма перепечатал. Так что, лучше тебе теперь? – с едкой иронией осведомился Мак.
Джим вновь опустился на скамейку.
– Я этим с удовольствием занимался, Мак, – мягко ответил он. – Не знаю уж почему, но это так. Мне казалось, что я хорошее дело делаю. Что-то, в чем смысл есть. Раньше все, что я ни делал, мне бессмысленным представлялось – так, круговерть какая-то бестолковая. Думаю, меня не особо возмущало, что кто-то руки греет на всей этой бессмыслице, но очень уж обидно было себя крысой в крысоловке ощущать!
Мак вытянул ноги, а руки засунул в карманы.
– Ну, если от работы тебе так хорошо делается, – произнес он, – то впереди у тебя счастливое время. Если научишься готовить восковки и управляться с мимеографом, то я, похоже, смогу гарантировать тебе по двадцать часов счастья в день и, заметь, совершенно бесплатно.
Сказано это было вполне добродушно.
– Ты, Мак, важная шишка в организации, правда же? – спросил Джим.
– Я? Да нет, я говорю то или это, но никто не обязан слушаться. Никаких приказов отдавать я не могу. Исполнению подлежат только те приказы, за которые проголосовали.
– Но все равно же к тебе прислушиваются, Мак. Чего мне на самом деле хочется, так это работать на местах, с людьми. Быть в гуще борьбы!
Мак усмехнулся.
– Пострадать хочешь, да? Вот уж не знаю, единственное, что мне известно, это что комитету до зарезу требуется хороший печатник. Придется тебе на время притушить в себе романтические порывы, отставить представления вроде «благородные рыцари партии бьются в кровь с чудовищем капитализма»!
Внезапно он переменил тон и словно в атаку бросился:
– Работа и там и там, понятно? На местах работать трудно и опасно, но не думай, что работа внутри организации – это сахар! Никогда не знаешь, в какой вечер вдруг шайка ребят из Американского легиона[5] нагрянет – ребят, накачанных виски и мелодиями полковых маршей. Ввалятся они и зададут тебе перцу. Я прошел, знаю, что говорю, уж поверь. Ветераны – это тебе не парни, которых призвали, чтобы они по полгода в тренировочном лагере в мешок с опилками штыком тыкали! Солдаты в окопах – те в основном дело другое, но для подстрекательства, поджогов и патриотических драк с кастетом в кулаке нет ничего лучше шайки из двадцати головорезов, солдат-ветеранов, ведущих занятия в тренировочном лагере. Да разве не смогут они родину защитить против безоружных, если их целых двадцать, да еще если вечерком они виски достать сумели! И все нашивки их за ранения достались им только потому, что пьяны были так, что не смогли до ближайшего профилактория доползти!
Джим хохотнул.
– Видать, не шибко любишь ты солдат, Мак!
– Почетных ветеранов не люблю. Я был во Франции. Там солдаты другие были – честные, порядочные, добродушные, туповатые, как скотина. Война им не нравилась, но они послушно делали, что требуется.
Он перевел дух, и Джим заметил, как по лицу его пробежала смущенная ухмылка.
– Что-то я распалился малость, да, Джим? Могу объяснить почему. В один прекрасный вечер десять таких бравых молодцов меня здорово побили. А после, когда я без сознания уже был, еще и плясали на мне и правую руку мне сломали. А вдобавок дом материнский подожгли. Мать меня во двор сумела вытащить.
– Из-за чего это все? – спросил Джим. – Что ты такого сделал?
В голос Мака опять вернулись саркастические нотки.
– Что сделал? Ну как же! Основы подрывал! Свергал правительство! Я речь сказал, в которой было, что голодают, мол, некоторые. – Он встал. – Давай-ка возвращаться, Джим. Они уж там, поди, помыли тарелки. Не хотел я кипятиться, только рука искалеченная порою свербит, вот на стенку и лезешь от злости.
Они медленно пошли назад, люди на скамейках поджимали ноги при виде проходящих.
– Если ты, Мак, замолвишь словечко, с тем чтоб я работой на местах занялся, то я рад буду.
– Ладно. Но лучше бы ты освоил изготовление восковок и к мимеографу приспособился. Ты хороший парень, я рад, что с нами будешь.
Глава 3
Сидя под режущей глаза лампочкой, Джим печатал документы. Время от времени он останавливался, обратив лицо к двери. Кроме хрипловатого бульканья кастрюли в кухне, в доме было тихо. Доносившиеся издалека мягким гулом звон трамваев, шарканье ног прохожих на тротуаре перед домом делали тишину внутри еще полнее. Он взглянул на висевший на гвозде будильник, потом встал, пошел в кухню, помешал в кастрюле и прикрутил газ, превратив пламя всех горелок в крохотные голубые шарики.
Возвращаясь к машинке, он услышал торопливые шаги по гравийной дорожке. Дик ворвался в комнату.
– Мак еще не пришел?
– Нет, не пришел, – ответил Джим, – и Джоя тоже нет. Много собрал сегодня?
– Двадцать долларов, – сказал Дик.
– Господи, ну ты даешь, парень! И как это тебе удается, не знаю! На эти деньги мы месяц питаться сможем, если Мак их на марки не заберет. Прорва какая-то марки эти…
– Слышишь? – вскричал Дик. – По-моему, это шаги Мака!
– Или Джоя.
– Нет, это не Джой.
Дверь распахнулась, и в проеме появился Мак.
– Привет, Джим. Привет, Дик. Собрал сегодня денег с поклонниц?
– Двадцать долларов.
– Молодец!
– Знаешь, Мак, Джой сегодня это таки сделал!
– Что сделал?
– Толкал речь на углу, нес свою бредятину, коп его схватил, так Джой его в плечо ножиком пырнул перочинным. Джоя забрали и шьют ему умышленное нападение. Сейчас он в камере сидит и вопит как резаный, что все они суки.
– То-то утром мне показалось, что состояние у него похуже, чем обычно. Теперь слушай меня, Дик, утром мне уехать придется, так что действовать надо сегодня. Беги к автомату и позвони Джорджу Кемпу. Номер – Оттман сорок два одиннадцать, сообщишь ему все и объяснишь, что Джой не в себе. Пусть он подскочит туда, если сможет, и скажет, что он адвокат Джоя. За Джоем много чего числится, если они ему это припомнят – штук шесть подстрекательств к бунту, не то двадцать, не то тридцать задержаний за бродяжничество, а вдобавок чуть ли не с дюжину случаев сопротивления полиции и актов непредумышленной агрессии. Он по полной получит, если Джордж не вмешается. Попроси Джорджа попытаться выдать его за пьяного. – Мак помолчал. – Господи боже, только бы бедняге на психиатрическую экспертизу не попасть! Ведь запрут его тогда на веки вечные! И вели Джорджу попробовать уговорить Джоя язык придержать. А когда сделаешь это, Дик, побегай пособирай денег на поручительство – может, получится.
– А можно я поем сперва? – спросил Дик.
– Нет, черт возьми. Сначала Джорджа туда направь. Да еще – дай мне десять из двадцати долларов. Мы с Джимом завтра в Торгас-Вэлли едем. Позвонишь Джорджу, вернешься и поешь. А потом обежишь сочувствующих – на поручительство соберешь. Бог даст, Джордж выбьет предписание и организует поручительство сегодня же.
– Идет.
И Дик быстрым шагом удалился.
Мак повернулся к Джиму:
– Думаю, придется им все-таки его навсегда изолировать. Дело слишком уж далеко зашло. Впервые он за нож-то схватился.
Джим указал на пачку готовых документов-обращений на столе:
– Вот, Мак, эти сделал. Еще три осталось, и точка. А куда, ты сказал, мы едем?
– В Торгас-Вэлли. Там огромные, на тыщи акров тянутся, яблоневые сады. Яблоки созрели, снимать пора. И тыщи две кочующих сезонников там собралось. Ну а Союз садоводов объявил, что урезает оплату сборщикам. Те злы будут как черти. Если мы сможем раскачать их на большой шум, реально ему потом дальше, на хлопковые плантации в Тандейле перекинуться. А это будет уже кое-что. Всколыхнет многих! – Он потянул носом воздух. – Как вкусно пахнет! Готово уже?
– Сейчас на тарелки положу, – сказал Джим.
Он внес две глубокие тарелки, до половины наполненные густым варевом с кусочками мяса, картошки, моркови, бледными ломтиками репы и дымящимися цельными луковицами.
Поставив свою тарелку на стол, Мак попробовал еду.
– Черт, ей остыть требуется! Дело вот в чем, Джим: я всегда считал, что негоже посылать зеленых новичков в неспокойные районы. Слишком много ошибок наделают. Можно сколько угодно изучать тактику – если и поможет, то не очень. Но я запомнил, о чем ты просил тогда в парке и что говорил в вечер первого нашего знакомства, поэтому, когда получил это задание – очень выигрышное, то поинтересовался, можно ли прихватить тебя в качестве дублера, что ли. В такого рода вылазках я-то дока, знаешь ли. Я обучу тебя, а ты потом новичков обучать сможешь. Ведь вот собак охотничьих как натаскивают? Пускают в одной своре со старыми, опытными. Ясно? Учиться-то лучше на практике, чем читая всякое разное. Бывал в Торгас-Вэлли, а, Джим?
Джим подул на горячий ломтик картофеля.
– Я даже где это, понятия не имею. Мне из города-то выезжать раза четыре за всю жизнь довелось. Спасибо, что берешь меня с собой, Мак.
Небольшие серые глаза Джима так и сияли от восторга.
– Да ты, может, с кулаками на меня кидаться станешь, прежде чем мы успеем улепетнуть оттуда в случае заварушки. Ведь не на пикник едем. Как я слыхал, Союз садоводов – организация серьезная и очень даже монолитная.
Джим оставил попытки справиться с горячим, как огонь, блюдом.
– Так как же мы действовать будем, Мак? С чего начнем?
Окинув парня взглядом и заметив, как тот взволнован, Мак рассмеялся.
– Да не знаю я, Джим! В этом-то и беда всякого книжного знания. Работать приходится с тем, что есть, и всякий раз по-разному. И тут никакая в мире тактика не поможет. Даже двух одинаковых случаев не бывает.
Мак помолчал немного, налегая на еду, а когда тарелка опустела, вздохнул, выпустив изо рта облачко пара.
– Там у тебя на добавку хватит? А то я не наелся.
Пройдя в кухню, Джим наполнил ему тарелку новой порцией.
– Значит, так, – сказал Мак, – расклад такой. Торгас – долина небольшая, и там почти сплошь яблоневые сады. Владеют ими по большей части несколько крупных собственников. Есть, конечно, и мелкие владения, но их немного. Когда яблоки созревают, туда налетают кочующие сезонники – сборщики яблок. После, когда урожай собран, им прямая дорога через перевал на сбор хлопка. Если нам удастся устроить заварушку с яблоками, то она естественным образом может распространиться и туда, где хлопок собирают. Так вот. Эти крупные владельцы яблоневых садов выждали, пока большинство бродяг-сезонников уже прибыли на место. Почти все свои деньги они успели потратить по дороге, добираясь до Торгаса. Дело обычное. И вот тут как раз садоводы и объявляют, что оплата сборщикам будет снижена. Сезонники, конечно, на дыбы. А что делать? Надо работать, яблоки снимать, хотя бы для того, чтобы оттуда выбраться.
Джим даже есть перестал. В раздумье он мешал ложкой еду – мясо и картофель, кругами, опять и опять. Затем подался вперед.
– Так мы попробуем, значит, поднять людей на забастовку? Да?
– Конечно. Может, там уже готово все взорваться, полыхнуть, а от нас требуется только толчок. Мы организуем людей и выставим пикеты в садах.
– А что, если владельцы поднимут плату, чтобы яблоки все же были собраны? – спросил Джим.
Мак отодвинул в сторону вторично вылизанную тарелку.
– Ну, в таком случае для нас вскорости отыщется другая работа в другом месте. Нам, черт возьми, не нужны временные подачки, отдельные уступки, хотя мы и рады, конечно, были бы, если б нескольким бедолагам повезло немного заработать, поправить свое положение. Но надо мыслить перспективно. Забастовка, слишком быстро оканчивающаяся миром, не научит людей организовываться, сплачиваться для совместных действий. Нужна хорошая драчка! Мы хотим, чтобы люди поняли, какая они сила, когда действуют сообща, вместе!
– Нет, ну все-таки, – упорствовал Джим. – Предположим, что хозяева согласились на требования рабочих. Что тогда?
– Да не думаю, что они согласятся. В руках этих немногих большая сила. А люди в таких случаях становятся самонадеянными. Итак, мы начинаем забастовку, а власти Торгаса отвечают распоряжением считать всякое сборище незаконным. К чему это приводит? Мы все-таки собираем людей. Подручные шерифы делают попытку их разогнать, начинается драка. Нет ничего лучше для сплочения людей! Хозяева тогда в свой черед обращаются в Комитет бдительности[6], эту дурацкую шайку прилипал – клерков и старых моих знакомцев из Американского легиона, молодящихся ветеранов, старательно затягивающих пояса потуже, чтобы пузо не так выпирало. Ну а нам это только на руку! «Бдительные» затеют стрельбу, грохнут нескольких сезонников, а мы тогда соберем толпу на похороны. И вот тут уж дела пойдут и взаправду круто: может быть, хозяевам придется даже и солдат Национальной гвардии вызывать! – Мак пыхтел от возбуждения. – Солдаты возьмут верх? Ладно! Пусть так! Только в ответ на каждый тычок гвардейского штыка в бродягу-сезонника на нашу сторону перейдет тысяча людей по всей стране! Господи, Джим, ради такого мы этих гвардейцев и сами бы вызвали! – Он опустился на койку. – Я что-то шибко размечтался. Пока что наша задача – толкнуть народ, если сможем, на маленькую, детскую такую забастовочку. Но, черт возьми, Джим, если сейчас, когда сбор урожая на носу, до Национальной гвардии дело дойдет, то к весне весь округ наш будет.
Джим ерзал на койке – глаза горят, зубы стиснуты. Он то и дело нервно хватался за горло.
– Эти кретины думают, что солдатами можно усмирить бастующих! – продолжал Мак. Внезапно он рассмеялся: – Опять я из себя уличного оратора корчу. Завожусь с пол-оборота! Ни к чему это. Надо мыслить здраво. Ой, да, Джим, рабочие штаны у тебя имеются?
– Нет. Единственная моя одежда – это то, что на мне.
– Что ж, в таком случае придется нам выйти и купить тебе штаны какие-нибудь рабочие в лавке подержанных вещей. Ты же будешь яблоки снимать. Спать в ночлежках. А партийной работой заниматься после того, как в саду десять часов оттрубишь. Но ты же хотел такой работы!
– Спасибо тебе, Мак, – сказал Джим. – Мой старик всю жизнь в одиночку дрался. Вот и били его поэтому.
Мак встал, наклонился над Джимом:
– Допечатай-ка что осталось, Джим, и пойдем покупать тебе штаны!
Глава 4
Солнце еще только-только яснее обозначило очертания городских зданий, когда Мак с Джимом вышли к сортировочной станции, где сияющие металлом рельсы, то сбегаясь, то разбегаясь, ширились в гигантскую паутину запасных путей и рядами стоящих вагонов.
– В семь тридцать отсюда товарный отойти должен, – сказал Мак. – Порожняком. Давай подальше пройдем по этой вот ветке. – И он быстрым шагом направился туда, где путаница бесчисленных линий и ответвлений от них превращалась в главную магистраль.
– Мы что, на ходу в него запрыгивать будем? – удивился Джим.
– О, да он не быстро идти будет. Я и позабыл совсем, что раньше тебе не приходилось товарняк ловить. Правда ведь?
Джим старался шагать пошире, чтобы не наступать на все шпалы подряд. Оказалось, не так-то это просто.
– Похоже, мне раньше вообще мало что приходилось делать, – признался он. – Для меня все так внове.
– Сейчас-то это что, железнодорожники дозволяют парням так путешествовать, а раньше, если тебя ловили, сбрасывали с поезда прямо на ходу – без разговоров – и на рельсы!
Сбоку от них тянула гусиную шею черной своей трубы водонапорная башня. Паутина пересекающихся путей осталась позади, и вдаль устремлялась лишь одна истертая колесами колея с отполированными до зеркального блеска рельсами.
– Можно присесть передохнуть чуток, – предложил Мак. – Скоро появится.
Конец фразы утонул в долгом и заунывном, словно вой, паровозном свистке, сопровождаемом протяжным и оглушительным выпуском пара. И как по сигналу из ближайшей к железнодорожному полотну канавы стали подниматься и лениво потягиваться на утреннем солнышке люди.
– Вот и компания нам будет, – заметил Мак.
Длинный товарный состав из пустых вагонов медленно двигался от сортировочной – красные закрытые вагоны, желтые рефрижераторы, черные железные лодочки платформ, круглые цистерны. Состав шел со скоростью, едва ли превышающей скорость пешехода, и машинист поприветствовал людей в канаве взмахом черной засаленной рукавицы. «На пикник собрались?» – крикнул он игриво и выпустил под колеса новую порцию белого пара.
– Нам закрытый вагон нужен, – сказал Мак. – Вот он! Дверь приоткрыта!
Семеня вровень с вагоном, он толкнул дверь и крикнул:
– Подсоби!
Ухватив ручку двери, Джим приналег на нее всем телом. Тяжелая задвижная дверь со ржавым скрежетом сдвинулась, расширив отверстие еще на несколько футов. Мак, опершись руками о порожек, подпрыгнул, развернулся в воздухе и очутился в двери уже в положении сидя. Он тут же встал и посторонился, позволив тем самым Джиму повторить его маневр. Пол вагона был замусорен кусками содранной со стен бумажной прокладки. Пихая ногами бумагу, Мак собрал ее в кучу возле стены.
– Набери и себе тоже! – крикнул он Джиму. – Хорошая подстилка получится!
Но не успел Джим набрать себе бумаги, как в двери появилась чья-то голова. В вагон впрыгнул мужчина, а за ним еще двое.
Первый мужчина окинул быстрым взглядом пол вагона и, подступив к сидящему Маку, угрожающе навис над ним:
– Все заграбастал, да?
– Что я заграбастал?
– Бумагу. Всю сгреб подчистую!
Мак улыбнулся обезоруживающей улыбкой.
– Мы же не знали, что к нам гости пожалуют. – Он встал. – Бери себе, пожалуйста.
Секунду мужчина, приоткрыв рот, недоуменно глядел на Мака, а потом, наклонившись, ухватил в охапку всю его бумажную подстилку.
Мак легонько тронул его за плечо.
– Слышь, ты, сопляк вонючий, – ровным голосом, гнусаво произнес он. – Положи-ка все на место. Хочешь свинячить, так ничего не получишь!
Мужчина уронил бумагу.
– Ты меня, кажется, уделать вздумал? – вопросил он.
Неспешно отойдя на несколько шагов, Мак привстал на цыпочки, покачался на носках, ладони раскрыты, руки свободно висят вдоль тела.
– На боксерских состязаниях на стадионе Розанна бывать приходилось?
– Ну, приходилось. Дальше что?
– А то, что врешь как сивый мерин. Если бы приходилось, ты бы знал, кто я есть и что лучше тебе быть со мной поаккуратнее.
На лице у мужчины появилось выражение замешательства. Он с тревогой покосился на двух своих спутников. Один из них, стоя в дверном проеме, неотрывно глядел на проплывающий мимо пейзаж. Другой сосредоточенно ковырял в носу кончиком банданы и с интересом разглядывал результаты раскопок. Первый мужчина вновь перевел взгляд на Мака:
– Я что? Я в драку не лезу. Мне бы только бумаги немного, чтоб сесть.
Мак встал на полную ступню.
– Ладно, – сказал он. – Так и быть, бери. Только оставь чуток.
Приблизившись к куче бумаги, мужчина взял себе несколько обрывков.
– Да можешь и побольше взять!
– Нам недалеко ехать, – отозвался мужчина. Он сел возле двери и, обхватив руками колени, уткнул в них подбородок.
Городские кварталы закончились, и поезд набрал скорость. Деревянный вагон грохотал, что тебе орган. Джим встал и, толкнув дверь, раскрыл ее во всю ширь, впуская в вагон лучи утреннего солнца. Усевшись в дверном проеме, он свесил ноги наружу и глядел вниз, пока от мелькания земли под колесами у него не закружилась голова. Тогда он поднял голову и стал разглядывать пробегавшие мимо покрытые желтой стерней сжатые поля. Воздух был свеж и приятно попахивал паровозным дымком.
Вскоре к нему присоединился Мак.
– Послушай, не вывались смотри, – крикнул он. – А то один мой знакомый парень тоже так вниз смотрел, голова закружилась, и он из вагона полетел – мордой о землю шлепнулся.
Джим ткнул пальцем в сторону беленького дома фермерской усадьбы с красным амбаром, притаившимся за рядком молодых эвкалиптовых деревьев.
– А место, куда мы едем, такое же красивое, как вот это?
– Красивее, – отвечал Мак. – Там сплошь сады яблоневые на мили и мили вокруг, а ветви яблонь сейчас, в сезон, будут ломиться от плодов, сгибаться под тяжестью яблок, которые у нас в городе пятицентовик штука продают!
– Знаешь, Мак, странно даже, почему я не выбирался за город почаще. Забавно, как люди, бывает, хотят чего-то, а не делают. Когда еще мальчишкой был, какой-то там приют или общество благотворительное вывезло пятьсот ребятишек на пикник за город, погрузили нас на грузовики, и мы поехали. Мы там гуляли, нагуляться не могли. Деревья в том месте росли высокие, и, помню, взобрался я высоко, на самую верхушку дерева, и сидел там долго, чуть ли не весь пикник просидел. Я думал, что вернусь туда обязательно, как только сумею – вернусь. Но так и не вернулся.
– Вставай, Джим, и давай-ка дверь закроем, – сказал Мак. – Мы к Уилсону подъезжаем. Не стоит железнодорожную полицию лишний раз раздражать.
Совместными усилиями они задвинули дверь, и в вагоне внезапно стало тепло и сумеречно. Вагон дрожал, как корпус гигантской виолы; постукивание колес на рельсовых стыках стало реже, потому что поезд теперь шел по городу и сбавил скорость. Трое мужчин поднялись.
– Мы здесь выходим, – объявил главный и, толкнув дверь, приоткрыл ее на фут. Два его спутника скользнули вон. Главарь повернулся к Маку: – Надеюсь, ты на меня зла не держишь, приятель?
– О чем речь!
– Ну, бывай. – Скользнул прочь и он, а уже приземлившись, крикнул: – Сукин ты сын трёхнутый!
Мак рассмеялся и, потянув дверь, почти задвинул ее. Какое-то время поезд катил плавно, и ритм колес, постукивающих на стыках, участился. Мак вновь открыл дверь пошире и сел на солнышке.
– Красиво это он, ничего не скажешь! – заметил Мак.
– А ты и вправду чемпион по боксу? – спросил Джим.
– Господи, да какое там… Просто парень этот – слабак и недотепа. Вообразил, когда я с ним бумагой поделиться хотел, что это я с испугу, что боюсь его очень. Это уж, считай, общее правило. Хотя бывает, конечно, что оно и не срабатывает, но в большинстве своем те, кто пытается на испуг взять, сами тебя боятся. – Он обратил к Джиму добродушное, с крупными тяжелыми чертами лицо. – Не знаю, как так выходит, но почему-то всякий раз, как с тобой разговор завожу, я либо ораторствовать начинаю, либо поучать…
– Да ладно тебе, Мак! Слушать – это по моей части, черт побери!
– Надеюсь, что так. Нам в Уивере слезать придется и ловить товарный, что на восток идет. Это миль через сто будет. Если повезет, до Торгаса ночью доберемся. – Вытащив кисет, он скрутил себе самокрутку, стараясь, чтобы порывом ветра не вырвало из рук бумагу. – Закуришь, Джим?
– Нет, спасибо.
– Никаких вредных привычек, да, Джим? А ведь не святоша, поди… С девчонками-то хоть знаешься?
– Нет, – ответил Джим. – Когда очень уж припекало, в бордель ходил. Не поверишь, Мак, но я сызмальства, как взрослеть начал, боялся девушек. Наверно, боялся в ловушку попасть.
– Из-за красотки какой-нибудь?
– Нет. Понимаешь, со всеми приятелями моими такое случалось. Все они тискали девчонок где-нибудь на складах, зажимали их в углу за рекламными щитами, добиваясь того самого. Рано или поздно девчонка залетала, и тут уж пиши пропало. Точка! Я боялся, Мак, в ловушке очутиться, как мать моя или старик-отец – квартира двухкомнатная, дровяная плита… Господи боже, разве ж я о роскоши мечтал какой? Я только не хотел получать тычки и затрещины, не хотел, чтобы дубасили меня. Не хотел жить жизнью, какой, я знал, жили все парни вокруг: по утрам завтрак с собой захватить, кусок пирога непропеченного, несвежий кофе в термосе…
– Если так, то жизнь ты выбрал себе чертовски неподходящую. В нашем деле без того, чтоб дубасили, не обойдешься.
– Я не о том! – возразил Джим. – Пяткой в челюсть я готов получать и удары от жизни тоже, не хочу только, чтобы изводила меня она, умучивала, откусывая по кусочку, и так до самой смерти! Вот в чем разница!
Мак зевнул.
– А по мне – разница небольшая, и там и там – скука смертная. И в борделях тоже не шибко повеселишься.
Он поднялся и, пройдя в глубь вагона к своей бумажной куче, лег там и заснул.
Джим долго еще сидел у двери, глядя на проплывавшие мимо дома фермеров. Виднелись обширные огороды с рядами круглых кочанчиков салата, с кудрявой, как листья папоротника, морковью, ряды свеклы с красноватой ботвой, между рядами овощей поблескивали ручейки воды. Поезд шел, минуя поля люцерны, мимо белых коровников, откуда ветер доносил густой здоровый дух навоза и аммиака. А затем поезд нырнул в ущелье, и солнце скрылось. Высокие крутые холмы по обе стороны дороги поросли папоротником и виргинским дубом, и заросли подступали к самому полотну. Громкий ритмичный перестук колес бил Джиму в уши, отупляя и навевая дремоту. Пытаясь прогнать сон, мешавший ему любоваться окрестностями, он яростно тряс головой. Но насильственная встряска не помогала. В конце концов он встал и, задвинув дверь почти полностью, побрел к своей бумажной куче. Его сон был темной, гулкой, наполненной отзвуками эха пещерой, и пещера эта все длилась и длилась до бесконечности.
Маку пришлось несколько раз тряхнуть его за плечи, прежде чем он проснулся.
– С поезда прыгать вот-вот надо будет! – вопил Мак.
Джим сел.
– Господи, неужто уже сотню миль проехали?
– Почти. Шум этот вроде как наркотиком тебя шибает, правда? Меня в закрытых вагонах сон прямо с ног валит. Соберись. Через минуту-другую поезд ход замедлять будет.
На секунду Джим замер, обхватив руками гудящую голову.
– Меня словно плетками отстегали, – пожаловался он.
Сильным движением Мак открыл дверь.
– Прыгай так, точно мы идем, а земля бежит!
Он прыгнул, и следом за ним прыгнул Джим.
Спрыгнув, он огляделся. Солнце стояло высоко, почти над головой. Прямо напротив теснились дома и купы тенистых деревьев маленького городка. Товарняк поехал дальше, а они остались.
– Здесь дорога разветвляется, – пояснил Мак. – Наша ветка, та, что на Торгас-Вэлли ведет, – вон она! Но через город мы не пойдем, он нам вовсе ни к чему. Мы двинем наискосок по полю, а к дороге выйдем уже подальше.
Вслед за Маком Джим перемахнул через проволочную изгородь, прошел вместе с ним по стерне и очутился на грунтовке, прошагав по которой с полчаса и оставив в стороне окраину городка, вышел к железнодорожной ветке.
Мак сел на насыпь и, кивнув Джиму, пригласил его сесть рядом.
– Это место хорошее. Здесь поезда взад-вперед так и шмыгают. Не знаю, правда, сколько ждать придется.
Он скрутил себе самокрутку из оберточной бумаги.
– Тебе стоит начать курить, Джим, – сказал он. – Это хороший способ общения. Ведь тебя ждут встречи и разговоры с массой людей. Хочешь растопить лед, смягчить собеседника – предложи ему папироску или попроси ее у него. Лучше не придумаешь! Многие даже обижаются, если на предложение дать закурить отвечают отказом. Правильнее будет тебе начать курить.
– Думаю, у меня получится, – кивнул Джим. – Мальцом я курил с ребятами. Интересно, как это будет теперь, не затошнит ли опять.
– Так попробуй. Сейчас. Я скручу тебе.
Джим взял самокрутку, поднес огонек.
– Вроде ничего. Приятно. Я почти и забыл этот вкус.
– Ну, если даже и неприятно, все равно кури. В нашей работе это штука полезная. Маленькая хитрость таких, как мы, шаг к сближению. А что другое нам остается? – Мак встал. – Похоже, товарняк движется.
По рельсам медленно приближался поезд.
– Боже ты мой! – вскричал Мак. – Восемьдесят седьмой! Наш, родной! В городе говорили, что он на юг идет. Видно, отцепили от него вагон-другой, и он опять вышел!
– Давай в наш старый вагон влезем, – сказал Джим. – Мне там понравилось.
Когда их закрытый вагон поравнялся с ними, они опять впрыгнули в него. Мак устроился на своей бумажной куче.
– Могли бы и не просыпаться…
Джим опять уселся у двери и просидел там все время, пока поезд полз между бурых круглых холмов и по двум коротким туннелям. Он все еще чувствовал во рту вкус табака, и вкус этот был ему приятен. Неожиданно в кармане рабочей куртки он что-то нащупал.
– Мак! – воскликнул он.
– Да? Что такое?
– У меня со вчерашнего вечера две шоколадки завалялись!
Мак взял одну шоколадку, лениво развернул.
– Теперь вижу, что в любой революции ты человек незаменимый, – сказал он.
Спустя час Джима вновь стала одолевать дремота. Он нехотя задвинул вагонную дверь, зарылся в кучу бумаги и почти моментально вдруг оказался в темной гулкой пещере. От звуков вокруг ему представлялась вода и что струи воды заливают его всего, рядом кружатся какие-то обломки, куски дерева, мусор. А потом его утянуло вниз, в темную глубь беспамятства за гранью сна.
Проснулся он оттого, что Мак тряс его за плечи:
– Слушай, ты неделю проспать готов, если тебя не будить! Вот уже двенадцать часов, как ты дрыхнешь!
Джим яростно тер глаза:
– Опять меня словно плетками отстегали!
– Ну, приободрись как-то. Вот он, Торгас!
– Господи, а час который?
– Полночь скоро, думаю. Изготовься. Спрыгнуть-то сумеешь?
– Конечно.
– Ладно. Тогда давай.
Поезд медленно удалялся от них. Станция была в двух шагах. Впереди маячил красный огонек, и что-то мелькало за столбом светофора. Это размахивал фонарем тормозной кондуктор.
Одинокие городские огни справа от них отбрасывали в небо бледное зарево.
Пробирало холодом. Внезапными резкими порывами налетал ветер.
– Я оголодал, – признался Джим. – Что думаешь насчет поесть, а, Мак?
– Подожди, когда к фонарю выйдем. У меня тут хороший адресок записан.
Он быстро шагал в темноте, и Джим поспевал за ним. Вскоре они очутились на окраине городка, и на углу, под фонарем, Мак, остановившись, вытащил листок бумаги.
– Мы теперь в хорошем месте, Джим, – сказал он. – В городе этом почти пятьдесят активно сочувствующих. Парней, на которых всегда можно положиться. Вот. Этот мне и нужен. Элфред Андерсон, Таунсенд, между Четвертой и Пятой улицами. Фургон-закусочная Эла. Как тебе такая перспектива?
– Что это за список у тебя? – спросил Джим.
– Список тех в городе, кто на нашей стороне. У кого мы можем, как нам известно, раздобыть все что угодно – от вязаных перчаток без пальцев до боевых патронов. И вот фургон-закусочная Эла – такие закусочные, Джим, обычно работают круглосуточно, а Таунсенд – это, должно быть, одна из центральных улиц. Топай, давай. Попробуем этот вариант.
Вскоре они свернули на нужную им центральную улицу и, пройдя по ней, в самом конце, там, где высились коробки пустых складов, а между зданиями зияли пустыри, отыскали фургон-закусочную Эла, уютный с виду вагончик с цветными стеклами окон и задвижной дверью. Через окно можно было разглядеть двух посетителей на табуретах и парня за стойкой – толстого, с увесистыми голыми руками.
– Парни эти за кофе с пирогом пришли, – сказал Мак. – Обождем, пока они закончат.
Пока Мак и Джим медлили, приблизившийся полицейский вперил в них очень внимательный взгляд.
Мак громко произнес:
– Нет, без куска пирога я отсюда не уйду!
Джим мгновенно подхватил игру:
– Пойдем домой. Не до еды, так спать хочется!
Полицейский прошел мимо, словно принюхиваясь к ним.
– Думает, мы с духом собираемся, чтоб грабануть эту забегаловку! – вполголоса заметил Мак.
Полицейский развернулся и опять двинулся в их сторону.
– Ну иди, если хочешь, – сказал Мак. – А я хочу пирога!
И он, вскарабкавшись на три ступеньки, раскрыл дверь вагончика.
Хозяин улыбнулся вошедшим:
– Вечер добрый, джентльмены! Холодненько становится, а?
– Не без этого, – ответил Мак.
Пройдя к дальнему краю стойки, он сел там, подальше от посетителей.
По лицу хозяина пробежала тень досады.
– Послушайте, парни, – сказал он, – если у вас нет денег, то я дам вам кофе и пару пышек, а на ужин не рассчитывайте. Так, чтоб налопаться от пуза, а потом советовать звать полицию – не выйдет. Меня попрошайки скоро разорят совсем!
Мак хмыкнул:
– Кофе и пышки! Это ж красота, Элфред!
Хозяин, с подозрением покосившись на него, снял белый поварской колпак и поскреб в затылке.
Двое посетителей дружно опорожнили свои чашки. Один из них спросил:
– Ты всех бродяг кормишь, Эл?
– Господи, а что поделаешь?.. Если парень холодным вечером просит чашечку кофе, неужто ж гнать его только за то, что нет у него паршивого пятицентовика!
Спросивший хохотнул.
– Ну, двадцать таких чашечек – это доллар. Прогоришь, если будешь так дело вести! Пошли, Уилл, да?
Они поднялись и, расплатившись, удалились.
Выйдя из-за стойки, Эл проводил их до двери и поплотнее закрыл ее за ними. Затем вернулся за стойку и наклонился к Маку.
– Кто вы такие, парни? – строго спросил он.
Белые, голые по локоть руки действовали с неспешной, надежной уверенностью. Эл мелкими круговыми движениями протер стойку, протер опять, еще и еще. Его манера склоняться к собеседнику придавала таинственность каждому сказанному слову.
Мак подмигнул – с важностью, заговорщически.
– Нас сюда из большого города по важному делу прислали.
Щеки у Эла взволнованно вспыхнули.
– Угу-у, так я сразу и подумал, как только вы вошли. Кто же вас надоумил ко мне заглянуть?
– Ты услугу нашим людям оказал, а мы таких вещей не забываем.
Эл так и засиял от горделивой радости, словно гости пришли, чтобы вручить ему подарок, а не выставить на деньги.
– Подождите-ка, – сказал он. – Вы, ребята, верно, и не ели сегодня. Сейчас я вам бифштексы сварганю.
– Вот это отлично! – с энтузиазмом отозвался Мак. – Мы просто умираем с голоду.
Эл направился к холодильнику и выудил оттуда две пригорошни фарша. Расплющив мясо между ладонями, он смазал щеточкой стоявшую на газу сковороду. Поверх и вокруг котлет он насыпал резаного лука. И тут же в воздухе расплылся аппетитный аромат.
– Господи! – воскликнул Мак. – Так и сиганул бы через стойку, чтобы с головой в сковородку нырнуть!
Мясо громко шипело, и лук на сковороде начал приобретать коричневатый оттенок. Эл вновь перегнулся через стойку:
– А что за важное такое дело для вас, парни, тут нашлось?
– Ну, – сказал Мак, – в округе, говорят, яблоки поспели.
Эл выпрямился и сложил на стойке мощные руки. Маленькие глазки блеснули хитрой тайной усмешкой.
– Та-ак, – протянул он. – У-гу-у… Понял!
– В таком случае переверни-ка лучше мясо, – посоветовал Мак.
Эл тряханул котлеты и прижал их лопаточкой. Потом собрал в кучку раскиданный по сковороде лук, и, разложив поверх мяса, вжал внутрь котлет. Движения его были размеренными, вид – отрешенным, задумчиво-сосредоточенным, как у жующей жвачку коровы. Затем он оторвался от сковороды и вернулся к Маку.
– У моего старика садик фруктовый есть и участочек небольшой, – сказал он. – Вы ведь, ребята, его не обидите, правда? Я же с вами обошелся хорошо, разве не так?
– Конечно, хорошо, – подхватил Мак. – И мелких фермеров мы не обижаем. Можешь передать отцу, что от нас ему никакого вреда не будет, а если он нам палки в колеса вставлять не будет, мы ему со сбором урожая подсобим.
– Спасибо, – сказал Эл. – Я ему передам.
Положив на тарелку бифштексы, он зачерпнул из мармита картофельного пюре и, добавив его к бифштексам, влил туда подливку.
Мак с Джимом с жадностью ели и пили кофе, который приготовил для них Эл. Поев, они вытерли тарелки хлебом и жевали этот хлеб, покуда Эл подливал им еще кофе.
– Это было отлично, Эл, – похвалил Джим. – Я был голоден как волк.
– Отлично, другого слова нет, – поддакнул Мак. – Ты хороший парень, Эл!
– Я бы с вами был, – пояснил тот, – если бы не бизнес и если бы старик мой землей не владел. Думаю, если бы кто про меня пронюхал, заведению моему была бы крышка.
– От нас никто ни о чем не пронюхает, Эл.
– Конечно, не пронюхает. Знаю.
– Слушай, Эл, а много батраков сюда собралось на период сбора?
– Да уж порядком. Многие пообедать ко мне наведываются. Я хороший обед за четверть доллара даю: суп, мясо, два овощных гарнира, хлеб, масло, пирог и две чашки кофе за четвертак. Выручки немного, зато продажи растут.
– Хорошее дело, – кивнул Мак. – Послушай теперь, ты не слыхал разговоров, что рабочим каким-нибудь вожак требуется?
– Вожак?
– Ну да. То есть кто-нибудь, чтоб разъяснял, как быть и куда податься.
– Понимаю, про что ты толкуешь, – сказал Эл. – Ничего такого припомнить не могу.
– Ну а где ребята обычно собираются?
Эл потер мягкий подбородок.
– Есть две компании, что мне известны. Одна на Пало-роуд собирается, у главной окружной автострады, другая кучкуется возле реки, там вроде старый их лагерь в зарослях ивняка.
– Вот это уже кое-что. Как туда добраться?
Эл ткнул толстым пальцем:
– Вы по улице, что эту пересекает, пойдете и топайте до самой окраины. Там будет река и мост. Потом отыщете тропку в зарослях, от моста с левой стороны. Пройдете по ней с четверть мили, и вы у цели. Сколько там парней, правда, я не знаю.
Мак встал и надел шляпу.
– Ты хороший парень, Эл. Ну, мы двинем. Спасибо, что подкормил.
– У моего старика сарай есть с койкой, – заметил Эл. – На случай, если вам захочется в сторонке оставаться.
– Никак нельзя, Эл. Если нам требуется работу проводить, значит, надо быть в самой гуще.
– Ну а если вам перекусить и всякое такое, то ко мне захаживайте, – предложил Эл. – Только выбирайте время, как сегодня, попозже, когда у меня народу нет, хорошо?
– Конечно, Эл. Мы тебя понимаем. Еще раз спасибо.
Мак пропустил Джима вперед и выскользнул из вагончика, задвинув за собой дверь.
Они спустились по ступенькам и пошли по улице, которую указал им Эл. На углу путь им преградил полицейский.
– Куда это вы собрались? – сурово спросил он.
Неожиданное появление полицейского заставило Джима отпрянуть, но Мак остался невозмутим.
– Мы два сезонника, мистер, – сказал он. – Хотим немного яблок попробовать собрать.
– А что на улице делаете в такой час?
– Господи, так мы всего час как с транзитного товарняка здесь спрыгнули.
– Ну а направляетесь куда?
– Думаем к парням, что возле реки, присоединиться и там заночевать.
Но полисмен не отступал:
– А деньги у вас имеются?
– Вы же видели, что мы ужинаем. Денег у нас достаточно, чтобы за бродяжничество не упекли.
Только тут полисмен посторонился.
– Ладно. Проходите и не гуляйте по улицам в ночное время.
– Хорошо, мистер, договорились.
И они поспешили прочь.
– Ловко ты с ним беседу вел, Мак, – сказал Джим.
– Ну а что тут такого хитрого? Урок первый: никогда не спорь с полицейским, в особенности ночью. Хорошенькое дело было бы загреметь в тюрьму за бродяжничество на тридцать суток, верно?
Они поплотнее запахнули на груди легкие хлопчатобумажные куртки и ускорили шаг навстречу все более редким уличным фонарям.
– С чего ты работать начать собираешься? – поинтересовался Джим.
– Не знаю. Приходится использовать любую возможность. Видишь ли, генеральный план у нас имеется, а детали отрабатываются в зависимости от обстоятельств. В дело идет все, к чему можно прицепиться. Только это нам и остается. Прибудем и изучим обстановку.
Почувствовав прилив энергии, Джим ускорил шаг.
– Послушай, дай мне дело делать, Мак, хорошо? Не хочу я всю жизнь вроде как на подхвате быть!
Мак засмеялся.
– Пообвыкнешься, привыкнешь. Так с головой в дела влезешь, что взвоешь, еще мечтать станешь о городе и восьмичасовом рабочем дне!
– Нет, Мак, не думаю, что стану об этом мечтать. Никогда раньше мне не было так хорошо, так привольно. У тебя тоже бывает такое чувство?
– Иной раз бывает, – отвечал Мак. – Но чаще я слишком занят, чтобы в чувствах своих копаться.
С каждым их шагом здания, мимо которых они шли, становились все более ветхими. Между ними виднелись пустыри с кучами мусора, сварочной аппаратуры, свалки старых поломанных машин, зияли темные окна брошенных, заросших темным бурьяном домов. Холод и тьма вокруг заставляли идти быстро.
– Мне кажется, я вижу огни на мосту, – сказал Джим. – Видишь по три огня с двух сторон?
– Вижу. Он вроде говорил забирать влево?
– Ага. Влево.
Бетонный в два пролета мост соединял берега узкой речушки, высохшей в это время года до болотистого ручейка с песчаной отмелью посередине. Держась левой стороны, Мак и Джим прошли по мосту и уже за спуском на берегу отыскали тропинку, убегавшую в заросли ивняка. Мак пошел впереди. Свет фонарей на мосту сюда не достигал, со всех сторон их окружила чаща. Глаз различал силуэты веток на более светлом фоне неба и черную стену тополей справа у реки.
– Тропки не видно, – сказал Мак. – Я ее только ногами и чувствую. – Он шел медленно, осторожно. – Руки подними, береги лицо, Джим.
– Да я уж и так берегу. Меня только что веткой прямо по губам хлестнуло.
Через некоторое время они почувствовали под ногами жесткую исхоженную землю.
– Дымком тянет, – принюхался Джим. – Теперь, видать, недалеко.
Внезапно Мак замер.
– Там огни впереди. Слушай, Джим, тут такая штука, что как раньше надо. Давай я говорить буду.
– Ладно.
Дорога неожиданно вывела их на просторную поляну, освещенную костерком. За костром располагались три грязно-белые палатки, в одной из которых горел свет, отбрасывавший на полотно гигантские черные тени от движущихся внутри фигур. На самой поляне собралось человек пятьдесят. Одни спали прямо на земле, свернувшись наподобие сосиски, закутавшись в одеяло, некоторые сидели вокруг костра на расчищенной выровненной площадке. Едва Джим и Мак ступили из зарослей ивняка, выйдя на поляну, как услышали вскрик – короткий, громкий, тут же оборвавшийся. Звук шел из освещенной палатки. И тут же по стенке палатки заметались, нервно задвигались тени.
– Плохо кому-то, – негромко произнес Мак. – Пока мы ничего не слышали. Иной раз стоит притвориться, что твое дело сторона.
Они приблизились к костру, вокруг которого на корточках, сжав руками колени, сидели мужчины.
– Можно парню к вам в компанию присоединиться, – осведомился Мак, – или этот вопрос надо на голосование поставить?
Лица сидящих обратились к нему – небритые лица с горевшими отсветом костра глазами. Один из мужчин подвинулся, освобождая место.
– Земля некупленная, бесплатная.
– Только не там, откуда я приехал, – хмыкнул Мак.
Вмешался другой мужчина. Свет от костра падал на его худое лицо.
– Ну, значит, ты в правильное место прибыл, приятель. Здесь у нас все бесплатно – еда, спиртное, дома, автомобили. Давай, двигай к нам и отведай индейки.
Мак присел на корточки и сделал знак Джиму присесть рядом. Вытащив кисет, он красивыми точными движениями свернул аккуратную самокрутку, после чего, как бы спохватившись, добавил:
– Может, кто из господ капиталистов закурить желает?
К кисету сразу же потянулось несколько рук. Мужчины передавали кисет друг другу.
– Только что прибыли? – спросил тот, что с худым лицом.
– Только что. Рассчитываю яблоки пособирать и на заработанные отчалить.
– Да знаешь, сколько платят здесь! – с яростной злобой выкрикнул тот, что с худым лицом. – Пятнадцать центов, приятель! Пятнадцать вшивых центов!
– Ну а ты чего хотел? – возразил Мак. – Господи ты боже, чего еще можно ожидать, если храбрости не хватает сказать, что людям жрать надо! Жрите яблоки! Снимете яблоко и жрите! Чудные яблочки, все как на подбор! – Тон его стал строгим. – Ну а если прекратить их собирать?
– Нельзя прекратить! – выкрикнул худой. – Я вот все до последнего цента на то, чтоб сюда добраться, ухнул!
– Чудные яблочки, все как на подбор… – негромко повторил Мак. – А если мы не станем их собирать – сгниют.
– Мы не станем, станут другие!
– А если не дать другим это делать?
Люди у костра насторожились.
– Это ты что, на стачку намекаешь? – спросил худой.
Мак рассмеялся.
– Да ни на что я не намекаю!
– Когда Лондон узнал, сколько они платят, – заговорил коротышка, сидевший у костра, уткнув подбородок в колени, – его чуть удар не хватил, ей-богу! – Он повернулся к соседу: – Ты вот видел его тогда, Джо.
– Он аж позеленел, – поддакнул Джо. – Стоит и прямо на глазах зеленеет. Схватил палку и в щепки ее разломал!
Кисет вернулся туда, откуда начал свое путешествие, но заметно похудевшим. Мак ощупал его и сунул в карман.
– А кто это – Лондон? – поинтересовался он.
Ему ответил худой:
– Лондон – хороший парень. Мы с ним в дороге познакомились. Он парень крутой.
– Он главный у вас, да?
– Нет, не главный. Просто хороший парень. Мы с ним попутчики, что ли… Слыхал бы ты, как он с копами разговаривает! Он…
Из палатки вновь раздался вопль, на этот раз более продолжительный. Мужчины повернули головы на звук и тут же безучастно вновь воззрились на огонь.
– Кому-то плохо? – осведомился Мак.
– Это Лондона сноха. Рожает.
– Негоже здесь рожать-то, – заметил Мак. – Доктор хоть есть там?
– Да откуда бы, черт возьми, взяться здесь доктору!
– Так почему бы им в больницу окружную ее не отвезти?
Худой насмешливо скривился.
– Не принимают они бродяг-сезонников в больнице окружной! Разве не знаешь? Мест у них нет в больнице, всегда под завязку.
– Я-то знаю, – заметил Мак. – Хотел узнать, знаете ли вы.
Джима пробирал озноб, и он, подобрав ивовую хворостину и сунув ее конец в тлеющие угли, разжег пламя посильнее. Рука Мака, украдкой протянувшись из темноты, на секунду сжала его руку.
– А хоть есть у них рядом кто-то, кто понимает в этом деле? – спросил Мак.
– Старуха там с ними, – отвечал худой. В глазах у него мелькнуло подозрение. – Слушай, а тебе-то что до этого, а?
– Да я обучался кой-чему, – как бы между прочим бросил Мак. – Разбираюсь немного. Подумал, что мог бы помочь.
– Ну, к Лондону иди, обращайся тогда, – мгновенно снял с себя ответственность худой. – А нам отвечать на расспросы, как там у него и чего, не с руки.
На вызванные его расспросами подозрения Мак внимания не обратил.
– Наверно, так я и сделаю. – Он поднялся. – Идем, Джим. Лондон в той палатке, где свет, да?
– Угу. Там он.
Освещенные пламенем лица повернулись, провожая Джима и Мака, а затем головы опять свесились над костром. Мужчины пересекли поляну, обходя матерчатые свертки спящих на земле людей.
– Вот шанс так уж шанс! – прошептал Мак. – Если сдюжу, это и станет началом.
– А что ты делать-то собираешься, Мак? Не знал, что у тебя медицинский опыт имеется.
– Да об этом вообще мало кто знает, – обронил Мак.
Они приблизились к палатке, по стенкам которой двигались темные тени. Подойдя к палатке вплотную, Мак позвал:
– Лондон!
И почти мгновенно борт палатки заколыхался и перед ними вырос крупный мужчина. Ширина его плеч вызывала изумление. Жесткие темные волосы окаймляли подобную тонзуре лысину на макушке. Лицо мужчины избороздили складки морщин, а темные глаза были красны и сверкали яростью, как у гориллы. Все в этой фигуре говорило о силе и власти. Чувствовалось, что вести за собой людей для этого человека совершенно естественно. Огромной рукой он прикрыл за собой борт палатки.
– Чего вам нужно? – требовательно бросил он.
– Мы только что прибыли сюда, – объяснил Мак, – и от парней у костра узнали, что тут у вас женщина рожает.
– Ну и что с того?
– Я и подумал, что мог бы помочь, раз у вас доктора нет.
Лондон отвел край палатки, и луч света упал Маку на лицо.
– И чем ты думал помочь?
– Я в больницах работал, – объяснил Мак. – Мне приходилось раньше это делать. Не стоит упускать любые шансы, Лондон.
Великан сказал уже потише:
– Ну, давай тогда, заходи. У нас тут старуха одна шурует, но, по-моему, она трёхнутая.
Он придержал край палатки, пропуская их внутрь.
В палатке было тесно и жарко. В плошке горела свеча. Посередине стояла сделанная из керосиновой канистры печка, возле нее сидела сморщенная старуха. В углу стоял очень бледный парнишка. У задней стенки палатки на земле был брошен старый тюфяк, и на нем лежала девушка с бледным, в полосах грязи лицом. Глаза всех троих обратились на Мака и Джима. Старуха на секунду подняла взгляд, а затем сразу же опустила его к раскаленной докрасна печке, почесывая тыльную сторону ладони.
Лондон направился к тюфяку и опустился перед ним на колени. Девушка отвела испуганный взгляд от Мака и обратила его на Лондона. Он сказал:
– Вот, мы доктора раздобыли. Так что можешь больше не бояться.
Мак взглянул на девушку и подмигнул ей. Лицо у той словно застыло от ужаса. Выйдя из своего угла, парень тронул Мака за плечо:
– С ней все будет в порядке, док?
– Конечно. Все будет отлично.
Мак повернулся к старухе:
– Вы повитуха?
Не переставая почесывать морщинистые руки, она глядела на него отсутствующим взглядом и молчала.
– Я спрашиваю, повитухой ты была или нет? – гаркнул Мак.
– Нет, но пару новорожденных за свою жизнь приняла.
Наклонившись, он взял руку старухи и поднес к ней горящую свечу. Поломанные ногти были черными от грязи, а сами руки имели синевато-серый цвет.
– Ну, видать, детей ты мертвыми принимала, – подытожил он. – А пеленки ты откуда взять собираешься?
Старуха ткнула пальцем в кучу газет.
– У Лайзы всего только две схватки и было… – плаксиво прошамкала она. – А ребеночка мы в газетки примем.
Лондон подался вперед, рот его был слегка приоткрыт от настороженного внимания, глаза вопрошающе вглядывались в глаза Мака. Освещенная свечой тонзура посверкивала.
– У Лайзы две схватки было, вторая только что прошла, – подтвердил он слова старухи.
Мак мотнул головой, предлагая выйти, и вынырнул из палатки. Лондон с Джимом последовали за ним.
– Послушай, – сказал Мак Лондону, – ты видел ее руки. Ребенок, может, и выживет, если схватят его такими руками, а вот у девушки шансов, черт возьми, не будет. Лучше, если ты прогонишь взашей эту старушенцию!
– Ты все сделаешь сам? – удивился Лондон.
Мак помедлил секунду, потом сказал:
– Конечно, я сделаю все, что требуется. Тут мне и Джим поможет. Но нужны еще помощники, до черта нужны!
– Ну, я подсоблю, – предложил Лондон.
– Этого мало. Может, кто-нибудь из ребят, что там собрались, помощь окажет?
Лондон коротко хохотнул.
– Ты верно дело понимаешь. Они все сделают, если я им велю.
– Так вели им, – сказал Мак. – Сейчас же вели.
И он возглавил шествие к костерку, вокруг которого все еще сидела группа людей. Все подняли глаза на подошедших.
Худой сказал:
– Привет, Лондон.
– Хочу, чтоб вы, парни, послушали, что док скажет.
К костру подошли еще несколько человек и остановились в ожидании. Они были безмолвны и безучастны, но поспешили на властный голос.
Мак откашлялся.
– У Лондона сноха имеется. Она рожает. Он пробовал отправить ее в больницу. Больница переполнена, а кроме того, мы ведь для них всего лишь шайка грязных бродяг. Пусть так. Помощи от них не будет. Мы должны справиться сами.
Мужчины словно напряглись, плотнее притиснувшись друг к другу. Короста безучастности начинала спадать с них. Еще ниже склонились они над костром.
– Ну а я, – продолжал Мак, – работал в больницах и, значит, могу помочь, но и от вас, парни, мне требуется помощь. Господи, да если мы сами не защитим своих, то за нас этого никто не сделает!
Худой поднялся на ноги.
– Ладно, приятель, – обратился он к Маку. – Какой помощи ты от нас желаешь?
При свете костра было видно, как по лицу Мака скользнула радостная победная улыбка.
– Отлично! – воскликнул он. – Работать сообща вы умеете. Первым делом нам надо вскипятить воду. Как закипит – кинуть туда белую ткань и проварить ее хорошенько. Мне все равно, где и как вы эту ткань раздобудете. – Ткнув пальцем, он выделил из собравшихся троих: – Вот ты, ты и ты, разожгите большой огонь. А ты разыщи парочку котлов. Должны же быть у вас пятигаллоновые баки, чаны, кастрюли какие-нибудь. Остальные пусть наберут белой материи. Годится все – платки носовые, старые рубахи, все что угодно – лишь бы белые. Когда будет кипяток, бросайте в него все, что насобирали, и пусть полчаса кипит. А еще мне нужен черпачок горячей воды, и срочно.
Люди зашевелились.
– Погодите минуту. Еще одно: требуется лампа хорошая, светлая. Пусть кто-нибудь из вас мне ее устроит. Если люди добром не захотят отдать, стащите потихоньку.
Атмосфера в лагере заметно переменилась. Апатии, безразличия не осталось и в помине. Спящих будили и, объяснив задание, присоединяли к группе. Волна возбуждения захлестнула лагерь, возбуждения радостного и веселого. Развели большой огонь. Поставили четыре больших котла с водой, а вскоре стало набираться и белое тряпье. У каждого нашлось что добавить к куче. Какой-то мужчина снял с себя нижнюю рубаху и надел верхнюю на голое тело. Все внезапно повеселели и дружно, радостно принялись ломать сухие тополиные ветки для костра.
Стоя возле Мака, Джим наблюдал этот взрыв деятельной энергии.
– А мне что ты поручишь делать? – спросил он.
– Со мной в палатку пойдешь. Там мне помогать будешь.
В этот момент из палатки донесся крик, и Мак торопливо добавил:
– Черпани-ка мне горячей водички, Джим! Живо! Вот, возьми! – Он протянул ему пузырек. – Бросишь таблетки по четыре в каждый из больших котлов. И не забудь пузырек мне вернуть, когда воду притащишь.
Джим отсчитал таблетки, бросил их в котлы, затем зачерпнул из одного полный ковш воды и вслед за Маком прошел в палатку.
Старуха забилась в угол, чтобы не мешать. Почесывая руки, она с подозрением следила за тем, как Мак кидает в теплую воду таблетки, как болтает в воде руками.
– Руки-то по крайней мере нам вымыть можно, – заметил Мак.
– Что в пузырьке-то? – спросил Джим.
– Сулема. Я всегда ее с собой таскаю. Вымой руки и ты, Джим, а потом принесешь еще воды.
Снаружи послышалось:
– Вот тебе твои лампы, док.
Мак откинул борт палатки и принял два предмета – массивную лампу с круглым фитилем и мощный бензиновый фонарь.
– Какому-то бедолаге предстоит дойка в потемках, – шепнул он Джиму.
Мак подкачал давление в фонаре, зажег его, а когда трубка накалилась, из фонаря полился яркий свет и раздалось громкое шипение. Снаружи доносились голоса и треск ломаемых сучьев.
Мак поставил фонарь возле тюфяка.
– Все будет хорошо, Лайза, – сказал он и очень осторожно, мягко попытался приподнять грязное одеяло, которым была укрыта девушка. Лондон и мальчик с бледным лицом не сводили с него глаз. В приступе стыдливости Лайза вцепилась в одеяло и еще плотнее завернулась в него.
– Не надо, Лайза, я же должен тебя подготовить, – уговаривал ее Мак, но она упорно сопротивлялась.
Лондон шагнул к тюфяку.
– Лайза, – сказал он. – Прекрати.
Испуганный взгляд девушки метнулся к Лондону, и с большой неохотой она ослабила хватку. Мак завернул одеяло ей на грудь и расстегнул на ней полотняное белье.
– Джим, – позвал он, – пойди и выуди для меня из котла тряпку и мыла принеси кусок.
Когда Джим принес ему дымящуюся паром тряпку и тоненький твердый кусочек мыла, Мак обмыл девушке ноги, бедра и живот. Проделал это он так ласково, что испуг у Лайзы несколько ослаб.
Мужчины внесли прокипяченную ткань. Схватки становились все чаще, и на рассвете начались потуги.
В какой-то миг стенку палатки сотрясла дрожь. Мак глянул через плечо.
– Лондон, мальчишка твой в обморок упал, – сказал он. – Вытащи-ка ты его лучше на воздух.
С видом глубокого замешательства Лондон взвалил на плечо тощее тело сына и вынес его из палатки.
Показалась головка. Мак поддерживал ее руками, и под сдавленные крики Лайзы роды завершились. Стерилизованным перочинным ножом Мак перерезал пуповину.
Солнце ярко светило, заливая светом полотнища палатки, а фонарь все продолжал шипеть. Джим выжимал теплые тряпки и передавал их Маку, а тот обмывал сморщенное тельце новорожденного младенца. Потом он отмыл и выскреб руки старухи, после чего Мак позволил ей взять ребенка. Спустя час вышла плацента, и Мак вновь тщательно вымыл Лайзу.
– Теперь вынеси всю эту грязь, – велел он Лондону. – А тряпки сожги.
– Даже те, которые не понадобились? – спросил Лондон.
– Да. Все сожги. Не нужны они.
Уставшие глаза его опухли и слипались. Напоследок он окинул взглядом внутренность палатки. Старуха держала запеленутого младенца. Лайза лежала на тюфяке, закрыв глаза. Дыхание ее было спокойным и ровным.
– Идем, Джим. Давай соснем чуток.
Мужчины на поляне уже опять спали. Солнце заливало верхушки ив. Мак и Джим отыскали пещерку в зарослях, заползли туда, улеглись бок о бок.
– В глаза как песок насыпан, – вздохнул Джим. – Устал я. Вот уж не знал, что ты в больнице работал, Мак.
Мак скрестил руки под головой.
– А я и не работал.
– Где же ты тогда научился роды принимать?
– До сегодняшнего дня я не знал про это ничего. И родов никогда в жизни не видел. Единственное, что я знал, это что правильно тут соблюдать чистоту. Господи, как же мне повезло, что все сошло благополучно. Случись что, и мы бы пропали! Старуха эта про роды знала больше моего. Думаю, и она об этом догадывалась.
– Но ты делал все так уверенно…
– Господи ты боже, а как иначе! Пришлось! Нам надо хвататься за любую возможность. А тут такой шанс! Как не воспользоваться! Ведь помочь девушке это так хорошо, ну а если это ее убьет… Словом, надо использовать все.
Он повернулся на бок, оперся головой о руку.
– Я совсем без сил, а настроение прекрасное. Всего за одну ночь мы завоевали доверие этих людей, доверие Лондона. Больше того: мы заставили всех их работать на себя, для своей защиты, работать сообща, коллективно. Для этого ведь мы и прибыли сюда – научить их совместной борьбе. Мы же не только поднять оплату хотим. Впрочем, ты и без меня все это знаешь.
– Да, – согласился Джим. – Я и раньше это знал, не знал только, каким образом ты собираешься этого достичь.
– Ну, единственный способ тут – работай с тем материалом, что имеешь. Ни солдат, ни пулеметов ведь у нас нет. Сегодня нам повезло: материал представился готовенький, мы – тут как тут, за него и ухватились. Теперь с нами Лондон. Он прирожденный вожак. Мы обучим его, куда следует вести народ. Однако все должно происходить естественно. Руководители должны родиться в гуще народных масс. Мы можем преподать им метод, но саму работу они будут выполнять самостоятельно. Вскоре мы начнем обучать Лондона методу, а он, в свою очередь, обучит тех, кто подчиняется ему. Вот увидишь, – продолжал Мак, – история о том, что происходило сегодня ночью, к вечеру уже разнесется по округе. Мы окунули весла в воду, запустили процесс, это превосходит самые смелые мои ожидания. Может, нас и привлекут потом за то, что оказывали медицинские услуги без лицензии, но это лишь теснее свяжет нас с людьми.
– Как такое могло случиться? – спросил Джим. – Ты сказал всего несколько слов, и все завертелось, работа пошла четкая, как часы, и людям это нравилось. Они отлично себя чувствовали.
– Конечно, им это нравилось. Людям всегда нравится работать сообща. Они изголодались по такому труду. Известно тебе, например, что, работая вдесятером, человек способен поднять груз в двенадцать раз тяжелее, чем работая в одиночку? Стоит лишь заронить в людях искру, и смотришь, дело пошло на лад! Большинству, правда, свойственна подозрительность, потому что люди привыкли к тому, что выгоду от их совместного труда у них всегда отнимали, изымали, но увидишь, что будет, когда они начнут работать для себя! Сегодняшняя работа захватила их, это была работа для себя, их работа. И ты сам мог наблюдать, как ладно все работали.
– Ты ведь не все собранные тряпки использовал, – сказал Джим. – Почему же ты велел Лондону сжечь их подчистую?
– Пойми, Джим… Неужели неясно? Каждый, кто пожертвовал частью своей одежды, стал ощущать это дело как свое кровное. Все они чувствуют теперь ответственность за новорожденного. Он их, потому что что-то от них перешло к нему. Вернуть им тряпки – значило бы отвергнуть их. Нет лучшего способа подключить человека к делу, как заставить его что-то отдать на благо этого дела. Бьюсь об заклад, все они сегодня чувствуют себя как нельзя лучше.
– А работать сегодня мы будем? – спросил Джим.
– Нет, пусть история сегодняшней ночи походит по округе, разойдется по ней волнами. Назавтра она, черт побери, станет легендой. Нет, к работе приступим позже. А пока нам нужно выспаться. Господи, как же нам подфартило поначалу!
Над их головами ветерок тронул ивы, и на них спланировало несколько листков. Джим сказал:
– Не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовал такую усталость, а все же мне очень хорошо!
Мак на секунду приоткрыл глаза.
– Ты хорошо справляешься, малый. Думаю, из тебя выйдет отличный работник. Я рад, что взял тебя сюда. Ночью ты мне здорово помог. А сейчас попробуй-ка, черт побери, закрыть глаза, захлопнуть рот и дать нам обоим малость отдохнуть!
Глава 5
Послеполуденное солнце залило ярким светом верхушки яблонь, а потом, расколовшись на полосы и косые лучи, скользнуло ниже – за густоту листвы на толстых сучьях – и пятнами легло на землю. Широкие аллеи между рядами деревьев устремились вдаль, сливаясь в видимом мареве бесконечности. Огромный сад кипел деятельной работой. Среди листвы виднелись лестницы, прислоненные к большим ветвям, а в проходах громоздились новенькие желтые ящики. Издалека доносились грохот сортировочных машин и стук молотков, которыми заколачивали ящики. Мужчины с большими ведрами на тросах карабкались на лестницы, свинчивали с ветвей крупные зеленые яблоки – пиппины, наполняли доверху, до самого края ведра и спускались вниз, чтобы опорожнить ведра в ящики. Между рядами двигались грузовики, принимавшие собранные яблоки и отвозившие их на сортировку, а потом и упаковку. Возле ящиков стоял учетчик. Всякий раз, когда перед ним появлялся очередной сборщик с полным ведром, учетчик отмечал его карандашом в своем блокнотике. Сад казался живым. Ветви деревьев сотрясались под тяжестью лестниц. Перезревшие плоды, падая, с глухим стуком ударялись о землю. Скрывшись в листве возле самой верхушки, лихо насвистывал трели какой-то виртуоз.
Джим быстро спустился с лестницы, оттащил ведро к ящику, вывалил груз. Учетчик, белобрысый парень в чистеньком белом комбинезоне, сделал пометку и кивнул.
– Полегче, дружок, – предупредил он. – Так ты их помнешь!
– Ладно, – отозвался Джим и направился обратно к лестнице, постукивая по коленке пустым ведром. Очутившись опять на верху лестницы, он приладил ведро и перекинул через ветку трос. На дереве он вдруг увидел мужчину, который, спрыгнув с лестничной перекладины, стоял на толстом суку и тянулся вверх за целой гроздью яблок. Почувствовав, как дрогнуло дерево под тяжестью Джима, он глянул вниз.
– Привет, парнишка. Не знал, что это твое дерево!
Джим поднял голову. Худощавый старик, черноглазый, с редкой встрепанной бороденкой. На руках выпирают набрякшие синие вены. Худые ноги торчат палками и кажутся слишком тонкими для тяжелых, на толстой подошве башмаков.
– Да наплевать мне на дерево, – ответил Джим. – Не староват ли ты, чтобы прыгать по веткам как мартышка?
Старик сплюнул и проследил за тем, как густой белый плевок шлепнулся о землю. В мутных глазах сверкнула ярость.
– Это ты так думаешь, – парировал он. – И другие, молокососы паршивые, думают, что я слишком стар. Да я могу работать так, как никому из вас даже не снилось! Заруби у себя на носу!
Говоря это, он демонстративно сгибал и разгибал ноги в коленях, потом потянулся вверх и, сорвав намеченную гроздь вместе с веткой, побросал яблоки в ведро и швырнул на землю голую ветку.
– Эй, вы там, с деревьями полегче! – раздался голос учетчика.
Старик ощерился, обнажив зубы – два наверху и два внизу – желтые, длинные, выпирающие вперед, как у суслика.
– Деловой какой, правда? – буркнул старик, обращаясь к Джиму.
– Из колледжа, поди, образованный, – подхватил Джим. – Куда ни ткни, везде они, образованные эти.
Старик приник к ветке.
– Да что они там знают! – с жаром заговорил он. – Ходят-ходят в эти свои колледжи, а толком ни черта не знают! Этот вот умник с блокнотиком, как в хлеву задницу не замарать, и то не знает.
И он опять сплюнул.
– Да, а умничают так, что только держись, – поддакнул Джим.
– Возьмем вот тебя или меня, – продолжал старик. – Мы знаем, может, и немного, но уж что к чему знаем точно!
Помолчав, Джим сделал то, что перенял у Мака, слушая его разговоры, – постарался уязвить гордость старика.
– И все же не так много ты знаешь, раз в семьдесят лет продолжаешь по деревьям прыгать. И я знаю не так много, чтобы в белых штанах расхаживать и карандашиком в блокнотике чиркать!
– Нас никто вперед не толкал, вот в чем все дело, – рявкнул старик. – Не помог нам никто легкую работу раздобыть, вот и выбросило нас на обочину!
– Ну и что, по-твоему, нам теперь с этим делать?
От такого вопроса старик словно сдулся, сразу же выпустив пар. На лице его появилось выражение озадаченности и даже легкого испуга.
– Одному богу это ведомо, – сказал он. – А нам остается принять все как есть. Мотаемся взад-вперед по стране, бродим, как скот, как стадо свиней неприкаянных, и еще тычки получаем от умников всяких, вроде этого.
– Парень не виноват, – заметил Джим. – Работа у него такая. А чтобы не потерять работу, он и делает что требуется.
Старик ухватил следующую яблочную гроздь, легкими крутящими движениями свинтил с ветки плоды и аккуратно уложил каждое яблоко в ведро.
– В молодости я все думал, что можно это поправить. А сейчас мне семьдесят один год. – В голосе его звучала усталость.
Мимо проехал грузовик с полными ящиками. Старик продолжал:
– Я на севере лес валил, когда уоббли[7] шум большой подняли. Я верховым был, отменным, надо сказать, верховым. Заметил небось, как я в мои годы по деревьям лазаю. Ну, в то время были у меня кой-какие надежды, потому что от уоббли польза была, ведь лесорубы тогда ни сортиров не имели – их ямы в земле заменяли, – ни мест, где помыться, душ принять. Уоббли заставили хозяев туалеты построить, душевые. Но все это прахом пошло потом. – Рука его машинально потянулась за новыми яблоками. – Я вступил в профсоюз. Выбрали мы председателя, а первое, что он сделал, как мы узнали, управляющему задницу лизать стал. Мы взносы платили, а казначей кинул нас. Не знаю, может вы, из молодых да ранних которые, что-нибудь придумать сможете. А мы делали что могли.
– Ты, кажется, приготовился сдаться, лапки сложить? – спросил Джим, метнув в старика насмешливый взгляд.
Старик скорчился на своем суку, присел, помогая себе иссохшей рукой.
– Я кожей чувствую что-то, – сказал он. – Можешь меня старым болваном считать и всякое такое, только что-то готовится. Может, и не выйдет ничего, но я чувствую, прямо кожей чувствую.
– Что же именно ты чувствуешь? На что это похоже?
– Трудно это объяснить, парнишка. Знаешь, когда вода вот-вот закипеть готова, она вроде как вздыбливается, замечал? Вот это я и чувствую. Я всю жизнь среди рабочих-сезонников. Не то чтоб план какой-то был, нет… Но точь-в-точь как вода, прежде чем закипеть ей, вздыбливается…
Взгляд старика затуманился, стал отсутствующим, как у слепого. Он высоко вздернул подбородок, и жилы, перерезавшие его шею от подбородка вниз, напряглись и вздулись.
– Может, голодных стало слишком много, может, хозяева уж слишком нас прижали. Не знаю. Только чувствую вот кожей…
– Что чувствуешь-то?
– Гнев, вот что! – выкрикнул старик. – Бывало с тобой перед дракой, когда от гнева ты сам не свой, на стенку лезть готов, кишки как огнем обжигает и внутри тошнота? Вот на что это чувство похоже. Только не в одном оно отдельном человеке, а во всех, в миллионах и миллионах, будто все они, забитые, голодные, стали одним целым и чувствуют одно. Сезонники не понимают, что такое с ними, но когда этот большой парень, великан этот, в которого превратились все они, взбесится от ярости, встанут все, и тогда страшно даже подумать. Господи, что тогда начнется! Они станут горла перегрызать, когтями впиваться, вырывая из глоток добычу! – Старик покачнулся на суку, но удержался, обхватив его покрепче. – Вот что я кожей чувствую, – повторил он. – Куда бы ни подался, везде одно чувствую – будто вода закипеть готова.
Джим дрожал от возбуждения.
– Но должен же быть план, – сказал он. – Когда произойдет взрыв, должен быть план, куда этот взрыв направить, чтобы прок от него какой-то был!
Старик словно выдохся после своей пламенной тирады.
– Когда великан на свободу вырвется, никаким планом его не удержишь. Он ринется, как бешеный пес, и станет кусать все, что движется, слишком долго его впроголодь держали, били слишком много, а хуже всего, что слишком много чинили ему обид…
– Но если достаточное количество народу будет это предвидеть и выработает план, – продолжал настаивать Джим.
Старик покачал головой:
– Надеюсь, что помру раньше, чем это случится. Они перегрызутся, примутся убивать друг друга, а после, когда опомнятся, устанут или перемрут, все опять пойдет по-старому. Надеюсь, что лягу в гроб, накроюсь крышкой и не увижу всего этого. Это вы, молодняк, живете еще какими-то надеждами. – Он поднял полные ведра. – Посторонись, я по лестнице спущусь. Болтовней не заработаешь, а чтобы следить за этим, умники образованные здесь и поставлены.
Джим отступил, встав на сук, и позволил старику слезть на землю. Тот опорожнил свое ведро и побрел к другому дереву. Джим выждал, но старик не возвращался. В упаковочном сарае грохотала сортировочная машина, стучали молотки. С шоссе доносился рев проносящихся мимо больших грузовиков. Джим набрал полное ведро яблок и отнес его к куче ящиков. Учетчик сделал пометку в блокнотике.
– Заплатишь потом, если нормы не выработал, – предупредил учетчик.
Кровь бросилась в лицо Джиму. Плечи напряглись.
– Ты знай в своем блокнотике чиркай, черт тебя побери.
– Крутого из себя корчишь, да?
Джим тут же взял себя в руки и улыбнулся смущенной улыбкой.
– Устал я, – извиняющимся тоном сказал он. – К работе этой я непривычный.
Белобрысый учетчик улыбнулся.
– Да понимаю я, как это бывает, – сказал он. – Когда устаешь, то обижает каждая мелочь. Может, на лесенку влезешь и курнешь там?
– Да, пожалуй. – И Джим вернулся к дереву. Прицепив ведро, он поднял его, приладив трос на дерево, и вновь занялся яблоками. И сказал вслух: «Даже я, как шавка последняя… Не умею! Вот старик мой, тот умел!» Он не стал работать быстрее, но движения его стали более экономными и четкими, как у машины. Солнце опустилось, а потом и совсем ушло. Оставив землю в полумраке, оно освещало теперь лишь верхушки деревьев. Вдали, в городке, завыла сирена. Но Джим упорно продолжал работать. Уже смеркалось, когда замолк грохот машины в упаковочном сарае и учетчики прокричали: «Кончай, ребята! Топайте сюда! Время!»
Джим спустился с лестницы, вывалил яблоки из ведра, присоединив их к остальным. Учетчик записал все ведра, сделал общий подсчет. Стоя поодаль, люди крутили самокрутки, вели негромкие вечерние беседы. Потом они медленно побрели по междурядью к проселочной дороге и садовому бараку.
Джим заметил шедшего впереди старика и ускорил шаг, догоняя. Ноги у старика двигались скованно, с трудом сгибаясь в суставах.
– Это ты опять, – сказал старик, когда Джим догнал его.
– Подумал, может, с тобой поселюсь.
– Ну, разве тебя остановишь! – Было видно, что старик польщен.
– Ты здесь с родными? – спросил Джим.
– С родными? Нет.
– Если у тебя и вовсе родных нет, – сказал Джим, – так почему бы тебе в какой-нибудь приют благотворительный не податься, и пускай государство тогда о тебе заботится.
– Я верховой! – Тон старика был полон ледяного презрения. – Правда, что это такое, вам, молокососам паршивым, которые и в лесу-то не бывали, сроду не понять. Только мало кто из верховых до моих лет доживал, это точно. А слабакам, вроде тебя, плохо становилось, когда они лишь глядели на мою работу! Что мне какие-то паршивые яблоньки! А ты говоришь – в приют! Я в своей жизни делом занимался, для которого характер требуется! Я на высоте девяносто футов корягу рубил, а с меня щепой пояс безопасности срывало! Парней рядом со мной сук упавший в кашу превращал! Это меня-то в приют! Где скажут мне: «Вот, Дэн, тебе твой супчик», – и я стану макать в тот супчик хлеб и сосать потом этот хлеб и кланяться им за это? Нет уж! Скорее я с яблони сигану и шею сломаю, чем в приюте их благотворительном окажусь! Я верховой!
Они тяжело шагали между рядами яблонь. Джим снял шапку и держал ее в руке.
– Ты ничего не выгадал на своей работе, – сказал он. – А как только состарился, тебя просто вышвырнули вон!
Большая рука Дэна сжала плечо Джима с такой силой, что стало больно.
– Я много чего выгадывал, пока там был, – отвечал Дэн. – Я взбирался на высоту и знал, что ни хозяину, ни лесоторговцу, ни президенту компании это не по зубам, нет у них мужества делать то, что делаю я. Я один способен на это! И я глядел на все вокруг сверху вниз. И все вокруг казалось маленьким, мелким, и люди тоже. А я был наверху, я не уменьшался в размерах! Так что кое-что я все-таки выгадывал!
– Они наживались на твоем труде, – сказал Джим. – Они разбогатели, а когда ты не смог больше лазать наверх, тебя вышвырнули.
– Да, это так, – согласился Дэн. – Наверно, я здорово состарился, парнишка, но мне и на это наплевать. Да, черт возьми, наплевать, и точка.
Впереди показалось беленое строение, которое владельцы отвели сборщикам, – низкий сарай почти пятидесяти ярдов в длину, с дверями и маленькими квадратными оконцами через каждые десять футов. Некоторые двери были открыты, и впереди можно было различить горящие свечи и лампы. Кое-кто из рабочих, сидя в дверях, любовался сумерками. Перед длинным строением находился кран, возле которого толпился народ – мужчины и женщины. Каждый из собравшихся, когда до него доходила очередь, складывал руки ковшиком, подставлял их под струю воды, после чего в течение минуты плескал водой в лицо, омывая его и волосы, и тер одна об другую руки. Женщины несли к крану горшки и кастрюли, запасая в них воду.
Из темноты дверных проемов выныривали дети и сновали взад-вперед, неугомонные и беспокойные, как крысята. Все возвращались к месту ночлега – мужчины из сада, со сбора яблок, женщины из сарая – с упаковки и сортировки.
Углом к бараку, с северной стороны, располагалась местная лавка, сейчас ярко освещенная.
Еду и рабочую одежду здесь можно было купить в кредит по ведомости. Вереница женщин и мужчин выстроилась, ожидая возможности войти, другая вереница тянулась из лавки, люди шли, нагруженные консервными банками и батонами хлеба.
Джим и Дэн приблизились к строению.
– Вот она, ночлежка, – сказал Джим. – Неплохо бы, конечно, если бы была у тебя женщина, чтобы стряпать.
– Пойду-ка я в лавку – банку бобов куплю, – сказал Дэн. – Кретины эти платят по семнадцать центов за фунт консервированных бобов. А могли бы за ту же цену купить четыре фунта сухих бобов и сварить их. Вышло бы целых восемь фунтов.
– Чего ж ты сам так не делаешь? – спросил Джим.
– Времени нет. Приходишь усталый как черт, и есть охота.
– Ну а у других разве полно времени? Женщины работают с утра до ночи весь день, а хозяин дерет три лишних цента с каждой банки, потому что люди так выматываются, что не могут сходить в город за продуктами.
Дэн обратил к Джиму свою клочковатую бороду.
– Тебе это покоя не дает, да, парнишка? Ты прямо как щенок с толстой костью, которую не разгрызть. Щенок грызет, примеряется к ней и так и эдак, а на ней даже и следа от зубов его не остается, а он все грызет, пока зуб об кость не сломает.
– Ну а если всем скопом на кость наброситься, можно и разгрызть.
– Может, и так, только я вот уже семьдесят один год среди людей и собак живу и видал, как они все больше норовят стибрить друг у друга кость. Не встречал я что-то, чтобы собаки помогали друг другу кость разгрызть, а вот как вырывают они, черт их возьми, друг у друга эти кости, я сплошь и рядом видел.
– По-твоему, выходит, что все бесполезно.
Старый Дэн осклабился, обнаружив четыре своих зуба, длинных, торчавших как у суслика.
– Мне ведь уже семьдесят один стукнуло, – как бы извиняясь, бросил он. – Так что давай, грызи свою кость, а на меня внимания не обращай. Может, люди и собаки теперь переменились, стали не такими, как прежде были.
Когда они ступили на мокрую площадку возле крана, от толпы сгрудившихся там людей отделилась фигура и направилась в их сторону.
– Вот мой товарищ, – представил Джим. – Это Мак. Отличный парень.
– Не желаю я ни с кем разговоры разговаривать, – неприветливо отозвался Дэн. – Мне даже и бобы-то разогревать неохота.
Мак подошел к ним совсем близко.
– Привет, Джим! Как делишки?
– Очень даже неплохо. Это Дэн, Мак. Он на севере лес валил, когда уоббли там шуровали.
– Рад познакомиться. – Мак постарался, чтоб слова его прозвучали почтительно. – Слыхал я о том, что тогда в тех местах делалось. Там и к саботажу прибегали.
Тон Мака доставил Дэну некоторое удовольствие.
– Я не был уоббли, – сказал он. – Я верховым был. А уоббли порядочные мошенники, конечно. Но эти сукины дети дело свое знали. Лесопилку вот в два счета спалили.
– Ну, если знали они свое дело, то что ж тут удивительного, – по-прежнему крайне почтительно заметил Мак.
– Жесткие они были, шайка эта, – продолжал Дэн. – Не большая это радость была – с ними разговаривать. Ненавидели они всех и каждого, всё на свете ненавидели. Пойду-ка я за бобами схожу. – И он, развернувшись вправо, удалился от них.
Почти стемнело. Джим, глядя на небо, увидел, как его пересекает какое-то темное клиновидное пятно.
– Мак, гляди! Что это?
– Утки дикие. Раненько они в этом году с места снялись. Ты что, никогда раньше диких уток не видел?
– Похоже, не видел, – сказал Джим. – Читал только про них, наверно.
– Слушай, Джим, ты не прочь сардинками с хлебом сегодня подзаправиться? Нам вечером работа предстоит, и я не хочу тратить время на готовку.
До этого Джим был вялым и двигался через силу, так как непривычная работа очень его утомила. Но теперь мускулы его словно налились силой, и он поднял голову:
– А что за работа будет, а, Мак?
– Вот, слушай. Я сегодня рядом с Лондоном работал. Этот парень почти готов. На две трети он наш. Говорит, что может раскачать наших сезонников. И он знает парня, который вроде как сагитирует для нас другую группу. Они в большущем саду работают, самом крупном в округе – четыре тысячи акров яблоневого сада. Лондона так бесит это снижение платы, что он готов на все. А дружок его, что с Хантеровой плантации, зовется Дейкином. Мы туда вечером отправимся и с Дейкином переговорим.
– Так что ж, дело сдвинулось, по-твоему?
– Да, похоже.
Мак нырнул в один из темных дверных проемов и тут же появился опять с жестянкой сардин и батоном хлеба. Положив хлеб на ступеньку, он покрутил ключ жестянки, наворачивая на него крышку.
– Ты расспрашивал людей, как я тебя учил, а, Джим?
– Мне мало случаев представилось. Но со стариком Дэном я побеседовал.
Мак перестал крутить ключ.
– Господи, это еще зачем? На кой тебе понадобилось с ним беседовать?
– Мы на одном дереве оказались.
– Ну, так на другое перешел бы! Слушай, Джим, наши люди в большинстве своем тратят время зря. Смысл был бы молодняк в нашу веру обратить. А за стариков вроде этого твоего биться – игра не стоит свеч. Ни к чему это, разговаривать с ними – так они сами тебя в безнадежности всех усилий убедят. Весь запал свой они уже израсходовали. – Он снял крышку и поставил открытую жестянку перед собой. – Вот. Положи себе рыбки на хлеб. Лондон сейчас ужинает, но совсем скоро будет здесь. И мы поедем на его «фордике».
Джим вынул из кармана перочинный нож, отрезал ломоть хлеба и, положив на него три сардины, слегка вмяв их в хлеб и сбрызнув маслом из жестянки, прикрыл другим ломтем.
– Как девушка? – спросил он.
– Какая девушка?
– Ну, та, с ребенком которая.
– О, с ней все в порядке. Но ты, видно, думаешь, что я Господь Бог, как уверяет всех Лондон. Я признался ему, что никакой я не доктор, а он продолжает меня доком величать. Уж очень переоценивает мои заслуги. А знаешь, если девушку эту приодеть и накрасить как надо, она будет очень даже недурна. Сделай себе еще сэндвич.
Тем временем совсем стемнело. Большинство дверей закрылось, и тусклый отсвет зажженных в каморках огней лег на землю аккуратными светлыми квадратиками.
Мак жевал свой сэндвич.
– В жизни не видел столько страхолюдин в одном месте! Единственной хорошенькой в лагере тринадцать лет. Правда, ее уже наверняка какой-нибудь восемнадцатилетний обхаживает, но ведь и мне не пятьдесят…
– Нелегко тебе, видать, приходится без этого самого, – заметил Джим.
– Почему же без этого самого, черт побери! – хохотнул Мак. – У меня, как солнышко пригреет, в штанах так и свербит. Это уж как положено.
На небе показались звезды – яркие, крупные. Звезд было немного, но свет их в холодном ночном небе словно пронизывал острыми иголками. Из ближних каморок доносился многоголосый шум – он шел волнами, то поднимаясь, то стихая, иногда из многоголосья вырывался единичный выкрик.
Джим повернулся на шум:
– Что там происходит, Мак?
– В очко играют. Как выдалась минутка – тут же и начинают. Не знаю, на что вместо денег ставят. Может, на недельный заработок следующий. Так мало что останется от этого заработка, когда долг в лавке погасят. Сегодня там один парень две банки смеси изюмно-миндальной взял. Слопает вот вечером их разом, а к утру ему живот скрутит. Изголодались они, знаешь, по вкусному. Замечал, когда проголодаешься, что мысли без конца вокруг одного какого-нибудь блюда крутятся? Мне вот всегда пюре картофельное мерещится, и чтобы масло в нем так и плавилось! Наверное, этот парень сегодняшний о тушенке месяцами мечтал.
Вдоль фронтона здания двигался крупный мужчина, и падавший из окон свет то и дело освещал его фигуру, когда он проходил мимо.
– Вот и Лондон, – заметил Мак.
Мужчина вразвалку подошел к ним, нетерпеливо поведя плечами. Тонзура его в сравнении с черным ободком волос казалась очень белой.
– Я поел, – сказал Лондон. – Теперь в дорогу. Мой «форд» вон там стоит, сзади.
Он повернулся и направился туда, откуда появился. Мак и Джим последовали за ним. За бараком, уткнувшись в него носом, стоял «форд» модели «Т» – туристский, с откидным верхом. Сиденья его были обтрепаны, клеенка на них растрескалась до такой степени, что из щелей торчал конский волос. Лондон влез в машину и повернул ключ зажигания; раздался скрежет контактных прерывателей.
– Заведи ее, Джим, – попросил Мак.
Джим всем телом приналег на тугую заводную ручку.
– Искра на нуле? Не хочу, чтобы меня по башке треснуло.
– На нуле. Вытяни дроссель там впереди, – велел Лондон.
Запыхтело, поступая, горючее.
Джим крутанул ручку. Мотор закашлял, и зловредная ручка рванула назад.
– Чуть по мне не заехала!
– Уменьши подачу. Она всегда брыкается немного, – сказал Лондон. – Больше дроссель-то не тяни.
Джим опять крутанул ручку. Взвыл мотор. Тускло загорелись фары. Джим залез на заднее сиденье и уселся возле старых покрышек, камер и джутовых мешков.
– Шумит, конечно, но ездить все еще ездит! – прокричал Лондон.
Он дал задний ход, вырулил на проселок и, проехав по саду, выкатил на бетонное окружное шоссе. Машина с грохотом и дребезжанием двигалась по дороге, холодный ветер со свистом врывался через щель треснувшего лобового стекла. Джим съежился за спинкой переднего кресла, прячась от ветра. На небе светилось зарево городских огней. По обеим сторонам дороги тянулись высокие темные яблони, и время от времени сквозь их листву просвечивали огоньки придорожных домов. «Форд» обгонял большие фуры и грузовики, бензовозы, серебристые, с каемкой синих огоньков молоковозы. Из маленького ранчо на дорогу выбежала овчарка, и Лондон резко повернул руль, чтобы не сбить ее.
– Недолго она так протянет! – крикнул Мак.
– Терпеть не могу собак давить, – проворчал Лондон. – С кошками – дело другое. Я трех кошек порешил, пока сюда ехал из Рэдклиффа.
Машина, дребезжа, катила дальше со скоростью тридцать миль в час. Когда вырубались два цилиндра, машина начинала двигаться рывками, пока цилиндры внезапно не включались снова.
Проехав так миль пять, Лондон сбавил скорость.
– Здесь где-то дорожка должна быть, – пояснил он.
Ряд серебристых почтовых ящиков подсказал им, в каком месте следует свернуть на проселочную дорогу. Над въездом высилась деревянная арка с надписью: «Компания братьев Хантер. Отборные яблоки». Машина медленно тащилась по дороге. Внезапно перед ним возник мужчина, который, подняв руку, преграждал им путь. Лондон остановил «форд».
– Вы что, парни, работаете здесь? – спросил мужчина.
– Нет, не работаем.
– А новых сезонников нам не требуется. У нас полный комплект.
– Нам друзей здесь повидать надо, – сказал Лондон. – Мы у Тэлбота в садах работаем.
– Спиртное, часом, не везете продавать?
– Нет, конечно.
Мужчина осветил фонариком все задние сиденья, оглядел неразбериху камер и покрышек и выключил фонарик.
– Ладно, парни, проезжайте. Только недолго там.
Лондон нажал на педаль газа.
– Въедливый какой, сукин сын, – проворчал он. – Нет хуже копов, чем эти, из частных агентств!
В сердцах он резко выкрутил руль и, сделав поворот, подкатил и встал за строением, очень похожим на то, от которого они отъехали, – тоже длинным, низким, барачного типа зданием, разделенным на каморки.
– Здесь у них чертова уйма народу работает, – сказал Лондон. – Еще три барака есть, таких, как этот.
Он подошел к первой из дверей и постучал. За дверью заворчали, послышались тяжелые шаги. Дверь приоткрылась. Выглянула рыхлая женщина с вислыми лохмами волос. Лондон грубо спросил:
– Где Дейкин проживает?
Властный тон заставил женщину ответить мгновенно:
– Третья дверь отсюда, мистер. Он там живет, с женой и двумя ребятишками.
– Спасибо, – буркнул Лондон и отвернулся, оставив женщину с открытым для продолжения разговора ртом. Высунувшись из-за двери, она следила за тем, как троица проследовала к третьей двери и Лондон забарабанил в нее. К себе она отправилась лишь после того, как дверь Дейкина закрылась за ними.
– Кто это был? – спросил ее мужской голос.
– Не знаю, – ответила она. – Здоровый какой-то детина Дейкина спрашивал.
Дейкин оказался мужчиной щуплым, с мелкими чертами лица, настороженным непроницаемым взглядом и малоподвижным ртом. Голос его звучал резко и однотонно.
– Сукин ты сын! Заходи уж, с самого Рэдклиффа от тебя ни слуху ни духу!
Он посторонился, давая пройти.
– Это док, Дейкин, – сказал Лондон, – и его дружок. Док помог Лайзе прошлой ночью. Может, слыхал?
Дейкин протянул Маку длинную бледную руку.
– Слыхал, конечно. Двое наших там как раз были. Можно подумать, будто Лайза слоном разродилась, столько разговоров вокруг этого. Вот моя хозяйка, док. Можешь взглянуть. И на мальцов моих тоже. Здоровенькие!
Женщина встала – красивая, большегрудая, круглолицая, со следами румян на щеках и сверкающим на свету золотом коронок верхним рядом зубов.
– Приятно познакомиться, мальчики, – произнесла она хрипловато. – Кофейку вам налить или, может, выпьете глоточек?
Взгляд Дейкина немного потеплел от гордости за жену.
– Ну, мы замерзли чуток по дороге-то, – осторожно намекнул Мак.
Золото коронок сверкнуло в улыбке.
– Так я и думала!
Она достала бутылку виски и мерный стаканчик.
– Налейте себе, мальчики. Больше, чем доверху, не получится.
Бутылка и стаканчик пошли по кругу. Последней опрокинула свой стаканчик миссис Дейкин. Затем она заткнула бутылку пробкой и убрала ее в импровизированный буфетик.
В комнате стояли три складных парусиновых стула и две парусиновые детские раскладушки. К стене приткнулась большая раскрытая походная кровать.
– Уютно у вас здесь, мистер Дейкин, – заметил Мак.
– У меня грузовичок имеется, – отвечал Дейкин. – Я перевозками здесь подрабатываю, ну и для себя вещи возить могу. А хозяйка моя рукастая. В лучшие времена она сдельной работой хорошую деньгу зашибала.
Миссис Дейкин улыбнулась от такой похвалы.
Внезапно Лондон оставил всякие церемонии.
– Нам надо пройти куда-нибудь, чтобы переговорить, – сказал он.
– Почему бы не здесь переговорить?
– Разговор будет как бы не для посторонних ушей.
Дейкин не спеша повернулся к жене и произнес монотонным, без модуляций голосом:
– Тебе бы с детьми неплохо миссис Шмидт навестить, Алла.
Лицо женщины выразило разочарование. Обиженно выпятив губу, она спрятала свои коронки и секунду вопросительно глядела на мужа, на что он отвечал ей холодным взглядом. Потом длинные белые руки его чуть дернулись, приподнимаясь. И тут же губы миссис Дейкин раздвинулись в широкой улыбке.
– Ну, мальчики, оставайтесь тут и секретничайте, – сказала она. – А мне миссис Шмидт давно пора было навестить. – Она надела короткий жакет из кроличьего меха, взбила золотистые волосы. – Приятного вечера!
Послышались ее удаляющиеся шаги, а затем стук в какую-то дверь подальше.
Дейкин подтянул штаны, сел на широкую кровать и жестом пригласил гостей занять складные стулья. Непроницаемый взгляд его был сосредоточен и устремлен внутрь себя, как у боксера.
– Ну, о чем говорить собрался, Лондон?
Лондон поскреб щеку.
– Как тебе то, что оплату урезали, когда мы уже здесь были?
Крепко сжатые губы Дейкина чуть дернулись.
– Сам подумай, как мне это. Веселого мало!
Лондон подался вперед на своем стуле.
– Ну и что, по-твоему, с этим делать? Есть идеи?
Непроницаемый взгляд стал чуть острее.
– Нет, а у тебя есть?
– Тебе приходило в голову, что можно собраться и организовать что-нибудь? – Лондон покосился на Мака.
Дейкин перехватил этот взгляд и кивком указал на Мака с Джимом.
– Радикалы, да? – спросил он.
Мак расхохотался.
– Если хочешь нормальной заработной платы, так сразу и радикал!
Дейкин бросил на него пристальный взгляд.
– Я ничего не имею против радикалов, – сказал он. – Но давай говорить начистоту. Недосуг мне ходить вокруг да около. Если вы в партии какой, то я ни о чем таком и знать не желаю. У меня жена, дети и грузовичок. Я не стану из кожи вон лезть, потому что кто-то вставил меня в какие-то списки. Так о чем тогда ты говорить хотел, Лондон?
– Яблоки собрать требуется, Дейкин. Предположим, мы организуем народ.
В светло-серых глазах Дейкина промелькнула неприкрытая угроза. Бесцветный голос произнес:
– Отлично. Вы организуете сезонников. Взбудоражите их шайкой подстрекателей, они проголосуют за стачку. А не пройдет и полусуток, как прикатит поезд, полный скэбов. И что тогда?
Лондон опять поскреб щеку.
– Ну, тогда, думаю, мы начнем пикетирование.
– А на это начальство выдаст вам распоряжение, – парировал Дейкин, – никаких сборищ и пикетов, и поставит сотню людей с автоматами!
Лондон озирался, ища глазами Мака. Взглядом он просил его дать ответ вместо него. Тот сосредоточенно размышлял. Потом сказал:
– Мы просто хотели узнать ваше мнение, мистер Дейкин. Предположим, на сталелитейном заводе три тысячи рабочих бастуют и выставили пикеты. Завод огорожен колючей проволокой. Хозяин пускает по проволоке ток высокого напряжения. Ставит стражу у ворот. Это нетрудно. Но сколько помощников шерифа потребуется, чтобы выставить стражу по всей долине?
На секунду глаза у Дейкина блеснули, но тут же взгляд его снова заволокло.
– Автоматы, – парировал он. – Предположим, со скэбами мы справились, а тут началась стрельба. Стрельбы эти бродяги уж точно не выдержат. Не говори мне, что это не так. Как только жахнут из десятикалиберного, они тотчас, как кролики, в кусты сиганут! И что ты делать будешь со своими пикетами?
Взгляд Джима метался между спорящими. Затем и сам он влез в спор.
– Да скэбы по большей части побросают работу после первой же беседы с ними.
– Ну а те, что не побросают?
– Хорошая мобильная группа вполне справится с ситуацией, – заявил Мак. – Я работаю на сборе, знаю. Люди злы, как черти, обижены на это снижение платы. И не забывайте, что яблоки-то собрать необходимо. И сад не огородишь, как сталелитейный завод!
Дейкин встал, подошел к своему коробчатому буфету и налил себе выпить. Указал на бутылку остальным, но все трое покачали головами.
– Говорят, в нашей стране у нас есть право на забастовку, – сказал Дейкин, – а потом издают законы, запрещающие пикетирование. Выходит, что единственное право, которое у нас остается, – это право сдаться. Неохота мне лезть во все это. Я уж как-нибудь со своим грузовичком…
– А куда, – начал было Джим, но у него пересохло в горле, и он поперхнулся, откашливаясь. – Куда вы отправитесь, когда яблоки будут собраны, мистер Дейкин?
– На хлопок, – отвечал Дейкин.
– Ну, там плантации даже крупнее. Если мы проглотим снижение платы здесь, то там ее снизят и того больше.
Мак улыбнулся ему ободряющей улыбкой.
– Вы отлично знаете, что именно так и будет, – подхватил он. – Они всегда так делают – снижают и снижают, пока люди наконец не взбунтуются и не вступят в драку.
Дейкин осторожно поставил на место бутылку, подошел к большой кровати, сел. Он разглядывал свои длинные белые руки, мягкость которых сохранили рукавицы.
– Не хочу я склок этих, – сказал он. – Мы с хозяйкой моей и ребятишками до сих пор как-то жили, и неплохо жили. Почему они не могут оставить нас в покое?
– Не вижу я другого выхода для нас, кроме как организоваться, – сказал Мак.
Дейкин беспокойно заерзал на кровати.
– Наверно, придется. Но сильно влезать я не согласен. Что вы, парни, хотите, чтобы я сделал?
– Ты можешь раскачать здешних парней, Дейкин, – сказал Лондон. – Начинай исподволь здесь, а мне, может, удастся наших парней подстегнуть.
– Раскачать, если человек не хочет, чтобы его раскачали, не удастся, – вмешался Мак. – Дейкин и Лондон должны просто начать разговаривать с людьми, а больше ничего. И пусть люди выговорятся. Они уже на взводе, кипят, но возможности высказаться, выговориться, у них нет. И надо, чтобы разговоры пошли и в других местах, всюду, по всей округе. Пусть люди выскажутся завтра и послезавтра тоже. После этого мы созовем митинг. И брожение пойдет быстро, так накипело у парней.
– А мне вот что сейчас в голову пришло, – произнес Дейкин. – Предположим, устроим мы забастовку, и куда нам тогда? Здесь лагерем стоять мы не сможем. На дороги податься – окружные, федеративные, – так нас туда не пустят. Куда же мы денемся?
– Я думал об этом, – кивнул Мак. – И вот что надумал: если бы нам хороший участок земли, в частном владении который, отыскать, это было бы как раз то, что надо.
– Может, и так. Только знаешь, что в Вашингтоне учудили? Выгнали людей под тем предлогом, что те, дескать, угрозу общественному здоровью представляют! А палатки их и бараки сожгли!
– Да, я об этом слыхал, мистер Дейкин. Ну а если доктор найдется, который возьмет ситуацию под контроль? Тогда руки у них будут связаны.
– Это вы тот самый доктор? – с подозрением в голосе осведомился Дейкин.
– Нет, я не доктор, но знакомый врач у меня имеется. И он, думаю, за это бы взялся. Я все обдумывал, мистер Дейкин. И кое-какую литературу о забастовках тоже читал.
От улыбки Дейкина повеяло льдом.
– Читал, говоришь, про забастовки ты чертову уйму. А состряпал их, поди, и того больше, – процедил он. – Уж слишком ты ученый по этой части! Не желаю я тебя слушать! Не знаю ничего и знать не хочу!
Лондон повернулся к Маку:
– Ты всерьез надеешься организовать здешний народ, док?
– Слушай, Лондон, – ответил Мак, – даже если мы проиграем, то поднимем такой шум, что снизить оплату сборщикам хлопка они не посмеют. А значит, это уже успех даже в случае проигрыша.
Дейкин медленно кивнул в знак согласия:
– Ладно, я прямо с утра и начну с людьми разговаривать. Вы правы насчет того, что народ обозлен очень. Обиду-то они чувствуют большую, а что делать – не знают.
– Ну вот мы им идею и подкинем, – усмехнулся Мак. – Попробуйте связаться с людьми и на других ранчо, мистер Дейкин, завязать контакты, и как можно больше. – Он встал. – Ну, думаю, лучше нам обратно двинуть. – И он протянул руку: – Рад был познакомиться, мистер Дейкин.
Неподатливые губы Дейкина раздвинулись, обнажив ровный ряд очень белых искусственных зубов.
– Если бы в моем владении находилось три тысячи акров яблоневого сада, – сказал Дейкин, – знаете, что бы я сделал? Я притаился бы за кустом, и когда бы вы проходили мимо, то бросился бы и проломил вашу чертову башку! От многих несчастий это бы всех уберегло. Но все, чем я владею, – это грузовичок и кое-какая садовая мебелишка.
– Спокойной ночи, мистер Дейкин. Еще увидимся, – попрощался Мак.
Выходя, Джим и Мак услышали, как Лондон говорил Дейкину:
– Это отличные парни. Может, они и красные, но парни что надо.
Лондон вышел вслед за ними и закрыл за собой дверь.
Другая дверь, немного поодаль, приоткрылась, образовав квадратик света. Миссис Дейкин и дети приблизились к ним.
– Спокойной ночи, мальчики, – сказала миссис Дейкин. – Я караулила, смотрела, когда вы выйдете.
«Форд», дребезжа и кашляя, проделал обратный путь и уткнулся носом в стену барака. Мак и Джим расстались с Лондоном и отправились в свою темную каморку. Джим лег на пол, завернулся в обрывок ковра, укрылся шарфом. Мак, прислонившись к стене, закурил. Спустя немного времени он раздавил тлеющий окурок.
– Джим, ты не спишь?
– Нет, конечно.
– Это удачно было, Джим. Дело пошло на лад, когда ты ввернул насчет хлопка. Это ты удачно сказал.
– Я помочь хочу, – азартно заговорил Джим. – Господи, Мак, меня прямо переполняет все это, так и поет внутри! Спать не хочется, а хочется идти и сразу начать помогать.
– Лучше поспи, – осадил его Мак. – Нам предстоит много вечерней работы.
Глава 6
Наутро ветер дул в междурядьях, раскачивал ветви деревьев, и падалица с глухим стуком ударялась о землю. Ветер нес с собой мороз и странную осеннюю тишину. Сборщики суетились, убыстряя темп работы и поплотнее запахивая одежонку на груди. Когда в междурядьях проходили грузовики, столбом поднималась пыль, и ветер разносил ее.
На учетчике приемного пункта была куртка из дубленой овчины, и когда он не считал ведра, то руки, книжицу свою и карандаш совал в карманы и беспокойно переминался, согревая ноги.
Джим, притащив на пункт свое ведро, поинтересовался:
– Замерз малость, да?
– То ли еще будет, если ветер не переменится, – ответил учетчик. – Да и сейчас от холода яйца сводит.
Мрачного вида паренек, подойдя к ним, высыпал яблоки из ведра. Брови его были нахмурены. Темные волосы росли низко, спускаясь на лоб. Красные глаза злобно поблескивали. Он пересыпал яблоки в ящик.
– Не побей яблоки-то, – сказал учетчик. – На битых гниль заводится.
– Что ты говоришь!
– То, что слышишь. – Учетчик вычеркнул что-то в своей книжице. – Это ведро в счет не идет.
Полные затаенной злобы глаза окинули его враждебным взглядом.
– Я притащил ведро. Твое дело принять его!
Учетчик покраснел от гнева.
– Если ты собачиться вздумал, то давай, топай отсюда, и скатертью дорога!
Парнишка злобно сплюнул.
– Мы до тебя первого доберемся! – Он многозначительно взглянул на Джима. – Верно, приятель?
– Лучше пойди работой займись, – спокойно посоветовал Джим. – Не будем работать – денег не будет.
Парнишка указал на междурядье.
– Я вон там, – сказал он, – на четвертом дереве.
Он отошел.
– И чего взъелся… – пожал плечами учетчик. – Все с утра такие обидчивые…
– Может, это из-за ветра, – предположил Джим. – Думаю, дело в этом. Ветер дует, и люди нервничать начинают.