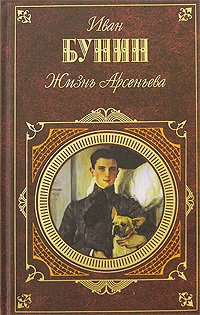Читать онлайн Полное собрание повестей и рассказов о любви в одном томе бесплатно
- Все книги автора: Иван Бунин
В оформлении обложки использованы фрагменты работ художников Клены Самокиш-Судковской и Бориса Кустодиева
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Повести и рассказы
Первая любовь
Из воспоминаний детства
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…
– М…..
– Митька!
– Дмитрий Алексеевич!
– Бледнолицая собака!
– Да вставай же ты, наконец!
Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лева, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели (влезли они из сада в окно), остановились около кровати.
– Вот какой ты! – пробормотал в нерешительности Петя. – Что с ним делать? Мы пропустим зарю…
– Уйдем, – своим обыкновенным, резким и отрывистым, тоном сказал Лева. – Он не товарищ, а баба, старый колелый лось! Влепим по кулаку и уйдем!
– Я, брат, так влеплю, что ты… умрешь! – неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик.
Но Петя и Лева, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки.
Я, немного сконфуженный, пожал их, хмуро и нехотя, и опять упал на подушку.
– Ну, идем же, идем! – сказал Петя. – Мы в самом деле пропустим зарю.
Это было сказано так искренне-серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря, для чего мы друг другу давали слово стеречь ее – я, право, теперь хороню не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому чем свет, когда еще и деревня, и темные поля, и далекий густой лес объяты мертвым сном и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни и в свежем полутемном лесу действительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чащу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили «трубку мира», или, иными словами, трубку, утащенную у моего дяди. И хотя я был уже лет двенадцати и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею.
Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки.
– Солнце ведь еще не взошло? – спросил я торопливо.
– Ты бы дрыхнул до обеда, – ответил Лева, – да потом бы и спрашивал.
«Пугает! Не так уж и поздно», – подумал я, подходя к умывальнику и ежась от утренней свежести, которая плыла в открытое окно.
Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там начинался лес, и широкий луг переходил в узкие овраги, каменистые и изрытые весеннею водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю «трубку мира», чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и дня через два я должен был ехать в Орел, в гимназию.
– Берите же, – скомандовал Лева, – поскорее луки.
Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада.
Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый, зеркальный пруд слабо дымился. Но отражения высоких, стройных осин были еще неподвижны и ясны; соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось.
Мы шли вниз, к пруду, по широкой береговой аллее. Лева был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети года на два. Выглядывал он еще совсем мальчиком; коротко остриженные белые волосы торчали на макушке; сложение было еще совсем детское. Но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим, вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками и хвалился, или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен. Брови он сдвигал главным образом для того, чтобы казаться грозным; при игре в индейцы, когда мы назначали, кому кем или чем быть, Лева выбирал себе всегда роль какого-нибудь особенно кровожадного краснокожего; называл он себя постоянно «Черной пантерою», смеялся и дразнил Петю, когда тот, в какой-нибудь стычке с мальчишками, раненный, садился и горько плакал и т. д. Но в душе Лева был все-таки очень добрый и чуткий мальчик; по уму – очень сообразительный и бойкий. Петя, напротив, был мальчик, которых можно встретить на каждом шагу.
Мы шли мимо пруда. Лева уже несколько раз сбегал к воде и изо всей силы бил палкою лягушек. Он уже вспотел, раскраснелся и измазал грязью, по своему обыкновению, руки, сапоги и штаны. Петя больше любовался природою.
– Что же, ты приедешь на лето сюда, к дяде, или уедешь к отцу? – спросил он меня.
– Непременно приеду сюда, – ответил я.
Лева обернулся в эту минуту и вдруг разразился самым веселым смехом.
– Чего ты? – в один голос спросили мы.
Лева продолжал хохотать.
– Я, брат, все знаю, – проговорил он наконец.
– Что ты знаешь? – удивился я.
– Про Сашу-то!
Я почувствовал, что моментально покраснел до самой шеи. Лева попал в самое больное место: я был в это время «страшно», как мне тогда казалось, влюблен в Сашу, его двоюродную сестру. Она обыкновенно проводила каникулы у отца Левы, так что, мечтая приехать на лето, я имел в виду единственно ее.
– Какую Сашу? – не зная, что сказать, спросил я и сам почувствовал, что сказал страшную глупость.
– Зачем ты лжешь, как старая баба? – вдруг строго перебил меня Лева. Глаза у него засветились, как у зверька, брови сдвинулись.
– Что я лгу? – спросил я тоже строго.
– Ты лжешь, что ты не знаешь, про какую Сашу я говорю, – отчеканил Лева, – а сам влюблен в нее…
Я моментально схватил лук с плеч и трясущимися руками наложил стрелу.
– Нет, ты лжешь! – закричал я, уже совсем растерявшись. – Я вот тебя сейчас…
Но Лева перебил меня:
– Я давно знал. Я не хотел говорить Пете… А вот теперь скажу… Только она уже вчера вечером уехала… Выкуси… А если хочешь выходить на бой – становись.
Лева тоже разозлился. Глаза бегали, щеки раскраснелись.
– Не хочу я с тобою драться, – сказал я, всеми силами стараясь казаться спокойным. – А только ты сам дурак! И я не хочу больше с тобою идти.
С этими словами я повернулся и пошел опять в сад.
– Да на меня-то за что ж? – жалобно закричал Петя.
Но мне показалось, что они оба заодно хотели меня огорчить и сконфузить. «Братцы», – подумал я и потом, не оборачиваясь, крикнул:
– Подите вы к черту!
Итак, обстоятельства сложились весьма плохо: вместо мирной прощальной экспедиции вышла ссора, вместо окончательного свидания с Сашей – весть о ее отъезде, или, иными словами, – о разлуке с нею до самого лета. Я говорю «окончательного» потому, что думал перед отъездом улучить минутку, чтобы объясниться с нею. Правда, уже раз я с нею объяснился, но тогда это как-то не вышло. Мы встретились у них в сенях; я покраснел, почувствовал, как будто кто-то провел мне по волосам ледяною щеткою, ероша волосы; я даже не сказал «здравствуйте». Несмотря на то, что Саша была старше меня года на два, я постоянно ее конфузился. Она сама протянула мне руку.
– Что это вас давно не видно? – спросила она.
– Нет, я был недавно, – сказал я, – вы меня не видали.
– Вы, должно быть, были в саду?
– Нет, я и в доме был.
Саша засмеялась вдруг так звонко и мило, что я сразу ободрился, хотя и не понял, чему она смеется.
– Вы, должно быть, в шапке-невидимке были?
– Нет, в своем картузе, – сострил я и окончательно смешался.
– Ну как же я вас не видела? – добивалась Саша.
– Да вы всегда не хотите меня видеть.
– Как это не хочу?
Но я уже не слушал ее и, чувствуя, что мне становится все жарче и жарче, продолжал:
– Я не знаю, за что вы меня так не любите? Мне кажется…
– Вам бог знает что кажется, – перебила вдруг Саша, краснея, тихим и ласковым голосом. – Я, напротив… я даже во сне вас почти каждый день вижу…
Но в эту минуту загремели чьи-то дрожки, и Саша, быстро дотронувшись губками до моей щеки и моментально вспыхнув, исчезла за дверью.
Не успел я еще прийти в себя (у меня даже дух захватило от радости), как уж кто-то застучал по лестнице. Я нахлобучил картуз и, засвистав, что обыкновенно делал, чтобы скрыть неловкость, быстро сошел с лестницы, встретившись с приехавшим приказчиком, и через сад убежал домой.
Припоминая все это с особенной грустью и нежностью, я сидел один-одинешенек в гостиной. День был теплый, солнечный. В пустом доме (дядя с утра уезжал в поле, прислуга была на кухне) было всюду безмолвно и светло. На балконе дверь была отворена, и из саду иногда залетали пчелы и бабочки. Ветерок осторожно колебал молодую зелень березок. В саду кричали петухи, и как-то особенно весело, по-весеннему, раздавался их крик в этот апрельский солнечный день.
В раздумье я иногда вставал и подходил к отворенной двери балкона. Прислонившись к притолоке, я глядел вдоль по березовой аллее, где из свежей рыхлой земли и из-под прошлогодних листьев торчала ярко-зеленая травка; я чувствовал какой-то неясный садовый аромат, слушал музыкальное жужжание пчел, гулкие удары валька на пруде, – и все нежнее и поэтичнее становилась моя тоска. Мне казалось, что я еще никогда не был таким молодым и прекрасным и вместе с тем таким одиноким и печальным. Я глядел в далекие поля, которые открывались с правой стороны сада, и невольно повторял с поэтом:
- Что звенит там вдали, и звенит и поет?
- И зачем эта даль неотступно зовет,
- И зачем та река широко разлилась,
- Оттого ль разлилась, что весна началась?
«Что звенит там вдали, и звенит и поет?» – спрашивал я себя с особенною грустью. В ответ на это на глазах выступали слезы, и, стараясь скрыть их, я опять шел бродить по освещенному солнцем безлюдному дому.
– Что это ты сидишь, как шалелый? – спросил меня за обедом дядя.
Я едва мог ответить: моя нежность и поэтичность была оскорблена самым грубым образом.
К вечеру мне стало еще грустнее. Я ушел в поле, дошел до леса и лег на опушке. Лежа на своей шинели, я долго мечтал, до тех пор пока над стемневшими полями не засветилась серебряная звездочка – Венера.
Возвращаясь, я решился непременно съездить на другой день в город. Лева и Петя уже теперь там (они уехали перед вечером), и можно выдумать, что я к ним за книгами – за латинской грамматикой, например. А между тем можно увидать Сашу, хоть еще раз поговорить, просить писать и т. д.
Подумав это, я почти повеселел и заснул спокойно. Но судьбе было угодно, как говорится, распорядиться иначе.
Дядя у меня был совсем старик – лет под шестьдесят. Человек он был очень странный и в высшей степени серьезный, по-солдатски исполнительный, аккуратный и строгий. Причиной этого была, главным образом, его долголетняя военная служба где-то в гарнизоне. Образования он не получил почти никакого и по выходе из военной службы поселился навсегда в деревне одиноким холостяком. Имение у него было небольшое, но средства прекрасные: он вел спартанскую жизнь и был неутомимый хозяин; в прежнее время он даже косил сам. Я у него любил гостить, разумеется, единственно из-за того, что в той же деревне на каникулах жила Саша.
Рано утром (дядя вставал до зари) я заявил ему о своем намерении.
– Что ж, поезжай, – сказал он.
– Только на какой же? – спросил я.
– Этого я уж не знаю.
Я запнулся. Дядя всегда любил такую манеру разговаривать.
– Я на чалой поеду, – наконец выговорил я.
– На чалой я поеду, – ответил дядя.
– Значит, на «лысой кобыле»?
– Я поеду парой, а ты знаешь, что разъездных лошадей весной у меня только две.
– Ну как же быть-то?
Дядя улыбнулся.
– Ну как же быть-то? – повторил и он. – Значит, надо ехать со мной.
«Ехать с дядей!» – уж одно это огорчило меня. Но делать было нечего. Я поскорее собрался, потому что дядя не стал бы ждать ни минуты, и через полчаса мы уже ехали в город, сидя вдвоем на телеге, высоко наваленной соломой.
Не стану подробно описывать наше путешествие, жаркое, знойное утро, облака густой пыли на большой дороге и несносно медленное движение за обозом, который мы нагнали. Обоз был очень длинный, и дядя, любивший всегда медленную езду, не стал объезжать его. Пахнущие дегтем телеги были тяжело навалены кулями муки и запряжены седловатыми, огромными, но ленивыми меринами. Возчики, сидя на грядках, дремали, и казалось, что им совершенно безразлично, когда они доберутся до города. Только на одной телеге сидел мещанин, похожий на борзую собаку, и всю дорогу ругался со стариком, ехавшим сзади. Но старик, сутуловатый, толстый, с маленькими глазками и громадной рыжею бородой, по-видимому, ругаться умел очень плохо, и брань выходила вялая, так что не разгоняла скуки.
– Посмотрим, долго ли ты продержишься у самого-то, – говорил мещанин, выплевывая подсолнухи и болтая ногами. – Посмотрим!
– Небось! – отвечал старик злобно и хрипло. – Небось! Уж если тебя, мошенника, держат…
– Меня-то будут держать! – перебивал мещанин.
– Все этаких чертей держат, – возражал старик.
– «Чертей», – передразнивал мещанин гнусливо, – «чертей»! Слезь, дьявол, высморкайся! Загундосил.
– Сам высморкайся! – повторял старик.
– Енот, дьявол! – не унимался мещанин.
Старик страшно обижался, вскакивал и кричал:
– Я не енот, а крещеный человек! Ты сам енот!
Но мещанин опять перебивал его…
Часов в десять утра (до города было верст двенадцать) мы, наконец, добрались и остановились на постоялом дворе.
Дорога, впрочем, не произвела на меня особенно неприятного впечатления. Думая, что часа через два я буду видеть Сашу, грациозную, веселенькую Сашу, я мало обращал внимания на все неудобства и на неприятности дороги. Но на постоялом дворе дело пошло хуже. Еще въезжая в ворота, дядя заметил, что под навесом на телеге лежит прекрасно отпоенный теленок, и сейчас же закричал его хозяину, сидевшему тут же:
– Дядя, что это привез продавать – бычка или телушку?
– Да, – флегматично ответил мужик.
Дядя после этого замолчал и, когда мы слезли с телеги, неизвестно куда скрылся. Я уже успел надеть воротнички (прифрантился) – его все нет. Я бросился, наконец, искать. Забежал в комнаты, где несносно заливалась канарейка, посмотрел еще кое-где – нету. Иду к телеге – навстречу мне дядя, а за ним мужик тащит к нам теленка.
– Купил теленка, – сказал мне дядя. – Ты тут посиди около него, а я схожу кое-что купить.
Меня даже в жар бросило.
– Как? Теленка караулить? – чуть не со слезами возопил я. – Что ж это такое?
– Что ж тут такого? – перебил дядя строго. – Конечно, караулить, – утащить могут. А сходить ты еще успеешь, я сейчас приду. Значит, посидеть можно. Если же неприятно – не ехал бы. Да и не поедешь уж отсюда – пешком, брат, попрешь, если не посидишь. Понял?
Что тут было делать? Тогда мне казалось, что дядя так строг, что легко может исполнить подобное обещание. Чуть не со слезами уселся я около проклятого теленка.
Жду… Проходит час – дяди нет. Телег наехало видимо-невидимо. Под навесом пахнет навозом, жара, духота. Просто смерть моя! Теленок лежит как околелый: глаза дурацкие, стеклянные, связанные задние ноги вытянуты, бока вздулись.
«Хоть бы околел, анафема!» – думаю я с тоскою, поколачивая его кулаками в бок. А обида, тоска все разрастаются.
Опять жду. Проходит еще час. В злобе, со слезами на глазах я, наконец, вскакиваю с твердым намерением уйти и бросить теленка. В это время показывается дядя. Сзади него мужик тащит новое колесо, мешок мелу, несколько «подвой» (железные прутья для сохи) и еще что-то в кулечке.
Я бросился к дяде:
– Что же это, дядя, ты до сих пор?
– Заговорился с знакомым мещанином, – спокойно ответил дядя, – да вот и опоздал. Нам пора бы теперь в дороге быть. Поскорей запрягать надо.
– Как – запрягать? – едва мог я выговорить. – А я-то?
– У меня дела посерьезней твоих, – отрезал дядя. – Не забивай глупостями мне голову. Я все равно сейчас поеду, а за книгами к Пете мы можем заехать.
Я прикусил губы чуть не до крови и побрел к калитке.
– Хорошо же! – вскрикнул я в порыве злобы и отчаяния. – Хорошо же! Уйду, непременно уйду! – И, прислонившись к калитке, я заплакал. Поплакав, я несколько успокоился. Я поглядел красными глазами по пыльной улице и вдруг почувствовал, что мне уже нисколько не хочется видеть Сашу. Теперь все равно свидание с нею не могло быть таким светлым моментом. Мне казалось, что в душе у меня не осталось уже ни капли любви.
Я махнул рукой и, хмурясь, влез на телегу. Но, влезая, я подумал, что все-таки не худо бы хотя на минутку поглядеть на Сашу, хоть попросить бы писать мне… Мы тронулись.
– Я забегу хоть в женскую гимназию, – начал я, – и скажу Саше, чтобы она передала Пете о грамматике. А он теперь еще в классах.
– Так мы поедем туда, – сказал дядя.
– Да нет, мужская гимназия на другом конце города, далеко.
– Ну все равно, – согласился дядя. Видимо, на него нашел «добрый стих».
Доехав до угла, за которым была женская гимназия, я попросил дядю остановиться и с бьющимся сердцем, одергивая блузу и поправляя воротнички, побежал к гимназии.
В швейцарской я погляделся в зеркало и нашел себя хорошеньким: должно быть, от слез и волнения лицо стало нежного цвета, на щеках играл румянец, глаза светились темным блеском.
– Можно видеть, – робко спросил я у швейцара, – ученицу третьего класса, Александру Брянцеву?
– Подождите пять минут, – сказал швейцар.
Я стал ждать. Мне стало снова весело и легко на душе. Про то, что дядя ждал меня на углу, я и забыл думать.
Резкий звонок заставил меня вздрогнуть, и сейчас же вслед за ним наверху и внизу коридоры зашумели и загудели молодежью. Саша сбежала ко мне еще более милая и изящная в своем простеньком платьице.
Смущенно и радостно улыбаясь, я подал ей руку. Около нас толпилось человек пятнадцать ее подруг, и потому мы отошли к самым выходным стеклянным дверям.
– Когда же вы едете? – спросила Саша.
– Завтра, – сказал я, то расстегивая, то застегивая пряжку пояса. – Зашел проститься… Вам хоть немного будет меня жалко?..
Саша покраснела и хотела что-то ответить… Но вдруг стеклянные двери отворились и вошел… дядя! Я обмер.
– Что же ты тут, ночевать, что ли, остался? – сказал он сердито, стоя передо мною с кнутом в руке. («Как мужик!» – мелькнуло у меня в голове). – Ждал, ждал тебя! Наконец решился подъехать сам.
– Как подъехать? – возопил я и глянул через стеклянные двери… О ужас! Перед самым подъездом стояла наша телега с колесом в задке и с теленком посредине! Не помню, как я пробормотал что-то Саше о каких-то книгах, как вышел из гимназии и влез на телегу. От стыда я не знал куда деваться. На подъезд выбежала целая толпа гимназисток.
Саша хохотала, глядя, как я, с трудом оттолкнув теленка, уселся на грядке телеги, свесив ноги.
– Я тебя в другой раз выпорю, если ты будешь так же лгать, – бормотал дядя, усаживаясь на телегу.
И, как на позорной колеснице, потащил меня со двора гимназии. Теленок, перепугавшись, бился и мычал. Гимназистки хохотали. Я сидел как во сне, как в чаду…
Вечером того же дня я ехал на вокзал. В детской измученной душе было как-то пусто. Я уже, конечно, и не думал когда-либо быть у дяди и видеть Сашу… Молча я лежал на телеге. А вечерняя заря была так поэтична и задумчива… Мы ехали прямо на запад. Вдалеке передо мною медленно меркнул свет заката. В теплом стемневшем воздухе уже чуялась душистая свежесть росистых степных трав и цветов. Изредка доносился откуда-нибудь из «ночного» звук колокольчиков на жеребятах, и опять все смолкало. Все более и более погружались в какие-то тихие думы и придорожные хлеба, и вся молчаливая степь, по мере того как темнела весенняя полевая ночь…
1890
Велга
Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?
В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, – точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, – глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки… Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? Это к непогоде.
День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и прибрежьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.
– Кри-э! – жалобно и пронзительно звучит по ветру.
Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя… Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.
Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море… Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?
Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.
– Кри-э!.. – доносится откуда-то издалека, снизу.
Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.
I
Было это давно, в незапамятное время.
У холодного северного моря жила молодая и сильная Белга. На закат были воды, на восток – песчаный берег, близко за селением сходившийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.
Возле моря прошло детство Велти. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее… Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.
Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:
– Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.
Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.
– Смотри, смотри: гагара! – закричал он ей.
И они, как ветер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним…
Зачем так быстро прошло детство Велги?
Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду – шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!
– Милый Ирвальд, – говорила она ему, – мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!
Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.
– Милый Ирвальд, – говорила она ему, – зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?
И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.
II
Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбачьего селенья, на каменистом прибрежье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.
Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Белги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Белга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледно-зелеными травами. Белга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распустив крылышки, на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров.
Девушки стали называть Белгу печальною и злою, потому что никогда не смеялась Белга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Белга печальною и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Белга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.
Ирвальд давно был в море. Утомилась Белга ходить по прибрежью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Белга не может жить без него.
А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Белга пришла к сестре и сказала ей:
– Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?
– Не хочу, – отвечала Снеггар, праздно и спокойно сидя у порога.
Белга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.
Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.
– Ирвальд, – сказала она, – я ждала тебя – и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!
А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:
– Ты слышал мои слова, Ирвальд?
– Да, – сказал Ирвальд.
И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:
– Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!
– Мы никогда не будем жить с тобой, – твердо ответил ей Ирвальд. – Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.
– А я? – медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце. – Я останусь одна? – громко сказала Велга.
– Да, – ответил Ирвальд.
Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.
III
Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!
Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.
– Море не хочет, чтобы я умерла, – сказала себе Велга. – Прежде я должна убить Ирвальда.
И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.
– Снеггар, – сказала она сестре, – уехал Ирвальд?
– Да, – отвечала Снеггар.
– Когда вернется он? – спросила Велга.
– Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море, – отвечала Снеггар.
Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.
«Скоро вернется Ирвальд, – думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце. – Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».
Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развевал его длинные седые волосы.
– Велга, дитя мое, – сказал он ласково, – отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроемся под кровлю от непогоды и ночи.
От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.
Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.
Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.
– Велга! – сказала она. – Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.
– Кто сказал тебе? – крикнула Велга.
– Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары, – отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.
– Снеггар… – нежно хотела проговорить Велга.
Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома.
IV
Она быстро пошла по прибрежью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.
– Научи меня, о вещая! – воскликнула она перед Чарной. – Укажи путь к Ирвальду!
– Поспеши! – сказала Чарна. – Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня – он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?
Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.
– Пожалей меня, Чарна, – отвечала она. – Горько мне расстаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?
– Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря, – сказала Чарна. – А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.
Как первый снег, побледнела Белга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:
– Я иду, Чарна!
– Поспеши, – сказала Чарна.
Против ветра, по мокрому песку прибрежья побежала Белга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Белга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развевал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.
V
На рассвете увидала она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные пастушки» на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи. Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.
А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Белга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплывала Велга мимо самого большого острова.
Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга… И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.
И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.
– Ирвальд! – крикнула Велга страстно и звонко.
От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобнорадостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, – голос друга коснулся его сердца, – но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой…
Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.
1895
Без роду-племени
I
С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастия. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня, и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор – слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов – уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва поспеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекая меня за собою, – падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть – и просыпаюсь.
Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах – половина десятого… Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах да! Зина повенчалась вчера с Богаутом…
Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого – и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером – темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:
– А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.
И, попыхтев, продолжает иронически:
– Великое переселение народов, что называется… К семейному торжеству готовимся… Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!
Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном – получше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.
И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суета около паперти… Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии… И церемония совершается в образцовом порядке!
Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», – ушла… Я рассеянно посмотрел ей вслед.
Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною… Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате… Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.
Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать…
II
Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощеной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти – на службу, но я уже давно бросил думать о службе.
– Вы ж, панычу, справди уедете сегодня? – спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.
– Что? – машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, – думал я, – Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».
– Непременно уеду, – ответил я твердо. – Непременно.
И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!
Я быстро схватил письмо – и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!» – подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.
День облачный, ветреный – стоит уже конец сентября, – и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров – старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону… А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!
Пять месяцев… И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.
В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщаю в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу – трепать, например, мочало… Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений…». С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.
Утомленный однообразной зимней жизнью – службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, – я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях… Все они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя… В клубе – светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую – бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка, – исполнил все, что полагается, и был одобрен… Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.
Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица, Зина, высокая девушка с темносиними глазами и длинными ресницами.
– Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? – сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери. – Я вот тебе еще жениха привел. Сергей Николаевич Ветвицкий.
– Ну, садитесь и рассказывайте, – проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером.
Я спросил:
– С чего начать прикажете?
– В качестве жениха – с того, кто вы такой, откуда? «Имя, родина, родные?»
– Зовусь Магометом я, – сказал я с шутливой грустью.
– Полюбив, мы умираем? – добавила Зина.
Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.
– Вы не декадент? – спросила она.
– Почему? – ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.
– Да так… про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец… потом у вас такое лицо…
– Какое? – спросил я живо.
– Больное, – ответила Зина, подумав. – Вы больны?
Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высокой и уже вполне развившейся девушки, услыхал запах ее духов…
– Болен, – ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.
– Чем?
– Жаждой того, чего у меня нет, – сказал я. – А хочу я многого… Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности…
К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:
– Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом…
Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.
– Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим? – спросил я.
– Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, – сказала Зина. – Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.
Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:
– Может быть… Кого любить? За что?
– Виновата, – вдруг сказала Зина. – Мне нужно подойти к тетушке.
И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой белокурым и женственным молодым человеком, – старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как истый пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал притворно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом…
– Посмотрите, – говорил я, – какой он маленький, плюгавый. Лицо – конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна…
– А это кто, не знаете? – продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор. – Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда – точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он – умница, золотая голова, только спился, опустился и должен всем…
– Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя, – ответила Зина с неловкой улыбкой.
III
Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы – большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно – жажда жизни, – в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры, – даже наедине, – не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь… Но она неизменно отвечала:
– Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.
И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанная жизнь.
По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею – холодной и влажной… Дома же я до поздней ночи играл у раскрытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.
Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В средине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень, и самый воздух, казалось, молодели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу… Ах, какой это был славный день!
– Мне было грустно без вас, – говорила Зина, смущенно улыбаясь, – я сама, наконец, решилась идти к вам.
И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья…
А потом я не знал, что сказать, от сомнений. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди, – думал я, – она даже малоинтеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?»
И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых… Да и любил ли я ее?
Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:
- Укор ли нам неся, прощальный ли привет,
- Как дальних волн прибой, осенний ветер стонет…
– Не правда ли, хорошо? – спросил я, прочитав эти две строки.
– Да, красиво, – ответила Зина.
– А по-моему, – сказал Александр Данилыч, – все это собачья старость и больше ничего.
Зина звонко расхохоталась…
А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках… О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженые волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она мою товарищескую нежность и нашу выдумку говорить на «ты» начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами, и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях, – например, если бы настали дни настоящего общественного подъема, – или если бы я сам хоть немного был счастлив лично… Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:
– Ты не понимаешь самого себя…
IV
В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.
В самом деле, какой скучный день! Ефохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями… Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше прохожих и проезжих; возле магазинов экипажи… Мне же все кажется, что в городе – праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты… Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть… И я бессознательно прибавляю шагу; сердце забилось сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом…
Но зачем?
И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».
Я быстро подошел к дверям – и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случалось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня…
В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело…
Но невеселые мысли и тут преследовали меня.
Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом… Как нарочно, и сегодня одна из них тут.
Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. «Верно, – думалось мне, – она дает уроки языков или музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной… Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»
Дома я усердно принимаюсь за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?
Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами – и опустил руки.
Тут все мои воспоминания. Этот чемодан – мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.
Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени – от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому… А потом – большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное… Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной – своего угла, своего пристанища… И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье… Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.
Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана… И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, – дни, полные неопределенных, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике… Вот письма первой любви, первых товарищей… И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце.
Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос:
– Дома Ветвицкий?
Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда – по двору к калитке…
V
До позднего вечера я бродил за городом.
Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.
В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь – на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть – ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумерки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травою; трава теперь высохла, пожелтела и тихо шелестит от ветра…
«А где Елена?» – приходило мне иногда в голову.
Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине…
Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.
Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплются листья. Точно напряженный шепот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко…
Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа… Зачем я еду? Кто гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?
В страхе я остановился.
– Елена! – хотелось крикнуть мне.
И, точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.
– Можно к тебе? – спросила она деревянным голосом.
Я растерялся, смущенно пробормотал:
– Конечно… Конечно, можно…
В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:
– Прошу!
– Я только на минутку, – ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.
Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.
– Снимай, – сказал я ласково, указывая глазами на перчатку, – посиди у меня.
Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.
– Елена! – сказал я укоризненно.
Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.
– Елена! – снова начал я с раздражением. – Надо же взять себя в руки, – прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.
Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.
Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:
– Что же тебе угодно от меня?
Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И, рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:
– Ты не смеешь так говорить!.. Как ты… смеешь… когда я… так… относилась к тебе? Ты обманывал меня…
– Зачем ты врешь? – перебил я ее. – Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви… Оставьте меня в покое!
– А я не хочу твоей декадентской дружбы! – крикнула Елена и отняла платок от глаз. – Зачем ты ломался? – заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. – Почему ты вообразил, что мной можно было играть?
Я опять резко перебил ее:
– Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге, – и, конечно, не нашли, – и больше между нами ничего не было.
– А, ничего! – снова крикнула Елена злобно и радостно. – Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех – неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!
– Да! – сказал я со злобою, подымаясь. – Я люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь, и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?
Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.
– И поэтому ты… – заговорила она гадливо. – И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами…
Я с неимоверной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.
– Уйди! – крикнул я бешено.
И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я увидал, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдания, и лицо ее перекосилось от детского страха.
– Уйди! – закричал я опять, но уже другим, жалким голосом.
Она распахнула дверь, и ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке…
1897
Поздней ночью
Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидал себя в тихом и светлом царстве ночи.
Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, – вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.
Отчего она тоже не спала в эту ночь?
Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней… Да, поздно – вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз, – узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого – печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой…
Давно не видал я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот – хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот – редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них – старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете… Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи…
– Отчего ты не спишь? – услыхал я робкий голос.
И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:
– Не знаю… А ты?
И опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.
– Прости! – сказал я, подходя к ней.
Она не ответила и закрыла глаза руками.
Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.
– Но разве ты виноват? – шептала она смущенно. – Разве не я во всем виновата?
И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.
А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье…
1899
В августе
Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастия, – в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске.
На пыльной площади у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне, – стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару… И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль…
Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам, за город. Спускаясь под гору на Подол, я встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо, – все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. «Панычи́» этого предместья, мастеровые и мещане, дико и чудесно «гукали» в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепы. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору, в открытую, ровную степь.
Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала глубокая пыль: казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг – и жнивья, и дорога, и воздух – сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара, пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах…
Ах, славно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она…
В полуверсте от дороги, над долиной, краснела черепичная кровля маленького хутора, – поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, колкому жнивью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянул в окошечко – там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом…
– Вы куда? – внезапно окликнул меня женский голос.
Я обернулся: на обрыве над долиной, на меже бахчи, сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.
– Скучно? – спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо.
Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубахе и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.
– Муж ушел на леваду молотить, – сказала она, – а Виктор Николаевич уехал… Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?
– Помню, – сказал я машинально.
И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.
– Отчего вы не откровенны со мной? – начал я. – Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.
Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала:
– Дайте мне папироску.
Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.
– Я с самого утра так сижу, – сказала она. – Куры приходят с самой левады расклевывать арбузы… И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень…
Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я приехал на закате, я сел, снял шляпу… Сквозь слезы я смотрел вдаль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах…
1901
Осенью
I
В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.
– Ну, мне пора, – сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.
Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, – то, что она знала, что я выйду с нею.
– Вы тоже? – полуутвердительно спросила она. – Значит, вы проводите меня, – прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.
Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах – во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.
Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.
– Вы хороню видите? – спросила она, глядя под ноги.
И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.
Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и уксусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.
За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею…
II
Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос, – не холодно ли ей, – она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.
Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сгорбленная фигура вырастала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами – и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее…
Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания, – легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке, – и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам…
III
В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги, – наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветреный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали, – они были рассыпаны точно где-то в темном море, – а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.
– Куда мы едем? – спросила она, сдерживая дрожь в голосе.
Но глаза ее блестели, – наклонившись к ней, я различал их в темноте, – и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.
Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.
Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное, – и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.
– Море? – спросила она.
– Море, – сказал я. – Это уже последние дачи.
А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забитых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми… Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью – тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.
Лошади остановились.
И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.
IV
Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом прибрежье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство.
– И мы одни! – сказала она, закрывая глаза.
V
Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.
– А завтра? – говорила она над моей головою.
И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи…
– Что завтра? – повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. – Что завтра?
Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.
– Да! – сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо. – Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно… Я люблю тебя, – говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.
Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.
1901
Новый год
– Послушай, – сказала жена, – мне жутко.
Была лунная зимняя полночь, мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии, по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидал легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.
– Ты спишь, – сказала жена недовольно, – а я задремала давеча в возке и теперь не могу…
Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шепотом:
– Слушай, ты не сердишься, что я разбудила тебя? Мне правда стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем, совсем одни тут, и на меня напал чисто детский страх…
Она подняла голову и прислушалась.
– Слышишь, как тихо? – спросила она чуть слышно.
Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас, – всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год… Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно! Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.
– Как хорошо! – проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила: – Да, все-таки ты единственный близкий мне человек! Ты чувствуешь, что я люблю тебя?
Я пожал ее руку.
– Как это случилось? – спросила она, открывая глаза. – Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование… И, однако, все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя! – сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку.
Положив голову на подушку, она заплакала, и, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы, по обыкновению, встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев, хотел вспомнить позапрошлый – и не мог, и опять подумал то, что часто приходит мне в голову: годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу… Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно-меланхолические тосты и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке…
– Ну, полно, Оля! – сказал я.
– Дай мне платок, – тихо ответила она и по-детски, прерывисто вздохнула. – Я уже не плачу больше.
Лунный свет воздушно-серебристой полосою падал на лежанку и озарял ее странною, яркою бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки – ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома…
– Ты рада, что мы заехали сюда? – спросил я.
– Ужасно, Костя, рада, ужасно! – ответила жена с порывистой искренностью. – Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему, – сказала она уже с улыбкой, – венчаться надо бы два раза. Серьезно, какое это счастье – стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком! И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех… «Родиться, жить и умереть в родном доме», – как говорит Мопассан!
Она задумалась и опять положила голову на подушку.
– Это сказал Сент-Бёв, – поправил я.
– Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя… Хочешь, пойдем гулять?
– Гулять? Куда?
– По двору. Я надену валенки, твой полушубочек… Разве ты уснешь сейчас?
Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.
– Ты не сердишься? – спросила жена, взяв мою руку. Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом.
Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную… Скрип двери, ведущей в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой, пустой комнаты, как два огромных глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.
– Ау! – крикнула жена на пороге.
– Не надо, – сказал я, – лучше посмотри, как там хорошо.
Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шепотом спросила меня:
– Ты боялся бы здесь один?
Прижимаясь друг к другу, мы прошли по зале в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе… Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью, тяжелые, промерзлые обои кусками висели со стен… Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом, – каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны.
– Там утонешь без лыж, – сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно. – А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах… Теперь зайцы небось приходят к самому балкону.
Оторвав большой, неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции.
– Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна! – заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору.
Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу:
- Татьяна на широкий двор
- В открытом платьице выходит,
- На месяц зеркало наводит,
- Но в темном зеркале одна
- Дрожит печальная луна…
– Никогда я уж не буду гадать о суженом! – сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня. – Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?
Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно-ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глянцевитый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор и думал, подбадривая себя:
«В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?»
– А что теперь в Петербурге? – сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку. – О чем ты думаешь, Костя? – спросила она, приближая ко мне помолодевшее на морозе лицо. – Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят…
Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное, – может быть, лисица, – и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.
Прислушиваясь, жена спросила:
– А если бы мы остались здесь?
Я подумал и ответил:
– А ты бы не соскучилась?
И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля! Положим, можно заняться хозяйством… Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотне десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы, – на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое! А в деревнях – голод…
Заснули мы крепко, а утром, прямо с постели, нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату…
«Вот и Новый год! – думал я, поглядывая из скрипучей, опушенной инеем кибитки в серое поле. – Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?»
Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндевевших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминание о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол возка и закрыв большие, серые от инея ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я делано-весело покрикивал:
– Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!
А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди…
1901
Заря всю ночь
I
На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и разражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чащу… Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался.
Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто.
Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула и туда, – работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:
– А папа где? Он был в поле?
– Они были не надолго и уехали, – ответило мне несколько голосов сразу.
– На чем? – спросила я.
– На дрожках, с барчуком Сиверсом.
– Разве он приехал? – чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла.
Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый – резко белела у него только верхняя половина лба, – он был очень мил мне.
«Значит, он взял отпуск», – взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.
– Что ж ты в темноте? – спросила я.
– Да я, Тата, – ответил он, называя меня, как в детстве, – сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря, – заря зарю встречает, как говорят мужики. – Разве молока, – прибавил он рассеянно.
Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками неясных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.
– Зачем? – пробормотала я.
– Свататься за тебя, – ответил отец с принужденной улыбкой. – Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин… Мы уж пропили тебя.
– Не говори так, папочка, – сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы.
Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета.
– Утро вечера мудренее, – прибавил он с усмешкой.
II
Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать…
«Утро вечера мудренее», – пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливогрустно.
Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей.
Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сиверс!» – я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу…
Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто, а я предупрежу его – и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни… Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало; мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно; я лежала и все более теряла чувство действительности. «Что ж, красивый, умный…» И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица…
А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома, – подумала я про свою горничную, – я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета… Но нет, – опять подумала я, – одной лучше… Я возьму ее к себе, когда выйду замуж…»
Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза. В зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли, – медленно щелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно-точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной… А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону?
Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и позволяя увести себя по сырому песку аллеи в глубину мокрого сада…
III
Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи.
По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, сердце у меня поминутно замирало, и, когда я наконец вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня.
Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий, сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью… Я еще чего-то ждала, порою быстро взглядывала в сумрак рассвета… И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня, – то страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня – и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев и была счастлива своими беззвучными слезами…
Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заалело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде… Но вот послышался резкий визг водовозки – мимо сада, на речку… Потом на дворе кто-то крикнул сиплым, утренним голосом… Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни…
Сиверс утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне:
– Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались!
А мне и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему, – теперь я знала это уже твердо, – и, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал.
1902–1926
Маленький роман
I
В этот вечер мы встретились на станции.
Она кого-то ждала и была рассеянна.
Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.
Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках – всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было.
Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды, голубой от неба.
Платформа была в тени, – солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики… Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного», – и я пошел.
За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптанным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.
– О чем вы думаете? – спросила она раз, не оборачиваясь.
– О ваших ботинках, – сказал я. – О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.
– А мне верите?
– Верю…
Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.
– Какой вы милый! – сказала она. – Идет себе и молчит… У меня неожиданный прилив нежности к вам.
Я ответил сдержанно:
– Спасибо. Это в горе бывает.
Она широко раскрыла глаза.
– В горе? В каком горе?
– Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас.
– Угадали. Хотите?
Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.
– Нет, – пробормотала она. – Нет… Ради бога…
И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.
Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди – широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею – и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.
– Дождь! – звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу.
Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети, – редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли… Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть – и шорох сразу замер.
Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.
– Попробуйте, как бьется сердце, – сказала она, взяв мою руку.
Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.
Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.
– Это первый и последний раз, – сказала она. – Хорошо?
– Хорошо, – ответил я.
Она пристально посмотрела на меня.
– А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому… То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам… Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна… Почему? Не знаю… Просто потому, что я его боюсь….
Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.
– А теперь пойдем, – сказала она.
– Куда?
– Еще немного по лугу…
Я поднял ее – и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга… В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями…
А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня.
Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.
В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков… Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас – я даже успел разглядеть ее серые штаники – и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.
– Не к добру, – сказала она, покачав головой.
Я улыбнулся.
– Уверяю вас, не к добру, – повторила она просто и настойчиво.
– Что же будет?
– Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье…
Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой… И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра.
Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:
– Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.
– Да? – живо спросил он. – Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна…
Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.
Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:
– Прощайте.
И это было последнее слово, слышанное мною от нее.
II
«Дорогой мой, – писала она мне через четыре месяца после этого, – не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и маленький роман, только и всего. Но все равно: клянусь вам, – если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас…
Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю…
Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору – я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен мне.
Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.
А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности…
Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле… Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной…
Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупо ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали – тихо, тихо…
Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега.
Тут он остановился и предложил вернуться.
Я, назло ему, отказалась.
– Не остроумно, – сказал он и, подумав, опять пошел.
Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем… Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.
Раз он окликнул меня, – он все сзади шел, – и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.
– Будь ласкова, – несмело сказал он, – заберись мне в рукав и вытяни фуфайку.
И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:
– И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие.
– Разойтись нам надо, – ответила я.
Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови:
– Трудно это…
– Тогда я возьму на себя этот труд, – сказала я. – Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.
– Я все смею, – сказал он, в упор глядя на меня. – Мне терять нечего.
Я отвернулась и пошла.
Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать, их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек, – кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу – и тихо перелетел к обрывам налево, в туман…
Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла… А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее где придется – предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.
Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой!
Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости – делайте тогда со мной, что хотите. Нет – так тому и быть…»
III
Но и это письмо дошло до меня бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма.
Тронуло оно меня, взволновало – ужасно.
Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, Боже:
«Поеду-ка и я через горы на лошадях».
На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет…
На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы… Я вынул письмо, перечитал его – и у меня забилось сердце.
«Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»
В корчме не сиделось. Я вышел на воздух…
Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное… Оно росло, ширилось – и внезапно засияло лазурью…
Надо написать, – непременно!
Но что? Куда?
Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.
Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков – целая страна белых рыхлых холмов – развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость – печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости – все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море…
Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди – новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе… Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезывающихся на сини пустого неба… А тройка, под заливающийся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.
Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.
Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной…
И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.
А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил – почтой, через Москву – телеграмму из Женевы:
«Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».
1909–1926
Десятого сентября
Почти все дачи были уже пусты, шло начало сентября, на сад, на желтые клены то и дело шумно сыпал крупный дождь, все сквозь солнце и быстро стихавший. Отец и мать говорили, что пора возвращаться в Москву, – она отвечала холодно и небрежно:
– Ступайте хоть завтра. Я раньше десятого не поеду. – По целым дням она лежала на диванчике, в комнате рядом с гостиной, с шалью на плечах, с книгой в руке, то бессознательно читая, то упорно глядя своими красивыми коровьими глазами на желтизну сада за окнами. Мягкая коса заплетена кое-как, слегка опухшее лицо бледно. Дни в молчаливом доме, где жили только отец, мать, старая нянька и молодой лакей, шли медленно, однообразно, и так же медленно и однообразно шли в ней все одни и те же чувства, мысли, воспоминания – о том постыдном, что случилось с ней летом и казалось ей самым значительным в мире. Порой она мрачно-насмешливо ухмылялась, подбирая ноги, одергивала подол: да, если бы кто знал, глядя на эту серую юбку, то, чего вот-вот уже не скроешь?
Масальский каждый день заходил часа в четыре. Вот слышно, как он бодро говорит в лакейской:
– Здравствуйте, Сергей. Дома?
– Князь с княгиней только что вышли на прогулку.
– А княжна?
– Дома-с.
Потом шаги в гостиной и притворно простой голос:
– Княжна, можно к вам?
Ей казалось, что он знает дачные сплетни о ней, то, что она брошена, обманута, и даже то, что недаром решила не возвращаться в Москву до десятого сентября: догадывается, что она назначила на этот день последнее ожидание ответа на все ее безответные письма в лагерь под Петербургом и в Петербург. Но приход Масальского все-таки доставлял удовольствие, – он давно был тайно влюблен в нее, был с ней неловко весел, над ним можно было издеваться, и она медленно отзывалась:
– Милости просим.
Он весело входил:
– Здравствуйте, княжна. Чудная погода, а вы все с книжками!
Она презрительно пожимала плечом.
– А вы всегда с одними и теми же фразами. И не вижу ничего чудесного в том, что льет с утра до вечера.
– Да ведь льет с антрактами, – грибной дождь, как говорит ваша нянюшка… И очень хорошо, что вы не уезжаете.
– И совсем нехорошо, что вы тоже не уезжаете. Почему, позвольте спросить?
Он садился в кресло возле диванчика, глядел на ее поджатые ноги, – подозрительно, как ей казалось, – и, шутя, повторял ее слова:
– Я раньше десятого не поеду.
– Не остроумно, – брезгливо говорила она.
Раз он сказал (тоже с легкой усмешкой):
– Не помню, чьи это стихи: «Как идет к вам эта бледность, этих дней осенних бедность!»
Она подняла на него свои коровьи глаза и спокойно ответила:
– Как идет к вам ваша глупость! Прошу вас и даже требую: не соваться десятого со своими услугами при нашем отъезде.
Десятого он уехал в Москву утром. А перед вечером, когда старенький, маленький князь и рослая большеликая княгиня, уже одетые, с зонтиками в руках, сидели в опустевшем доме, из которого выносили последнюю мебель, когда они покорно ждали выхода дочери, за домом кто-то вдруг радостно закричал что-то, потом с топотом пробежали мимо окон в сад мужики, нанятые везти мебель в Москву, а впереди них какой-то резвый босоногий мальчишка…
Из пруда за садом ее вытащили баграми только в сумерки, с трудом принесли в дом и положили, мокрую, ледяную, тяжелую, с синим лицом, на голом полу в пустой гостиной, темно освещенной чьей-то кухонной лампочкой.
Ночью шел уже ровный, затяжной осенний дождь.
Москва, 1903
С высоты
Я был на Ляй-Лю, на перевале по пути на север. Стояла весна – средина апреля.
Все утро в горах дремал густой туман. В грязной корчме на перевале я выпил кислого красного вина на прощанье с югом и отдохнул, пока перепрягали тройку. Было сыро, холодно и сумрачно. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окон, и воображению невольно рисовались осенние сумерки, пастухи, проводящие здесь почти всю свою жизнь среди облаков и свиста горного ветра, овцы, робко жмущиеся друг к другу в загонах… Невольно закрадывалась в душу серая, как это утро, скука – и вдруг туман стал розоветь и таять, в мглистой вышине просветлело. Предчувствие тепла и солнца сразу оживило все, а в небесах, в тающем дыму, уже обозначилось что-то радостное, нежное. Оно росло, ширилось – и внезапно засияло божественной красотой лазури. В величавом храме дикой и пустынной природы, которая окружала меня, проглянул небесный купол, но еще долго реяла по Ляй-Лю рассеянная мгла, еще долго, как жертвенники, курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло, наконец, солнце. И тогда от тумана не осталось и следа, голубое небо засияло над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом и прозрачном воздухе волнистое плоскогорье и далеким миражем вырисовались за ним нежно-четкие фиолетовые вершины, уходящие друг за другом к востоку. Ветер тянул с севера, но он был ласков, весел, и, опьяненный солнечным теплом и ветром, я быстро пошел к обрывам, чтобы взглянуть в последний раз на море.
Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в зыбкий пар под обрывом; бесконечная волнистая равнина сгустившихся облаков, целая страна белых рыхлых холмов развернулась перед моими глазами, и я остановился, пораженный хаотическим величием этой картины. Вместо глубоких стремнин и обрывов, вместо далеких зеленых прибрежий и заливов, я увидел необозримый океан белых застывших волн, сияющих под солнцем, необозримый облачный слой, повисший над морем и к востоку, и к югу, и к западу. И вся сила моей души, вся печаль и радость – печаль о ней, которую я так мучительно любил тогда, и безотчетная радость молодости – все ушло к горизонту, туда, где за последними гранями облаков, высоко в небе, синело далекое, далекое море.
«Прости! – мысленно сказал я ей всей моей душою. – И ты любила бы меня, и ты простила бы меня, как прощаю я тебя за все мои страдания, но тайна жизни разлучила нас, тайная сила, не дающая нам заглянуть в душу друг друга с высоты – в наши лучшие минуты. А лучшие минуты моей любви к тебе – моя печаль о тебе вдали от тебя, моя радость, что и в печали, и одиночестве, и в страданиях я люблю – и прощаю тебя!..»
Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути на родину, о том, что прошлое – отжито, о том, что впереди – новая жизнь, новая весна, весна севера. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, фигура ямщика-татарина на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт под несмолкающий плач колокольчика, бесконечная лента шоссе… Еще долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вознесшихся над обрывом к югу и вырезавшихся на фоне пустого голубого неба, где черной точкой реял орел… Потом все это мелькнуло перед глазами еще раз – и скрылось. Тройка с дружным топотом копыт, с заливающимся звоном колокольчика покатилась снова в долины, чтобы катиться так все ниже и ниже, все дальше и дальше от перевала, возрастающего и уплывающего в небо, все глубже и глубже в лесистые живописные пропасти… Но еще долго глядел я в эти пропасти с высоты, еще долго и душа моя была на высоте.
Здесь, в этих безмолвных горных долинах, еще царила красота и тишина первых весенних дней, безоблачно-прозрачного голубого неба, черных сучьев деревьев, прошлогодней коричневой листвы, слежавшейся в кустах, первых томных подснежников и диких тюльпанов. Здесь еще только что начинали зеленеть горные скаты, здесь все отдыхало, только что освободившись от снегов и бурь долгой темной зимы, и все было кротко и задумчиво, как девушка, впервые замечтавшаяся о жизни, о счастье, о будущем. Здесь еще хрустально-чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весною и – на высоте.
Но мертвое молчание гор окружало меня. Как всегда в лучшие мгновения моей жизни, я был один. И если бы я заплакал горячими слезами страстной скорби, никто бы не увидал моих слез. И если бы я крикнул – дико и весело, как молодой орел, – от страстной радости жизни, никто не ответил бы мне на этот крик, кроме звонкого и жуткого голоса природы – горного эха.
1904
Игнат
I
Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.
Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чесменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. И поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, тем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.
В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно крала она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда – старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у нее как у женщины. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроще, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.
Усиливали его любовь и барчуки.
Барчуки, – уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое, – приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на Масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имела особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстяном платье, во весь дух носилась то за тем, то за другим из людской к дому и от дома к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за Масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, слегка кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось натыкаться на игру барчуков с Любкой.
Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.
– Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил, – неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег. – Понюхай-ка, как от меня пахнет!
И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темноту; пахло кухней, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним, он же слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками…
Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледно-серым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочно-седая барыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замахала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым стоячим воротником. Был канун Прощеного дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра горело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капели. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиневший палисадник застыл в дремоте. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в одном платье таскала из троечных саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.
Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изогнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубашке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо рычавшую собаку. Уже были по двору лысины – чернела кое-где земля. Вытаскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой протянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вожделением, Игнат двинулся за собаками – смотреть на их совокупление. Но в аллее они свернули, побежали по серому насту под ветвистыми яблонями куда-то в сторону. Игнат вышел в сад, в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного потного дна ее заветный двугривенный.
Мимо садового вала, по задворкам, он поплелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри примкнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пахучую пуньку с железной дверкой и сунула в подставленный карман его растянувшихся порток четверть бутылки.
За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову и, не переводя духа, выпил все до капельки. И, пряча пустую посуду в карман, почувствовал, как горячо, хорошо пошла отрава по всему его телу. Он присел на корячки и стал ждать дурману; потом упал, хохоча, наслаждаясь тем, что пьян.
Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким – промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смеркалось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы, – дом топили соломой, – Игнат каждый вечер набивал ею задние крыльца, – он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, – он был сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на дальнем крыльце, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаги Игната повернул голову.
– Чего тебе? – крикнул он.
Это был офицер, его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел, постоял… Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер – и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевающей зиму…
А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтобы запрягали в бегунки Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «А.-а, та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:
– А-а, собаки, собакаки, собачики!
Был Прощеный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, песни, громыхание бубенчиков, звон колокольцов: лавочник, сапожник, урядник, мужики – все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой шалью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шажками. Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег…
Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, стукая ледяными глудками в передок, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздри, обогнал, обдал дыханьем и стал пропадать вместе с бегунками в дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутно-сизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод. Левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папахой…
И твердо решил Игнат променять работнику Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и смутно темнела среди ночной вьюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга две гармоньи, заглушаемые песнями и ветром, кружились в дыму поземки, носились, как ведьмы, пляшущие девки. Все были беззаботны, счастливы, один он несчастен!
II
Великий пост был серый, однообразный.
День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей на них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.
– Вот вы так-то играете, – сказала она, – а по селу пойдут брехать… Хоть бы ты, Игнат, меня замуж взял, – прибавила она, тоже вставая.
Игнат покраснел и насупился. Ни малейшего значения не придал он ее словам, но с этого дня шевельнулась и стала расти в нем ревность, злоба. Косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принюхивались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдруг, подпрыгнув, кидались на добычу хищно и метко. Женственно красивую, с маслянистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирал скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло – ржаным колосом. В сумрак огромного трехугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней молотьбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току…
В ясный солнечный день на третьей неделе уехал и Николай Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась против солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо, и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накинутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, оборачиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестела вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подрезанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенною сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно: «Мчится парочка вдвоем…» Потом вбежала в дом – и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась и, вырвав руки, повернулась и хлопнула дверью.
Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренным фиолетовыми тенями, аллея – веселой, широкой. И опять нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревню, к бабке-шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший, изумленный. Небо из-под горы казалось необъятноогромным и новым.
– Не пара она мне, – твердо и мрачно, вслух сказал Игнат, поднимаясь. – Пропал я.
Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, и галки садились на них, дергали шерсть для своих гнезд. Игнат навивал кнут, лениво посматривал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.
Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двоились и плыли… Странно, – он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чувствовал, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать равным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить… А весна требовала любви. Плывя, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья… Поднимался большой мышастый бык, широколобый, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями стекловидных слюней, – и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы… У Игната заходилось сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их… Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками попоны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались рубцы.
Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже по-летнему было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени свежо и таились ландыши, увидал он, пригнав стадо на пар, сидящую на опушке бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержаннострастным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив, Игнат не совладал с собой…
С этих пор дурочка стала приходить к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда он являлся без водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и пошел прочь, странно, неумело рыдая. А наплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь беспрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть – тоже. Сапоги он пропил…
Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но, на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер – на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже – шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу – жаркое, длинное. Обмелела речка, дочерна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, – был уже конец июля. В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она остановилась и показала на лесок.
– Как отделаюсь, так приду, – сказал он, не поднимая глаз.
Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролегавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом мимо сада, к гумну. Впереди него мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись налево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся – и схватил ее за левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосила и, с силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схватил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги – тридцать копеек.
Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за ней послали тройку и подводу для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услыхал далекий звон колокольчиков.
Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывать тому – не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось… И, постояв, он двинулся вперед.
У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за лошадью – сидящую в телеге Любку. Она била лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.
– Садись, подвезу! – крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.
Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку…
Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:
– Что ж, очень соскучился по мне?
Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.
– Постой, – шепотом сказала Любка, но так просто, точно они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове, – постой, юбку изомнешь… Дай хоть поправить-то…
III
Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбыв солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.
С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась вся его судьба, Любка почувствовала себя беременной – и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, больного старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращалась к нему на вы. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в изобретении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.
Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуверила в слухах так искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в избу, – будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл, молчалив был он и на службе, но исполнителен, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю – ответа не было. Он грозил, молил – она молчала. Он опять стал пьянствовать – и отупел, измучился. Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы. Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья мослаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову – бобриком, и кожа просвечивала в его коротких стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сундучка с привязанными к нему сапогами и чайником, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, смотрел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика-старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу – и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы – и с трудом вспомнил, что его тяжко били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным…
Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими свиньями. Свиней везли богатому помещику на племя, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игната и свиней, ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем, а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задирал мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них с паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя мослаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящике, держал в большой, покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал; только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.
На станции попутчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли кто случайно.
Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодном, полутемном, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом – так много толпилось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали – свежий, легкий морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребезжал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломило в темени.
Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо ходил как лунатик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутно-лунное небо, выкурил цигарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху-помещицу в шубе, опиравшуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями… В зале осталась только баба в новом оранжевом полушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Игнат присел, взвалил сундучок себе на спину, подсунув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.
Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами; светлая снежная ночь была вокруг него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела… И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух – еще слаще и пахучее. По дворам уже пели петухи.
Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднимался возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат пошел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприютно ночевала чья-то телушка…
Невдалеке, в избе Марея, светился низкий огонек – из окошечка, почти сравнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка ткала кросна, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликался, только откашливался. Потом стал слезать – задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затягиваясь так, что дымилась вся его борода, говорил:
– Хозяйку твою видал… Видал, как же… Из церкви шла… Дома жить не пожелала, все у господ… Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика согнала, всем сама правит, в барском доме живет… Не по закону живет, не по закону… любовника имеет…
– Знаю, знаю, – сказал Игнат, что-то думая.
– Известно, знаешь… Ну, потращаешь – бросит. Потращать можно… Не пара, значит, оказалась она тебе…
– Я сундук у тебя пока оставлю, – сказал Игнат, не поднимая глаз.
– Это можно… оставь… Оставить можно, – согласился Марей.
И на порог вышел проводить Игната. Морозило, яснело. Темно синея в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от водовозок стали резче, улица заискрилась.
– Зима обозначается, – хрипло сказал Марей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу.
И опять твердым шагом пошел Игнат, не поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревням, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ними было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в небе под деревьями…
Почему не спал, почему так пристально посмотрел на Игната тот бледно-голубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушонок, что отворил дверь этой большой, очень теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу – Николай-угодник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом, – и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним – старика-отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет, и, положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.
– Он у нас сумасходный, – тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. – Дюже стар стал.
И, услыхав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее откинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.
– Бог благословит, Бог благословит, – пробормотал он. Обнажив стриженую, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:
– Любовь в доме?
– В доме, в доме, – поспешно отозвался тот. – К ней купец приехал.
Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полян, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас же за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил – и застыл, замер, прижавшись к стене.
IV
Поставив в темных сенях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у стеаринового огарка, горевшего в медном подсвечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос широкий пробор.
Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову набок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебряную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородив ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.
– Кто там? – сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.
Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрестностью, над давно спящими деревнями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала своей высшей красоты и силы. Пятна света на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно, – только подняв голову, увидела она сквозь ветви сосен его зеркальный круг. За стволами их просторно белел светлый двор, и свежая колея, прорезанная по нем санками купца, розово сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пьявки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полночной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подождала ответа, захлопнула фортки и пошла в зал накрывать на стол.
В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.
Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в усадьбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазками. Расстегнув верхние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину, он, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Вскочив, басом забрехал пойнтер, – и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безымянным пальцем в разных местах клавиши…
– Хорошо у вас тут, тихо, – сказал он входившей и выходившей Любке.
– Скучно, – ответила Любка, чуть усмехнувшись.
Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.
– А ты бы забаву какую-нибудь приискала себе, – сказал купец, привычно намекая на то, на что все намекают.
– И то правда, – тоже привычным, беззаботным тоном ответила Любка.
Теперь ужо не было прежней живости в ее ответах. Она стала спокойнее, говорила меньше, проще и грубее, привыкнув распоряжаться и ругаться с работниками, отвыкая от господ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умению, присущему женщинам, подобным ей, не говорить лишнего.
Когда она принесла и, высоко подняв, поставила на стол самовар, купец пролез за стол на диван, не спуская косых глаз с ее грудей. Она вбок блеснула смуглыми белками и с равнодушным видом, не спеша, отошла, стала, как бы греясь, к холодной печке. Купец сдвинул рукав полушубка с круглившейся из него дымчатой густой шерстью и взял нож в левую руку, а вилку в правую. Любка это заметила. «Левша, – подумала она, – распутный небось». Но опять грубо забрехал пойнтер, глядя в прихожую, и она опять тревожно прислушалась.
– На кого это он все? – спросил купец, выпив и раздувая ноздри. – Как отзывается! – сказал он, послушав. – Как орган.
– Да все небось этот пьяница шатается, муж скотницы нашей, – ответила она и, подумав, насмешливо улыбнулась. – Тут такая потеха идет, не приведи бог.
Купец, отрезая кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:
– Да что ты!
– Ей-богу, – сказала Любка. – Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.
– Что ж, еще дружка себе нашла?
– Да ай их мало! – сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.
Говоря, она косилась на окно возле дверей в гостиную. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника и застреха в снегу. Купец ел, что-то обдумывая. Любка слабо зевнула и опять заговорила:
– А, должно, здоровый мороз будет. Куда вдаль так-то поехать, замерзнешь.
– Очень просто, – сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы. – А собака эта же чья?
– Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича, – сказала Любка. – Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудак какой-то.
– Да и дурак, верно, хороший, – вставил купец.
– Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить, – сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу. – Только, правда, никуда не гожается и дома не живет, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.
– А ты уж давно здесь проживаешь?
– Давно. Седьмой год, никак.
– И довольна, значит?
– Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почесть и не живут тут.
– Муж-то в солдатах?
– В солдатах.
– И на войну не попал?
Любка засмеялась, держа руки за спиною, как бы грея их.
– Они, такие-то, счастливые, черти, – сказала она, смеясь.
– И отслужится небось скоро?
– То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать, – сказала Любка то, что часто говорила портному. – И опять же ревнив, надоел своей любовью до смерти… Все, бывало, грозит – убью, а скажи ласковое слово – сейчас слюни распустит. Да что ж, и убьет… Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда…
– Ты жаловаться на него имеешь право, – сказал купец. – Это время прошло, чтобы сдуру, здорово живешь, людей бить.
Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышовый мундштук, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую папиросу, с наслаждением закурил.
– Давно замуж-то вышла? – спросил он с мутной усмешкой.
– Пятый год пошел.
– А детей не было?
– Не было.
– Почему же так? Ты ведь, думается, крепка, хороша.
– Страшная хорошая! – сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать: – А уж это, видно, не моя вина, я сама по детях скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая может быть вина? Он на то и зло на меня имеет, на то и обижается. А я смолоду горячая была – искусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку… Плохая наша бабья доля, – сказала она.
Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в потолок.
– Это верно, – сказал он, не зная, что говорить. – Да что ты все около печки-то спасаешься?
– Греюсь, – ответила Любка с игривой скромностью и села к столу на стул.
Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отвалясь к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, пробор, – и глаза его то стекленели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила жидкий чай с лимоном, скромно вытирала концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюдца, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно – острую кислоту. Мгновенно заметила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул купец из бумажника. Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.
– Довольно, что ли? – спросил он.
Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, что говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она отняла их и, тоже не зная, что сказать, спросила:
– Что ж сало-то не докушали?
И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.
– А я люблю, – сказала она, – она сладкая, опричь если на сковородке поджарить. – И засмеялась: – Пост, а мы жрем… – И, помолчав, беззаботно добавила: – Ну, да авось, все одно в аду кипеть.
– За что же это? – спросил купец.
– Да за все. Наше место в аду. Старые люди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.
И вдруг, разгибаясь, решительным шепотом сказала:
– Ну, пойдемте, что ль…
V
Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал плечами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.
Он не замечал времени, весь поглощен был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стал ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что слышно было, как возились на насесте ночевавшие в сенях людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца, как потом она, с глубоким вздохом, легла. Против крайнего незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянцевито-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один на один во всем доме.
Но время шло, шло – и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села, наконец, к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зрения, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда… Вот Любка привстала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стала видна нижняя белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, – и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добежав до хвороста, Игнат кинулся искать этот знакомый, зазубренный, ржавый топоришко со скользкой рукояткой, – стал шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестевший против низко опустившейся сонной луны.
Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень, тяжелый револьвер, вошел между тем в темный коридор и протянул вперед руки.
– Тут хворост на топку приготовлен, не упадите, – сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил приятный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.
Любка остановилась, говоря: «Это у нас задняя прихожая», – пошарила по стене и отворила дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синеющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо поблескивающий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены – деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И, повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шепотом:
– Смотрите, не попадите в масло…
Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги от ее шепота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, но он уже не слушал, – он, охватив и прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотоле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала вступающую в тело сладкую муку, волны истомной силы, и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ее рот. Обеими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову… Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздувающимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.
Задрожавшими руками она стала срывать с пуговиц ворот его фланелевой рубахи, расстегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной кверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть не до потолка ростом. Правой рукой, отведенной назад, он сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро перехватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту.
– Мой грех, – быстро сказала она. – Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его удар расшиб. Скорее!
Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрезавшееся лицо, на расширенные и неподвижные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки – и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.
VI
При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, слабо зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугунчик горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясался, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и рыжими от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальной огарок, пошел запрягать.
Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синея. Бледнело, расширялось небо за садом, за сквозными деревьями. Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фаэтон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашеных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длинному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.
В навозном темном деннике тепло, хорошо пахло лошадью, ее свежим пометом и недоеденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услыхав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Федька подошел к нему – и он, играя, опустил голову. Федька подвел узду под нее, – он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Федьке, в его тугой полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец Федька втолкнул их в раздавшиеся желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела – обтирая руку и приглаживая, оправляя загнувшиеся кверху, зачесавшиеся волосы на холке, – и повел его к водовозке, поить.
С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кинулась в дом. Федька с удивлением поглядел на нее. Но жеребец тянулся к кадке с водой, ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил его – и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, – и Федька ласково, поощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.
– Ну, будя, навек все одно не напьешься, – сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.
Совсем стало светло. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось алооранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившейся и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив жеребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, разодрав ему удилами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст, Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток – погреть лошадь.
И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу – и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шинели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженой головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к темени.
Капри. Февраль 1912
При дороге
I
Устин, отец Парашкин, жил при большой Новосильской дороге.
Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупроти́в, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село – однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.
Устин давно вдовел, – говорили, что он убил жену из ревности, – жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однодворка, сероглазая красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому – и росла молчаливая Параша одиноко.
Однажды, – ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Баево, гнали по большой дороге порядочный гурт овец: часто так делают – покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязносерой отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и корма – степных трав и полыни! А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день, оборванный высокий малый рядом с оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, картузе на затылок, молодой мещанин.
– Здравствуй, красавица, – сказал старик, отделяясь от гурта. – Помоги нам, прохожим, попроси у отца серничка…
Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зеленоседой и кудлатый, мертвенно-бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под грудью сердце.
– Отца дома нетути, – ответила Парашка, наглядевшись.
– Так я и знал, так я и знал, – сказал старик. – Все катается, а ты одна растешь… «Вечор наша перепелушка, – сказал он, глядя в землю, – вечор наша рябая всее ноченьку прокликала, всее, темную, протрюкала…» Как же нам быть-то, красавица?
Подошел малый, мелкой бойкой рысью подъехал верховой, по-степному поджимая ноги в стременах под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, задиравшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо, – знали его манеру разговаривать, – на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арестантском картузе, а верховой – сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.
– Я ее отца знаю, – сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку. – Богатый плут… Ступай в печурке либо за образами поищи, – прибавил он строго.
Парашка, не сводя глаз с киргиза, короткого, плотного, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми губами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замасленного казацкого седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи и то, что все лицо его было, точно порохом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:
– Ну, вот мы и жители… Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный старый босяк: этот вор-мещанин может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся…
А потом на парах за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла – отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сенцами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка…» – вспомнила она слова старика – и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов… Все красней горел костер – и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко… Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетах и ситах возле печки.
– Батюшка! – негромко позвала Парашка.
– Аюшки? – отозвался отец вполголоса.
– Это какой босяк бывает?
– А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и будет босяк.
– Да он не босой. Он в полсапожках.
– Ну, знать, пропился догола. А где ты могла видеть его?
Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.
– Знать, бальмашевский гурт гонят, – сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на Другой. – То-то, я гляжу, костер горит…
– А отчего у него лошадь в крови?
– У кого это?
– У приказчика. Вся грудь в струнах.
– А это оттого, что она киргиц называется, – сказал отец. – Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают… И тавро небось есть?
Парашка подумала.
– А какая она?
– А вроде печати… как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка киргицкого… Ну, спи, спи, коли поужинала, – прибавил он. – А я в холодную пойду, там закушу…
И, отворив окно, ушел в другую половину. В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра… И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напоминавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка заснула в чувстве того жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдаль молодой мещанин.
II
С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца… Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хороводах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее, – она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но были обе они молчаливы, да и слишком разны во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительного девичьего лица.
Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая, не спокойная была эта любовь.
Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью – вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе… В том страшном и малопонятном, что случилось между отцом и матерью, о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? – и тогда казалось, что не было на свете человека лучше и красивее матери. Отца Парашка мало видела, а понимала и того меньше, постоянно чувствуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком. Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского немало было в его осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завитки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немного.
Вырастая, Парашка худела. В лице ее появлялось то неуловимое сходство с отцом, которое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и несхожих с ними. Многое одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многое одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!
– А я, мальчишкой, раз было убег за цыганами, – сказал однажды Устин, усмехаясь.
– Да что же? Одумался? – спросила Парашка.
– Одумался. Без этого нельзя, дочка, – сказал Устин уже без улыбки. – Сгоряча делать не годится…
– Чего делать не годится?
– Да ничего, – ответил он не сразу и поглядел в сторону. – А то кровь в глаза кидается, беду творит…
Она поняла его, оробела и смолкла.
Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Любимым местом ее был порог, по часам сидела она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подаянием. Ровной рысцой, часто спотыкаясь и перхая, бежала посередине дороги захудалая помещичья тройка – звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желания. Гнали овец – она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей… Морями разливались по полям ржи и овсы… Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестевшей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с матовой лазурью небосклона… В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.
А любовь – это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле Устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Парашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал еще любовницу-то?» — сиплым таинственным шепотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном – о любви. И она певала их, но мысленно – так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный у девушки на руке, на кисейном рукаве…» Все подруги готовились только к одному – к замужеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Батюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста рублей за то, чтобы дознаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор. «Батюшка дома?» – глухо крикнула она, подойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входившего и выходившего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вожжах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешься?» А сестра медленно мотала головой, закутанной в пеньковый платок: «Я на минутку…» Была она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой шерсти, в сермяжной куртке, туго застегнутой на полной груди, и крепко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, избяным дымом и ржаным хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я сижу-то!» – говорила она. И вдруг поднялась и решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала…
III
Заменив отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.
Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке, перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, пряла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла – ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пестреньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама чуяла это по тем странным и ласковым взглядам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки, и жужжала колесом.
– Батюшка, – сказала она вдруг, – ты всегда был такой красивый?
– А что? – спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. – Всегда. А что?
– Чего ж тебя мать не любила?
– А кто тебе это сказал?
– Да уж я знаю, – ответила она загадочно.
Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.
– Ты того, дочка, не слухала бы, – сказал он негромко.
– Ты, говорят, убил ее… За что? За любовника?
– И этого не надобно говорить, – сказал он еще тише. – Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя.
Она подумала.
– Да меня что ж пытать? Я вся наружи…
– Толкуй! – сказал он. – Ты вся в нее.
Она покраснела.
– Ан в тебя… Я тебя в свете ни на кого не променяю!
– Променяешь, дочка…
Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желто зуб ого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови… А он продолжал задумчиво:
– Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.
– У тебя ж есть любовница, – прошептала она.
– Все пустое, все пустое, – ответил он, не повышая голоса. – Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать…
Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог быть лучше его!
Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцевитее и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы… Скоро, скоро станет она невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать… хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она… Сестра сделалась откровеннее с нею, – это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождется его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает… Провожая сестру, она долго стояла на пороге. Пели петухи – она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей – ей казалось, что уже слышно в тумане карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога – и влекла к себе, тянула вдаль. Капали капели, куры стояли под ними, тоже дремали – и вдруг начинали тревожиться, кудахтать сквозь дрему. С веселой, притворной яростью играл, взвиваясь на цепи под амбарами, жарко дышавший пес… Резко вздрогнув, она вбегала в избу.
Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год, был страшен и противен ей – с того самого вечера, когда Евгения вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним… Она знала, что никогда не решится он тронуть ее, – отец убил бы его, – но ведь думала же она об этом… И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен, – пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговориться с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел цигарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб – он был красив. Но вот он открывал рот – и сразу превращался в дурака. О чем бы она ни заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное, сколько жалованья берет.
– Хоросую, хоросую залованью получает, – бормотал он косноязычно, и от бормотанья усы его делались слюнявыми.
А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал оброть с деревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут оброть покрепче, пора тебя обротать, к бычку весть…» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми ждущими глазами. Казалось – еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вздрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскакивала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, тонко вскрикивала, хватаясь за что попало:
– Тронь только, всю морду расшибу! Батюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирушка, черт!
IV
Пришла весна. Серый снег съедали ветры и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила Великая суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уже на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели сине-белесые тучи, грозя дождем, делая горизонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения, – от того, что она искупалась, надела все чистое, нарядилась и села в новую телегу, рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошадью.
На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, – во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Изредка Парашка взглядывала исподлобья – и сердце ее заходилось от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресниц… И вдруг кто-то громко крикнул над ними:
– Ай ослеп? Держи правее!
И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге – поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее – и она мгновенно признала его.
– Чего кричишь? – ответил Устин веселым криком. – Завтра праздник большой!
– Виноват, Устин Прокофич, – отозвался мещанин. – Ничего не видно….
И телеги разъехались.
Долго помолчав, Парашка спокойно спросила:
– Ай ты его знаешь?
– А кто ж его, плута, не знает! – ответил Устин. – Он у Бальмашева на хуторе жил, теперь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать…
Парашка запахнула лицо шалью, задержала дыханье… Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно…
А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная, сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко – и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.
После этого он долго не показывался. Она по целым дням стояла на пороге и нетерпеливо, с настойчивостью и требовательностью подростка, ждала его. Ей казалось, что он обязан, должен теперь приезжать и продолжать то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет, – думала она, – повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им…» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями – его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желанием видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намокла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.
Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибирать избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и вздумала поставить самовар.
Дождь перестал. Все было мокро – и зеленая дорога, и зеленые хлеба, за которыми влажно-синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «Страшно итить к суду Божьему, золотой венец примать…», и стала ждать, пока самовар раскипится еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнущий дождем и затхло – мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку на варок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.
– Здорово! – смело сказал мещанин, появляясь на пороге. – Ловко попал, прямо под чай…
И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порохом, было мокро.
Она не ответила и вспыхнула: он говорил теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он, – слышно было, как спросонья заворковали в темном углу под крышей голуби, – потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:
– Отца нету?
– Нету, – ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.
– Жалко, – сказал он и похлопал кнутом по голенищам. – Так ты одна и спасаешься?
– Так и спасаюсь, – ответила она, слабо улыбнувшись.
– Ну, да ничего, в другой раз заеду, – сказал он. – Благо придирка есть… Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, – добавил он.
Она помолчала.
– Не веришь? – сказал он, осторожно обнимая ее. – А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидал тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!
– Я эти побаски слыхала, – с трудом ответила она. – Пусти, – бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.
Но он не пустил, он знал, что еще не слыхала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:
– Дай Бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери…
Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.
– Ну, теперь шабаш мне! – сказал он, садясь в телегу. – Потерял я свой спокой навеки…
И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеленой траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.
Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.
V
Он заезжал еще два раза, но все не вовремя: Устин был дома. И она притворялась, что не замечает его, пока он деловито болтал с Устином. От напрасного желания увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.
Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устину на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая усмешка, когда он вполголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдатова отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство троеженцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, обрезая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованье. Его никто не слушал. Он неприятно раскраснелся, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки, измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.
После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонью, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат, с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Наконец понял и бешено, отрывисто задергал «кабы курочка бычка родила…». Троеженец подсунул руки под черный армяк за спину, присел, раскорячился, забил сапогами в землю. Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку хромая, затрясла своими козьими грудями. Лицо Евгении окаменело от сонной злобы. Устин облокотился на стол, запустив тонкие пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.
– Дочка! Поди сюда! – крикнул он строго, не в лад со словами сдвигая брови. – Поди поцелуй меня!
– Ты пьяный, – ответила Парашка. – Глаза б мои на тебя не глядели!
Губы ее задрожали. Она повернулась и ушла за избу. За избой слепило низко опустившееся солнце. Блеснув крыльями, с дубков слетели, пали в рожь, в неглубокие лужки, заросшие цветами, две горлинки… Как тихо было тут после гама пьяных! Простор хлебных полей был к закату неоглядный, золотой, счастливый… Парашка села на межу и дала полную волю слезам.
Наплакавшись, она решила вернуться к избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие – растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь – светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака – небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата – боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвивался и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то бормотал. Мухи сонно и угрюмо шумели в решетах и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения, «присвоит» к какому-то барину какого-то Якова Иваныча…
Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него – его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.
– Отец твой совсем готов, на девятом обруче, – с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке. – Сейчас встретил во ржах: пьян хоть выжми, буровит – «в село иду», а Евгения его назад тащит…
Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымчато-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и стал целовать ее лицо, приговаривая:
– Погоди, за-ради бога погоди… «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем…» Я памяти по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя, – на одних лошадях тысячи наживем… Лучше всякой модистки будешь наряжена!
Она вспомнила его таким, каким увидала впервые, – среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе, – обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди. Он приподнял и положил ее на солому.
VI
Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что приедет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней… «Приду, приду», – ответила она. «Смотри же не обмани», – сказал он неестественно, поняв, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стременем, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь… Она то глядела на полосу лунного света, то опускала глаза.
Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «Смотри же, не обмани», – она вдруг увидела в окошечке, пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» – подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!
Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогала от слабости, разбитости во всем теле и желания лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.
Устин уезжал и приезжал. Казалось, что, посиди он дома, никуда не спеши, не волнуй ее своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было страшно, что он, посидев дома и приглядевшись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что, будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, – и некуда было скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.
Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные попытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка горько усмехалась: вот дурак! Взял бы лучше да рассказал отцу все, что видел!
Однажды в полдень, когда в мягком светоносном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, что не застала Устина, томительнодолго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чесала свою отставленную ногу, барыня – не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похудевшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.
– Ты здорова? – спросила она вдруг.
Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась, это ребенок мог заметить – как же не замечал отец? Но вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что случилось, – и что тогда?
Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она кого-то… Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим – и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.
Но, думая, тихо плача, снимая с головы платок и разглаживая его, она незаметно для самой себя давала волю сердцу – и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то – и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «Я вся наружи перед тобою», – и готова была закричать, вскочить в холодную половину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться к нему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утолилась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя, дочка, для тебя одной», – вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.
Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрельчатые касатки, мелькая розовыми юными грудками, проносились мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигурка Никанора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быстро пересек сухие колеи и вошел в избу.
– Здравствуй, – сказал он негромко, останавливаясь у порога. – Никого нету?
– Никого, – ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.
– Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.
Он говорил, как муж, как близкий, как власть имеющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она молча встала и пошла.
Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:
– Хорошо.
Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылия опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.
Никанор говорил так: ровно через неделю Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеды, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один черт не заглянет. Чем свет – дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек; ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составится тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.
– А какое? – спросила Парашка.
– Ну, ты по этой части еще тупорыла, – сказал Никанор с усмешкой.
– Лучше бы ночью, – сказала она серьезно.
– Да что ты! – насмешливо сказал Никанор, делая папиросу из газетной бумаги.
И вздохнул:
– Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.
– А скорей нельзя? – спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.
– Скоро делают, слепых рожают.
Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую неделю! Как он не чует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? – подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.
– О чем ты? – спросил удивленный Никанор. Она не ответила и заплакала пуще.
– Тебе говорю ай нет? – грубо крикнул Никанор.
– Отстань! – крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.
– Ну, будя, будя, – сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.
VII
Целую неделю, до самой Тихвинской, Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения – жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хромую свекровь, злую и распутную, помыкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала, ничего не чувствовала – тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много – и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, поражаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.
Наконец пришла последняя ночь.
Было уже поздно, но она не спала, лежала на нарах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец… Потом дверь избы бесшумно распахнулась.
– Дочка! Спишь? – негромко спросил он, останавливаясь у порога.
– Нет… – с трудом пробормотала она.
Но он не заметил странного звука ее голоса – и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте, он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.
– Дочка, что с тобою? – тихо и таинственно сказал он, наклоняясь к ее лицу, – и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. – Ты не таись, – еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.
Сердце ее затрепетало. «Батюшка! – со слезами хотела крикнуть она – и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. – Батюшка, – хотела она сказать, – он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю…» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:
– А гостинчика, обновочки хочется? Я в город, на ярмарку еду сейчас – что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся…
И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:
– Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?
– Уйди, – едва слышно выговорила она, чувствуя свои оледеневшие губы. И в радостном изумлении, в светлом восторге исступления, отчаяния, подумала:
«А-а! Так вот оно что!»
Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись… С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула…
А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее обступило и двор и дорогу, тускло блестевшую глубокой пылью. И этот песочный цвет хлебов, низко склонивших тяжелые колосья и застывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.
Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за ней сейчас приедут и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый пес с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок…
И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небосклоне, появилась дуга и высокая худая лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный.
– Что же ты? – быстрым шепотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. – Все готово? Уехали?
Она, не отвечая, дико глянула на него, спрыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распахнула обе половинки. По глубокому пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: «Да что ж ты не оделась-то?» – На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.
– Ключа у меня нету, – сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.
Никанор оглянулся, увидал голыш, на котором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалился вместе с петлей – и Парашка, не дав ему упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжевой оборотью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, где, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскакнула, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапнула – и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к городу, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка – в другую, через дорогу, ко ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил, без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, ударился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев…
Многие, что ехали в этот день по проселкам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала – и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.
Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусала трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжовкой.
Капри. Март 1913
Хорошая жизнь
Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижным имуществом владаю, – старичок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал, – и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.
Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:
– Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоют они того.
Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать – побирушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барышни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокое. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг – скандал ужасный. Напились мы чаю утром, – праздник был, – ян стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась, и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой – простой мужик, его работник. Подходит к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:
– Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.
А он, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.
– А где, – говорит, – твой отец?
– Они, – говорю, – по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.
– Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.
– Как, – говорю, – караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, – говорю, – смеетесь? Вы, – говорю, – бумагу нам должны предъявить.
– Не разговаривать, – кричит. – Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.
А сам махает, бьет палкой в землю, – того гляди в морду заедет.
Увидал эту историю батенька, бежит к нам, – он у нас ужасный горячий был, – подбегает и спрашивает:
– Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, – говорит, – духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.
Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услыхал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой его огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе – раз! Тот было – на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:
– Не подходите, за-ради бога, ваше священство! Вы, – кричит, – черный, жуковатый, а я еще жуковатей!
Да и схвати его за руки!
Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь, надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, – деться мне некуды, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, – он и посватался. Не сказать чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать – разбойник… Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка… Понятно, лестно казалось.
С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дрязги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня Господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, – все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить, – сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак… Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра, – мы с ней квартеру-то снимали, – и говорит:
– Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала – давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, разве углядишь?
Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положок, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, – чем вы, говорит, его кормили?
– Ел, мол, кашу манную, только и всего.
– А ничем не играл?
– Так точно, играл, – говорит сестра. – Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.
– Ну, – говорит фельшер, – обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, – говорит, – отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!
Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло – кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, – видно, против Бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один – господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартеру снимали, тридцать рублей помесячно платили. Сами в верхнем этажу, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит… Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда…». Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, – господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?
Думаю себе – надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он нехорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижу мотаю, – всячески, значит, разжигаю его… Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые… Всходит и говорит:
– Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже – не успел по двору пройтись, запылился весь.
Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.
– Что вы, – говорю, – делаете! Барыня идет, уйдите за-ради Христа!
– Если, – говорит, – полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!
– Как же, мол, знаем мы эти посулы!
– С места не сойтить, умереть мне без покаяния!
Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она – прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, – как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке маленькой, вроде корзиночка, – постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.
Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадает задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня Бог! Запрягусь, думаю, сызнова и уж жива не буду, а добьюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет… С того и поднялась.
Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две – я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать чтоб большое: хозяин Матвей Иваныч, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, – выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь – спички когда так-то подашь, шинель с калошами, – глядишь, двадцать копеек, тридцать… Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все чтой-то строила, барышню какую-то, – ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, – хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! – ну, а я-то поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный – так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, – затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, – а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была… А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.
Старшому-то уж годов двадцать сравнялось, как я на место заступила, а меньшому четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде как известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, – рука-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а полозил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам – так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки – чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здорово занимался, умная был голова! А уж как на гармонье играл – где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.
Старший сын был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища – везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, зальется куда-нибудь – и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, – как хозяева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках – и ни стуку, ни хрупу. На другой день встал, – как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову – его дело… А тут и от меньшого, от Никанор Матвеича, пошел доход.
Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспременно обеспечить себя, так и укрепилась в этой жизни. Каждую копеечку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую – да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую ни на есть безделицу, – осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки – все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости Господи, убогий этот…
Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня Господь сынком! Иной раз из головы не идет, – я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал, – да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в каком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя!» Стала я замечать – похоже, влюбился он в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый – избавь Бог. Лицо широкое, а худищий, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может, – зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливается, – заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит, – притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу – ползет с новой немецкой гармоньей по двору, – опять подбрился, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы, – голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал – и-и залился под польку:
- Пойдем, пойдем поскорее
- С тобой польку танцевать,
- В танцах я могу смелее
- Про любовь свою сказать…
А я, будто и не заметила, – как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:
– Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.
И только всего… Правда, смирный был.
Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я требовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, требовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе – либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно ото всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)
– Ты, – говорит, – посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.
Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с процентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне теперь понемножку вылезать из хомута. А все жалко было – хотелось еще годок-другой перегодить, еще покопить маленько, главная же вещь – проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал: понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет да и подумаю: прости, Господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шепотком:
– Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.
Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:
– Насть, что ты такая грустная сделалась?
– Так, мол, – мало ли у меня горя!
Да еще вздохну, примолкну и на руку щекой обопрусь.
– Да в чем, – говорит, – дело-то?
– Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.
Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему, – дело, как сейчас помню, на Средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда, – я вошла к нему с работой в руках, – шила себе чтой-то, – села возле постели и только это хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговори сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искоса. Рукава широкие, шаровары того шире, а ножки, ручки – как спички, голова тяжелая, большая, а сам маленький, – даже смотреть нехорошо. Глянешь – думается, мальчик, а лицо старое, хоть и моложавое будто – от бритья-то, – и усы густые. (Он, почесть, каждый божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:
– Насть!
Я даже дрогнула вся.
– Что вы, Никанор Матвеич?
А у самой так сердце и подкатилось.
– Ты знаешь, где моя копилка лежит?
– Нет, – говорю, – я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.
– Встань, отодвинь нижний ящик в гардеропе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.
– Да зачем она вам?
– Так. Хочу деньги посчитать.
Я слазила в ящик, крышку на гармонье открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погремел, положил подле, – чистый, ей-богу, ребенок! – и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:
– Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже до свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.
– Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите.
А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.
– Ну, – говорит, – ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду, – ты даже представить себе того не можешь!
Мне даже жалко его стало.
– Над этим, – говорю, – грех смеяться, Никанор Матвеич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, – говорю, – Господь даст, поздоровеете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?
Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться, – какой я, мол, житель! – стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать, – скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи моей нету, надоела она мне, лежу на кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно, – а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю, – чисто помешанные какие, несем что попало и с Дону и с моря, – наконец того не вытерпела, – ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! – и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:
– Да нет, – говорю, – вы лучше скажите, какой сон вы видели? Про нас что-нибудь?
Хотела, понятно, приятное ему сказать и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть – и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся, – наконец того отпирает, высыпает ее себе на живот, – как сейчас помню, две серии и восемь золотых, – сгреб их в руку и вдруг говорит шепотом:
– Можешь ты меня один раз поцеловать?
У меня руки, ноги и отнялись от страху, а он-то с ума сходит, шепчет, тянется:
– Настечка, только раз! Бог свидетель тебе, – никогда больше не попрошу!
Я оглянулась – ну, думаю, была не была! – и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь, – ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне – и к стенке:
– Иди, – говорит.
Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка…
Ну, хорошо, – это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обделывать, поглавнее, из-за какого я и билась-то пуще всего. Чую – быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег… Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор, – мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, ослободиться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой.
– Ты, – говорит, – не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать – я помру скоро. А уйдешь – я удавлюсь.
Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бессовестные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку – я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, – полштоф под кроватью так и дежурил, – и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею… А скажешь ей слово, затрясется вся – и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше – больше, я и говорю хозяевам:
– Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.
А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходить когда к празднику, к именинам:
– Обязательно, – говорит, – чтоб ты приходила всегда все прибрать, приготовить. Я, – говорит, – только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.
Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три сумы, накланялась в пояс – и сошла. И сейчас же, Господи благослови, за дело. Купила дом этот, открыла кабак. Торговля пошла ужасная хорошая, – стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, – ян надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, – я к нему: взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права – и заторговала. А тут как раз и Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол его устроить.
– Да куда, – говорят, – его устраивать, у тебя и дома работы девать некуды.
И то правда. Сажаю Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, – Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:
– Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспременно велел проведать его.
Тут меня даже в жар бросило со зла да стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:
– Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно в сводни лезть. Слышала ай нет?
Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только кочаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.
– Эх ты, – говорит, – бесчувственная! Он, – говорит, – даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.
– Что ж, – говорю, – и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?
Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.
Две горницы в доме я под квартеру сдала, одну наш постовой городовой снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержанье была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя – восемь рублей задолжала.
– Надо, – говорю, – барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.
– Я, – говорит, – постараюсь.
– Да вот, мол, чтой-то не видно вашего старанья. Вместо того чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.
– Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.
– А-ах, – говорю, – скажите пожалуйста, совесть какая!
Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну – все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.
– Ну, нет, – говорю, – перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.
– Я, – говорит, – хорош собою.
– Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?
Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить – и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, – прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послышу, гудят, завтра гудят… Стала выговаривать.
– Да вам-то, – говорит, – что за дело? Может, я на ней жениться хочу.
– Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, – говорю, – давно вижу, только не бывать тому во веки веков.
– Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.
– Любовь хорошая, – говорю, – от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, – говорю, – дурная, все ноги в ранах.
Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, Господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело – врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером – домой. Подбегаю, толк в дверь – так и есть: заперто. Стучу – молчат. Я в другой, в третий – опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окна колотить – альни стекла зудят. Вдруг задвижка – стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы – и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, – все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинусь.) Аян говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:
– Чтой-то у вас, – говорю, – ай сговор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не угощаете?
Молчат.
– Что ж, – говорю, – молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!
Он было шерсть взбудоражил:
– Я сам в лета взошел!
– Та-ак, – говорю, – а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?
Как он на меня заорет!
– Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!
А Чайкин, услыхавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замок. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:
– Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!
(С волчьим билетом, значит.)
– Хотите вы, говорит, этого ай нет? Нонче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!
Она – в слезы. А я еще поддала.
– Пусть, – говорю, – денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!
Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже попритих было на время. Вышел наутро из-под замка – и ни гуту: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, – да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку… Платок – платок, мыло – мыло, – что под руку попадет… Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку – и марш. Я мечусь как угорелая – из кабака в лавку, из лавки в кабак – и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, – весь в меня, – лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие… А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал – и все молчит, в переносицу себе смотрит.
– Вы меня не тревожьте теперь, – говорит, – я могу каторжных дел натворить.
А захмеляет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорее от верных людей об его жизни – беды, вижу, никакой: надо решаться, надо поскорее знакомство завесть, – нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, – надо, значит, предлог найтить, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иваныч, лавочник». – «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, – ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал… Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь – до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прейскурант какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то… Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать…
Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала – одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, – мол, таки добилась своего, нашла свою партию! – а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать; из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ан, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николай Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, – небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе, – грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука нехитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-что – вдруг ктой-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог – Полканиха.
– Ты что?
– Никанор Матвеич приказал долго жить!
Брякнула, повернулась – и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, – меня прямо как варом обварило со страху, – накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается – ня бегу… Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю – пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем Бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настежь, кто хочет, тот и лезет, – всем, понятно, любопытно. Я было, сдуру-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула – да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, – да хоть та же Полканиха со зла, – вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, – и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном ни духом, а его за хвост да в мешок… Не первый случай.
Ну, похоронили его – у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку – вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, – жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особливо у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, – вдруг еще новость – Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, – лютая псовка была, небось сама же, востроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, – передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает – дела будто есть – и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие благи не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать – не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, – ночь за день сходит… Что я тут горя вытерпела – сказать невозможно! До того добил – стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемняет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала…
Ну, получивши такое решенье от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать, – наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажить себе не можешь. Я вот и почету себе добилась, и недвижное имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть…
Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.
– Что ж ты, – спрашиваю, – молчишь? Ты клеенку-то не дери, – наживи прежде свою, – ты отвечай мне.
Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.
– Вы, – говорит, – замуж выходите?
– Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.
Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:
– Да вы ногтя ее не стоите!
Хорошо ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью грохнул – и был таков. А я, уж на что неплаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, – как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу – до веку не прощу ему такой обиды, со двора долой сгоню… А его все нету. Слышу – у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает, – на смех мне, понятно, – в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке – вдруг сам всходит. Пьян – лица нету. Вносит селедки, – утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки, – и как шваркнет их на прилавок!
– Можете вы, – кричит, – присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть!
Орет, ноздри раздувает – предлог ищет.
– Ты, – говорю, – тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится – не жри, вот тебе твои деньги.
– А если бы я их съел да помер?
– Опять же, – говорю, – ты, свинья, не можешь тут кричать, – какой такой ты мне командир? Авось чин невелик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.
А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:
– Как жмакну тебя, – говорит, – сейчас по голове, так ты и протянешься!
И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу…
Потом слышу – уработали-таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли – пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках – хоть бы где орех целого сукна остался… Я подумала, подумала – принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, – прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую… А через две недели и свадьбу назначил. Да…
Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, – прямо редкость по нонешнему времю. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась, – сказать невозможно! Ну, и наградил меня, правда, Господь, – вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю – он меня в обиду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет да и заноет сердце. Особливо Великим постом. Умерла бы теперь, думается, – хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают… Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни духу об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привезли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать – цельный день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание, – жив ли, мол… А в горнице – вонь, кислотой какой-то, лежит он весь ободранный, изгвазданный, храпит и захлебывается… Страм и жалость смотреть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и – выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила… Не спится, да и только, – вся дрожу лежу… А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.
– Что это ты, – спрашиваю, – ходишь?
– Живот, – говорит, – болит.
По голосу слышу – тревожится, тоскует.
– Ты, – говорю, – выпей чернобыльнику.
Полежала еще, даже задремала немножко, чувствую сквозь сон – прокрадается ктой-то по половику. Вскочила – он.
– Мамаша, – говорит, – не пугайтесь меня за-ради Христа…
И как зальется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается, – так плачет-рыдает. Я не стерпела – и себе! Жалко, понятно, а делать нечего – из-за него вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.
– Простить я тебя, – говорю, – могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!
– Мамаша, – говорит, – за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?
Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след простыл. Ушел, значит, пораньше от страму – и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил… Да что об том толковать – только сердце свое тревожить! Воду варить – вода будет…
А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:
– И калекой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чегой-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту, – просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище – цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!
– Да что ж, мол, Никанор Матвеич, об этом убиваться? Мы этого чуять не будем.
– Да это, – говорит, – что ж, что чуять не будем, – беда та, что при жизни о том думаешь…
А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль! И руки-то он наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!
Капри. Октябрь 1911
Веселый двор
I
Мать Егора Минаева, печника из Пажёни, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом.
Прозвали и двор ее – окрестили в насмешку веселым…
Егор, как говорили в Пажёни, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только подобрей характером.
– Сосед он хоть куда, – говорили про него, – и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.
Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косой простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень – черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борова почистить – на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мешала Анисья.
Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и, откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку, – курить начал по восьмому году, – а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху ворота бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца – на звериный коготь, а указательный и средний пальцы – короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.
Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она – суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки, – сём, пересём, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала – авось, уж не молоденький, авось образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «До веку не женюсь! Теперь я – вольный казак, а женишься – журись о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.
Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку, – кто-то ехал по деревне с колокольчиками, – а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка… Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку: все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее – к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки, – «старый черт работу отбивает!» – стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденные из барского сада яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак – горбушку черствого хлеба…
Замуж вышла Анисья рано, – рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, – тоже печника, вольноотпущенного дворового, – и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется – святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! – говорили соседи, радуясь такой забаве. – И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»
Все же после смерти Мирона даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести – все как у людей… Двадцать лет тому назад замерз Мирон, – ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, – и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмелива-лась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, – на словах только бесстыж и горяч, не то что отец-покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!
Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело и ни с того ни с чего, – вот как Мирон за чужим обозом, – уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее вечного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся, – оборванный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью, – был какой-то хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву, – сказал только: «Да ай велика беда?» – и опять исчез.
В мае нанялся он караулить Ланскбе, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвесное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи… на спички даже не хватает… И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.
В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решилась она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью – и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться – старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой – мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая, – крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навыкат, хорошо и нарядно одетая – в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назади, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, – та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запамятовала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.
– Три недели тому назад схоронили, сударушка, – ласково говорила старушка Анисье. – Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал, – мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем, – воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся… «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал – понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются…»
Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило, – подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну. – Пойду, была не была, авось не чужая…» А старушка продолжала, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:
– Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре нынче день хорош, поводите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку – овцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас…
И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится, – авось не объест, много ль ей и надо-то…
Старушка сказала:
– Да ведь как сказать? – не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послышишь кругом, – правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные… Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад – иди.
– Он не может не кормить матери, – прибавила молодая.
И Анисья повеселела.
– Ну, ин, пойду, – сказала она нерешительно. – Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет, – не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть… А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил… Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ка обидится…
Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора – погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкоровый платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святый Боже, святый крепкий…» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши… Ну, да сам же виноват, думала она, – забыл мать, до крайности довел. А Бог милостив, он видит нужду: похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется… И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную, толстую, отекшую старуху в ватной кофте и валенках.
– Что ж просишь? – медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.
Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом – накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» – гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак – «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах… В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да, уходя, не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы…
Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами – жгли их блохи, жиляли мухи, – заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж ободнялось, – и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь… Бог милостив – чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это – счастье, сладкое счастье… Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену… По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившиеся холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу…
Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлеба и травы в нынешнем году чудесные. Путаясь худыми ступнями и поневой по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблем овсы. Клины цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный – усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами, чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно, – вплоть до станции на горизонте, – сообразила, что дала крюку.
С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распустив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидала она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой поневе, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, – и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели – и она постояла, выждала, пока они скрылись…
Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо – плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймаешь, не задержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то – и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки… Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потише надо…» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить…
Теплый ветер, дувший с юга в бок, нес над простором серозеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами – бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки… Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался из них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах… Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то… Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах… Какой-то особый вид у этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью… А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса… Да нет, горох еще и не наливался.
Кабы налился, наелась бы досыта – и не увидал бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце: должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, – у людей обеды на дворе…
Она забыла о мельницах – мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы – перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, – дело привычное слушать эти несуществующие голоса! – думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре; думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей близкой смерти… «Постыдилась бы, постыдилась бы!» – звонко кричали бабы. «Надо сесть», – отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначено? Богом? «Нет, сыном, Егором!» – крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту…
И по меже, и во рву под межою – всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» – подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышиным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и – спать… Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убегала в поля зеленая межа. Немало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло, – холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье…
За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула: верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!» – тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородищей ворот длинной рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота. «Л напиться, родный, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», – сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый шапкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его – цвета свеклы – напоминали сошники. Но сразу видно – редкой доброты человек… Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка, – и не смогла, не сумела…
Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, – со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темнозеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когда входишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы – по пояс; где кусты – не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов – белых, синих, розовых, желтых – рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрестанном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько – земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.
Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом – полынь, лопухи, крапива, в крапиве – избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, серо-усый, с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкарой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрехал – каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее – и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она – подходить ли?
– Егорушка! – слабо крикнула она.
Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки – и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! – равнодушно сказал его взгляд. – Ну, нам с тобой делить нечего… А Егора нету…» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чекканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледносеребристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке, – нет ли ключа. Не нашла – и догадалась: отогнула дужку замка, – он, конечно, был не заперт, – и потянула за скобку, перешагнула высокий порог…
Есть – об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки – и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых кольев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то – не то сына, не то смерти, – сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.
«Либо мне мерещится?» – подумала Анисья – и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки…
Весь потолок прорастал грибками – часто висели они, – тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, – черными, траурными, коралловыми, – легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поесть? Нет, помрешь – и растащат тогда соседушки избу в Пажени по бревнышку… А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему Бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, – и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою Богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие… На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, – скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками… Анисья откидывала назад голову – и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов – бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер…
Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и… Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру… Но, все понимая, она спала, спала – и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, – надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом – и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, кругом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубахах – и от этого тошнит, мутит… Жарко, тяжко, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев – рожков, сусликов, жамок – и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла… в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают, – нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей… Как лунатик, шатаясь, шепча, поднялась Анисья с лавки, вытянула из окошка полушубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье… В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть…
Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором черно зеленели верхи кустарника – на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер…
II
Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен – и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены – насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услыхав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды-таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике – и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.
Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» – то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.
Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготовляясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.
Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор, – проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом, – когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль, – стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белизной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет… И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на нарах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.