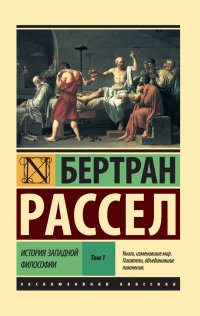Читать онлайн Власть. Новый социальный анализ бесплатно
- Все книги автора: Бертран Рассел
Bertrand Russell
Power
A New Social Analysis
© Издательство Института Гайдара, 2024
Предостережение
Книга «Власть. Новый социальный анализ» Бертрана Рассела, одного из самых значительных философов ХХ столетия, впервые была опубликована осенью 1938 года. В качестве спойлера можно сразу предупредить читателей о том, что она не стала ни мгновенным бестселлером актуальной политической теории, каковой оказалась, например, работа Карла Поппера «Открытое общество и его враги» сразу в момент ее публикации в 1945 году, ни классикой канона политической философии, впоследствии заново открытой для философского понимания всех тонкостей власти. То, что многие читатели (даже профессиональные), скорее всего, не догадывались о том, что такая книга существует, – яркое подтверждение озвученного тезиса. Спустя нескольких десятков лет забвения, в 1996 году, «Власть» была вновь издана «The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd» в сопровождении очень хорошего введения, написанного Кирком Уиллисом в 1995 году. В 2004 году «Власть» вышла в серии «Routledge Classics edition» и теперь сопровождена предисловием Сэмюэля Бриттена. Уже в таком виде книга переиздавалась несколько раз (например, в 2010 и 2013 годах).
И вот, уже имея два представления книги, я пишу очередное, на этот раз третье. Зачем? Цель моего краткого предисловия двоякая. Первое, что я хотел бы сделать, так это предостеречь читать предисловие Сэмюэля Бриттена прежде, чем книгу самого Рассела. Почему? С этим связан второй аспект моей цели. По моему мнению (подчеркиваю, что речь идет только о моей оценке), предисловие Бриттена – не очень удачное. Кроме того, что оно само изобилует оценками, также текст Бриттена не слишком содержательный и плохо справляется со своей главной задачей, и после него не очень хочется читать книгу Рассела. Введение Уиллиса – напротив, слишком удачное. Но после него книгу Рассела читать не хочется тем более. Дело в том, что, описывая контекст ее создания и ее цель, Уиллис вынужден признать, что «Власть» не стала тем, чем должна была, – важным вкладом в социально-политическую философию ХХ столетия. С этого же тезиса и ссылки на Уиллиса свое предисловие начинает и Бриттен. Уиллис, отмечая, что книга вышла не в самое удачное время, заканчивает введение таким образом: «В какой-то мере, однако, ответственность за неприветливый прием лежит на самой книге. Оказавшись работой по политической социологии, а не политической теории, она на самом деле не дает ни нового общего социального анализа, ни новых средств социального исследования, применимых к изучению власти всех времен и народов. Рассел просто не предложил ни объяснительной системы, ни аналитического аппарата, способного заменить аппарат Маркса, Фрейда, Дюркгейма или Вебера»[1]. Согласимся, что, прочитав такие слова, у нас не возникает острого желания тут же познакомиться с относительно объемным трудом, в котором нет аналитического аппарата, объяснительной системы и нового анализа. И хотя сам Уиллис отмечает, что зато во «Власти» есть здравомыслие и интересные наблюдения, все же этого мало, чтобы «купить» наше внимание и чтобы у нас появилось желание потратить время на чтение целой книги. Итак, второй аспект моей цели – попробовать найти причины, которые стали бы основательными для тех, кто решится прочитать книгу.
Даже поверхностно знакомым с историей философии ХХ века известно[2], что Бертран Рассел очень рано стал законодателем интеллектуальных мод и долгое время считался едва ли не самым влиятельным философом англоязычного мира. Так было до 1914 года. Хотя он и раньше совершал вылазки в публичное пространство, все же его участие в политическом процессе было эпизодическим. Политика для него оставалась сферой случайной практики, и он не тратил на нее интеллектуальную энергию. Однако после начала Первой мировой войны Рассел стал писать о политике. Так, в 1916 году вышли «Принципы социальной реконструкции», в 1917 году – «Политические идеалы», а в 1918 году – «Пути к свободе». Тем самым Рассел осуществил переход от теоретической философии к практической, а в некоторых случаях – и прикладной. Или даже в публицистику. В целом Рассел писал очень много, активно, охотно. Иногда в отношении его публицистических работ кажется, что у него не было времени не только перечитывать то, что он написал, но и продумать то, что он пишет. Создается ощущение, будто буквы, слова и предложения у него опережали мысли и последовательные рассуждения. Достаточно взглянуть на его неполный список последующих трудов: «Икар» (1924), «Во что я верю» и «Азы теории относительности» (1925), «О воспитании» (1926), «Набросок философии» и «Анализ материи» (1927), «Брак и мораль» (1929), «Завоевание счастья» (1930), «Научный взгляд на вещи» (1931), «Воспитание и социальный порядок» (1932), «Свобода и организация» (1934), «Религия и наука» (1935) и «Какой путь ведет к миру?» (1936). Приплюсуйте к этому многочисленные публикации в академических и общественно-политических изданиях.
У любого читателя, который собрался прочитать философскую книгу, возникает следующий очевидный вопрос: где во всем этом многообразии текстов хотя бы практическая или прикладная, но все-таки философия? Мы знаем, что в конце концов активное сочинительство Рассела, выполненное на актуальную тему, получило признание. В 1950 году философу присудили Нобелевскую премию по литературе за книгу «Брак и мораль» и, что немаловажно, публицистическую деятельность. То есть во многом работы Рассела, не связанные с философией, официально считаются публицистикой. Но, может быть, мы можем обнаружить в Расселе-публицисте и Рассела-политического философа? Едва ли можно сомневаться, что Рассел сам очень хотел, чтобы «Власть» оставила след не как очередная его публицистическая книга, но именно как работа, которая – о чем и гласит подзаголовок – предложит новый философский анализ старого феномена. Бриттен пишет, что Рассел оспаривал доминирование в социальном анализе Маркса и Фрейда, а Уиллис, осторожно замечая, кого именно мог бы превзойти философ, перечисляет большее число имен – Маркс, Фрейд, Бергсон, Сорель, Парето и Парсонс. Рассел, не страдавший от отсутствия амбиций, считал, что книга в самом деле станет основанием новой социальной науки, хотя и без того, чтобы познакомиться с существовавшей на конец 1930-х годов социальной наукой.
В цитате, приведенной выше, Кирк Уиллис заметил, что «Власть» оказалась работой по «политической социологии», а не по политической теории. Вместе с тем, если прочитать книгу, конечно, легко убедиться в том, что это совсем не так. Тот же Уиллис сообщает, что вся «Власть» основана на собственном интеллектуальном капитале Рассела, а не на каких-либо новых исследованиях. Иными словами, Рассел осуществлял «новый социальный анализ» на материале, который помнил, знал и наблюдал вокруг, но не опускался до того, чтобы еще и что-то исследовать. Отсюда и основная проблема книги. Может показаться, что, являясь то ли социологической, то ли социально-философской, она не становится ни тем ни другим. Например, Бертран Рассел, характеризуя разных демократических лидеров в США, упоминает термин «магнетизм» (magnetism)[3]. Конечно, куда более подходящим термином здесь была бы «харизма», но философ не утруждал себя тем, чтобы заглянуть в тексты Макса Вебера, имя которого в книге «Власть», разумеется, отсутствует вообще (точнее, упоминается один раз, но во введении Кирка Уиллиса). К счастью, хотя в книге есть и исторические примеры, она хотя бы не задумывалась как прорыв в исторической науке.
Тем не менее я бы хотел предположить, что «Власть» все же может быть вписана в контекст социальной и политической философии. Каким образом? Хотя бы в силу ее содержания. Сперва давайте обратим внимание на то, что изображено на обложке книги «Routledge Classics edition» 2004 года и последующих стереотипных изданий. На ней нарисован провод с розеткой. Видимо, дизайнер обложки руководствовался одним из главных и самых известных тезисов книги о том, что власть в социальных науках, – то же самое, что энергия в физике. Экономический мотив человеческой деятельности (марксизм), протекающей после удовлетворения первичных потребностей, Расселу не кажется убедительным. Власть (и слава) – вот то, что заставляет человека предпринимать социальные действия даже тогда, когда, казалось бы, он проживает в комфортных условиях. Но поскольку власть – сложное и многогранное явление, она, разумеется, существует в разных формах, таких как богатство, вооружения, гражданская власть, влияние на мнение и т. д. Рассел не озаботился тем, чтобы структурировать книгу. Однако при элементарной перекомпоновке материала она стала бы куда более ясной уже на уровне оглавления, то есть замысла. Тем не менее у Рассела есть оправдание для такого подхода. По его мнению, власть нужно рассматривать вообще, то есть в постоянном переходе из одной формы в другую, а не как просто ее конкретную форму, и задача социальной науки – поиск законов таких трансформаций. И хотя, возможно, сами законы в книге найти трудно, по крайней мере, у нас есть объяснение логики авторских рассуждений.
В том виде, в каком работа в итоге вышла, просто последовательно перечислены все формы власти. Однако Рассел на самом деле в тексте дает их классификацию, хотя и не в первых двух главах, что в очередной раз подтверждает последовательность его письма. Поскольку законы социальной динамики для Рассела можно сформулировать только в категориях власти, существующей в разных своих формах (священническая, царская и королевская власть, голая власть, революционная, экономическая, власть над мнением, вероисповедания как источники власти и т. д.), то, чтобы открыть эти законы, необходимо сперва назвать различные формы власти, а потом изучить различные исторические примеры того, как организации и индивиды приобретали контроль над жизнями людей. Этим философ и занимается. Впрочем, Рассел не ограничивается только этим, выходя в конце книги на тему ограничений, этики власти, а также рассматривая философии власти, где ожидаемо появляется Фридрих Ницше.
Какие же основания для типологизации власти предлагает Бертран Рассел? По его мнению, власть может быть разделена на власть над людьми и над мертвой материей. Рассела, конечно, интересует прежде всего власть над людьми. Власть над людьми, в свою очередь, можно разделить на власть над индивидами и на власть организаций. С точки зрения Бертрана Рассела, на индивида влияют: 1) прямая физическая сила в отношении его тела (например, убийство); 2) награды и наказания, являющиеся стимулами; 3) влияние на мнение, то есть пропаганда в самом широком смысле слова. Подробнее Рассел останавливается на последнем, так как здесь речь идет о том, что у людей, на мнение которых влияют, вырабатываются определенные привычки. В данном случае философ обращается к довольно сомнительным аналогиям с животными, приводя в пример то, как связанную свинью затаскивают на корабль, ослу подвешивают морковку, а иных – промежуточный тип – просто дрессируют. Так, случай свиньи, согласно Расселу, иллюстрирует военную и полицейскую власть, осла с морковкой – пропаганду, дрессированных животных – власть «обучения». Рассел, кстати, призывает не преувеличивать значение пропаганды как форму власти, потому что она на самом деле редуцируется к другим формам власти – экономической или политико-административной, являясь лишь инструментом. В плане власти организаций называются армия и полиция (принуждение), экономическая власть (награды и наказания), школы, церкви и политические партии (влияние на мнение). Здесь в пример приводится власть права. Так, право, существующее в государстве, является действенной формой власти, пока общественное мнение его признает таковым. Если люди не будут одобрять право как систему действующих норм в государстве, то право перестанет быть формой власти.
Другой типологизацией власти в книге становится деление власти на традиционную и приобретенную. Конечно, здесь снова остро не хватает Макса Вебера (в случае традиции), но Рассел обращается хотя бы к Никколо Макиавелли (в случае приобретенной власти). Традиционная власть – сила привычки. Почти всегда она, основанная на согласии, связана с религиозными верованиями. Власть, которой чуждо согласие, для Рассела становится «голой» властью – как правило, это военная власть, внутренняя тирания или внешнее завоевание. Однако между этими двумя формами нет строгой преемственности. Например, после того как традиционная власть ослабевает, ей на смену не обязательно приходит власть голая, но вполне возможно, это может быть революционный авторитет, с которым соглашается большинство или значительное меньшинство (например, Война за независимость в США). Революционная власть возникает, когда множество людей объединяются ради веры или идеи (протестантизм и коммунизм). Различие между тремя названными формами власти основано на психологии. Так, если уважение, которое подданные испытывают к традиционной власти, теряется, то она переходит в голую власть. В целом все перечисленные Расселом формы власти анализируются.
Помимо типологизации, множества исторических примеров, у Рассела есть точные наблюдения, что, впрочем, как достоинство книги отмечают практически все, кто писал про «Власть». Так, философ пишет о новом типе «властителя»: «Развитие крупных экономических организаций произвело новый тип могущественного индивида – им является, как говорят в Америке, „руководитель“ (executive). Типичный „руководитель“ производит на других впечатление, поскольку они видят в нем человека быстрых решений, проницательности и железной воли; у него должна быть квадратная челюсть, поджатые губы и привычка к быстрой и отрывистой речи. Он должен уметь внушать уважение равным и уверенность – подчиненным, которые и сами далеко не ничтожества. В нем должны сочетаться качества великого полководца и великого дипломата – безжалостность на поле боя и способность к ловким уступкам в переговорах. Именно благодаря таким качествам люди приобретают контроль над важными экономическими организациями»[4]. Также Рассел упоминает и такие формы власти, как «закулисная власть» (участие в политике придворных, интриганов, шпионов, фаворитов и проч.). Кроме всего этого, из текста «Власти» можно извлечь фразы, которые могли бы стать прекрасными афоризмами, например: «Те люди, которые более всего хотят власти, в целом с наибольшей вероятностью ее и приобретают» или «Наиболее успешными демократическими политиками становятся те, кому удалось уничтожить демократию и стать диктаторами».
Таким образом, предшествующий абзац может быть аргументом, почему книгу все же стоит прочитать. Она написана не только легко и интересно, но и весьма познавательно. Хотя и не все вещи, но некоторые в ней выглядят довольно актуально. Но все же главный аргумент в том, что «Власть» может быть вписана в историю социально-политической философии. Например, между Вебером и Арендт или между Вебером и Фуко. Хотя некоторые отмечают, что Рассел не предложил системы, но так и Фуко ее не предложил. Конечно, Рассел – не Фуко, но тем интереснее изучить его понимание власти. Тем более что он часто мыслит глубоко, не раз отмечая, что мы должны изучать не формы власти, а именно саму власть, которая переходит из одной формы в другую. Или же книга Рассела может быть сопоставлена с идеями Ханны Арендт. Она, например, утверждала: «Власть (power) соответствует человеческой способности не просто действовать, но действовать согласованно. Власть никогда не бывает принадлежностью индивида; она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока эта группа держится вместе. Когда мы говорим о ком-то, что он находится „у власти“, мы на самом деле говорим, что некоторое число людей облекло его властью действовать от их имени. В тот момент, когда группа, от которой первоначально произошла эта власть (potestas in populo – без народа или группы нет власти), исчезает, исчезает и „его власть“»[5]. Мы видим, насколько контрастирует понимание власти Арендт с позицией Рассела. Исходя из контекста философии власти благодаря вкладу Рассела в тему могут быть сделаны новые теоретические открытия.
Одним словом, у нас есть хороший повод («власть» как общий предмет политической теории), чтобы вписать Рассела – политического философа в историю политической философии ХХ века. Тем самым я бы хотел заключить, имея в виду все сказанное выше, что книга Рассела, сколь бы публицистичной она ни казалась, вполне себе является трактатом по политической философии, и за счет ее анализа мы могли бы более объемно рассмотреть проблемы власти в социально-политической философии ХХ столетия, а может быть и XXI. Уже хотя бы поэтому книгу можно и даже нужно прочитать. И, вероятно, хотя бы сюжетом включить ее в университетские курсы по социальной и политической философии.
Александр Павлов,д. филос. н., профессор,руководитель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ;ведущий научный сотрудник, руководитель сектора социальной философии Института философии РАН
1
Импульс власти
Между человеком и другими животными существует немало отличий, одни из них интеллектуальные, другие – эмоциональные. Одно из основных эмоциональных отличий заключается в том, что некоторые человеческие желания, в отличие от желаний животных, по сути своей безграничны, то есть их невозможно полностью удовлетворить. Удав, если он поел, спит, пока к нему не вернется аппетит; если другие животные и не поступают точно так же, причина в том, что еда не удовлетворяет их в той же мере, что и удава, или же в том, что они боятся врагов. За немногими исключениями деятельность животных управляется первичными потребностями в выживании и воспроизводстве и не выходит за пределы того, что требуется этими потребностями.
У людей все иначе. Конечно, значительная часть человеческого рода вынуждена работать на удовлетворение своих нужд столь много, что на другие цели остается совсем немного сил; но те люди, чьи основные жизненные потребности удовлетворены, не перестают по этой причине действовать. У Ксеркса не было недостатка в еде, одежде или женах, когда он отправился в Афинскую экспедицию. Ньютон мог быть уверен в том, что его быт будет устроен, с того момента, как стал постоянным преподавателем Тринити-колледжа, однако именно после этого он написал свои «Principia». Св. Франциску и Игнатию Лойоле не нужно было основывать орден, чтобы избежать нужды. Они были выдающимися людьми, однако те же качества, пусть и в разной выраженности, обнаруживаются во всех людях, не считая незначительного меньшинства исключительных лентяев. Миссис А., которая вполне уверена в деловых успехах своего мужа и не боится домашнего труда, хочет одеваться лучше миссис Б., хотя опасности подхватить пневмонию она могла бы избежать и с гораздо менее существенными тратами. И она, и сам мистер А. будут довольны, если мистера А. посвятят в рыцари или же выберут в парламент. В мечтах нет предела воображаемым триумфам, и, если они считаются возможными, к их достижению прикладываются определенные силы.
Воображение – приманка, которая заставляет людей что-то без устали предпринимать даже после того, как их первичные потребности удовлетворены. Большинству из нас знакомы лишь немногие моменты, когда бы мы могли сказать:
- Теперь мне умереть
- Великим счастьем было бы! Душа
- Полна предельной радости. Боюсь я,
- Что радости подобной не подарит
- Неведомый мне рок.
Когда мы испытываем эти редкие моменты полного счастья, для нас, как и для Отелло, вполне естественно пожелать смерти, поскольку мы знаем, что удовлетворение не будет длиться вечно. То, что необходимо нам для такого неубывающего счастья, для людей невозможно: только Бог может обладать полным блаженством, ибо Его «есть Царство и сила и слава». Земные царства ограничены другими царствами; земная сила обрывается смертью; земная слава, пусть мы даже строим пирамиды или же «повенчаны со строфой бессмертной» (Вордсворт), стирается поступью столетий. Тем, у кого мало силы и славы, может показаться, что их бы удовлетворило, если бы у них было того и другого чуть больше, но в этом они ошибаются: их желания ненасытны и бесконечны, и только в бесконечности Бога они могут найти отдохновение.
И если животные довольствуются простым существованием и воспроизведением, люди желают все большего и большего, и в этом отношении их желания ограничены только тем, что представляется возможным их воображению. Каждый человек хотел бы, будь это возможным, быть Богом; и некоторым по-настоящему сложно согласиться с тем, что нечто невозможно. Это люди, скроенные по лекалу мильтоновского Сатаны, то есть подобно ему они сочетают в себе благородство с нечестивостью. Под «нечестивостью» я имею в виду качество, которое не зависит от теологических убеждений – она есть не что иное, как отказ признавать ограниченность индивидуальной человеческой власти. Это титаническое сочетание благородства с нечестивостью более всего заметно в великих изобретателях, но какая-то его доля обнаруживается в любом человеке. Именно она осложняет общественное сотрудничество, поскольку каждый из нас стремится понимать его по образу сотрудничества Бога и Его почитателей, причем мы сами должны в таком случае занять место Бога. Отсюда конкуренция, потребность в компромиссе и правительстве, стремление к бунту, сопровождающееся неустойчивостью и периодическими вспышками насилия. Отсюда же необходимость морали, которая бы ограничивала анархическое самоутверждение.
Главные из бесконечных желаний человека – это желания власти и славы. Они не совпадают, хотя и тесно связаны друг с другом: у премьер-министра больше власти, чем славы, у короля – больше славы, чем власти. Как правило, однако, кратчайший путь к прославлению – это обретение власти; особенно это относится к тем людям, что активны в общественных делах. Следовательно, желание славы в основном толкает к тем же действиям, что и желание власти, и два этих мотива в большинстве практических обстоятельств могут рассматриваться в качестве одного.
Ортодоксальные экономисты, а также Маркс, который в этом отношении с ними согласен, ошибались, предполагая, что экономический интерес можно считать фундаментальным мотивом социальных наук. Желание товаров, если отделить его от власти и славы, конечно и может быть полностью удовлетворено достаточно скромными навыками. Действительно дорогостоящие желания определяются вовсе не любовью к материальному комфорту. Законодательное собрание, ставшее угодливым в силу коррупции, или частная галерея работ старых мастеров, отобранных экспертами, – вот «товары», что стремятся обрести ради власти или славы, но вовсе не в качестве удобных помещений, где можно спокойно посидеть. Когда достигнута достаточно умеренная степень комфорта, и индивиды, и сообщества начинают стремиться к власти больше, чем к богатству: они и правда могут стремиться к богатству, как способу достижения власти, или же они могут и вовсе забыть об увеличении богатства, чтобы добиться прироста власти, но как в первом случае, так и во втором, их фундаментальный мотив экономическим не является.
Эта ошибка ортодоксальной и марксистской экономики является не просто теоретической, она обладает величайшим практическим значением, и она же привела к тому, что некоторые из главнейших событий недавних времен были поняты неверно. Только если мы поймем, что любовь к власти является причиной деятельности, важной для социальных явлений, можно будет верно истолковать историю, как древнюю, так и современную.
В этой книге я буду заниматься доказательством того, что в социальных науках фундаментальным понятием является власть, в том же смысле, в каком энергия – это фундаментальное понятие физики. Подобно энергии, власть существует в разных формах, таких как богатство, вооружения, гражданская власть, влияния на мнение. Ни одна из этих форм не должна рассматриваться в качестве подчиненной другой, и нет такой формы, из которой выводились бы все остальные. Попытка рассматривать одну определенную форму власти, например богатство, отдельно от всех остальных может привести лишь к частичному успеху, так же как исследование одной определенной формы энергии будет в чем-то ущербным, если не учесть остальные. Богатство иногда возникает из военной власти или же из влияния на мнение, так же как и обе эти формы могут сами проистекать из богатства. Законы социальной динамики – это законы, которые можно сформулировать только в категориях власти, но не в категориях той или иной формы власти. Раньше особое место было у военной власти, и потому казалось, что победа или поражение зависят от привходящих качеств полководцев. В наши дни экономическая власть обычно рассматривается в качестве источника, из которого выводятся все остальные ее разновидности; я же буду доказывать, что это столь же существенная ошибка, как и заблуждение военных историков, которые из-за нее сегодня кажутся устаревшими. Точно так же некоторые люди считают фундаментальной формой власти пропаганду. Это, конечно, далеко не новое мнение, поскольку оно выражалось и в таких традиционных принципах, как «magna est veritas et prevalebit» (истина велика и пребудет в силе) и «кровь жертв – семя Церкви». В нем содержится столько же истины и заблуждения, что и в чисто военном или экономическом взгляде. Пропаганда, если она может создать практически единодушное мнение, способна породить непреодолимую власть; но те, у кого в руках военные или экономические рычаги управления, могут, если они того пожелают, использовать их в целях пропаганды. Если вернуться к аналогии с физикой: власть, как и энергия, должна рассматриваться в своем постоянном переходе из одной формы в другую, и задача социальной науки должна состоять в поиске законов таких трансформаций. Попытка обособить любую из форм власти, и, в частности, как это делается сегодня, экономическую форму, была и остается источником заблуждений величайшей практической важности.
Разные общества во многих отношениях относятся к власти по-разному. Прежде всего, они разняться в той степени власти, которой обладают определенные индивиды или организации; например, очевидно, что в силу роста организованности у государства сегодня больше власти, чем в былые времена. Они различаются, во-вторых, типом наиболее влиятельной организации: так, военный деспотизм, теократия и плутократия – все это весьма несхожие типы власти. В-третьих, они различаются разнообразием способов приобретения власти: наследственное королевство производит один тип человека, возвышающегося над остальными; качества, требуемые от верховного церковника, производят другой тип; демократия – третий, а война – четвертый.
Если нет такого социального института, как аристократия или наследственная монархия, ограничивающего число людей, для которых власть вообще возможна, те люди, которые более всего хотят власти, в целом с наибольшей вероятностью ее и приобретают. Отсюда следует, что в социальной системе, где власть открыта для всех, посты, означающие власть, как правило, будут заниматься людьми, отличающимися от среднего человека своим исключительным властолюбием. Властолюбие, хотя оно и является одним из наиболее сильных мотивов человека, распределяется весьма неравномерно, причем оно ограничивается многими другими мотивами, такими как любовь к удобствам, любовь к удовольствиям, а иногда и любовь к одобрению. У более робких оно маскируется в готовности подчиняться руководителям, что увеличивает размах стремления к власти смельчаков. Люди с недостаточно сильным властолюбием, скорее всего, не окажут значительного влияния на ход событий. Люди, из-за которых в обществе происходят перемены, – это, как правило, и есть те люди, что обладают сильным желанием произвести такие перемены. Следовательно, властолюбие – это качество людей, которые важны как причины. Мы, конечно, ошибемся, если сочтем властолюбие единственным мотивом человека, однако эта ошибка не приведет нас к непомерно большим заблуждениям в поисках причинно-следственных законов в социальной науке, поскольку властолюбие – главный мотив, производящий перемены, которые и должна изучать социальная наука.
Законы социальной динамики – как я буду утверждать – можно сформулировать только в категориях власти, существующей в разных своих формах. Чтобы эти законы открыть, необходимо, прежде всего, отклассифицировать различные формы власти, а потом изучить различные исторические примеры того, как организации и индивиды приобретали контроль над жизнями людей.
В этой книге у меня будет двойная цель – предложить то, что я считаю более надежным, чем в учениях экономистов, анализом социальных перемен в целом, и прояснить настоящее и ближайшее будущее в большей степени, чем способны те, в чьем воображении до сих пор царствует XVIII и XIX век. Во многих отношениях эти столетия были исключительными, и похоже, что теперь мы в некотором смысле возвращаемся к тем формам жизни и мысли, что господствовали в предшествующие им эпохи. Для понимания нашего времени и его потребностей необходима история, и древняя, и средневековая, поскольку только так мы можем прийти к той форме возможного прогресса, над которой не довлели бы аксиомы XIX века.
2
Лидеры и последователи
Стремление к власти имеет две формы: явное – в лидере или предводителе, скрытое – в их последователях. Когда люди добровольно следуют за лидером, они нацеливаются на обретение власти группой, которой он руководит, и в его триумфе они ощущают свой собственный триумф. Большинство людей не чувствуют в себе того умения, которое необходимо для того, чтобы вести их группу к победе, а потому они ищут кормчего, который, как им кажется, обладает отвагой и проницательностью, нужными для достижения превосходства. Это стремление проявляется и в религии. Ницше обвинял христианство в том, что оно насаждает рабскую мораль, однако целью всегда был окончательный триумф. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». В хорошо известном гимне об этом сказано еще откровеннее:
- Сын Божий идет на войну,
- Чтобы царский венец стяжать.
- Веет кровью запятнанный стяг.
- Кто за Ним по стезе его вслед?
- Кто решится испить Его чашу страданий,
- Боль поправ,
- Кто пронесет, терпя, Его крест,
- Тот пойдет по Его стезе[6].
Если это рабская мораль, тогда каждого солдата удачи, сносящего все тяготы военной кампании, или же всякого профессионального политика, вкалывающего на избирательных кампаниях, тоже можно считать рабом. Но на самом деле в каждом действительно совместном предприятии последователь – не более раб, чем лидер.
И именно этим определяется устойчивость неравенств во власти, в силу которых организация неизбежна и которые обычно растут, а не уменьшаются, по мере того как общество становится все более органическим.
В человеческих сообществах, насколько нам известно, всегда существовало неравенство в распределении власти. Это отчасти объясняется внешней нуждой, отчасти причинами, обнаруживаемыми в самой человеческой природе. Большинство коллективных начинаний возможны только в том случае, если ими руководит какой-то управляющий орган. Если надо построить дом, кто-то должен составить проект; если поезда должны ходить по железной дороге, расписание нельзя оставить на усмотрение кочегаров; если требуется проложить новую дорогу, кто-то должен решить, где именно она пройдет. Даже демократически избранное правительство остается правительством, а потому в силу причин, не имеющих ничего общего с психологией, должны существовать, если коллективные начинания вообще стремятся к какому-либо успеху, люди, отдающие приказы, и люди, которые им подчиняются. Однако тот факт, что это вообще возможно, и еще больше то, что реальные неравенства во власти, превосходят те, что необходимы по чисто техническим причинам, может объясняться в категориях индивидуальной психологии и физиологии. Качества некоторых людей заставляют их всегда отдавать приказы, а других – всегда подчиняться; между двумя этими крайностями находится основная масса средних людей, которые предпочитают отдавать приказы в некоторых ситуациях, а в других – подчиняться руководителю.
Адлер в своей книге «Понять природу человека» проводит различие между подчиняющимся типом и властительным. Он утверждает: «Раболепный человек живет по правилам и законам других, этот тип ищет рабского положении едва ли не невольно». С другой стороны, властительный тип – тот, кто задает вопрос «Как я могу стать выше каждого», и такой тип обнаруживается всякий раз, когда требуется руководитель, например, его выносит наверх революция. Адлер считает оба типа нежелательными, по крайней мере в их крайних формах, к тому же он считает их плодом воспитания. «Величайший недостаток авторитарного воспитания, – говорит он, – состоит в том, что оно дает ребенку идеал власти и показывает ему удовольствия, связанные с обладанием властью». Мы могли бы добавить, что авторитарное воспитание производит как рабский тип, так и деспотический, поскольку оно приводит к чувству, что единственное возможное отношение между двумя сотрудничающими между собой людьми состоит в том, что один отдает приказы, а другой им повинуется.
Властолюбие в его различных ограниченных формах имеет едва ли не всеобщий характер, но редко встречается в абсолютной форме. Женщина, пользующаяся властью в управлении своим домом, скорее всего откажется от политической власти, которой пользуется премьер-министр; тогда как Авраам Линкольн, не боявшийся управлять Соединенными Штатами, не мог справиться с гражданской войной у себя дома. Возможно, Наполеон, если бы «Беллерофон» потерпел кораблекрушение, послушно повиновался бы приказам британских офицеров, которые бы руководили загрузкой спасательных шлюпок. Людям нравится власть, пока они считают, что их умений достаточно, чтобы справиться с их теперешними задачами, но, когда они понимают, что несведущи в них, они предпочитают следовать за лидером.
Стремление к подчинению, которое столь же реально и распространено, как и стремление приказывать, коренится в страхе. Шайка ребят, какой бы непослушной она ни была, тут же подчинится приказам знающего свое дело взрослого, если возникнет опасная ситуация, такая как пожар; когда началась Первая мировая, чета Панкхерстов помирилась с Ллойд Джорджем. Всякий раз, когда возникает очевидная опасность, стремление большинства людей в том, чтобы найти Авторитет и ему подчиниться; в такие моменты лишь немногие способны мечтать о революции. Когда разгорается война, люди начинают ощущать схожие чувства к правительству.
Организации не всегда создаются с целью противостояния опасностям. В некоторых случаях такие экономические организации, как рудники, предполагают определенные опасности, но только случайные, и, если исключить их, такие организации процветали бы еще больше. В целом преодоление опасностей не является элементом основных целей экономических организаций или же правительственных организаций, занятых внутренними делами. Однако спасательные шлюпки и пожарные бригады, а также армии и флоты – все они создаются ради преодоления опасностей. В определенном, хотя и менее очевидном, смысле это же относится и к религиозным организациям, существование которых отчасти объясняется тем, что они должны сгладить метафизические страхи, скрывающиеся в глубинах самой нашей природы. Если это у кого-то вызывает вопрос, пусть он вспомнит о таком, например, гимне:
- Скала веков, откройся мне,
- Дай мне спастись в твоей глуби;
- Иисус, любовь моей души,
- Позволь припасть к твоей груди,
- Пока бурлит вокруг поток,
- Пока бушует буря[7].
В подчинении божественной воле присутствует чувство предельной безопасности, которое привело к религиозному самоуничижению многих монархов, которые не могли подчиниться какому-либо чисто земному существу. Любая покорность коренится в страхе, кем бы ни был лидер, которому мы подчиняемся – человеком или Богом.
Общим местом стало то, что агрессивность часто коренится в страхе. Я склонен считать, что эта теория заходит слишком далеко. Она объясняет определенный тип агрессивности, например, Д. Г. Лоуренса. Но я сильно сомневаюсь в том, что люди, становящиеся вожаками пиратов, наполнены обращенным в их собственное прошлое ужасом перед отцами или что Наполеон на поле Аустерлица действительно ощущал то, что сводит счеты со своей матерью. Мне ничего не известно о матери Атиллы, но я предполагаю, что она скорее баловала своего сынка, который впоследствии стал считать весь мир источником раздражения, если этот мир порой противился его капризам. Тот тип агрессивности, который проистекает из робости, по моему мнению, не служит источником вдохновения для великих лидеров; они, я должен сказать, обладают исключительной самоуверенностью, которая не только заметна на поверхности, но и проникает глубоко в их бессознательное.
Причины для самоуверенности, необходимой для лидера, могут быть разными. Исторически одной из наиболее распространенных было наследование руководящего положения. Почитайте, например, речи королевы Елизаветы, произнесенные ею в моменты кризиса, и вы поймете, что монарх берет верх над женщиной, убеждая ее, а через нее и всю нацию, в том, что она знает, что нужно делать, на что не смог бы надеяться ни один простолюдин. В ее случае интересы нации совпадали с интересами суверена; вот почему ее называли «Доброй королевой Бесс». Она могла хвалить даже своего отца, не вызывая негодования. Нет сомнения в том, что привычка повелевать облегчает бремя обязанностей, позволяя принимать быстрые решения. Клан, который подчиняется своему наследственному вождю, скорее всего, успешнее, чем если бы он выбирал его жеребьевкой. С другой стороны, такая организация, как средневековая церковь, которая выбирала своего главу на основе вполне очевидных заслуг, причем обычно после того, как он успел набраться значительного опыта на важных руководящих постах, в среднем добивалась намного лучших результатов, чем те, что показывали в тот же период наследственные монархи.
Некоторые из наиболее умелых лидеров, известных нам из истории, поднялись в революционных ситуациях. Рассмотрим, к примеру, качества, которые подарили успех Кромвелю, Наполеону и Ленину. Все они добились господства в своих странах, переживавших сложные времена, и смогли заставить служить им способных людей, которые по своей природе не отличались покладистостью. Все они обладали безграничной отвагой и самоуверенностью, сочетавшейся с тем, что их товарищи считали здравым суждением, необходимым в тяжелое время. Однако из этих трех Кромвель и Ленин относятся к одному типу, а Наполеон – к другому. Кромвель и Ленин были людьми глубокой религиозной веры, которые считали самих себя наместниками, призванными исполнить нечеловеческую задачу. Поэтому их влечение к власти казалось им самим безусловно праведным, и им были не слишком важны награды, проистекающие из власти, такие как роскошь и комфорт, которые нельзя было согласовать с их личным полным отождествлением с космической задачей. Особенно это относится к Ленину, поскольку Кромвель в последние свои годы осознавал, что впал в грех. Тем не менее в обоих случаях именно сочетание веры с огромной способностью – вот что наделяло их мужеством, позволяя им наполнять своих последователей уверенностью в том, что именно они должны быть вождями.
Тогда как Наполеон, в отличие от Кромвеля и Ленина, – высший пример солдата удачи. Революция вполне ему сгодилась, поскольку она открыла для него перспективы, но во всем остальном он был к ней равнодушен. Хотя он пестовал французский патриотизм и сам от него зависел, Франция, как и Революция, была для него всего лишь удачной возможностью; в молодости он даже заигрывал с идеей сражаться на стороне Корсики против Франции. Его успех был обусловлен не столько исключительными качествами его характера, сколько его техническим умением вести войну: он одерживал победу там, где другие люди потерпели бы поражение. В ключевые моменты, такие как 18 брюмера и битва при Маренго, его успех зависел от других людей; но он обладал замечательным талантом, позволявшим ему присваивать успехи своих подручных. Французская армия была полна амбициозных молодых людей; и именно ум Наполеона, а не его психология – вот что дало ему власть, позволившую добиться успеха там, где другие потерпели поражение. Его вера в собственную звезду, которая в конечном счете привела его к падению, была следствием его побед, а не их причиной.
Если вернуться к нашим дням, Гитлера в плане психологии можно отнести к одной группе с Кромвелем и Лениным, а Муссолини – с Наполеоном.
Солдат удачи или вожак пиратов – более важный для истории тип, чем считают «научные историки». Иногда он, как Наполеон, добивается успеха в том, что становится руководителем групп людей, цели которых отчасти безличны: французские революционные армии считали себя освободителями Европы, и так же на них смотрели в Италии и в значительной части Западной Германии, однако сам Наполеон никому не давал больше свободы, чем было полезно для его собственной карьеры. Очень часто никто и не делает вид, что есть какие-то безличные цели. Возможно, Александр собирался эллинизировать Восток, но вряд ли его македонцы серьезно интересовались этим аспектом его кампаний. Римские полководцы в последние сто лет Республики в основном охотились за деньгами, а лояльность своих солдат подкрепляли раздачей земель и богатств. Сесиль Родс заявлял о мистической вере в Британскую империю, однако его вера приносила хорошие дивиденды, а военным, набранным для завоевания Матабелеленда, предлагались чисто денежные стимулы. Организованная жадность, если и прикрытая, то незначительно, играла значительную роль в войнах по всему свету.
Обычный спокойный гражданин, как мы уже сказали, когда он подчиняется лидеру, в основном руководствуется страхом. Однако вряд ли это относится к шайке пиратов, если только у них нет возможности заняться более мирной профессией. Когда авторитет лидера установлен, он может внушать бунтовщикам страх; но пока он не стал лидером и пока не признан в таком качестве большинством, он не в том положении, чтобы внушать страх. Чтобы приобрести положение лидера, он должен отличиться качествами, наделяющими авторитетом, – самоуверенностью, быстротой решений, умением применять правильные меры. Лидерство носит относительный характер: возможно, Цезарь заставил Антония ему подчиниться, однако никому другому это не удалось. Большинство считает, что политика сложна и что им лучше следовать за лидером, причем они ощущают это инстинктивно и неосознанно, так же как собаки чувствуют своего хозяина. Если бы это было не так, коллективное политическое действие вряд ли вообще было бы возможно.
Таким образом, властолюбие, выступающее мотивом, ограничивается робостью, которая ограничивает также и желание самоуправления. Поскольку власть позволяет нам исполнить больше желаний, чем в ином случае, когда бы такой власти не было, и поскольку она приносит почтение, оказываемое нам другими, вполне естественно желать власти, если не считать случаев, когда верх берет робость. Такая робость сглаживается привычкой к ответственности, тогда как ответственность обычно повышает желание власти. Опыт жестокости и неприветливости может увести в обе стороны: у тех, кого легко запугать, он вызывает желание избежать надзора, тогда как более смелых людей он поощряет искать такое положение, в котором они могут жестоко относиться к другим, но не страдать от чужой жестокости.
После анархии естественный первый шаг – это деспотизм, поскольку он упрощается инстинктивными механизмами господства и подчинения; примеры обнаруживались в семье, государстве и деловых предприятиях. Равное сотрудничество намного сложнее деспотизма, к тому же оно намного меньше соответствует инстинкту. Когда люди желают достичь равного сотрудничества, для них естественно стремиться к полному господству, поскольку в эту игру не привносятся стремления подчиниться. В таком случае все заинтересованные стороны почти всегда обязаны признать общую лояльность чему-то, внешнему для всех них. В Китае семейные фирмы часто добиваются успеха благодаря конфуцианской лояльности семье; однако безличные акционерные компании нередко разоряются, поскольку ни у кого из акционеров нет довлеющего мотива, который бы заставил относиться к другим честно. Там, где правление осуществляется на основе обсуждения, для достижения успеха необходимо общее уважение закона, нации или же какого-то принципа, который почитают все стороны. У квакеров (в Обществе друзей), когда приходится принимать решение по спорному вопросу, не проводят голосования и не подсчитывают большинство голосов: члены общества ведут обсуждение, пока не придут к «чувству собрания», которое раньше считалось признаком воздействия Святого Духа. В этом примере мы имеем дело с необычайно однородным сообществом, но без определенного уровня однородности никакое правление на основе дискуссии невозможно.
Чувство солидарности, достаточное для того, чтобы стало возможным правление на основе обсуждения, можно без особых трудностей создать в семье, такой как семья Фуггерсов или Ротшильдов, или в небольшом религиозном корпусе, таком как квакеры, в варварском племени или нации, находящейся в состоянии войны или столкнувшейся с опасностью войны. Однако едва ли не необходимым оказывается в таких случаях внешнее давление: члены той или иной группы держатся друг за друга из страха того, что останутся поодиночке. Общая опасность – наипростейший способ получения гомогенности. Это, однако, не дает решения проблемы власти в мире в целом. Мы желаем предотвратить опасность, например войну, что в настоящий момент служит причиной солидарности, однако мы не желаем уничтожить социальное сотрудничество. Эта проблема сложна как в психологическом плане, так и политическом, и если бы мы могли судить по аналогии, она если и может решиться, то разве что первичным деспотизмом той или иной нации. Свободное сотрудничество наций, сегодня привычных к праву вето, столь же сложно, как и сотрудничество в рамках польской аристократии до разделения Польши. Вымирание в обоих случаях может показаться предпочтительнее здравого смысла. Человечество нуждается в правительстве, однако в тех регионах, где преобладала анархия, люди первоначально могут подчиниться лишь деспотизму. Поэтому мы должны стремиться сначала установить правительство, пусть и деспотическое, и только тогда, когда правительство станет привычной реалией, мы можем надеяться на его последующую демократизацию. «Абсолютная власть полезна для создания организации. Более медленным, но не менее надежным является развитие социального давления, требующего того, чтобы власть использовалась во благо всех заинтересованных сторон. Такое давление, неизменно присутствующее в церковной и политической истории, начинает проявляться и в экономической сфере»[8].
Пока я говорил о тех, кто отдает приказы, и тех, кто им подчиняется, но есть и третий тип, а именно те, что самоустраняются. Это люди, которым хватает смелости отказаться подчиняться, но они не обладают властностью, которая подзуживает желание командовать. Такие люди плохо встраиваются в социальную структуру и так или иначе пытаются найти убежище, где они могли бы наслаждаться свободой, в более или менее полном одиночестве. Иногда люди с таким темпераментом играли важную историческую роль; две разновидности этого рода представляют собой первые христиане и американские пионеры. Иногда убежище является исключительно психическим, иногда физическим; в некоторых случаях оно требует полного одиночества отшельника, в других – социального одиночества монастыря. Среди людей, нашедших психическое убежище, есть те, что принадлежат различным подпольным сектам, те, чьи интересы поглощаются невинными модами, и те, кто увлечены малопонятными и малозначительными формами эрудиции. Среди физических беженцев – люди, которые стремятся к фронтиру цивилизации, а также такие исследователи, как Бейтс, «натуралист Амазонки», который прожил пятнадцать счастливых лет вне всякого общества, не считая индейцев. В какой-то мере настрой отшельника может быть важным для различных форм совершенствования, в частности он позволяет людям сопротивляться зову популярности, продолжать важную работу, несмотря на всеобщее безразличие или враждебность, приходить к мнениям, противоположным господствующим заблуждениям.
Некоторые из людей, которые самоустраняются, не безразличны в подлинном смысле этого слова к власти, они просто не способны добиться ее обычными методами. Такие люди становятся святыми или ересиархами, основателями монашеских орденов или же новых школ в искусстве и литературе. В роли учеников они привязывают к себе людей, которые сочетают в себе любовь к подчинению со стремлением бунтовать; последнее служит заслоном ортодоксии, тогда как первая ведет к некритическому усвоению новых принципов. Эту закономерность иллюстрирует Толстой и его последователи. Подлинное одиночество абсолютно другое. Совершенный пример такого типа – меланхоличный Жак из комедии Шекспира «Как вам это понравится», который отправляется в изгнание с добрым Герцогом ради самого изгнания, а позже предпочитает остаться в лесу с дурным Герцогом, нежели вернуться ко двору. Многие американские пионеры, долго страдавшие от лишений и суровой жизни, продавали свои фермы и уезжали дальше на Запад, когда цивилизация их нагоняла. Людям такого темперамента мир дает все меньше возможностей. Некоторые уходят в преступность, другие склоняются к мрачной антиобщественной философии. Избыточные контакты с другими представителями человеческого рода порождают в них мизантропию, которая, когда одиночество недостижимо, естественным образом обращается в насилие.
Среди же робких организация складывается не только благодаря подчинению лидеру, но также и благодаря спокойствию, ощущаемому в силу того, что ты один из толпы людей, которые все чувствуют примерно одно и то же. На воодушевленном общественном собрании, цели которого ты симпатизируешь, возникает чувство экзальтации, сочетающееся с общим ощущением теплоты и безопасности: разделяемая людьми эмоция становится все более сильной, пока не вытеснит все остальные чувства, за исключением острого ощущения власти, производимого умножением каждого частного эго. Коллективное возбуждение – сладчайший яд, благодаря которому легко забыть о здравомыслии, человечности и даже самосохранении, так что под его воздействием равно возможны как чудовищные по своей жестокости бойни, так и героические жертвоприношения. Подобному виду опьянения, как и другим, сложно сопротивляться, когда хотя бы раз испытал от него наслаждение, но в конечном счете оно ведет к апатии и изможденности, к необходимости все более сильных стимулов, которыми только и можно вернуть былой пыл.
Хотя лидер не столь необходим для такой эмоции, которая может создаваться музыкой, а также некоторыми волнующими событиями, наблюдаемыми толпой, слова оратора – самый простой и обычный метод ее пробуждения. Следовательно, удовольствие от коллективного возбуждения – важный элемент власти лидеров. Лидеру не обязательно разделять чувства, которые он возбуждает; он может сказать себе, подобно Антонию у Шекспира:
- Я на ноги тебя поставил, смута!
- Иди любым путем.
Но лидер вряд ли добьется успеха, если он не обладает властью над своими последователями. Поэтому он предпочтет ту ситуацию или тот вид толпы, который облегчает его успех. Наилучшая ситуация – та, в которой есть достаточно серьезная опасность, чтобы люди в сражении с ней чувствовали прилив смелости, но не настолько ужасающая, чтобы страх стал преобладающим чувством – такова, к примеру, ситуация начала войны с врагом, который считается опасным, но не непобедимым. Умелый оратор, когда он желает пробудить воинственные чувства, создает в своей аудитории два слоя убеждений: поверхностный слой, в котором сила врага преувеличивается, чтобы действительно необходимым показалось великое мужество, и более глубокий слой, в котором присутствует твердая уверенность в победе. Оба чувства воплощены в таком лозунге, как «правда совладает над силой».