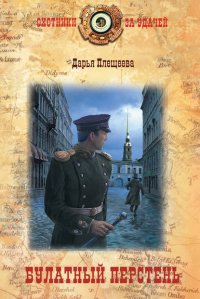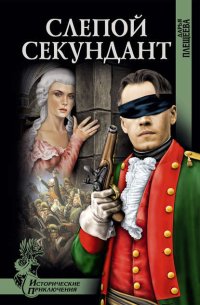Читать онлайн Соловецкие бойцы бесплатно
- Все книги автора: Дарья Плещеева
© Плещеева Д., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Глава 1
– И кто ты есть? Нет, ты мне ответствуй – кто ты есть? – требовал первой гильдии купец Африкан Гаврилович Торцов. – Как на тебя поглядеть – так ты есть дармоед и бездельник! Сущий бездельник! Нечто это ремесло – французскому языку учить? Ремесло – вот, у ювелира Вишневского в руках ремесло, так оно его кормит-поит, дай бог всякому. Вон у Алексея Александровича ремесло – все законы превзошел, к нему люди с подношениями идут, оно его кормит. И как еще кормит! А, Алексей Александрович?
– Грех жаловаться, Африкан Гаврилыч, вашими щедротами сына в полку содержу, – подтвердил стряпчий.
Он уже лет пятнадцать исполнял поручения матерого купчины, ни в чем ему не противоречил, пару раз спас его от опрометчивых поступков, и за то его Торцов приблизил к своей особе, считая чуть ли не домочадцем. Даже пошел в крестные отцы к внучку Алексея Александровича – сам вызвался.
Огромный Торцов, сам – рыжий и с рыжей бородищей, и длинный тонкий стряпчий Никаноров гляделись на вид презабавной парочкой, но не до смеха было тому, против кого они объединяли усилия, причем на самой грани законности.
– Так ты же мне и служишь, Алексей Александрович! На совесть служишь! Да у моего конюха Антипки – и то ремесло! Я его прогоню – так он в тот же день к Антроповым наймется, или к Савицким, или к Багровым, под белы рученьки его на конюшню поведут, по ковровой дорожке, потому – он конское слово знает, его кони любят! Знаешь, как его ремесло кормит? Не знаешь? Скажи ему, Алексей Александрович.
– Господин Торцов при мне вексель Антипу подписал, что обязуется в день его, Антипова, венчания выплатить ему в дар сто рублей серебром, – подтвердил старый стряпчий. – И за дело. Таких холеных коней, как у господина Торцова, во всей Вологде нет.
– Вот то-то же! А ты? Никчемный ты человечишка! Я без коней прожить не смогу, потому – мое брюхо на дрожках или там на санях возить надобно, а без французского языка и деды мои, и прадеды век прожили, добра нажили, да и я проживу! И Лизка моя без французского языка замуж выйдет, вон – Олимпиада моя Кондратьевна хвалилась: свахи проходу не дают, двор мой в осаду взяли, вот отдадим Аграфену – Лизкина очередь настанет.
Гриша опустил взгляд, боялся и в лицо Торцову смотреть, а видел только знатное брюхо, расстегнутый жилет и мятую рубаху. Да еще – толстенную золотую цепь, которая тянулась в кармашек к дорогому хронометру.
– Жених! Ты на себя глянь! Ножонки у тебя – как ниточки, срам смотреть! Как у воробья ножонки! Вот – нога! – Торцов похлопал себя по мощной ляжке. – Ты на сюртучишко свой глянь! В таком сюртучишке только в золотари наниматься, с бочкой ездить да отхожие места чистить! Мало ли я тебе за уроки платил? Ходишь ко мне в обносках, мой дом позоришь. Ну?!
– Африкан Гаврилович, я матушку содержать должен… ей посылаю… – пробормотал Гриша.
– Матушке много ли надо? Скажи уж прямо – ленив и бездельник природный! А туда же, в женихи метишь! К кому? Ко мне, к Торцову! Да тебе и свахе-то заплатить нечем, так ты вон что выдумал – сам себе сваха! Супружница у Лизки все твои цидулки нашла, вчера мы вслух читали – я ржал, как жеребец стоялый!
– Не вините Лизавету Африкановну, она еще дитя, – сказал стряпчий. – Дитяти лестно, когда ему амурные цидулки шлют.
– Шестнадцать, семнадцатый – какое еще дитя? Ее матушку по пятнадцатому году за меня отдали. Да я на Лизку не сержусь. Велел только башмаки у нее забрать, все, чтобы из дому – ни ногой. Лизка – дурочка, да господин Чарский – не дурак! Смекнул, какое приданое может за девкой взять. Что, нет? Да что ж ты стал в пень?!
– Я всем сердцем люблю Лизавету Африкановну! – выкрикнул Гриша, возмутившись тем, что его упрекнули в корыстных намерениях.
– Ого! Экий ты у нас любитель! А коли отдам Лизку без приданого – возьмешь? И чем кормить будешь? Измаранными тетрадками?
– Африкан Гаврилыч, будет тебе, – ласково, будто малому дитяти, сказал стряпчий. – Господин Чарский все понял и впредь к тебе в дом жаловать не изволит. А что ты ему должен – Митька в гимназию отнесет.
Сильно не понравилось лицо молодого учителя опытному Никанорову. Он видел, что еще немного – и Гриша впадет в безумие. А безумие кроткого, почти бессловесного и небогатого человека может оказаться очень опасным. Стряпчий же, недавно уладивший очередную шалость Торцова, спьяну усадившего в трактире полового Степана задом в тарелку со щами, очень не хотел разгребать новые купеческие подвиги.
– Да и приплачу, лишь бы его постную рожу тут больше не видеть! – Купчина фыркнул. – Правду бабы говорят, последние времена настали. Бездельникам деньги платят за то, что они не по-нашему лопотать учат. Тоже мне труд! Что молчишь? Да всякий мужик, что сам землю пашет и боронит, достойнее тебя, бездельника! Посватается мужик, у которого свой двор, крепкое хозяйство, – так за него Лизку отдам, коли он еще и собой хорош, понял? Коли плечищи – во! Ручищи – во! Есть чем девку мять! А Лизка из моей воли не выйдет! И сама же довольна останется! Ты хоть лопату когда в руках держал? Вилы, грабли? Хоть что-то потяжелее гусиного перышка? Да и по роже вижу, что нет. Одно слово – никчемный человечишка. Тьфу, надоел. Пошел вон.
Никаноров отлично понимал, отчего так хорохорится Африкан Гаврилович перед человеком, чье мнение ему безразлично. Можно было, как делается у светских людей, отослать ему деньги за уроки и на словах передать, что впредь в дом пускать не велено. Торцов же устроил целый театр для одного зрителя, и зрителем был отнюдь не учитель из гимназии, зрителем был он сам, Торцов. Он сам себе доказывал, что все еще силен, могуч, богат, всевластен. И точно – денег на содержание дома и семейства, на хороших лошадей и шалости в трактирах еще хватало. А почему? Потому, что купец, не желая показаться всей Вологде нищим, потихоньку брал деньги из оборота.
Слава Вологды осталась в прошлом. Когда дед и отец Торцова зарабатывали тут капиталы, торгуя лесом и всем, что требовалось Европе, единственной возможностью отправить туда товар было – отправить водой до Архангельска, а там перегрузить на корабли. Но более двадцати лет назад был прорыт Вюртембургский канал, соединивший Шексну и озеро Кубенское. Казалось бы, вот водный путь, по которому можно пройти из Волги в Белое море, вот они, живые денежки! Но канал вошел в Мариинскую водную систему, а это – путь из Волги к Санкт-Петербургу. Естественно, петербургские коммерсанты перетащили к себе все грузы, до которых дотянулись, а для иностранцев плаванье по Балтике было куда приятнее плаванья по северным холодным морям.
Упрямый Торцов держался за Архангельский порт, поставлял зерно и прочие припасы монастырям и малым городкам на Сухоне и Двине, что-то и в Европу уходило, но это были не те доходы, которые ему грезились. И если бы кто заглянул в его бухгалтерию, то был бы сильно озадачен – упрямый и хвастливый купец потихоньку проедал деньги, которым следовало быть вложенными в дело, лишь бы вологжане не заподозрили, что не все у него так прекрасно, как снаружи кажется.
Вологда же пустела, жители разбегались. Хотя уже было все для прекрасной жизни, включая театр, светскими забавами коммерции не заменишь…
– Идем, идем, вместе выйдем, – тихо сказал стряпчий Грише. И, поскольку молодой учитель окаменел, взял его за плечо и попросту вытолкал из гостиной.
– Я не могу! – вдруг воскликнул Гриша. – Я должен объяснить!..
– Кому? Ей? Да вас, сударь мой, к ней теперь и на пушечный выстрел не подпустят. И что за блажь – толковать незамужней девице о любви? Коли угодно – на то замужние дамы есть, вдовы есть, они это понимают и любят. А вы – Лизаньке! Я чаю, она даже не поняла, что вы ей там в своих цидулках понаписали.
– Она отвечала мне…
– Этого еще недоставало. И ведь, небось, сохранили? Сожгите немедля. Господин Торцов, боже упаси, дознается – надает девушке оплеух. Идем же, идем, вам тут больше делать нечего. И Бога молите, чтобы господин Торцов по всему городу шум не поднял. Тогда вам и в тех немногих домах, где даете уроки, откажут.
– Он – сатрап и тиран…
Стряпчий под локоток доставил Гришу до дверей и буквально выволок на улицу.
Когда дверь за ними захлопнулась, Никаноров отпустил сюртучный локоть и перекрестился – кажись, удалось угасить скандал.
– Как же я без нее? – жалобно спросил Гриша. – А он отдаст за такого же пузана, только бы тот был первой гильдии купцом или фабрикантом! А о том, что у нее могут быть чувства!..
– Да какие чувства? И вы тоже хороши. Ну, нашли же вы, Григорий Семенович, с кем о любви толковать, – хмуро сказал Никаноров. – Все сами погубили. Да лучше бы вы ему признались: за приданым-де гонюсь! Он бы посмеялся, покричал, да не обозлился. Это ему было бы хоть понятно. А сейчас – зол. Вам бы тут более не показываться да дурацких цидулок Лизавете Африкановне не слать. С него ведь станется и дворовых псов на вас спустить.
– Эй, эй! Любитель!
Стряпчий и учитель разом подняли головы. В распахнутом окне воздвигся Торцов. Рыжая борода лихо торчала и в солнечных лучах полыхала пламенем.
– Слушай, чего скажу! Пойдешь на год трудником в какую ни есть монашескую обитель, мозольки на белых ручках наживешь, так я, может, и сменю гнев на милость! – Купец расхохотался. – Да куды тебе! Кишка тонка! Это не цидулки девкам писать! Там – каменья ворочать! В лесу делянки расчищать!
Гриша, не желая слушать издевки, быстро зашагал прочь.
– А то – на Соловки! Там, сказывали, трудники нужны! По-ез-жай на Со-лов-ки!!! До-ро-га за мой счет!
– Не полез бы в петлю, – сказал стряпчий. – Зря ты так, Африкан Гаврилыч.
– А и полезет – невелика потеря. Возвращайся! У нас пообедаешь!
Это было приказанием, и Никаноров вернулся в дом. У Торцовых кормили без затей, да сытно: сам всем разносолам драчену предпочитал, жареного гуся, зимой – щи с солониной, летом – простую ботвинью. Стряпчий же любил плотно поесть, хотя на теле жир не откладывался. Да и было о чем поговорить при перемене блюд и после, когда хозяин угостит хорошей сигарой.
Гриша шел, и шел, и шел, думая именно о том, что беспокоило Никанорова: о крепкой веревке и подходящей ветке в саду или в лесу. Отчего-то ему казалось, что лучше проделать это под открытым небом, а не в помещении.
– Да, я жалок, да, я ничтожен, – шептал он, не замечая, что от него шарахаются прохожие. – Да, я – не человек, я – человечишка…
Ноги сами несли его, несли и как-то вынесли на Малую Благовещенскую. Это была приятная зеленая улица, с неизбежными вологодскими березками, народу в такое время там гуляло немного. Гриша остановился возле почтенного двухэтажного каменного дома и задумался – что-то с этим домом было связано…
Он заглянул во двор и все понял.
Там, во дворе, сидел перед мольбертом маленький кудрявый седовласый старичок в халате и малиновой бархатной ермолке, вдохновенно кидал на холст мазки, и лицо было совсем осмысленное.
– Врут же про него… – сам себе сказал Гриша и вошел во двор.
– Позвольте выразить вам свое уважение, Константин Николаевич, как светилу поэзии русской… – тихо сказал он старичку.
– Лошадка, – ответил старичок и указал на свою картину.
Там паслась на темном, почти черном лугу белая лошадь, щипля травку у подножия могильного креста, вдали стоял окруженный разноцветными деревьями рыцарский замок. Сбоку виднелся кусок моря с кораблями, в небе плавала бледная луна.
– О Господи… – прошептал Гриша.
Внезапная надежда оказалась тщетной. Поэт Батюшков, друг самого Пушкина, талант прекрасный и неповторимый, безнадежно сошел с ума. Говорили, раньше буйствовал, теперь вот успокоился, кротко сидит перед мольбертом и малюет лошадок.
– А хорошо бы… – сам себе сказал Гриша и пошел прочь.
Он думал – и впрямь, хорошо бы укрыться в безумие. Вот достойный приют для жалких и никчемных. Там нет ни наглых гимназистов, ни начальства, ни купца Торцова. Поместят в богаделенку, там как-нибудь прокормят. Матушку жаль, ну да и ей место в богадельне для чиновничьих вдов найдется. Безумие – желанный приют для человека, которому незачем жить.
– Чарский, стой!
Гриша обернулся. К нему спешил товарищ – Борис Шеметов, преподававший в той же гимназии математические науки и географию.
Борис был на два года старше, недавно женился, взял хорошее приданое и выглядел как человек, который совершенно доволен и жизнью, и самим собой.
– Ты отчего сегодня занятия пропустил? – спросил, подойдя, Борис. – Директор ругался.
– Да пошел он к черту!
– Чарский, что стряслось? Ну, говори живо!
– Ничего.
– Да я ж вижу – стряслось! Идем ко мне. Жена на весь день к сестре убралась, сестра у нее рожает. Идем, говорю тебе! Ишь, чего выдумал – директора к черту посылать. С голоду умереть, что ли, решил?
Борис чуть ли не силком затащил Гришу к себе, а там, как говорил преподававший Закон Божий отец Никодим, разверзлись хляби небесные – Гриша заговорил.
Он долго молчал о том, как влюбился в Лизаньку Торцову, как писал ей письма, как получил наконец и от нее короткую записочку, и вторую, и третью, как неопытная девушка прятала его послания на дне шкатулки с рукодельем, где они и были найдены матерью и старшей сестрой.
– Так что тиран и деспот Торцов изгнал тебя навечно? – спросил Борис. – Сдается мне, правильно сделал. Вот увез бы ты Лизаньку, повенчались бы где-нибудь в Шексне, а потом? Думаешь, он бы тебя принял с ней, прослезился и посадил ваше семейство себе на шею? Держи карман шире! Он, поди, для дочки уже московского жениха присмотрел. Больно ему нужен нищий учитель. Жениться, брат, надо по уму, вот как я.
– Мне без нее не жить, – ответил на это Гриша.
– Тебе сколько лет?
– Двадцать три стукнуло.
– В такие годы пора бы и поумнеть. А вот что – выпьем-ка мы мадерцы!
Мадера и спасла Грише жизнь и рассудок. Была она из тех сортов, что по карману гимназическому учителю, то бишь изготавливалась в неведомых московских подвалах, но пьянила неплохо. Гриша пил, плакал, читал наизусть стихи поэта Тютчева и наконец уснул на диване.
Утром Борис повел его в гимназию – каяться перед директором, врать насчет несварения желудка и молить о пощаде. Похмельному Грише уже было все равно.
А у дверей гимназии он увидел знакомые дрожки и знакомого кучера Тимофея. Но не купец Торцов вылез оттуда, а парнишка Митька, служивший у него в лавках. Отправить Митьку с издевательским поручением на собственных дрожках – это было вполне в торцовском вкусе.
– Вот, хозяин велел отдать, – сказал Митька и вручил конверт.
Гриша отстранил конверт дрожащей рукой, но Борис не позволил отказаться.
– Торцов тебе за уроки денег должен, бери, не корчи из себя святую невинность. И моли Бога, чтобы он по всему городу о твоем романе не раззвонил. Тогда и вовсе без уроков останешься.
Гриша вскрыл конверт и обнаружил там, кроме сорока пяти рублей ассигнациями, еще записку.
«Как обещано – на дорогу до Соловков», – гласила та записка.
За уроки причиталось двадцать пять рублей, остальное, выходит, вроде милостыни? Подачка нищему, у которого и червонца на дорогу не найдется? Так что – швырнуть эти деньги купцу в лицо?
Он, поди, там, у себя, смеется: ни на какие Соловецкие острова «любитель» не поедет, кишка тонка, пусть хоть с горя пропьет…
Гриша расхохотался таким смехом, что Борису и Митьке жутко сделалось. И выкрикнул:
– Передай сатрапу и самодуру – деньги на дорогу до обители честно употреблю! Да! Мог бы в рожу ему швырнуть! Потому что – заработанное приму, вот эти – заработанные…
Он отделил от тонкой пачки ассигнаций несколько бумажек.
– Этих же не заработал. Но – нет! Употреблю! Шеметов, пусти! За дорогу уплачено! И я туда отбываю! Пропади все пропадом!
Митька, пятясь, вернулся к дрожкам. В глазах у него читалась страшная мысль: «Батюшки, спятил!» Дрожки укатили.
Гриша стоял, не двигаясь и тяжело дыша. Решение было принято.
– Послушай, Шеметов, окажи услугу – вызови ко мне отца Никодима, – попросил он.
Этот священник преподавал в гимназии Закон Божий и хорошо ладил с молодыми учителями. Гриша полагал, что он даст ценный совет и касательно Соловецких островов.
– Так ступай и сам его ищи.
– Нет. Я туда более не вернусь.
– Ты сдурел?
– Нет. А просто не вернусь.
– Помрешь с голоду.
– Значит, такая моя планида.
Тут до Бориса дошло, что Гриша и впрямь собрался на Соловки.
– Да какой из тебя трудник?! Ты на себя-то погляди! Ты ж там в первый же день дуба дашь! Окочуришься! Труднику и пахать, и за скотиной ходить, и бревна таскать надо, когда в обители что строят, а ты? Да тебя же соплей перешибешь!
Борис полагал, что грубые слова вразумят Гришу. Не тут-то было. Худенький, костлявенький Гриша, как внезапно оказалось, был упрямее барана.
Он вдруг понял, что ничего ценного в Вологде не оставляет. Имущества – мало, только одежда и книжки. Ремесло – осточертело, и на Соловках уж точно нет непослушных гимназистов, которые пуляют из трубочек шариками жеваной бумаги и подкладывают кнопки на учительский стул, нет там и так называемых коллег – преподавателей, которые со всем смирились и ничего нового знать не желают. Что же до любви… Так любовь – она в сердце, или в душе, или где ей быть полагается. В этом жилище, как в экипаже, она и поедет в Соловецкую обитель!
Потом отец Никодим объяснил Грише, как отправляются в паломничество на Соловки.
– Год трудником – это ты хорошо придумал. Мозги прочистятся, всякую дрянь из головы как метлой выметет, – сказал он. – Есть у меня знакомец, странник Вася, божий человек. У него такое занятное ремесло – он тех, кто хочет потрудиться на Соловках во славу Божию, туда водит. Собирает здесь, в Вологде, чуть ли не роту и ведет. Он уж знает, где в пути ночевать и чем кормиться. Его недавно у нас видели. Странно, конечно, что теперь – скоро похолодает не на шутку, дожди польют, не время для пешего хождения. Думаю, вскоре Васенька и у меня объявится, мы приятели. Мимо не пройдет! Могу оказать протекцию. Коли ты все обдумал и точно решился.
– Точно, – твердо сказал Гриша.
Так и вышло, что он отправился в Соловецкую обитель – исполнять данное слово, выбрасывать из головы все лишнее и забывать хорошенькую рыженькую Лизу. Даже не взял с собой бирюзовую ленточку, которую однажды выпросил у нее и берег, как святыню, потому что Лизанька в волосах эту ленточку носила.
Ленточку эту он пустил из окошка по ветру…
Послание директору гимназии передал Борис Шеметов – Гриша даже не желал более переступить ее порог. Тот же Борис принес записочку – преподавателю господину Чарскому было велено завтра же явиться на занятия, не то его оштрафуют и вычтут штраф из жалованья. Гриша был в том состоянии, когда гнев начальства значения не имеет. Клочья записки улетели по ветру вслед за ленточкой.
Странник Василий Игнатьевич ему понравился. Роста среднего, худощав и плечист. Голос тихий и ласковый, улыбка – приветливая, взгляд темно-карих глаз – понимающий, лишних вопросов – ни единого. Возраст странника Гриша определил – от сорока до сорока пяти, поскольку в черной бороде и слегка вьющихся черных волосах уже появились серебряные ниточки.
Масть была самая цыганская, а вот лицо – нет. Лицом Василий Игнатьевич сильно смахивал на француза, точнее сказать – на сочинителя Мольера, чей гравированный портрет Гриша не раз видел в книжках.
По указанию опытного странника Гриша взял с собой в мешке всю теплую одежду, а также отдал Василию Игнатьевичу почти все наличные деньги – потому что странник обещал наладить кормежку из общего котла, платить за проезд и прочие услуги. Потом они вместе пошли на торг и взяли Грише теплые серые коты, две добротные холщовые рубашки, которым сносу нет, от стирки лишь мягче становятся, валенки, холщовый кафтан-балахон, долгополый серый армяк из домотканого сукна. Все это было недорого и непривычно.
– Я бы вас пешком повел, пешее хождение очень дух смиряет, – сказал Василий Игнатьевич. – Но в этом году я припозднился. Сентябрь на исходе, чем дальше на север – тем ночи холоднее, и не пришлось бы брести к Архангельску по колено в снегу. Так что поплывем на барке, я сговорился. Тоже хорошо – глядишь, как берега мимо проплывают, молчишь, молишься, думаешь… Ничего, быстро добежим!
Накануне отплытия Гриша рассчитался с квартирной хозяйкой и отнес книги с кое-каким имуществом Борису. Тот в последний раз попытался отговорить – не удалось. Одного Борис добился – чтобы Гриша на всякий случай взял с собой партикулярное платье, сюртук с панталонами и жилеткой, мало ли что. Утром Гриша отправился к месту сбора – к Предтеченской церкви.
До сих пор ему не доводилось таскать на спине мешки, но брать извозчика он не стал – во-первых, не на что, а во-вторых, следует привыкать к трудностям. К церкви он пришел последним.
Будущие трудники были одеты похоже – в длинные, туго захлестнутые кушаками армяки. Странник Василий Игнатьевич же надел в дорогу кафтан – длиной чуть ли не как монашеский подрясник.
– Что ж ты, светик, вчера не приходил? – спросил Гришу Василий Игнатьевич. – Мы тут молебен отслужили. Ты, я гляжу, невеликий любитель службы отстаивать. Этому тебя в обители научат. Ну, знакомься с товарищами. Савелий…
– Савелий Морозов, – сказал невысокий мужичок лет сорока, почти седой, с лицом изможденным, как это бывает у людей пьющих. – Хочу потрудиться, чтобы Господь меня от моего пьянства избавил. До того допился – батюшка в церкви до причастия не допустил. Дух от тебя, говорит, гадкий, такой перегар, что на муху дунешь – она и сдохнет. Так и сказал. И к соловецким старцам идти велел. Слово отцу Амвросию дал – вот, исполняю…
– Славников, – кратко представился молодой трудник. – Иду грех замаливать. Какой грех – про то лишь батюшке на исповеди скажу.
Гриша решил, что этот – ему ровесник. Славников был роста среднего, в перехвате тонок, но худосочным отнюдь не казался, беловолос до такой степени, что легкие пушистые волосы, немного вьющиеся, казались какими-то неестественными, молодая бородка же – рыжеватая. Лицом он был бледен, как и Гриша, вид имел смиренный и понурый, но всякий, поглядев в его синие глаза, понял бы, что задирать будущего трудника опасно.
– Иван Родионов. Уволен из пехоты подчистую. Куда деваться – не знаю. Вот решил в монастыре пожить, потрудиться, – сообщил о себе плечистый и крепко сбитый мужчина, с виду – под пятьдесят, похожий лицом на татарина, да и растительность на лице была совсем нерусская. Однако глаза у него были светлые, а сильно поредевшие волосы – русые и какие-то тусклые.
– Ушаков, Сидор Лукич. Из Твери сюда пробираюсь. И у меня грехов накопилось.
Ушаков был плотным и рослым мужчиной лет под пятьдесят. Гриша отметил широкое лицо и красные щеки, даже красную переносицу, – видно, Сидор Лукич был не дурак выпить и закусить. И тут же Гриша выругал себя – грешно осуждать человека, тем более такого, что собрался поработать во славу Божию.
Все будущие трудники носили бороды, отпущенные по меньшей мере месяца два назад, и Гриша застеснялся. Стараясь понравиться Лизаньке, он отпустил модную короткую бородку и очень о ней заботился, хотя такой, как на картинке в модном журнале, все никак не получалось. Уже с неделю он не подбривал шею и щеки, они покрылись смешной редкой щетиной.
– Григорий Чарский. Иду грехи замаливать…
И впрямь, не рассказывать же этим серьезным людям про несчастную любовь.
– С бабами вам знакомиться незачем, – сказал Василий. – Мы на Соловки не женихаться идем. Ну, стало быть, помолясь – в дорогу, на пристань. Барка ждать не станет.
Будущие трудники забормотали, закрестились, возводя взоры к церковному куполу. Гриша, не зная, как в таком случае положено молиться, прошептал «Отче наш». И Василий повел свой отряд к реке. Четыре женщины, до того стоявшие в сторонке, шли сзади, мешки у них были невелики. Но за ними старичок гнал тачку, на которую было свалено кучей прочее их имущество.
На пристани Василий сразу направился к знакомцу.
– Здорово, дядя Авдей! – издали крикнул он.
– И тебе – наше почтение! – отозвался крепкий седобородый старик, той породы, в которой живут до ста лет, а в девяносто могут еще жениться на молодухе и детей наплодить. – Заводи своих орлов и курочек, веди к носу, там кликни Алешку, он укажет, в которой казенке вам жить. А баб – пока держи при себе, потом я придумаю для них место.
– А что, все уже погрузили?
– Торцовский лес со вчерашнего дня его работники укладывали, сегодня мешки заносили. Пять тысяч с чем-то пудов, вся палуба в мешках, есть на чем сидеть и лежать. Лес славный, сухой, отменный товар. Не зря баркой отправляется, а не плотогоны вниз гонят.
– А в мешках что?
– Рожь, пшеница, овес. Сухого гороха с полсотни мешков. С нами идет торцовский приказчик Синицын, он будет на пристанях эти мешки раздавать – как условлено. До Архангельска хорошо если половину довезем.
– Ты мне это брось! Соловецкой обители на зиму нужны припасы! – возмутился Василий. – Их в Архангельске уже ждут!
– А что я?! Иди с Синицыным разбирайся!
Гриша даже обрадовался – будет кому рассказать Африкану Торцову, что гимназический учитель честно отплыл в сторону Соловков. Этого приказчика он не знал, в главной торцовской резиденции Синицын не появлялся. Так что следовало уже в Архангельске подойти к нему и сказать пару слов – любезно и очень кратко.
Гриша, как и положено любителю словесности, тут же принялся сочинять лаконичное послание Торцову…
Пока Василий выяснял у Синицына, сколько зерна будет оставлено на пристанях Сухоны и Двины, Гришу и других трудников отвели ближе к носу и указали, где там можно сидеть или даже лежать.
– На мешках вам будет хорошо. Только рогожи чтоб не сползли! Мы груз рогожами и парусиной от дождей укрываем. Сейчас как раз самая мокрая пора начинается. Так вы уж бережнее, – попросил помощник дяди Авдея Никифор.
– В полдень – обед, – сказал Алешка, то ли внук, а то ли правнук дяди Авдея. И пошел заниматься делом – матросы начали поднимать на единственную мачту большой парус, сшитый из кусков рогожи.
– И глядеть-то страшно, – признался Савелий Морозов, указывая, как торчат по обе стороны бортов барки сажени на полторы плотно уложенные бревна. – Ну как за что зацепятся?
– Значит, такая наша судьба, – ответил Ушаков. – Барка перевернется, пойдем дружно ко дну. Буль-буль-буль – и прямиком в рай!
– А ты, брат, шутник, – заметил Родионов.
В ответ Ушаков рассмеялся. Но рассмеялся совсем невесело.
– Ты только баб не пугай, – попросил Родионов. – Мы-то люди бывалые, да и плавать умеем. А бабоньки наши наберутся страха да и сбегут на берег. Вишь, сходни-то еще не убрали.
Гриша постеснялся признаться, что тоже не умеет плавать.
Как-то так вышло, что воду он видел исключительно в ведре, что приносил дворник Степан, да в стакане, налитую из графина, да еще, понятное дело, в бане. Но пуститься в плавание ему хотелось – не зря же он читал морские повести Бестужева-Марлинского. И писали ему друзья из Москвы, что Иван Гончаров, тот самый, что сочинил «Обыкновенную историю», ушел в морскую экспедицию на фрегате «Паллада». Тут было чему позавидовать.
Сейчас, сидя на барке, Гриша чувствовал себя неуютно. Крики матросов, свежий ветер и плеск воды о борта, где-то под настилом из бревен, вроде бы соответствовали плаванию – но на душе было неспокойно. Пираты ему не мерещились, но призрак морской болезни сильно беспокоил.
И тут раздался заполошный крик:
– Савелий Григорьевич! Эй! Отзовись! Тебя дитятко ищет!
– Кто там орет? – спросил Морозов. – Кому я вдруг потребовался?
– Митька, вон он, беги к нему!
– Царь небесный, Митька…
Савелий Морозов был уверен, что два года назад хорошо пристроил сына в лавки купца Торцова, Митька будет сыт, получит за службу одежонку с обувкой, а служба-то необременительная – в лавках пол мести да с поручениями бегать. Десятилетнему парнишке все это под силу, Митьке же стукнуло недавно двенадцать – а когда, Морозов не помнил. Сам Торцов на всякий праздник дарил парнишке деньги, и его супруга, Олимпиада Кондратьевна, могла по доброте душевной дать на Светлую Пасху целый четвертачок. А на что Митьке деньги, когда живет на всем готовом? Савелий Григорьевич, маясь похмельем, нередко забегал к сыну и забирал у него деньги, божась, что через неделю вернет.
И вот теперь Митька стоял перед ним и клянчил гривенник!
И ведь сумел отыскать батьку…
Худенький, в отца, белобрысый, обычно – смиренный и покорный Митька неслыханно обнаглел – вынь да положь ему гривенник!
Савелий Григорьевич божился, что гривенника нет, и уже почти спровадил сына на берег, но тот был не один – рядом с ним стоял другой парнишка, ростом повыше и, надо думать, на год постарше. Сразу этот приятель Морозову не понравился – кудлат, как дворовый пес, и волосня того же собачьего цвета, светло-рыжая, нос лихо вздернут, и на всей круглой роже написано: растет прощелыга и жулик.
– А я тебе говорю – пошел прочь! Нет у меня гривенничка! – твердил Савелий Григорьевич. И, вдруг вспомнив, что он теперь – богомолец и трудник во славу Божию, перекрестил сына.
– Митька, не вздумай уходить! – крикнул кудлатый парнишка. – Стой, где стоишь! А ты, дядька Савелий, дай ему денег!
– Ты кто еще такой, откуда взялся?
– Человек я, вот я кто такой, – с большим достоинством ответил парнишка. – А ты, дяденька, возьми денег у вашего старшего.
Родионов, читавший небольшую толстенькую книжицу, оторвался от нее и с интересом поглядел на Федьку.
– Не стану я у него деньги брать! Сказано ж было, все – в общий котел! – Морозов был готов отбиваться до последнего.
– А ты возьми!
– Да кто ты таков, чтобы я тебя слушать стал?
– Возьми гривенник у старшего, дядька Савелий!
Так они бестолково пререкались еще некоторое время.
Наконец подошел Василий Игнатьевич.
– Савелий, светик, что тут у вас деется? – спросил он.
– Да, вишь, пристал, как банный лист к неудобному месту! – Савелий Григорьевич ткнул пальцем в чужого парнишку. – Денег ему дай!
– Кто он тебе?
– Да никто! Бес его знает, откуда взялся!
– Ты, светик, беса не призывай, вокруг тебя и без того стая бесов крутится незримо. Больше чтоб я такого не слышал.
– Да я…
– Смирись! А ты, отроче, кто таков?
– Я Федька, я с его сыном Митькой пришел… – парнишка указал на безмолвного Митю. – Митьке деньги нужны, он чужую книжку брал почитать да испортил. А этот вот дядька Савелий только у Митьки брать горазд! Все, что у купца заработано, к нему попало!
Тут под Федькиными ногами ожили бревна, и он чуть не свалился, успел ухватить Митю за плечо. Митя и сам едва устоял на ногах. Василий Игнатьевич же держался крепко, словно был бывалым матросом.
– Выбирай чалки! – приказал зычный голос.
– Ну, с Богом! – отозвались ему путешественники. – Молись Богу, православные!
Барка тронулась в путь.
– Стойте, стойте! – закричал Савелий Григорьевич, вскочив и для равновесия размахивая руками. Общий смех был ему ответом.
– Это те не лошадь! Уже не остановишь! – кричали со всех сторон.
– Да надо ж остановить! Сын у меня тут! Куды ему на Соловки?!
– Тихо! На все воля Божья! – громко сказал Василий. – Раз Господь так управил, что отрок на барке остался, так и поплывет с тобой в Соловецкую обитель! Стало быть, так тебе надо, чтобы от грехов тебя избавить!
– Его мне там только недоставало!
– Молчи, не прекословь!
Кудлатый парнишка посмеивался. Василий заметил это.
– Что, и тебе охота потрудиться во славу Божью? – строго спросил он.
– Охота, господин хороший.
– Хм… Неспроста ты, видно, тут оказался. Грехов, что ли, накопил?
– Накопил!
– Какие ж у тебя могут быть грехи?
Федька принялся перечислять. Кроме налитого в молоко огуречного рассола, в списке были еловые шишки, засунутые в перину, мачехины чулки, вывешенные на крыше на манер флюгера, залитая в ее коты жидкая каша. Докладывал он звонко, матросы стали прислушиваться, и наконец раздался смех.
– Ладно, будет, – прервал его Василий Игнатьевич. – Я понял, что ты с мачехой не поладил, а родной батя тебе не заступник.
– Что она, злыдня, скажет, то он и делает.
– Видно, давно от них сбежать собирался? – спросил Родионов.
– Давно. А некуда было, – признался Федька.
– И ты за Митю ухватился? Нарочно все подстроил? – Голос у Родионова был строг, строже некуда, а рот кривился – на уста рвалась улыбка.
– Тебе бы в ярмарочные деды пойти, народ веселить. А в обители не до смехотворения. Это ты понимаешь? – спросил Василий Игнатьевич.
Голос был не менее строг, чем родионовский. Парнишка немного смутился.
– Понимаю.
– Вот и славно, Федор. А меня Василием звать, коли станешь кликать дядькой Василием – отзовусь. И ты также…
Это относилось к Мите, который от внезапной перемены в судьбе совсем ошалел.
– А теперь, братие, снова помолимся о благополучном исходе нашего плаванья. – Василий достал из-за пазухи молитвослов. – Сходитесь поближе. Сперва – «Царю небесный», потом трижды – «Отче наш», потом – акафист Николе-угоднику, он же о всех странствующих попечение имеет.
Гриша понимал, что в новой монастырской жизни знать Псалтирь и акафисты обязательно, и повторял за Василием кондаки и икосы со всем старанием. Что до прочих трудников – один только Сидор Ушаков знал акафист Николе-угоднику и выговаривал слова с явным удовольствием.
Остальные, можно сказать, расписались в своем невежестве.
Матросы меж тем, справившись с делами и выведя барку на стрежень, начали поверх бревен устанавливать конурки для житья – казенки.
Потом трудники завели меж собой разговоры – не от любопытства, а чтобы время скоротать. Гриша молчал и прислушивался. Вскоре он понял, что Славников – человек не простой, речь у него грамотная, и даже проскакивают французские словечки. Савелий же – совсем простой, главным событием его жизни было, что служил в приказчиках в москательной лавке, пока за пьянство прочь не погнали. Родионов рассказал забавную историйку из театральной жизни, и все тихонько посмеялись – в кулак, чтобы Василий не заметил.
А Василий тем временем ушел к своему приятелю Авдею – им было что вспомнить.
Парнишки, Митя и Федька, пошли на нос – глядеть, как перед ними расстилается река и возникают все новые повороты. Там же, на носу, матросы заранее настелили несколько больших кусков дерна, чтобы разводить на них костер, и кашевар уже прилаживал большой казан – кормить команду и богомольцев.
Вдруг Гриша понял, что где-то он Митю уже встречал. Но где, где? Не в гимназии же. И вдруг он вспомнил – парнишка привез ему конверт от Торцова! И видел его безобразное поведение, чуть ли не варварскую пляску с хохотом и потрясанием ассигнациями. Гриша покраснел так, что невольно схватился руками за горящие щеки. Это было ужасно – прошлое, на котором он поставил крест, преследовало его в облике белобрысого Мити. Теперь стоит взглянуть на мальчишку – и в памяти оживут все вологодские неприятности.
Савелий Григорьевич даже смотреть на сына не желал. Он взял с собой теплую одежду и обувь, зная, что зимы на Соловецких островах суровые, а Митьку во что одевать? Опять же, придется за ним смотреть, и не спасение души от пьянства получится, а сплошная суета. И ссадить мальчишку на берег удастся не скоро, а если ссадишь – как он домой добираться будет? Да и, стараниями родного батюшки, нет у него дома…
Митя же поверил дядьке Василию – коли такой властный человек, да еще с таким уверенным голосом, да еще старший в ватаге богомольцев, будущих трудников, прикрикнул на отца и взял Митю под защиту, – все, бог даст, будет хорошо.
– Вот я от своей злыдни и избавился, – сказал ему Федька. – Теперь уж не догонят и не вернут. Думаешь, для чего я за тобой увязался, когда ты бегал, батьку своего искал? Я того и хотел – уйти с вами на барке. Вот – плывем… Чай, и для меня место в обители найдется… Все лучше, чем от злыдни терпеть… А пойдем к матросам, послушаем их! Вишь, хохочут!
Гриша, вздыхая и кручинясь, все же поглядывал по сторонам. Василий не велел таращиться на трудниц, однако они сами как-то на глаза попались. Трудницы сидели в отдалении, на мешках, что-то грызли, шептались. Их было три, а четвертая – старушка, от которой трудов ждать не приходилось. Две – крупные, почти дородные бабы, повязанные платками так, что лишь носы торчали, на третью Гриша даже загляделся – годами, видимо, постарше Аграфены и Лизаветы Торцовых, а с лица, пожалуй, красивее будет: Лизавета рыженькая и белокожая, с густым природным румянцем, а у этой – личико смугловатое, брови черные, тоненькие, глаза большие, темно-карие, почти черные. Темный платочек не закрывает высокого лба, рот невелик, подбородочек – как у дитяти.
Он подумал: у этой-то, с ангельским личиком, какие могут быть грехи?
Река Вологда причудливо вилась, и город был виден не только позади, но и то справа, то слева. Узкая река, словно нарочно, так петляла, что барка, которая за счет торчащих бревен была в ширину более двадцати сажен, а в длину – под тридцать сажен, с трудом одолевала повороты. Опытный дядя Авдей заведовал рулевым веслом на носу, при нем был Алешка, на корме рулевым веслом управляли Фома и Никифор.
Наконец город пропал из виду.
Берега заросли низкими березками, кое-где виднелись кусочки уже убранных полей, а подальше от Вологды – крепкие избы и ветряные мельницы, похожие на маленькие избушки, насаженные на деревянные срубы. Гриша следил, как мимо проплывают берега, слушал размеренный голос Василия, читавшего псалмы. Среди богомольцев возник небольшой спор, нужно ли читать девяносто второй псалом, он – для тех, кто странствует по морю и находится в опасности.
– Будем читать впрок, – сказал Василий Игнатьевич. – Нам еще плыть по морю на поморских кочах. Там-то вы и поймете поговорку: кто в море не бывал, тот Богу не маливался!
Ближе к вечеру, после ужина, ощутимо похолодало. Василий Игнатьевич распорядился доставать из мешков зимнюю одежду и даже валенки.
– Какие тебе валенки – сентябрь месяц на дворе! – возразили ему. – Днем-то какая жара была!
– А вот стемнеет – поймешь! Эй, отроки! Где вы там? Спать пойдете в казенку, укроетесь тюфяками. По дороге раздобудем вам хоть какую лопотину.
Женщины тоже ушли в казенку. Гриша ни шубы, ни полушубка, ни тулупа не имел, взял в дорогу то, в чем бегал зимой, свою студенческую шинель на вате, с самым что ни на есть дешевым воротником. Чтобы добежать до гимназии, она еще вполне годилась. Но чем темнее делалось небо, тем холоднее – ветер. Сообразив, что этак к утру он схлопочет горячку, Гриша пошел к Василию Игнатьевичу проситься в казенку.
Странник был на носу, беседовал с Авдеем.
– Что, дядя Авдей, хорошо бежим?
– Исправно бежим, – ответил Авдей. – Сейчас меня Матюшка сменит, посидим, потолкуем. Потом опять я. Сон у меня стал плоховат, так пускай молодцы спят, а я уж тут…
Он был уже в длинном тулупе и даже в шапке.
– Верст тридцать, поди, пробежали?
– Меньше. До Сухоны – двадцать восемь верст, а мы к ней еще не подошли. Вот войдем в Прокоп – тут сажен через триста и будет тебе Сухона. Прокоп этот между Вологдой и Сухоной, сказывали, сам царь Петр прорыть велел.
– Сказывали, он и в Вологде живал.
– Я тебе как-нибудь домишко покажу, где он останавливался. Хороший каменный домишко, там теперь склад льна.
Гриша ежился в шинели. Он и не подозревал, насколько она изношена.
– Василий Игнатьевич! – окликнул он. Тот обернулся.
– Чего тебе?
– Василий Игнатьевич, я совсем продрог…
– Вот же чадушко! Дядя Авдей, вели, чтобы этого бедолагу в казенку пустили.
– Ты, брат Вася, впредь гляди, кого с собой ведешь. Не то как раз доставишь в обитель – и с коча прямиком на кладбище.
Грише стало совсем грустно.
Однако отступать было некуда.
Глава 2
Андрей Ильич Славников эту ночь спал крепко, сновидения были мирные, он не вскакивал, крестясь, потом не сидел на постели, качая головой, не отпивался холодной водой, приготовленной заранее, не проваливался в следующий акт пьесы, которую играли в голове все те же актеры.
И никто не шептал, уже почти беззвучно:
– Андрюша, Андрюша…
Никто не звал на помощь, уже уплывая за смертную грань:
– Андрюша, Андрюша…
И кровавая пена не заполняла все пространство сна.
Видимо, свежий речной воздух оказался целительным.
Вход из Вологды в Сухону Славников проворонил.
Эта река была лишь немногим шире Вологды, так же извилиста и причудлива, но берега понемногу делались все выше. Барка миновала село Наремы, после чего торцовский приказчик Синицын засуетился – впереди было большое село Шуйское, где должны были принять малую часть товара. Хлеб здесь еще выращивали свой, хоть и немного.
Славников сидел, отвернувшись от всех, и смотрел, как проплывают мимо берега. Он даже пытался считать версты, которые отделали его от прошлого. Их было все больше, прошлое – все дальше, и север, избранный им в качестве сурового лекарства, – все ближе…
К Шуйскому подошли после обеда. Трудники сошлись на носу барки, чтобы открывался красивый вид на реку, на быстрые струи, бегущие по воде.
– Глянь, сколь богато живут, – говорил дядя Авдей, указывая на белеющие по обоим берегам Сухоны остовы строящихся карбасов и шняк. – Корабелы тут знатные мастера, а еще в Тотьме есть мастера, к ним все за судами приходят. Да тут и лес для корабельного дела хорош.
– Да, берез тут поменьше, а елей и сосен побольше, – согласился Родионов.
– Это сколько мы уже пробежали? – спросил Сидор Ушаков.
– Верст, считай, с сотню, – ответил дядя Авдей.
Славников даже обрадовался – еще сотня верст пролегла между ним и городом, который стал для него роковым; даже само название вызывало теперь дрожь отвращения.
Солнце стало припекать. Полушубки и тулупы полетели на палубу. Наконец из казенки вышел Гриша Чарский. Он и после обеда уходил туда греться. Вид у гимназического учителя был жалкий, его малость знобило.
– Вылезай-ка на солнышко, – посоветовал Василий Игнатьевич. – Погрей косточки.
– Как же ты, такая дохлятина, трудиться будешь? – ехидно полюбопытствовал Ушаков. – Сидел бы уж дома, мухортик!
Славников весь подобрался – слова «мухортик» он не знал, но понял, что Ушаков оскорбил безответного Гришу. Первое, что в голову пришло, – спихнуть Сидора в холодную Сухону, пусть побарахтается, пока не кинут ему веревку!
Но не пришлось – опередили.
– Уж как-нибудь с Божьей помощью потрудится, – довольно громко отрубил Родионов и так посмотрел на Ушакова, что тот даже растерялся. А Родионов вернулся к пухлой книжице, которую читал в дороге.
Чтобы отвлечь общее внимание от этой краткой стычки, Ушаков затеял разговор. Он уже знал, что предстоит плыть мимо Троицкой пустыни на Дедовом острове, и стал задирать дядю Авдея – сможет ли барка успеть туда до заката и темноты.
– Как Бог даст, – отвечал дядя Авдей.
– Я, когда сюда собирался, по карте весь путь изучил, вроде не успеваем. А может, успеем? Кто за то, что добежим?
– Пари? – внезапно заинтересовавшись, спросил Славников.
– Отчего же нет? Не все ж акафисты читать и псалмы слушать. Этого в обители будет сколько требуется – успевай лишь спасать душеньку. А покамест мы только в дороге…
Василий Игнатьевич повернулся к нему.
– А не ссадить ли тебя, светик, на Дедовом? – ласково спросил он. – Там тоже работы хватает.
– Как же ссадить – я дорогу до Соловков полностью оплатил!
– А денежки верну. Деньги – тьфу. Ну?
Ушаков надулся и отвернулся. Родионов посмотрел на него с любопытством – видимо, показалось странным, что Ушаков не пытается спорить.
Пейзаж меж тем менялся. На правом берегу все чаще встречались обрывы со сползшими вниз, к воде, деревьями, а Сухона словно бы сжималась, и течение сделалось быстрее.
– Вон они, – сказал дядя Авдей. – Все семейство – Дедов остров, Бабий и Внуков.
Федька и Митя, бывшие тут же, на носу, засмеялись.
Славников подошел к Грише.
– Вы, сударь, держитесь меня, – тихо сказал он. – В обиду не дам.
– Да я не обидчив… – прошептал Гриша и покраснел – вспомнил, как орал на него Торцов.
– О чести в нашем путешествии говорить не приходится, это, наверно, грешно, однако у всякого человека есть достоинство. Не позволяйте никому звать себя мухортиком.
– А что это значит?
– Вот и я не знаю, что это значит, – признался Славников.
Этот разговор слышал Родионов.
– Тамбовское словечко, господа. Означает хиленького мужичка… – Он задумался и сам себя спросил: – Тамбовское, стало быть? Простите, сударь, вчера как-то не вышло познакомиться толком. Я – Иван Петрович, вы?
– Андрей. Андрей Ильич. Можно просто – Андрей… В обители, наверно, ко всем попросту обращаются?
– Во всяком случае, те, с кем вы вместе будете трудиться на соляных варницах или при рыбных садках, вряд ли соблюдают китайские церемонии. Вы? – Родионов повернулся к Грише.
– Григорий… Гриша.
– А по отчеству?
– Григорий Семенович… Да не надо так! Меня в гимназии по отчеству звали – и вспоминать не хочется! И еще некоторые особы…
– Давайте держаться вместе, господа… Хотя – какие уж тут господа… – Родионов усмехнулся.
– Я прошу об одном, – сказал Славников. – Нам там нелегко придется. И тем важнее не терять уважения к себе и к другим. Знаете, во время военных действий господа офицеры едва ли не каждое утро бреются. Пусть холодной водой, пусть затупившейся бритвой… Офицер должен быть выбрит – и точка. Так вот, что бы ни творилось вокруг – мы будем обращаться друг к другу на «вы». И по отчеству.
– Верно. Чтобы не опуститься, – согласился Родионов. – Вы ведь из военного сословия?
– Да. Но это в прошлом.
Славников так жестко это произнес, что Родионов и Гриша поняли – расспрашивать не надо.
– Вы, Григорий Семенович?
– Я преподаватель. Русская словесность и французский язык. Но и у меня это – в прошлом.
Гриша попытался скопировать тон Славникова, получилось плоховато – как если бы молодой петушок вздумал подражать грозному раскатистому «кукареку» старого и норовистого петуха.
– А у меня в прошлом – пехотный полк. Ничего хорошего, но и ничего плохого. Так что и я о себе докладывать не стану. Просто – обычный унтер-офицер, рабочая лошадка… Поживу год-другой при обители, пойму, чего мне в жизни следует желать.
Более Родионов ничего о себе не сообщил.
Далее они лениво говорили о речном пейзаже.
– А вот и колокольня уж видна, – сказал Василий Игнатьевич. – Эй, Синицын! Ты Троицкой пустыни хоть пару мешков овса везешь? Причаливать будем?
– Пустынь к Тотьме приписана, к Спасо-Сумориной обители, оттуда братию снабжают, – ответил торцовский приказчик. – Обитель богатая. Мне тут ничего оставлять не велено.
Тотьма, деревянный городок, стояла на левом берегу Сухоны. Барка подошла к причалу по указанию Василия – в Тотьме можно было в лавочках возле пристани взять недорого очень хорошие корзины для Соловецкой обители, работы местных арестантов.
Дядя Авдей проявлял особую заботу о Мите и Федьке – следил, чтобы их горячей кашей и хлебом не обделяли, чтобы с вечера загоняли в казенку, где под тюфяками им будет тепло.
– У самого меня внуков одиннадцать душ, да правнуков – уже бог весть сколько, а вижусь с ними редко, один Алешка при мне. Хоть с вами понянчусь, – говорил он. – Ну-ка, глядите, трудники! Вон как быстро щепочки плывут! А это в Сухону справа влилась речка Леденга, слева – речка Единга, там подалее село Коченга… что хохочете?.. Сухона ширится, течение ускоряется, славно нашу барку несет. А вон, глядите, Лось-камень из воды торчит. На нем сам царь Петр однажды отобедал!
– А для чего царю на камень забираться? – спросил Федька. – Разве больше обедать негде было? Да там и стол не поместится!
– В ту пору помещался.
Славников, сидевший тут же, с любопытством посмотрел на косо торчащий из воды камень. И подумал, что обедать на нем было бы весьма затруднительно. Хотя, если на пари…
Он загляделся на великолепные берега Сухоны, обрывами нисходящие к воде, обнажая красные и белые слои неведомой Славникову почвы. Леса по берегам делались все выше, березки совсем пропали, царствовали ели и сосны, отражаясь в воде.
За спиной он услышал тихий девичий смех, невольно обернулся – и увидел красавицу с ангельским личиком. Она шепталась о чем-то забавном с младшей из баб-трудниц, и вдруг слова подружки ее развеселили.
Девичий смех… голос из прошлой жизни… Нет!
Славников сердито напомнил себе, что оказался тут не для того, чтобы заводить амуры с девицами, и резко отвернулся.
В его судьбе были женщины – сплошь доступные, кроме одной. И эту одну он совершенно не желал вспоминать. На исповеди перед тем, как пуститься в путь, он сказал прямо – простить ее не может.
– Она великая грешница, – ответил полковой батюшка, знавший всю историю Славникова. – Прелюбодейка. Искусительница. Но ведь и она может раскаяться, оплакать свои грехи.
– Может. Но я в этом сильно сомневаюсь, – ответил Славников.
– Молитесь за нее, Андрей Ильич.
– Постараюсь.
Обещание он дал, к причастию был допущен, но молиться не смог, хотя честно пытался. Была надежда, что в Соловецкой обители усталость избавит его от воспоминаний – хотя бы обратит их в обрывки и кусочки, не мешающие молиться. И прекратятся изматывающие душу сны.
Да, ему показалось было, что освободился. Но вторая ночь на барке вернула ему его беду – и зов издалека: «Андрюша, Андрюша…» И помышление о том, что следует наказать себя выстрелом в висок, хоть это и смертный грех. Одно хорошо – проснувшись, Славников вспомнил сразу две важные вещи: тут, на барке, пистолетов нет, а сам он недавно, после исповеди, дал себе слово более не прикасаться к огнестрельному оружию.
Этим он воздвиг каменную стенку между собой и возможной военной карьерой. Он любил свой полк, любил товарищей, но чем-то же следовало себя наказать. Он и выбрал способ. А служить Отечеству можно и в военном министерстве – одним из тех малозаметных чиновников, что носятся взад-вперед со «входящими» и «исходящими».
Утром, поев горячего, он ушел подальше от трудников. На душе было тяжко. Сидя на мешках, он пытался молиться – и все яснее понимал, что путь к исцелению души даже теперь, когда принято решение год провести в грубых трудах, будет непрост, вот разве что в Соловецкой обители найдется мудрый старец и придет на помощь.
– Ох, Катюшка, ты тоже скажешь!.. – прозвучало за спиной.
– Да разве я вру, Лушаня? Как есть правду говорю!
Это был голос девицы, похожей на дитя.
Ка-те-ри-на… Певучее имя!..
Славников отошел подальше и, против собственной воли, задумался – что ведет девушку в Соловецкую обитель, где бабам-трудницам, скорее всего, предстоит стать прачками? Она молода и весела, непохоже, что ей нужно замаливать страшный грех. Про Лукерью Василий сказал, что едет дитя вымаливать, но не для себя – для дочки, той десять лет Бог дитятко не посылает, муж злится, рукам волю дает. Может, и у Катюши – похожая забота? Может, кто-то из близких болен или попал в беду? На замужнюю она не похожа, значит – брат, сестра, отец с матерью? Или – жених?
Поймав себя на том, что снова думает о девушке, Славников пошел искать мужского общества и мужских разговоров. Дядя Авдей рассказывал о тех порогах на Сухоне, которые придется одолеть.
– Тебя послушать, так тут не Сухона, а водопады почище финских, – сказал ему Родионов.
– А далеко ли те финские водопады? – спросил Ушаков. – Вроде бы не слишком. Что скажете, господин учитель? Вам по службе полагается знать. Или география – не ваше амплуа?
– Совсем близко, Сидор Лукич, рукой подать, отсюда и восьмисот верст, пожалуй, не будет, – отвечал за Гришу Родионов. – Сойдете на ближайшей пристани – за два месяца и добежите, заодно от брюха избавитесь.
Славников подметил – Ушакову и хотелось бы поизгаляться над безответным Гришей, но пока что Родионов над ним самим изгалялся, и это, кажется, было справедливо.
Он уселся на мешок, чтобы с удобствами принять участие в общей беседе, и вдруг обратил внимание, что Василий Игнатьевич молчит и смотрит не на трудников. Невольно проследив взгляд, Славников обнаружил: Василий глядит на Катюшу.
То есть человек, который просто-напросто запретил подопечным даже заговаривать с бабами, открыто любуется красивой девушкой! Божий человек, странник!
Это уж не лезло ни в какие ворота!
Барка одолела пороги, причем трудникам порой казалось, что вот-вот она перекувырнется через нос. Но что было хорошо – сильное течение на порогах, которое тащило барку с отличной скоростью. Ушаков пытался спорить, какова могла бы быть эта скорость, но его не поддержали.
– Так мы быстренько до Великого Устюга добежим, – сказал дядя Авдей. – Там причалим. Вы, Божьи люди, сойдите на берег, прогуляйтесь, разомните косточки.
Этот город сперва порядком удивил Славникова. Ему не доводилось бывать в Санкт-Петербурге и восхищаться гранитными набережными, но он их видал на гравюрах. Тут он увидел нечто похожее, но – деревянное. Берег, чтобы Сухона его не размывала, обшили деревянной броней из бревен.
– Коли кто что забыл купить в Вологде – ступайте к Гостиному двору, он тут большой и богатый, – напутствовал дядя Авдей.
– Загляните и в храмы, помолитесь, – добавил Василий Игнатьевич. – На самой набережной – Успенский, Прокопиевский и во имя святого Иоанна Юродивого. Вот, держите – на свечки вам и на сорокоусты. И еще – на обед. А я схожу с нашими парнишками в Гостиный двор, куплю им кое-какую одежонку и коты, чтобы совсем в пути не замерзли.
Василий выдал трудникам немного денег и отпустил их.
– Будем держаться вместе, – сказал Родионов. – Григорий Семенович, не отставайте.
Но на берегу вдруг куда-то пропал Ушаков.
Посовещались и решили – сам дорогу на пристань сыщет. И отправились гулять, решив, что Гостиный двор посетить можно и перед отплытием, вот он – одной стеной выходит на набережную. Заглянули в храмы, поставили свечки Николе-угоднику, а потом вышли на Успенскую улицу. По словам дяди Авдея, там можно было найти чистый трактир и хорошо поесть. Кулинарные творения кашевара на барке чрево насыщали, но радости не приносили.
Улица оказалась весьма приличная, хоть бы и столице впору, дамы, переходившие из одной модной лавки в другую, одеты по картинкам из парижских журналов, на всех широкие прогулочные платья с многоярусными оборками, изящные капоры, господа – в сюртуках и сверкающих цилиндрах, простого люда мало – разве что разносчики с лотками, у одного и спросили о трактире.
День был не постный, трудники решили побаловать себя осетринкой с хреном, кулебякой в шесть ярусов и котлетами с горошком – пища простая, сытная, как сказал Родионов, истинно русская, хоть напоследок душеньку потешить, в обители такого не дадут. И он же, внимательно следя за Савелием Григорьевичем, пресек попытку заказать полушкалик водочки. Потом трудники пошли искать лавку, где взять чая и сахара, нашли татарскую, сделали покупки и засобирались назад, на барку. Они еще хотели заглянуть в Гостиный двор, запастись пирогами и толстыми вязаными чулками – зимой на Соловках они были бы не лишними. Славников пробовал ходить в грубых портянках, но нужен был навык – как намотать, чтобы не стереть ноги в кровь.
– Ого, глядите! Куда это она? – спросил вдруг Родионов.
Славников проследил направление взгляда и увидел Катюшу. Девушка, кутаясь в шаль, быстрым шагом шла по Успенской, но не к пристани, а прочь от нее.
– Заблудилась, бедняжечка, – сказал Савелий Григорьевич.
– Так надо же догнать! – воскликнул Гриша.
Славников молчал. Он не хотел и взглядом встречаться с Катюшей. Сам себе запретил даже мысли о возможном счастье, о близости доброй и ласковой подруги. Все это было – не для него!
– Идем, – велел Родионов. И четверо мужчин догнали девушку, когда она собралась сворачивать к Козьей слободе.
– Стойте, сударыня! – окликнул Катюшу Родионов. – Вы сбились с пути. Идем с нами, как раз доведем до пристани. Не то потеряетесь.
– Я не потеряюсь, – строптиво ответила Катюша.
– Идемте, идемте, голубушка, – настаивал Родионов. – Хватит уж того, что Сидор Лукич куда-то сгинул. Но за ним я гоняться не стану, не то сокровище, чтобы его искать. А вы – девица, вам нельзя по чужому городу ходить одной.
– Пойдем, пойдем, нас Василий Игнатьевич заждался, – добавил Савелий Морозов. – Григорий Семенович, что ж вы молчите?
– Пойдем, сударыня. Вы не смущайтесь, что заблудились, – тихо сказал Гриша. – С кем не бывает.
Славников отвернулся. Смотреть на девушку он не желал. И вдруг он вдали увидел Ушакова. Тот вышел из-за угла, сговариваясь с человеком средних лет и самой подозрительной наружности. Человек этот вдруг пошел прочь, Ушаков его догнал и принялся приставать к нему с какой-то своей затеей, размахивая руками, забегая вперед и заступая ему путь.
Ушаков своими повадками и дурным нравом сильно раздражал Славникова. И вот раздражение, словно дикий зверь, увидевший, что прутья клетки разошлись, рванулось и вылетело на волю.
Никогда еще Славников не бегал так быстро. Он помчался к Ушакову скорее, чем хорошая полковая лошадь, идущая машистой рысью. И, добежав, он поймал собрата-трудника за плечо.
– Вот вы где! – выпалил он. – Выходит, вы тоже заблудились!
– Ты знаешь этого человека? – спросил ушаковский собеседник.
– Как не знать! Вместе к Соловецкой обители плывем. Сидор Лукич, хватит дурака валять, нас ждут на барке!
– Вон оно что… – незнакомец хмыкнул и тихо засмеялся.
Славников держал Ушакова за плечо очень крепко и был готов при нужде тащить его за собой, как норовистую скотину. Хотя Ушаков был мужчина крупный, в теле, а Славников – роста и сложения среднего, но он ощущал себя не только проворнее, но и сильнее Ушакова.
– Отвяжитесь вы от меня! – крикнул Ушаков. – Я вас не знаю и знать не желаю!
– А вот я сейчас такой шум подыму, что народ позовет будочника! Пусть мы оба в участок попадем – я готов, а вы?
Потом Славников сам не мог бы объяснить, отчего вдруг собрался прибегнуть к помощи полиции. И впрямь – не отправят же полицейские служители Ушакова на Соловки насильно. Однако подействовало – Ушаков вдруг как-то скис.
– Ну, будет, будет, иду, иду…
И он покорно поплелся за Славниковым. Незнакомец же при слове «участок» исчез, как будто в воздухе растворился.
Родионова с Гришей, Савелием Морозовым и Катюшей они догнали возле пристани.
– Я уж думал, вы лыжи навострили, – сказал Славникову Родионов. – Ну, что, взойдем на наш фрегат?
Катюшу пропустили вперед. Она шла, опустив голову, с видом самым жалким.
Когда барка тронулась в путь, Родионов поманил Славникова в сторонку, ближе к корме.
– Где вы этого чудака поймали?
– Где – не знаю, но была с ним подозрительная личность, и они сговаривались.
Славников пересказал все, что было.
– Ишь ты… Бежать он, что ли, собрался? Так сказал бы Василию Игнатьевичу – тот бы и отпустил. Силком на Соловки тащить бы не стал.
– Бежать без вещей и без денег? – удивился Славников.
– Вот как раз насчет денег я не уверен. А вы не заметили, что у девицы в руке был узелок? – тихо спросил Родионов. – Она его под шалью прятала. Я сам не сразу углядел. Красавица-то наша, похоже, тоже решила сбежать с барки. Может, кто ее там обидел?
– Я ей не гувернантка, – буркнул Славников.
– Ну и странную же компанию собрал Василий Игнатьевич.
– Да уж, – согласился Славников.
– А гляньте…
Славников повернул голову – и увидел Василия Игнатьевича с Катюшей. Они тоже отошли для какого-то тайного разговора подальше от трудников и не заметили Родионова со Славниковым, присевших за грудой мешков. Услышать, о чем говорят, было невозможно, одно лишь было понятно без слов: Василий Игнатьевич за что-то ругает Катюшу, а она оправдывается.
– Прелюбопытная парочка… – прошептал Родионов.
Барка прошла около трех верст, и трудники увидели новое природное диво. Там, где в Сухону впадал Юг, образовалась занятная картина. Юг тащил с собой немало песка, и по правому борту барки вода была желтоватая, по левую – синеватая. Река тут была уже широкая и называлась – Малая Двина. Берега двинские были песчаными, невысокими, и такая картина радовала взор до самого Архангельска.
– Эй, эй, сюда! – стал созывать всех на нос дядя Авдей. – Вася, где ты там? Ступай сюда, рассказывай, у меня так складно не получится!
– И точно, мы уже до храмов добежали, – сказал Василий. – Вот вам, любезные мои трудники, первая встреча с соловецкими чудотворцами Зосимой и Савватием. Митя, Федя, сюда, вам это душеполезно будет. Направо глядите! Вон как высоко стоят храмы во имя святого Зосимы и святого Савватия. Как при жизни были вместе, так и теперь не разлучаются. Лет этак четыреста назад это было. Святой Савватий переходил из обители в обитель, ища самого строгого устава, и всюду игумен и братия его хвалили за прилежание, и отовсюду он бежал, не желая слушать похвалы. Так узнал, что есть в море пустынный остров, решил – там-то и нужно жить, там никто хвалить не станет. С ним поплыл преподобный Герман, и они там доблестно шесть лет подвизались, потом Герман вернулся, случайно встретил преподобного Зосиму и уже вместе с ним поплыл на Соловки. Святые не раз уплывали оттуда за припасами, возвращались обратно. А в этом месте они, когда впервые вместе плыли в свою обитель, отобедали чем бог послал.
– А чудеса они там творили? – спросила старенькая странница Федуловна. – Я-то тут впервые, а охота знать про чудеса!
– Как обитель устраивали, как первый храм, Преображенский, ставили, знаю, насчет чудес ничего не слыхивал.
– Как же, святые – да без чудес?
– Высоко ж они лезли, чтобы пообедать, – шепнул Федька Мите. – Скорее бы Архангельск. Дядька Василий говорил – там дня два или три проведем. Надоела мне эта барка!
– Да и мне, – признался Митя.
Мальчишки все уже облазили, со всеми перезнакомились, за рулевые весла подержались, баек о плаваниях вдоволь наслушались, и им, понятное дело, стало скучно.
Барка неторопливо продвигалась к речному устью. Двина разлилась широко, от берега до берега – не меньше версты, и берега самые обычные, невысокие, покрытые кустами, не то что прежние грозные обрывы. Потом, правда, были еще пороги, не слишком опасные, и правый берег так вознесся вверх, что получились настоящие белопесчаные горы.
Вскоре возник спор – от пристани села Черевково отошла барка, груженная коровами и бычками, которых везли на продажу в Архангельск, и дядя Авдей ни за что не желал уступать ей фарватер. Ему удалось поймать ветер, и мычащие коровы остались позади.
– А вот попрыгали бы они в воду, то-то было бы весело, – сказал Федька. – Ты, Митька, видел, как коровы плавают?
Митя даже испугался – ему стало жаль скотинку.
А потом вдруг начался сильный дождь, и все трудники, да и матросы тоже, забились в тесные казенки, на палубе остались только рулевые.
Славников, перепутав эти плавучие хижинки, заскочил туда, где ночевали женщины, а потом и они вбежали, выйти он уже не смог.
Разговоры у них были женские. Так Славников узнал, что Лукерья не столько отпросилась на год в трудницы, чтобы вымолить дитя, сколько сбежала от мужа, и тот, поворчав, поневоле отпустил, хоть и ругался, Арина же, напротив, тайно ушла от нелюбимого и злого мужа и в Вологду пробиралась чуть ли не волчьими тропами.
– Детки уже не малые, сами ложку до рта донесут. А догонит – еще дальше уйду, – пообещала она. – К поморам, к чухне, да хоть к черту лысому, лишь бы его, постылого, не видеть!
– Не смей черта кликать! – возмутилась Федуловна. – Ты так и в обители опозоришься, выгонят!
– А я в обители и сама не останусь, я на варницы попрошусь, я знаю, там стряпухи нужны. Дома я на семью из одиннадцати рыл стряпала – уж как-нибудь управлюсь!
Раньше Славников старательно отворачивался от женщин, теперь поневоле выяснил: Арина – бойкая и плечистая, Лукерья даже пошутила, что ей только в одиночку с рогатиной на медведя ходить; Лукерья же – та смирная, желающая набраться святости от бабки Федуловны, которая учила ее странным молитвам, которых ни в одном молитвослове не сыщешь; Катюша… Катюша вроде и смешлива. Однако не проста. И в ее памяти хранятся стихи. Не деревенские песенки, а именно что стихи. Когда Федуловна пожаловалась попросту, что от каши у нее брюхо пучит, Катюша вдруг отвечала строчками неведомого сочинителя:
– Не надобно быть прихотливу, не с горя сердце в вас болит, покушайте-ка черносливу, авось вас это исцелит!
Славников едва удержался, чтобы не фыркнуть.
– И снова ты всех смущаешь! – напустилась на нее Федуловна. – Вот скажи, для чего ты с нами плывешь? Тебе по улицам хвостом мести да зубы скалить! Ты и платка-то повязать толком не умеешь! Тебя в таком платке и к причастию не допустят! Небось, все модные шляпки носила!
– Федуловна, что плохого в хорошенькой шляпке? – спросила Катюша.
– А то, что Богородица шляпок не носила, платком повязывалась!
Славников вдруг представил себе Катюшу, одетую на праздничный городской лад – в светлом шелковом платье с широкой юбкой, с множеством оборок, туго затянутую в корсет, с браслетками на обнаженных руках, с перстеньками на тонких пальцах, с темно-русыми волосами, убранными, как для бала, и украшенными цветочной гирляндочкой; и волосы, разобранные на прямой пробор, обрамляют ангельское личико… И он задал себе тот же вопрос: для чего Катюша плывет на Соловки? Этот вопрос потянул за собой и другой: что ее связывает с Василием? Женщины на многое способны – вот, когда Славников с полком стоял в сельской местности, молоденькая красавица, жена богатого пожилого помещика, убежала с ротмистром Аннинским, куда – так и не дознались, а у ротмистра всего имущества – что на нем надето. Потом уж он приезжал, тайно посетил полкового командира, уладил дела со своей отставкой.
Могло ли быть так, что Катюша сбежала из отчего дома с Василием? Диковинно это – убегать не с гусаром, не с уланом, даже не с артиллеристом, а с Божьим человеком, странником по святым местам, однако, однако…
Однако думать о таких вещах – грех, а нужно готовить себя к нелегкой доле трудника.
Славников сел так, чтобы – носом в угол.
Женщины, не обращая на него внимания, принялись перемывать косточки Арининому мужу, досталось и Лукерьиному зятю, о Катюшином ничего не сказали – так, может, незамужняя? Или вдовушка?
– Да ну вас, сороки-тараторки, – сказала Федуловна. – Никакого в вас смирения, никакого душевного сокрушения.
– А у тебя, Федуловна? – спросила Лукерья.
– А я все время о грехах человеческих сокрушаюсь, тем и жива. Мы, странные люди, за всех молитвенники, и потому к нам бесы приставлены – молитве мешать.
– Ахти мне! – женщины дружно перекрестились.
– К обычному человеку один бес или два приставлены, а к странному человеку, бывает, что целая дюжина. Вот думаю так – в Соловецкой обители их быть не может, там место намоленное, святое, они через стены-то не перепрыгнут…
Славников вздохнул и беззвучно взмолился, чтобы дождь поскорее кончился.
Барка шла по широкой реке, воды в которой были густо-бурого цвета. Но дождь иссяк, солнце выглянуло, люди стали выходить на палубу. Алешка пробежал от кормы до носа, смотрел – не скопилась ли в углублениях парусины вода; где скопилась – звал мужчин на подмогу, чтобы стряхнуть за борт.
Берега, поросшие густым еловым лесом, вновь стали высоки. И правый вдруг засиял неслыханной белизной – словно сложенный из плит дорогого каррарского мрамора.
– Любуетесь? – спросил Славникова Родионов.
– Не может же быть, чтобы мрамор.
– Алебастр, сударь. Тоже полезный камень – в строительном деле полезен. И для ваятелей тоже.
Опять Двина сузилась до двух сотен сажен и, словно недовольная этим, вильнула влево, вправо – и обрела прежний простор. Да еще какой – берегов не разглядеть.
– Морянка идет, – сказал дядя Авдей. – Убирай парус, молодчики. А вы все – одевайтесь потеплее. Морянка – такая гадина, что до костей пробирает. Нам еще посчастливилось – могла и раньше налететь. Она там, на севере, где вековые льды, силы и холода набирается.
– Коли, не дойдя Архангельска, такой ветрище, что же на Соловках будет? – спросил Ушаков. – Меня, грешного, поди в море унесет.
– Чтобы вас унести, ураган нужен, – тихо сказал Славников. Родионов его услышал.
– Ураганы в здешних широтах не водятся, – шепнул он, – а жаль…
Началась буря, на реке поднялась такая сильная волна, что тяжелую барку стало качать, как игрушечный кораблик. Двина, словно стараясь напакостить напоследок, то вдруг сужалась, предлагая пройти одной из проток да и застрять там, то ширилась чуть ли не до пяти верст.
Славников ушел в казенку, где дрожал и ежился Гриша Чарский.
– Как вам буйство стихии? – спросил он гимназического учителя.
– Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит, – отвечал тот, едва не стуча зубами. – Увы, он счастия не ищет и не от счастия бежит…
– Пушкин?
– Лермонтов.
Славников с интересом посмотрел на учителя – этого-то штафирку что гонит на Соловки? Он уж точно счастия не ищет, и менее того – от счастия бежит…
И совесть у него, скорее всего, чиста.
И сны не допекают.
Может, если наконец впрячься в каторжный труд, сны просто не смогут пробиться через каменную и свинцовую усталость?
– Эй, труднички! Спать ложитесь пораньше! Бог даст, к утру до Архангельска добежим! – крикнул дядя Авдей. – Синицын, где там тебя черти носят! Ложись, завтра наломаешься!
Но подойти к Архангельску удалось не сразу – разгулялась морянка. Трудники, уже с собранными мешками, сидели на палубе, укрывшись рогожами, и от скуки похвалялись – кто в каких городах бывал и живал. В Архангельске не бывал никто, Морозов – тот всю жизнь просидел в Вологде, Славников вспомнил Москву, Киев, Воронеж, Калугу и никому не известный город Калиш, Ушаков бывал и в Санкт-Петербурге, и даже в Ревеле.
– Вам это было удобно, – заметил Родионов. – От Твери до Питера ехать – одно удовольствие. Дилижансом не более двух суток. По чугунке и того меньше.
– Зимой, по накатанной дороге, да дилижансом – да, летом – подольше. А лучше бы кибиткой, – возразил Василий. – Там растянешься, в шубу завернешься и спишь себе всю дорогу. А в дилижансе не лечь, сиди от рассвета до заката, пока доедешь – всю задницу себе отобьешь. По чугунке не ездил пока, не знаю. Диковинное это нововведение, поди знай, что этим паровозом движет. Старики, завидя дым из трубы, крестятся да к приходу антихриста готовятся. Может, им и виднее.
– Через Тверь чугунка вроде бы проходит. А хороший городок Тверь, – сказал Родионов. – Шутка есть: Тверь-городок – Москвы уголок.
– Именно так, – подтвердил Ушаков.
– Бывал я там… Господи, когда же? Двадцать лет назад, поди. Тетка там у меня жила на Горбатке.
– Жива еще тетушка? – осведомился Ушаков.
– Царствие ей небесное. Домишко, думал, мне оставит, а достался другому племяннику. Домишко в два этажа на Горбатке – его и продать можно было бы хорошо.
– Да, можно, – согласился Ушаков. – Что это, уже Архангельск? А что ж не причаливаем? Мимо не проскочим?
– Он на восемь верст вдоль реки растянулся, узкий городок, в длину растет. А в ширину не может – там, за ним, уже тундра, – объяснил Василий Игнатьевич. – От набережной, поперек Троицкого проспекта, идут короткие улочки – и прямо в тундру выводят. Теперь все держитесь близ меня. Митя, Федя, не сметь отставать! Потеряетесь – вас на английское судно заманят, увезут, продадут в Америку. Савелий Григорьевич, смотри за ними! С пристани сразу пойдем к Соловецкому подворью, там странноприимный дом. Отдохнем, помоемся с дороги, я узнаю, кто еще собрался на Соловки. Поедим впрок. На кочах туда плыть почти двое суток, горячего, может, дадут, а может и нет. Хлебом будете пробавляться.
Славников ничего не имел против хлеба – он не просто был готов к лишениям, а даже жаждал лишений.
Трудники сошли на берег. Пристань по сравнению с вологодской показалась им огромной. Василий Игнатьевич отошел в сторону, увидев знакомца, и еще раз приказал всем держаться вместе. Трудники таращились по сторонам, а Митя с Федькой от восторга даже онемели. По Федькиным глазам было ясно: не нужна ему никакая Соловецкая обитель, он тут останется, в матросы наймется! Парнишек привели в изумление стоявшие у причалов колесные пароходы – и Славников показал руками, как огромные колеса загребают воду.
– А что, заморские суда сюда тоже приходят? – спросил Ушаков.
– Как же без них, – отвечал Родионов. – Только по европейским морям и по Атлантическому океану теперь все больше пароходов ходит, а к нам, сюда, их прибегает не так уж много.
– Почему? – спросил Савелий Морозов, в котором тоже вдруг проснулось любопытство.
– Их двигает паровая машина. Чтобы она работала, нужно в топку уголь кидать, а в дороге где им разживешься?
– Ишь ты… Так ведь им наплевать, есть ветер, нет ветра, есть буря, нет бури! – воскликнул Ушаков.
– Бури и они, поди, боятся не меньше любой шхуны.
В морском деле трудники ничего не смыслили, и, хотя Ушаков задавал многие вопросы, разговор как-то угас.
Женщины стояли в сторонке, ждали, пока их позовут. Арина и Катюша пересмеивались, Лукерья и странница Федуловна явно были испуганы – столько народа, столько шума!
Подошел Василий Игнатьевич.
– Ну что, рабы божьи, опомнились? Идем!
На Соловецком подворье был выстроен двухэтажный странноприимный дом, такой величины, что мог вместить под тысячу человек. Женщин приняла одна из смотрительниц, увела. Мужчинам предоставили довольно большое помещение. Там стояли скамьи и топчаны, покрытые тюфяками, смотритель выдал одеяла и подушки. Поскольку на барке жили довольно тесно, тут разошлись по углам, чтобы расстояние между спящими получилось побольше. Потом мужчины пошли в баню, вернулись распаренные и довольные, Василий Игнатьевич заплатил служителю, и тот принес самовар с кружками, сходил за баранками, а чай и сахар у них были свои.
– Я пойду доложусь здешнему начальству, – сказал Василий. – Вы пока отдыхайте, в город без меня не выходите.
Когда он вернулся, Савелий Григорьевич спал, Гриша разговаривал с Митькой о лубочных романах, которых парнишка прочитал не менее полусотни, Федька лепил из хлебного мякиша нечто непотребное, Славников старательно читал молитвослов, а Родионова и Ушакова не было.
Василий спросил, куда они подевались.
– Вышли куда-то, – отвечал Гриша.
– Вдвоем вышли?
– Я не знаю, не заметил.
– Андрей Ильич?
– Я молитвослов читал, – хмуро сказал Славников. – Плохо у меня в голове все это укладывается, отвлекаюсь. А надо бы заучить.
– Они вышли разом? Или поочередно?
– Сперва пошел Ушаков… Позвольте! – Славников вскочил. – Я же еще хотел спросить его, куда он потащил свой узелок! И тогда Родионов вскочил и пошел следом…
– Отродясь у меня таких бешеных трудников не бывало. Нужно их отыскать. Я сговорился – поплывем с соловецкими иноками, а они уже условились с поморами, что возят на кочах, когда погода будет благоприятна, за ними пришлют человека. Что, коли прямо сейчас пришлют, а эти два бездельника где-то носятся? Их надо найти! Идем!
Василий стал тормошить Савелия Григорьевича, тот бурчал и огрызался.
– Оставьте его, я с вами пойду, – сказал Славников. – И мальчиков возьмем. Митя, Федя, собирайтесь.
– И я! – воскликнул Гриша, вдруг обидевшись, что его не берут на поиски.
– Вас бы потом не пришлось искать…
Но Гришу все же взяли с собой.
– Митя, беги, дружок, к бабьим комнатам, позови Катюшу, – попросил Василий. – Она тоже пригодится. Скажи – пойдет с нами на пристань искать подлеца Ушакова.
Славников отметил – Родионова Василий подлецом не назвал.
Митя кинулся исполнять поручение. Тихий и покорный парнишка только среди трудников и нашел хорошее к себе отношение. Гриша, который сперва на него косился, в конце концов стал говорить с ним о книжках, даже о таких, по которым учатся в гимназии, Родионов купил ему пряник, Василий всегда обращался к нему ласково – Митя был счастлив услужить такому человеку.
– Отчего на пристань? – спросил Славников.
– Более некуда, – ответил Василий. – Они непременно туда пошли.
– Отчего вдруг? – удивился Славников. – Может, отправились на поиски трактира?
– Может, и так. Да только… На пристань!
– Так она же огромная!
– Далеко они уйти не успели. Катюшка! Ну, сколько же тебя ждать?
– Я сразу собралась!
– Пошли!
Трудники со своим старшим вышли за ворота Соловецкого подворья, сказав привратнику, что скоро вернутся.
Славникова удивило, что Василий Игнатьевич так яростно взялся за поиски. Не хотят люди больше быть трудниками – ну так вольному воля, ходячему путь.
И другое его удивило – Василий проявлял странное любопытство к стоящим у пристали судам, спрашивал у матросов, когда в путь. По всему выходило – Василий отчего-то боялся, что Ушаков и Родионов куда-то уплывут. Насчет Ушакова – это хоть имело смысл, человек узелок с вещами прихватил. Но Родионов ушел с пустыми руками.
Пристань гудела, дребезжала, отовсюду слышалась ругань, русская, норвежская и английская, пробегали люди с пустыми тачками и носилками, другие гнали к сходням полные тачки, грузчики ловко взбегали, согнувшись под тяжестью мешков, и тут же, на причале, буянил пьяный мореплаватель, не позволяя доставить себя на судно, и тут же семейство из трех взрослых баб и дюжины детей громогласно прощалось с собравшимся в дорогу мужем и отцом, и тут же, всех распихивая, неслась погоня за воришкой, стянувшим что-то ценное.
Славникову эта суета страх как не нравилась, но делать нечего – по приказу Василия Игнатьевича трудники попарно разбежались в поисках беглецов: Славников с Гришей, Василий с Катюшей. И было же Славникову чем сейчас занять ум, а мысли в голову являлись неподходящие: что между ними, между странником и девицей даже не из мещанского сословия, а чуть ли не дворянского, что их объединяет?
Однако он честно высматривал высокую фигуру Ушакова и, занятый этим, не заметил, куда подевался Гриша. Гимназический учитель отстал – чего и следовало ожидать!
Хотя Василий Игнатьевич и был уверен, что Ушаков с Родионовым где-то на пристани, Славников решил заглядывать и в переулки, ведущие к Троицкому проспекту. Там тоже было немало народу. Вдруг ему показалось, что мелькнул знакомый серый платочек. Это могла быть Катюша, значит, поблизости – Василий, значит, они гонятся за Ушаковым и Родионовым, значит, им может понадобиться помощь.
Славникова ноги сами понесли по переулку, мысль о погоне за Ушаковым явилась уже потом, на бегу. Он не знал, что бегать в армяке, тяжелые полы которого путаются между ногами, так неловко.
Катюшу он нагнал довольно быстро.
– Где он? – первым делом спросил Славников. – Где Ушаков? Куда пошел? Туда? Я – за ним, вы держитесь сзади. Василий Игнатьевич где?
– Туда пошел, – Катюша махнула рукой, указывая направление куда-то в сторону Соломбалы, глядя при этом в глаза Славникову широко распахнутыми и оттого малость безумными черными глазищами.
– Я испугал вас? – догадался Славников. – Простите, бога ради! Вы ведь с Василием Игнатьевичем побежали за Ушаковым?
– Да…
– Бежим вместе!
Этот бег – всего-то с полсотни сажен до проспекта – был мгновением давнего детского счастья, веселого полета наперегонки, с хохотом и падением в густую, ароматную, июньскую, еще не знавшую сенокоса, траву.
– Направо? – спросил Славников.
– Я не знаю…
– Куда они побежали?
– Туда…
– Выйдем на проспект, оглядимся, может, что-нибудь поймем. Не отставайте, не то опять потеряетесь.
Но Славников и на проспекте не понял, куда делись Василий, Ушаков и Родионов. Да и не мог понять – перед глазами проносились экипажи, чуть ли не впритирку к стенам домов тащились телеги, а деревянный тротуар располагался как раз посередке проспекта, и еще нужно было изловчиться, чтобы к нему перебежать.
Как вышло, что они, уворачиваясь от конской морды, вдруг схватились за руки, Славников не понял. Но, уже на тротуаре, они не сразу друг дружку отпустили, было еще несколько непонятных мгновений – и пальцы разом разжались.
Славников безмолвно назвал себя нехорошим словом. Вот девичьих пальцев ему только недоставало…
Быстрым шагом, ныряя между прохожими, Славников с Катюшей прошли чуть ли не полверсты, и тут их нагнал выскочивший из переулка Федька.
– Андрей Ильич, вас дядька Василий ищет! Там дядька Родионов дядьку Ушакова поймал!
– Я решительно ничего не понимаю, – сказал Славников. – Я думал, они зачем-то вместе сбежали…
– Пускай с ними Василий Игнатьевич разбирается! – сердито выпалила Катюша.
Славников не понял – откуда в голосе такая внезапная злость.
Дальше была какая-то непонятная суета – Василий с Родионовым не вели, а прямо-таки конвоировали Ушакова к Соловецкому подворью, Ушаков громогласно клялся и божился, что побега не замышлял, что его неверно поняли и что он всей душой стремится в Соловецкую обитель, Василий Игнатьевич не менее громогласно читал целую проповедь о долге трудника, Родионов же молчал.
За ними шла Катюша, за Катюшей – Славников, Федька забежал вперед, а Митя держался при Славникове.
Когда Катюша остановилась и нагнулась – по всей видимости, чтобы завязать шнурок узкого ботиночка, – остановились и Славников с Митей. Ботиночки такие – не самая подходящая обувка для путешествия на север, подумал Славников, отчего она не в войлочных котах, отчего он раньше не замечал этого несоответствия?
Ведь Василий позаботился о том, чтобы все трудники обулись в коты. Что же он Катюшу вниманием обошел? Неужто хочет, чтобы она простыла и слегла? Странно все это…
Таким порядком они вернулись в Соловецкое подворье, а там ждала новость – пропала странница Федуловна.
– Вот ведь старая ворона! – воскликнул Василий. – Отродясь не бывало, чтобы трудники разбегались, как тараканы! Еще француза нашего где-то носит нелегкая!
Он имел в виду Гришу, который за время водного путешествия, а это – не много не мало, а тысяча сто пятьдесят шесть верст, ни слова не произнес по-французски.
А потом случилась странная сценка. Ушаков ушел в отведенную трудникам комнату, Катюша ушла к женщинам, Славников тоже дошел до дверей комнаты – и обернулся.
Василий и Родионов молча смотрели друг на дружку. И Василий сделал жест, движение даже не всей руки, а кисти, направленное к Родионову. В переводе на словесную речь оно могло означать: как мне, сударь, прикажете вас понимать?
На что Родионов ответил кратко и непонятно:
– От меня вреда не будет.
В комнате они опять разбрелись по углам, каждый занялся своим делом. Помещение было очень велико, каждый в ожидании ужина занялся своим делом, потом пришел инок, позвал в домовую церковь и затем в трапезную.
– Где же нелегкая носит нашего гимназического учителя? – спросил Василий Игнатьевич. – И старая дура, прости господи, пропала…
– Значит, останутся голодными, – ответил Ушаков. – Но старая дура не пропадет – я эту породу знаю, небось, прибилась к чьему-либо двору, потчует баб сказками, а те ее кормят.
– Сидор Лукич, придержи язык, – хмуро сказал Василий Игнатьевич. – Я могу Федуловну старой дурой назвать, потому – не первый год с ней знаком, а ты – не моги! Смирись и не суесловь. Да и заруби на носу – я за тобой буду строго смотреть, пока не сдам тебя с рук на руки отцу Маркелу. Понял, блудослов?
– Понял… – буркнул Ушаков.
Когда дошли до трапезной – оказалось, пропал Родионов, но очень скоро нашелся. Правда, опоздал к общей молитве, но попросил прощения. Вид у него был как у человека, узнавшего не слишком приятную новость.
Их усадили за длинный стол, предложили постное – серые щи, сыр гороховый, кашу перловую, пироги с грибами, а на десерт – плотный гороховый кисель, нарезанный квадратиками и политый постным маслицем. Пища пахла приятно и была очень вкусна – Славников еще не знал этой особенности монастырской стряпни и удивился. Однако он вдруг выделил среди ароматов знакомый резкий запах. Тут этому запаху было не место, и он завертелся, пытаясь понять, где источник благоухания.
– В чем дело? – тихо спросил Василий Игнатьевич.
– Отчего-то пахнет ружейным маслом…
– И впрямь…
Теперь уже принюхивались оба.
– Вот черт, – прошептал Василий Игнатьевич. – Что ж это все значит?
И нехорошо посмотрел на Ушакова.
Тот ел кашу и, жуя, что-то ухитрялся шептать на ухо Савелию Морозову.
– Непохоже… – ответил Славников. – Хотя…
Он имел в виду: Ушаков непохож на человека, который станет таскать с собой пистолет, да еще старательно его смазывать. Но две попытки Ушакова сбежать были весьма и весьма подозрительны.
– Черт знает что… – ответил Василий Игнатьевич, и тут к нему подошел высокий и худой инок.
– Мы тут бесов не призываем, – сказал он.
– Прости, Христа ради, честный отче. Вырвалось…
– Вдругорядь язык придерживай.
А Славников перевел взгляд на Родионова.
Вот у этого человека в котомке вполне мог оказаться пистолет.
Глава 3
Гришу к концу трапезы привел один из иноков, чье послушание было служить на подворье и смотреть за порядком. Гимназический учитель спутал переулки и едва не вышел в потемках в самую тундру. И тогда же появилась Федуловна.
Вид у странницы был даже не потрепанный, а почитай что растерзанный и совсем жалкий, платок сбился, рукав шубейки полуоторван, на щеке – царапина. К тому же, вымокла – под дождь попала.
– Что это с тобой, матушка? – спросил ошарашенный Василий. – С кем ты воевала?
– Ох, Игнатьич, с православными людьми! Думала – там же меня и до смерти прибьют!
Оказалось Федуловна в поисках святынь и святынек, намоленных икон и диковинных чудес забрела в Свято-Троицкий собор. Его начали строить еще при царе Петре. А, поскольку этого царя на Севере уважали, то и хранили там предметы, имевшие к нему прямое отношение. Хотя многих богомольцев смущали три пушки, подаренные Петром еще архиепископу Афанасию, – они были сняты с захваченных под Архангельском шведских фрегата и яхты. О пушках спорили, место ли им в храме, а вот огромный сосновый крест очень почитали – его сам Петр изготовил в память о своем спасении от морской бури. Отчего-то богомольцы решили, будто крест – чудотворный, и старались взять себе от него хоть малую щепочку, за что причт их немилосердно гонял. Могла ли Федуловна удержаться от соблазна? Как у всякой странницы, у нее в котомочке, кроме прочего, был небольшой нож. Она подкралась и потихоньку пристроилась сбоку, чтобы отгрызть снизу кусочек. Рядом оказалась еще одна любительница святынек, они шепотом повздорили, к ним прибежали дьячок, здешняя просвирня и женщина от свечного ящика. Началась совершенно неуместная в храме склока, пришел суровый батюшка и велел гнать таких вредительниц в тычки. Побоище продолжалось на паперти, пока добрые люди крепким словом не разогнали вояк.
Федуловна, очень обиженная, побрела по Троицкому проспекту куда глаза глядят, надеясь отыскать храм, не столь же величественный, как Свято-Троицкий, но непременно с чудотворными иконами. Напротив гимназии она увидела медного святого, не по-русски одетого, на постаменте, а перед ним – крылатого ангела, подающего ему лиру. Какой из многих святых мог бы играть на лире, Федуловна не знала, но предположила – это некого мученика или великого молитвенника так встречают в раю. Решив, что виной ее необразованность, она преклонила колени перед медным святым и принялась шепотом молиться. Молитве помешали гимназисты, выскочившие после занятий.
– Бабка! Бабушка! Ты перед кем поклоны бьешь? – закричали они. – Это же Михайла Ломоносов!
– Какой еще Михайла? Вон – ангел! – огрызнулась Федуловна.
– Какой ангел? Гений это, бабуля! Ломоносовский гений! А лира – потому что Ломоносов оды писал!
– И вечно они так, – сказал гимназист постарше. – Им дай волю – станут перед Михайлой Васильевичем свечки ставить. Ступай, бабушка, ступай!
Тем и кончился для Федуловны богомольный архангельский поход в поисках чудес. То, что она заблудилась и угодила на вечернюю службу в храм, названия которого не знала, и во время той службы ощутила зверский голод, было достойным завершением суматошного дня.
– Больше не шастай, – сказал Василий. – Это тебя еще Бог уберег, что не сразу под дождь попала, тебя лишь малость подмочило. Тут дожди обыкновенно с утра и поздним вечером льют, а с моря уже вовсю холодным ветром тянет. Только еще недоставало, чтобы ты слегла. Как мы тебя, полудохлую, в обитель потащим? Тут тебе домовая церковь, в ней и молись. А про чудеса тебе отец Кукша все расскажет.
Федуловна отправилась на поиски отца Кукши и услышала много такого, что у нее прямо глазки загорелись. Она представила себе, как, вернувшись с Севера, станет в знакомых домах пересказывать хлебосольным хозяевам подвиги преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Особо ей понравилось чудо с орлом. Отец Кукша, не впервые рассказывавший это, уже до того наловчился, что руками изображал взмахи орлиных крыльев, и весьма правдоподобно. Чудо же было предивным. В давнее время плыл по озеру в малой ладьице некий человек с сыном отроком. Налетела буря, ладьица наполнилась водой – впору погибать. Человек взмолился святым чудотворцам Зосиме и Савватию – а они прислали на помощь огромного орла. Тот, сев на край ладьицы, взмахами сильных крыльев всю воду вычерпал – и так человек со своим отроком спасся, и до конца дней не переставал благодарить Зосиму и Савватия.
– Перышко бы из того крылышка добыть… – возмечтала Федуловна, и тут же сообразила: ведь потомки того дивного орла и по сей день летают на севере, так, может, и их перья чудотворную силу имеют? В мореходном странствии от потопления сберегают? Ведь такому перышку, поди, цены нет! Знатная была бы святынька…
Пока Федуловна слушала про чудеса, Гриша и Славников читали книжки. Гриша – жития святых, Славников – Евангелие, пытаясь применить его к себе. Он понимал, что прощать врагов – дело богоугодное, но коли ты сам себе – враг, то как себя простить?
Ушакова же Василий держал при себе. Ушаков дулся, бурчал что-то совсем злобное, но Василий, видать, не считал его буркотню достойной внимания. Он вел разумные разговоры с иноками, служившими на подворье, о делах практических, забирал у них книги для доставки в Соловецкую обитель и припасенный для монастырских поваров провиант – чай, сахар, рис, перец и мускатный орех, а также несколько больших корзин с бутылками – в них был кагор, необходимый для причастия. Все это было уложено, увязано и стояло наготове – в любую минуту мог явиться человек из Соломбалы с известием, что прибежали кочи – небольшие, но очень надежные суденышки поморов.
– Свечкой кагор проверяли? – спрашивал Василий. – Каждую бутылку? Сейчас ведь сам проверю! Коли сквозь бутылку посмотреть на огонек, и тот огонек виден, пусть тот кагор в трактире извозчикам подают! А для церкви он негоден!
И ведь не поленился, проверил, три бутылки забраковал.
С Родионовым Василий Игнатьевич почти не разговаривал, но время от времени они друг на дружку поглядывали, взоры встречались. Однако поводом к началу беседы это не становилось.
Савелий Григорьевич Морозов, хоть и помылся с дороги, хоть и поспал немного, насладившись горячим чаем с баранками, хоть и после сытного ужина прекрасно выспался, а чувствовал себя прескверно. Если бы можно было усилием воли перенестись в Вологду – он бы так и сделал. Там – угол в подвале у сапожника Харитона Даниловича, там дважды в день хоть кашу с постным маслом, хоть пустые щи, а дадут. И есть приятели в трактирах, которые, коли подойти смиренно, с поклоном, присесть с краешку, потом ввернуть в разговор шуточку, острое словечко, посмеются и непременно поднесут рюмашечку.
Он уже достиг той степени запойного пьянства, когда много не надо – раньше его разве что целый штоф с ног сбивал и укладывал, теперь довольно пары рюмашечек. И с них уже так развезет, что сердце радуется и мир вокруг прекрасен.
Савелий Григорьевич знал, что стал горьким пьяницей, но не придавал этому большого значения, пока не получил основательный нагоняй от возмущенного отца Амвросия, к которому он, желая в Успенский пост причаститься, заявился на исповедь. Как раз накануне гулял купец Анисимов, празднуя именины, и таскал за собой по всей Вологде целую свиту пьющего народа. Обойтись без Савелия Морозова он никак не мог, и бывший приказчик, изгнанный несколько лет назад за пьянство, был накормлен и основательно напоен.
Даже не вспомнив, что перед исповедью и причастием необходим трехдневный пост, Савелий поплелся в храм Божий, где и поразил священника мощным перегаром.
В ярости отец Амвросий велел ему плыть на Соловки и потрудиться во славу Божию, если он не хочет вовсе спиться и помереть зимой в сугробе. Неведомо, собрался бы Савелий Григорьевич в путешествие, или прятался бы от отца Амвросия, перебежав в другой приход, но в церковь зашел странник, Божий человек, давний знакомец батюшки по имени Василий Игнатьевич. Он пожертвовал на храм пять рублей и маленький серебряный складень, завязалась краткая, поскольку начиналась служба, душеполезная беседа, и отец Амвросий сдал ему с рук на руки несостоявшегося причастника.
А спорить с Василием Игнатьевичем Савелий Морозов не отваживался – он Василия просто боялся. Тот сказал, когда и куда прийти с имуществом, – Савелий ослушаться не сумел. Объяснить природу этой власти незнакомого человека над собой Савелий не мог – было в ней нечто даже потустороннее.
Мысль о детях ему в голову тогда пришла – но бывший приказчик считал, что его совесть чиста. Дочь Дуня, бесприданница, удивительно хорошо выдана замуж, у нее можно тайком от супруга перехватить гривенничек и даже четвертачок, сын Митька определен в лавку к купцу Торцову, за него можно не беспокоиться…
И надо ж тому случиться, что Митька вместе с ним поплыл на Соловки! Да еще Василий Игнатьевич этим явно доволен!
Савелий Морозов был уверен, что он – хороший отец. Сын пристроен туда, где его кормят-поят, уму-разуму учат, даже деньги на праздники дарят, так что можно прибежать к нему и взять пятачок или гривенничек. В торцовских лавках Митя не забалуется, хорошо себя окажет – со временем станет младшим приказчиком или даже когда-нибудь старшим приказчиком, женщины торцовского семейства и невесту ему присмотрят. А теперь – вот он, сын, который испуганно косится на родного батю, да и батя на него косится, и оба друг другом недовольны. Вот что с сыном делать в Соловецкой обители?
Да впридачу приятель у него завелся – тот еще висельник! Савелий понимал, что именно Федька затащил Митю на барку, чтобы вдвоем отправиться в плаванье. А ничего поделать с этим супостатом не мог – супостат пришелся по душе Василию Игнатьевичу. И не только Василию – Иван Родионов тоже охотно беседует с любознательным Федькой.
С другой стороны, парнишки друг за дружку держатся, вместе им весело, всюду лазят, пристают к взрослым с вопросами. Без этого шустрого Федьки Митя сидел бы возле бессловесного батюшки и тосковал… и смотреть на него было бы тошно…
Савелий Морозов первые дни был настолько ошарашен собственной отвагой, потащившей его в плаванье, что хмель душевный вполне заменял ему тот хмель, что в шкалике. Но желание выпить родилось и окрепло. И всего-то хотел – рюмашечку! В Великом Устюге не удалось, далее, на пристанях, не удалось – за ним следили, а в Архангельске он попросту проспал возможность сбежать в трактир, пока Василий гонялся за Сидором Ушаковым.
А если бы и сбежал?
Савелий вновь ощутил себя осенним листком. Оторвался листок от ветки, гонит и тащит его ветер, сопротивляться бесполезно. Куда, зачем? Трудиться? Да что такое – трудиться?..
Последнее занятие Савелия Морозова было – учить грамоте и счету детей сапожника. Занятие приятное – сиди с ними под окошком, слушай их лепет да вовремя покрикивай. А теперь?
Как стать трудником человеку, который сроду ничего тяжелее ведра с водой не поднимал? Однако слово дадено, дадено возмущенному отцу Амвросию, хоть и с перепугу – а дадено, причем в Божьем храме, перед образами. За нарушение Господь строго спросит.
Ни с кем из прочих трудников Морозов не сошелся. Славников казался ему гордецом, к которому и подойти-то неприятно, Гриша Чарский – странным и непонятным созданием, вроде попугая в клетке, попугай знает много разных слов, а как с ним говорить – неизвестно. Это были люди из какого-то иного мира. Ушаков же внушал страх, но не такой, как Василий. Василий просто в каждом движении и слове выказывал привычку повелевать людьми, поди не покорись… А вот Ушаков…
Савелий видел, что ему шутки над людьми, не умеющими дать отпор, приятны, что он когда-то жил среди таких людей, возможно, был богатым купцом, хотя – купеческие шутки были какими-то иными, купец сперва тебе рожу горчицей вымажет, а потом за страдание и пять рублей сунет в зубы – беги, мыла купи на все, умывайся! Этот же старался уязвить словами – да и полушки от него не дождешься… И потому бывший приказчик старался держаться подальше от Сидора Ушакова, хотя другого подходящего собеседника пока не было.
Но за ужином что-то произошло.
Савелий Григорьевич как человек, вечно подневольный, умел угадывать настроение тех, от кого был зависим. И вот он увидел, что заносчивый Славников, который прежде даже от Василия Игнатьевича держался подальше, вдруг с ним как-то поладил, при этом загадочно поглядывает на Ивана Родионова. А к нему самому, Савелию, вдруг проявил благосклонность Ушаков и сел с ним рядом, даже шутил беззлобно, наклоняясь к его уху.
Женщины сидели за другим столом, и Ушаков вдруг пустился шепотом обсуждать их стати. Крепкая и бойкая Арина ему явно не нравилась, а вот тихую Лукерью он одобрил и даже стал науськивать Савелия, чтобы попробовал к ней подластиться. Морозов уже и забыл, когда подбивал клинья под баб – было после смерти не шибко любимой жены что-то такое, мимолетное, но ценности он, человек пьющий, для приличной бабы не представлял. Да и для гулящей тоже – денег-то у него в одном кармане блоха на аркане, а в другом вошь на веревочке.
Про Катюшу Ушаков не сказал ни слова.
После ужина возникла необходимость посетить нужник, и Савелий, сунув босые ноги в коты, спустился во двор, в дальний его конец, где выстроился целый ряд самых простых нужников.
А на обратном пути он увидел кое-что странное.
За углом приюта богомольцев стояли Василий с Катюшей и о чем-то спорили. Издали Савелий не слышал голосов, понял только, что Василий ругал Катюшу, а она вроде бы оправдывалась. Чтобы Василий не подумал, что Савелий подслушивает, бывший приказчик решил обойти здание с другой стороны и не попасться Василию на глаза. И тут обнаружилась еще одна странность.
Издали за Василием и Катюшей следил Славников. При этом он, кажется, даже ничего рядом с собой не видел и не слышал – так увлекся подглядыванием.
– Ишь ты… – прошептал Савелий.
Если бы пересказать это «ишь ты» более пространно, получилось бы: «А ведь тебе, голубчик, девка нравится, дай тебе волю – тут же ты ее и уговорил бы, да только против Василия Игнатьевича у тебя кишка тонка, он ее для себя бережет, для себя ее на Соловки берет, грешник окаянный!»
Катюша Савелию не нравилась – уж больно задирала нос, почти как Славников. Гриша – тот был попроще, даже с сыном Митькой возился, что-то ему рассказывал. Но Гриша был непонятен, а Катюша – очень даже понятна: красивая девка, как и полагается бабьему сословию, прилепилась к крепкому мужику и тянет из него подарки. Живя с семейством сапожника, Савелий иногда помогал ему и стал кое-что смыслить в обуви. Такие узкие ботиночки, как у Катюши, в починку к Харитону Данилычу попадали редко, и обращался он с ними очень бережно, потому что дорогие. А как бы девка сама заработала на такие ботиночки? Вот то-то и оно.
Потом трудники и Василий сошлись в трапезной, молча поели. До ужина каждый сидел на своей постели и занимался чтением, благо душеспасительных книжек хватало, они стояли на этажерке и стопками – на подоконниках. Даже Митя и Федька, притихнув, вдвоем смотрели в одну книжку и тихо переговаривались. Потом оказалось – они откопали географический атлас и замышляли путешествие в Африку.
Африка же им понадобилась, потому что видели – над подворьем тянется к югу птичья стая, за ней – другая. Гуси, лебеди, гагары и утки стремились в тепло, в полуденные края, а что ж это, коли не Африка?
Наутро Василий, взяв с собой Ушакова, ушел в город, и тут же сбежал Родионов.
Василий, зная, что в обители мяса вдоволь не дадут, а в основном рыбное, хотел напоследок полакомиться жареной утятиной – да и трудников угостить. Битой птицы в эту пору хватало, охотники целыми лодками привозили ее в Архангельск, и она была дешева. Кабы не в обитель ехать – можно было бы взять побольше и заморозить.
Когда Василий и Ушаков пришли с корзинами, Савелий тут же донес про Родионова.
– Ничего, не пропадет, – рассеянно отвечал Василий. – А ты бы лучше сбегал на поварню за мисками и хлебом. Федька, Митька, вздувайте самовар, мы баранок с маком принесли!
Савелий, предвкушая славную трапезу, потихоньку сунул нос в корзины. В одной, кроме утятины, лежали завернутые в газетный лист бабьи коты. Они явно предназначались Катюше.
Родионов пришел поздно вечером. Славников и Гриша оставили для него миску жирной утятины.
– Ух, устал… – берясь за утиную ножку немытыми руками, сказал Родионов.
Василий молча глядел, как он ест. Наконец Родионов оторвался от опустевшей миски, сгреб в нее косточки и поднял голову.
Затем он развел руками.
Савелию это было непонятно – и его раздражало, что Василий и Родионов безмолвно о чем-то договорились.
– Стало быть, с нами? – тихо спросил Василий.
– Стало быть, с вами.
В словах и в голосе было какое-то мрачное упрямство.
Это было и вовсе удивительно. Василий, стало быть, дотащил Родионова аж до Архангельска, не зная, поплывет ли тот на Соловки? Да ведь Родионов так уверенно говорил, что плывет замаливать грехи! Что же это делается?
Долго ждать не пришлось – через два дня на Соловецкое подворье прибыл человек, сказал, чтобы собирались. Пришло шесть кочей, поморы привезли на продажу свой товар – рыбий зуб, шкуры заячьи, оленьи и песцовые, кожи нерпичьи и моржовые, сало оленье и медвежье, рыбу соленую – палтусину, семгу, сельдь, но главным образом – треску, которая, что соленая, что сушеная, считалась у северян самой здоровой пищей. Их уже поджидали перекупщики, предлагавшие поморам нужный им товар. Отдохнув сутки или двое, мореплаватели были готовы в обратный путь и могли взять с собой паломников, трудников и грузы для обители.
– Слава те, Господи! – сказал Василий. – Хорошо, что с поморами пойдем. Они мореходы опытные. Сейчас обитель это дело под себя подгребает, разрешение такое из столицы получено, чтобы на своих судах паломников и трудников возить, дело выгодное, за навигацию чуть не тысяча человек на Соловки плывет. А у меня более веры моим поморам. Пароход тоже ходит, но где он сейчас – неведомо. Думаю, на островах в тихой гавани будет стоять до навигации. Так что сегодня же отслужим в домовой церкви молебен, я сговорюсь с батюшкой. Иван Петрович, расстарайся – сбегай, уговорись с извозчиками. А лучше найми три или даже четыре телеги.
– Будет исполнено, – деловито отвечал Родионов.
Рано утром Василий Игнатьевич вышел за ворота подворья, где уже ждали четыре телеги, и повел возчиков, крепких мужиков, за мешками и ящиками.
Трудники наскоро позавтракали, напились чаю, оделись потеплее и спустились во двор. Иноки, зная, что будет обычный утренний дождь, снабдили их рогожами – чтобы, сидя на телегах, укрываться.
Вместе с трудниками на Соловки отправились три инока, которые летом и даже осенью бродили, собирая деньги на обитель, доходили даже до Ярославля, а зимовать собирались в скиту на Анзерском острове. Они везли с собой две большие кожаные кисы с деньгами – в Архангельске поменяли пожертвованную медную мелочь на серебро и даже на золотишко. А зимовать собирались на Анзоре, в скиту.
– В скитах тепло, – объяснил один Савелию. – Дрова не казенные. А в обители порой случается, что мерзнешь. Там все строение каменное, от камня холодом тянет, а в скитах поставлены срубы, сложены хорошие печки. Грешен, не могу умерщвлять плоть морозом, я лучше пост на себя построже наложу.
Савелий Морозов затосковал – до него дошло, что обратного пути нет, теперь на материк – разве что в мае, когда вскроется устье Двины и начнется хоть какая-то навигация. Не побежишь ведь в Архангельск или даже поближе, в Онегу, по льду, да еще без гроша за душой.
Он поглядывал на Василия и Катюшу – было любопытно, как они устроят свои тайные делишки в обители. Даже на Катюшины ноги поглядывал – обула ли она коты?
Женщины, ожидая приказа лезть на телеги, стояли на крытом крылечке. Катюша поверх шубки куталась в большой красно-синий клетчатый платок, другим платком, сереньким, повязала голову, причем по-старушечьи, не то по-монашьи, прикрыв лоб и щеки. Подружки, Арина и Лукерья, перешептывались, как всегда, Федуловна бормотала молитвы.
Родионов и Гриша Чарский тихо разговаривали, гордец Славников молчал. Савелий был им сильно недоволен – за время пути все трудники обращались к Савелию Григорьевичу, что-то спрашивали, что-то советовали, один этот – ни словечком не порадовал. Морозов злорадствовал: вот ужо в обители сломят твою гордыню…
Рядом с Савелием Григорьевичем стоял Ушаков. Просто стоял, молчал, не шутил. И вид у Сидора Лукича был пасмурный, на роже написано: кто сунется – изругаю в пух и прах. Он явно не желал плыть на Соловки. И Василий Игнатьевич столь же явно показывал: Ушаков, я тебя вижу, и попробуй только сделать три шага в сторону. Все это было Савелию непонятно. Трудничество – дело добровольное, отчего же Василий чуть не силком тащит туда человека, не желающего трудиться? И отчего человек покоряется напору Василия – совершенно непонятно.
Пристань, откуда поморы на кочах забирали паломников, трудников и грузы для Соловецкой обители, была в Соломбале. Туда можно было добраться на извозчике или на телеге по очень длинному наплавному мосту, который на зиму еще не разобрали.
Сейчас судов там было мало – те, что везли в Архангельский порт товар из Колы, Кеми, Онеги и Мезени, ушли домой до весны. Доставлять новый товар не имело смысла – те парусники, что забирали его в Норвегию и прочие дальние страны, торопились уйти до начала октября, пока устье Двины не схватилось льдом.
Пока трудники добрались до Соломбалы – дождь перестал, только малость моросил.
Их высадили на пристани, и Василий сразу указал заветренное место – за большими кучами довольно крупных камней. Тут же возчики стали сговариваться с перекупщиками – чтобы взять обратный груз в Архангельск.
Кочи были невелики – около шести сажен в длину, сажени по три в ширину, на каждом – по две мачты с прямыми парусами.
– Глядите, парнишечки, вот на этих кочах мы и поплывем, – сказал Мите с Федькой Василий. – Разделимся так – в один погружусь я с Сидором Лукичом и господином Морозовым, в другой, вон тот, что побольше, господа Славников, Чарский и Родионов, вы – с ними, будете о всяких любопытных вещах толковать, время быстро пролетит, в третий честные отцы – отец Онуфрий, не отставайте! В четвертый – наши дамы.
Из-за дам вышел небольшой спор – каждый коч старался залучить к себе красавицу Катюшу, и молодые поморы кричали ей:
– К нам, деушка, к нам! Шанежки иссь с топленым маслицем! А у нас – пироги ягодны! Порато сладки! А у нас – ишшо калитку на верхосытку!
Катюша стояла гордо, отвернувшись от кочей. Всем видом показывала: больно вы мне, городской крале, надобны!
– Господи, они что же, калитки едят? – ужаснулась легковерная Лукерья.
– У чухны так пирожки называются, бабонька, – ответила опытная Федуловна. – Я до Петрозаводска доходила, там нас, странных людей, угощали. Ничего, просто пирожки, которые с кашей, которые с репой.
– А боязно… – призналась Арина.
– Что, и тебе? – усмехнулась Катюша.
– Поди, и тебе тоже.
– А я не боюсь! Я столько повидала, что страха во мне никакого не осталось!
В Катюшином голосе была непонятная гордость.
– Тяжко тебе там придется, девка, – сказала, намекая на нелегкие послушания трудницы, Федуловна.
– А я знаю, для чего туда иду. Знаю – а никому не скажу.
Лукерья и Арина переглянулись.
– Ох, не обошлось тут без молодца… – тихо произнесла Арина.
– Да ну тебя, и с твоими молодцами вместе! – выпалила Катюша, отвернулась и пошла по пристани – куда глаза глядят.
– А молодец-то – вот он, – Арина взглядом указала на Василия.
– Грех это, грех, – ответила ей Федуловна, которая, судя по всему, тоже заметила тайные переговоры между Василием и Катюшей. – Сплошной грех, и они еще на Соловки собрались, в святые места…
– Может, там и повенчаются? – неуверенно спросила Лукерья. – Может, для того он ее туда везет?
– Экая ты сущеглупая, – отвечала Федуловна. – Там же монахи, они себя блюдут, у них свои службы, они, поди, и венчального чина-то не знают.
Василий меж тем заметил наконец давнего знакомца, помора Гаврилу Ивановича, который привел самый большой из кочей. Морозов смотрел, как они сошлись и по-приятельски обнялись.
Старый помор стоял на пристани, распоряжаясь выгрузкой товара. Савелий сразу понял – это человек нерусский, русские так не одеваются. На поморе была остроконечная шапка с длинными, чуть ли не по пояс, ушами, сшитая из кожи неведомого зверя. Короткий кафтан был из бурой шкуры. На ногах – удивительные сапоги, похожие Савелий видел в старой книжке про царя Петра – в ту пору, когда еще служил приказчиком и иногда читал книжки. Они были до середины бедра, чтобы не спадали – пристегивались ремешками к поясу под кафтаном, а под коленками были схвачены кожаными шнурами. Так же были одеты и молодые поморы, помогавшие грузчикам.
Нерусских Савелий не любил. Он и на Родионова косился, видя, что в роду имелись татары. Всякий немец был ему неприятен. Гимназический учитель, хотя и с самой русской физиономией, казался очень сомнительным – неспроста он знает французский язык, непременно в родне водились иноземцы. А поморы, среди которых имелись скуластые и узкоглазые, вызывали неприязнь еще и потому, что их деды и прадеды явно брали жен из ненецких и самоедских племен; значит, на них следовало смотреть свысока.
Василий явно был не чистокровный русак, а с примесью неведомых кровей. Но не это даже смущало Морозова – а удивительная способность Василия ладить с людьми и привлекать их на свою сторону. Взять тот же кагор – ведь не хотели служители подворья проверять все бутылки одну за другой, а Василий как-то очень ловко убедил их это сделать – без ругани и без шуточек, но уверенно и твердо. Опять же, поморы – они чужих, сказывали, не любят, а с Василием у них дружба…
Родионов и Славников, подойдя к краю причала, с любопытством разглядывали прежде не виданные суда. Федька и Митя держались при них.
– Что это? – спросил Славников. – На этом – по морю ходят?
Ему доводилось видеть не только купеческий флот Вологды, но и гравюры с прекрасными стремительными фрегатами. Сам он был человек сухопутный, но образ летящего под всеми парусами фрегата с детства застрял в памяти. И ему казалось, что судно, на котором можно ходить с хорошей скоростью, должно быть длинным и узким. Эти же – какие-то пузатые…
– На других судах не так хорошо получается, – обернувшись к нему, объяснил Василий. – Поморский коч не вчера придуман. У других судов срок навигации короткий, а у коча – долгий. Он, вишь, округлый, как орех, попадет меж льдинами, стиснут его, – так они не ломают ему борта, а выталкивают наверх. А по битому льду он и подавно хорошо ходит. Не барка, чай…
– Наши коцморы и волоком тасцить сподруцно, – добавил Гаврила Иванович. – А цто до льда – так они у нас в коце.
– В коце? – переспросил изумленный Федька.
– По-нашему – в коче. Так у них ледовая шуба называется. Отсюда и суденышко зовется – коч, – вместо помора ответил Василий. – Я уж знаю, в четвертый раз на Соловки иду.
Родионов, которому не менее парнишек было любопытно, подошел поближе, стал слушать.
– Коч вот тут и вот тут дубом или лиственницей поверх бортов обшит, чтобы лед борта не пропорол. Кабы мы позже пришли, то увидели бы, сколь ловко они волоком свой коч через сплошной лед перетаскивают. Когда большие льдины его вытолкнут – то уже ни парус, ни весла, а только волоком. И вот берут молодцы большой якорь, в четыре с половиной пуда, спускаются на лед, отходят подальше, рубят лунку, туда лапу якоря спускают и цепляют. А потом те, что на коче, выбирают якорный канат – и судно ползет. Неторопливо – да ведь и на месте не стоит.
– Сами видели? – уточнил Родионов.
– Я с ними на промысел ходил. Заскучал в обители, сам отец настоятель нам благословил – проветриться да и улов привезти. В Филипповских садках-то возле обители рыба есть – и сельдь, и треска. Но она – про запас.
Морозов нахмурился – вот ведь и настоятеля хитрый Василий как-то очаровал.
Подождали, пока Гаврила Иванович позволил подниматься на суда. И, перекрестясь, пошли по сходням.
Савелий Григорьевич взошел на палубу коча и с недоумением уставился на довольно большую дырку в ней.
– Не бойся, там лестница, спускайся в трюм, – сказал ему Василий. – В трюме поплывем. Обратного груза у них мало, нам в трюме будет хорошо, просторно. Бог даст, обойдется без бури.
– А другого места для нас нет? – спросил Ушаков.
– Нет другого места. В носу – печь, там сами поморы живут. Там же у них образ Николы-Угодника, кому охота помолиться – они пустят. А в корме живет кормщик.
– Так, значит, у них там – печь, а нам тут – мерзнуть? – возмутился Ушаков.
– Не нравится – беги по водам, аки посуху, – предложил Василий. – Заодно и согреешься. А чтобы не отстал, мы тебе горло веревкой захлестнем, за собой на веревке потащим.
Молодые поморы рассмеялись.
Савелию тоже не понравилось, что двое суток придется просидеть в трюме, но он смолчал – боялся, что Василий и ему что-нибудь этакое предложит.
– Приходите к нашей пецке греться, – предложил совсем молоденький помор Матюша.
Трюм оказался довольно большим – хоть в пляс пускайся. Частично он был занят мешками и ящиками. На мешках можно было устроить себе вполне пристойное ложе.
– Ничего удивительного – такой коч более тысячи пудов берет, где-то же груз должен помещаться, – сказал Василий. – Но рано радуетесь, сейчас, когда стало ясно, сколько груза, сюда начнут камни заносить. Да, те самые, что на пристани. Судно должно быть настолько тяжелым, чтобы его волной не перевернуло.
Потом Василий спустился на пристань и пошел к тому кочу, где должны были разместиться женщины. Савелий сверху следил за ним – хотел видеть, как он станет разговаривать с Катюшей. И точно – отведя ее в сторонку, Василий стал что-то втолковывать и указывать рукой то на кочи, то на телеги, куда уже грузили тюки шкур и кож. Катюша мотала головой, что означало: нет, ни за какие коврижки. Дорого бы дал любопытный Морозов, чтобы услышать их беседу.
Как он и полагал, с соседнего коча наблюдал за Василием с Катюшей Славников.
В голове у Морозова произошло некое раздвоение. Он одновременно желал, чтобы Славников увел у Василия Катюшу, тем сильно огорчив заносчивого божьего человека, и чтобы Василий не отдал обуреваемому гордыней Славникову красивую девку.
Потом на кочи погрузили все, что следовало доставить и в Соловецкую обитель, и в поморские селения. Василий загнал трудников на суда, все, как водится, помолились, причем поморы более просили милостей не у Господа, не у Иисуса Христа, а у Николы-угодника, усмирителя и утишителя бурь и напастей. И кочи отчалили.
– Ну, молись Богу, православные, – сказал Василий. – Вроде мои поморы не ждут непогоды. Глядишь, и добежим до Соловков без приключений.
Стоять на палубе Савелий боялся – гладкая, коли волна по ней пройдет – так и смоет тебя, грешного, опомниться не успеешь – а ты уж на том свете. Он осторожно полез по стоячей лестнице в трюм.
Там, в трюме, уже сидел Ушаков. Свет из дырки ложился квадратным пятном на грязный пол, и в этом пятне Савелий с удивлением увидел игральные карты.
– Пока злыдень не видит, – сказал Ушаков. – Перекинемся, что ли, скуки ради? Потом ведь – сидеть тут в потемках.
– Нехорошо, поди, – сказал Савелий.
– А что плохого? Мы же еще не трудники, мы только собрались в обители потрудиться, нам можно.
Савелий ухмыльнулся. Перекинуться в картишки – это был бунт против властного Василия. О бунте же он давно помышлял, только видел другую возможность – напоследок так набубениться, чтобы до поросячьего визга.
Поскольку Василий с удовольствием проводил время с поморами, Ушаков и Морозов играли в дурака. На кон поставили половину полагавшегося путешественникам обеда, поскольку денег игроки не имели – Ушаков побожился, что все отдал Василию, Савелий повторил божбу. Савелий продулся раз, другой, понял, что остался без обеда, пожелал отыграться, вернул половину, потом опять проиграл, опять выиграл, опять проиграл. Словом, в душе у него вскипели страсти, и он уж был готов поставить на кон свой медный нательный крест.
– Ладно, бог с тобой, не сидеть же тебе голодному, – сказал Ушаков. – Давай играть будем не на кашу с постным маслом, а на уроки.
– Это как же?
– И очень просто. Я, понимаешь, только с виду здоровенный, а так-то слабосильный. Нам там будут каждому задавать дневной урок. Так ты по моей просьбе за меня потрудишься. Тебе-то что, ты человек простой, а я нежного сложения, отродясь ни лопату, ни вилы в руки не брал.
Савелий чуть было не брякнул, что впервые видит нежное сложение весом в шесть пудов, да промолчал.
Игра продолжалась, хотя в трюме уже стало довольно мрачно, пока не началась качка.
Савелий и Ушаков до сих пор не знали, что это за радость. Сперва поехали по полу карты, потом мешки, на которых игроки сидели, обоих стало мотать. Коч принялся рыскать – это было общей бедой суденышек такого вида, с выработанным за века соотношением ширины и длины.
– Я сейчас сдохну, – пожаловался Морозов.
– Вместе сдохнем. Кой черт занес меня на этот коч? – сердито спросил Ушаков. – Дурак я. Бежать нужно быть! А я, вишь, неповоротлив, бегаю, как слон, вот они меня и изловили.
– Как же бежать, когда ты слово дал пойти в трудники? – удивился Савелий.
– Не давал я никакого слова! А все Васька, сволочь! Удавить его мало!
В трюм, будто чуял, что его поминают, спустился Василий.
– Помираете, болезные? А ну, живо наверх! Заблюете весь трюм – сами отмывать будете. Ну, живо, живо!
Он чуть ли не пинками выгнал трудников на палубу. Там от холодного ветра и водяных брызг им как будто полегчало.
– Экий туман, – сказал Василий. – В такой туманище мои поморы лоцию прячут, а Николе-угоднику молятся, чтобы море-батюшко был к ним подобрее. Ступайте потихоньку на нос, там вас покормят.
Сам Василий чувствовал себя на палубе прекрасно и уже разжился у знакомцев оленьей малицей по колено, в которой почти не ощущал ветра.
– Покормят?! – возмутился Ушаков. – Да моя утроба сейчас ничего не примет!
– Ну, будешь потом есть холодную кашу.
Так оно и вышло. Качка поутихла, кашевар выскреб из котелка все, что осталось, сдобрил топленым маслом и отдал трудникам, прибавив по два рыбных пирога. С такой добычей они и вернулись в трюм.
Играть было невозможно. Сколько-то времени они молчали. Савелий не решался заговорить первым. Наконец Ушаков соскучился – и только от скуки стал расспрашивать Савелия о его житье-бытье.
Тому поневоле пришлось признаться, что смолоду, умея хорошо считать в уме, служил приказчиком, первый хозяин женил его на дочке своего служащего, и вот как раз семейная жизнь Савелию не пошла на пользу. Когда жена то беременна, то скидывает, то рожает, то кормит, то дети мрут, поневоле побежишь из дому туда, где наливают. Так что во всем была виновата дура-жена – и в том, что Савелия пять раз выгоняли с приказчичьей должности, – тоже она.
– Экий ты несуразный и пустой человечишка, – сказал Ушаков. – Только и радости, что дочку хорошо замуж выдал. А внуки о тебе и не вспомнят.
Морозов был сильно недоволен – но сам же позволил Ушакову говорить такие неприятные слова, а не позволить – не мог. Тому доставляло удовольствие унижать слабого собеседника, и Савелий в такой скверной беседе ощущал себя слабым, что противопоставить гадким словам – не знал. И вдруг сообразил.
– Отчего же несуразный? У меня, слава богу, сын есть! Грамоте обучен, служил в торцовских лавках, у самого Африкана Гавриловича на виду! Сам Африкан Гаврилыч хвалил его за услужливость!
И точно, было такое – Торцов, человек по натуре не злой, хотя и взбалмошный, однажды при всех сказал Савелию, что он ноготка Митькиного не стоит, что Митька, коли будет смирен и услужлив, далеко пойдет.
– То-то твой Митька от Торцова сбежал и с тобой на Соловки отправился! – поддел Ушаков.
Савелий уже забыл, что сын прибежал на барку за гривенником и отправился в плаванье случайно.
– А кто, как не мой Митрий, со мной на Соловки поплывет? Беспокоился обо мне, исцелить меня от порока желал! – И неожиданно для себя Савелий завершил: – Дай ему Бог здоровья!
Ушаков промолчал, и тут Морозов, набравшись смелости, пошел в атаку.
– А у тебя детки есть, Сидор Лукич? Парнишки или девочки? В каких годах?
– Пошел ты к монаху на хрен!
Так злобно и неожиданно завершил разговор Ушаков. После чего оба плыли молча. Лишь несколько часов спустя Ушаков сказал:
– Ты мне двадцать два урока дневных проиграл. Попробуй только не отдать – с грязью смешаю.
О том, какова работа на соляных варницах, Ушакову и Морозову рассказали иноки на Соловецком подворье. Восторга у них это описание не вызвало.
Трудники, которых вел в обитель Василий Игнатьевич, как раз хорошо успевали к началу солеваренной поры. Зима была для этого ремесла самым удобным временем, потому что соль-поморка, как сказали иноки, вымораживалась.
Савелию, видимо, предстояло снимать в ямах с морской водой образовавшийся на поверхности пресный лед; колоть и снимать не один раз, пока в яме не образуется крепчайший рассол, в котором можно солить рыбу. Тогда этот рассол вычерпать ведрами, часть действительно залить в бочки, где он будет дожидаться рыбы, а часть нести к цренам – огромным сковородкам, под которыми день и ночь горит огонь.
Для этого в ямах устраивали печи, над печами – домики, и в этих домиках помещались железные црены. Вода в них кипела постоянно, и не так давно по всему побережью Онежской губы зимой поднимались к небу струи дыма от варниц и пара. Когда на црене собиралось достаточно соли, рассол более не добавляли, соль сушили и ссыпали в мешки или кули. Цвет у нее получался сероватый, на вкус – горчила.
Но были на варницах и другие послушания – кто-то же должен поддерживать огонь в печах и подносить дрова. Летом же следовало чинить печи. У поморов они были самые простые, но монастырские – из обожженного кирпича, который нарочно изготавливали и привозили с Соловков.
Словом, труд, о котором Василий Игнатьевич толковал как о душеспасительном, на деле оказывался довольно неприятным.
Иноки рассказали также, что теперь монастырских варниц стало гораздо меньше, и употребили неожиданное в их устах слово «конкуренция». Морозов даже сперва не понял, Ушаков ему потом объяснил. Оказалось, что на южных российских озерах тоже можно добывать соль. Но не так мучительно – там были залежи, бери лопату да и копай. А на озере Баскунчак, страшно даже вообразить, роют шахты для добычи соли. И соль там кристально чистая, похожая на дробленый лед. Конечно, такую купцы берут охотнее, чем серую.
Не то чтобы иноки были очень огорчены тем, что беломорская поморка не пользуется более особым спросом, – обитель имела и другие способы заработать деньги. А им хотелось, чтобы влияние монастыря распространялось на все окрестности и на всех поморов.
Савелий понимал, что труд будет до седьмого пота, понимал также, что Ушаков заставит его работать заместо себя, и на душе делалось все сквернее. Он не мог взять в толк, как вышло, что Сидор Лукич втравил его в столь опасную игру. В Вологде-то играли, ставя на кон грошик, ну, копеечку.
А тут еще качка… И в брюхе муторно…
– Савелий Григорьевич, прости меня, Христа ради, – вдруг сказал Ушаков. – Не сдержался. Глупостей наговорил. Прости! Дурь на меня напала!
– Бог простит, – отвечал удивленный Морозов.
– Ты не бойся, нам с тобой главное – попасть на варницы. Туда будем проситься! Только туда! А там уж…
Ушаков замолчал. Он услышал, как в темноте, довольно ловко, в трюм спускается Василий Игнатьевич.
– Ну что, братцы, совсем заскучали? – спросил Василий. – А вот мы сейчас помолимся дружненько. Акафист Николе-угоднику пропоем. В море-батюшке Никола – первый помощник. Так поморы говорят, а они лучше знают.
Глава 4
В трюме коча, где поместились Славников, Гриша, Митя и Федька, образовалось нечто вроде светской гостиной: беседа велась об изящной словесности.
Гриша сперва держался от Митьки подальше – помнил, как возле гимназии раскричался при парнишке, прямо нервическая дама какая-то, а не мужчина. Ему и впрямь было стыдно. Однако Митя то ли забыл про ту встречу, то ли не придал ей никакого значения. И Гриша понемногу стал с ним сближаться.
Он ведь пошел в преподаватели не потому, что после университета более податься было некуда. Грише нравилось учить, нравилось объяснять, он радовался, видя в глазах понимание. Но хитрые гимназисты живо сообразили, что этот чудак кричать на них и жаловаться начальству просто не способен. Оттого порядка на Гришиных уроках было очень мало.
Гриша понял, что Митя проявляет интерес к чтению. Мальчик же, узнав от Родионова, что он преподает русскую словесность, задавал ему вопросы о книгах, получал ответы о Пушкине и о баснях Крылова, но настоящего разговора пока не получалось. И вот двое суток совместного плаванья дали им такую возможность.
Настоящая качка еще не началась, и Славников сравнил их путешествие с пребыванием Ионы во чреве китовом, разве что трюм был гораздо просторнее. Гриша шутку оценил, Митя тоже кое-что слышал о ките, проглотившем и извергнувшем пророка Иону, а вот Федька по части библейских пророков был девственно чист – он и слов-то таких не знал. Гриша и Славников даже заспорили – приступать ли к Федькиному теологическому образованию прямо сейчас, благо время есть, или сдать его на Соловках инокам – те уже наловчились толковать о Библии с малограмотным народом. Решили – пусть в дебри этого невежества иноки погружаются.
Гриша побаивался, что попросту не сумеет ответить на вопросы шустрого Федьки. А Славников совершенно не хотел рассуждать о божественном – у него накопилось в душе немало противоречий по этой части, и он хотел сперва разобраться в обители с самим собой.
Федька же, довольный, что богословские разговоры откладываются, сообщил, что Митя обещал ему пересказать своими словами прочитанные книжки о рыцарях. Это всех устроило.
– Я про Петра Златые Ключи расскажу, как он на коне верхом бился копьями, хотите? – спросил Митя.
– Мы слушаем внимательно, – отозвался Славников. Он лежал на полу трюма, подстелив рогожу, заснуть все равно бы не мог, да и не желал – хоть и не так часто, как прежде, а беспокоили его страшные кровавые сны.
– Во французском королевстве жил князь Вольфанг, и у него была жена Петронилла, сестра французской королевы, – начал Митя. – И у них был сын Петр, который любил всякие рыцарские дела – верхом гонялся, копьем дрался.
– Сидя верхом? – уточнил Федька.
– Наверно. Они все тогда ездили верхом, а не в экипажах, и свою храбрость показывали. Как вот гусары или уланы.
– И девки – верхом?
– А ты что, не видел, как госпожа Арефьева разъезжает? Я – видел. Ноги – на одну сторону, смотреть страшно – ну как свалится? И этот Петр был самым лучшим рыцарем во всей Франции. И вот туда приехал Рыгардус…
– Кто?
– А бог его знает. Написано – Рыгардус, имя такое. Он был из неаполитанского королевства. И он сказал Петру, что не надо сидеть дома, а надо ехать по свету и добывать себе славу. Петр его спросил, куда бы лучше поехать за славой. А Рыгардус говорит: да к неаполитанскому королю, он рыцарских людей любит и на них деньги тратит. И еще у него есть дочь, прекрасная королевна Магилена…
– Женихов, что ли, заманивает? – догадался Федька.
Славников невольно улыбнулся – а улыбаться он, как ему казалось, давно разучился. И посмотрел на Федьку с интересом – ему понравилось, как кудлатый непоседа задает вопросы и делает выводы.
– Да нет, он любил смотреть, как рыцари дерутся. И вот Петр пошел к своим родителям просить, чтобы они его отпустили. Они сперва не хотели, потом согласились, и матушка дала ему три дорогих перстня – материнское благословение.
– А батька?
– Не знаю, там не было написано. Ну, лошадь, наверно, дал, чемодан, шубу, все, как полагается. В общем, приехал Петр в неаполитанское королевство…
– А оно на самом деле есть?
Митя замялся. На Соловецком подворье они с Федькой отыскали в старых книгах географический атлас, но больше интересовались Африкой.
– Есть такой город Неаполь, он в Италии, – подсказал Гриша. – Может, там когда-то было королевство.
– И Петр остановился в доме у одного доброго человека. Тот ему все рассказал про королевский двор, и что приехал туда рыцарь по имени Крапяня…
Гриша невольно фыркнул.
– И тот Крапяня все рыцарские науки превзошел. И король велел выкликать рыцарей – кто бы померился силой с Крапяней. А делал он это ради дочери, прекрасной королевны Магилены…
– Так я ж говорил – женихов ищет! – воскликнул Федька. – У нас на дворе сваха живет, Тимофеевна, она с моей злыдней чаи распивает, я такого наслушался про женихов с невестами – жуть! Чтоб я когда женился? Да лучше сдохнуть! Магилена, видать, та еще образина, коли для нее батька заманивает женихов!
Славников хмыкнул, Гриша и Митя смутились.
– Ты продолжай, продолжай, – сказал Мите Славников. – Все это очень любопытно.
– А пусть он не встревает! И вот Петр стал собираться, пошел к кузнецу, и тот приделал ему к шлему два золотых ключа.
– Зачем? – спросил неугомонный Федька. – Что ими отпирать?
– А я почем знаю! – выпалил Митя, Славников же пригрозил выставить Федьку на палубу – пусть его горячность ветром сдует и сыростью охладит.
– Федя, ты хоть знаешь, кто такой апостол Петр? – спросил Гриша. – Тебе про него не рассказывали?
– А кто бы рассказал? Для бати что апостол, что татарин Махмедка с торга, – хмуро ответил Федька. – Может, в обители скажут.
– Не собрались ли вы пересказывать мальчику Евангелие? – спросил Славников. – Право, не стоит, и мы же условились – не наша это задача.
– Нет, я попроще объясню. Апостол Петр стережет ворота рая, у него в руке – золотые ключи от этих ворот. А того рыцаря тоже зовут Петр – в честь апостола. Потому он и велел приделать к шлему ключи. И вот он стал рыцарь Петр Златые Ключи. Теперь понятно?
Федька кивнул.
– И вот он поехал туда, где должны были биться рыцари… – тут Митин голос даже изменился малость, парнишка заговорил быстро и азартно: – И он надел шлем, взял копье, и поехал, и поехал, и стал это копье всюду метать! И против него выехал один дворянин неаполитанского короля, и Петр так его копьем ударил, что чуть совсем насквозь не пробил, и с коня сбросил, и его еле подхватить успели.
– Рыцарский турнир во всей красе, – сказал Гриша Славникову. – Я картинки видел… Вы читали «Ревельский турнир» Бестужева-Марлинского? Почитайте. Очень живо написано.
– Почитаю, – буркнул Славников. Чтением он не очень увлекался, хотя томик стихов мог одолеть, а многое из творений Дениса Давыдова знал наизусть, да и как не знать – в его полку нашлись умельцы и положили слова на кое-какую музыку, чтобы хором петь в застолье.
– А там был еще один рыцарь, и он начал со всеми сражаться, и против него выехал королевский дворянин, и они съехались, и конь того рыцаря напоролся на копье, и он упал, и дворянин его повалил, и он стал хвастаться, а все видели, что его конь на копье напоролся, и Крапяня тоже видел, и он ему сказал, что не будет с ним драться, и он потом решил отомстить за того человека!.. – на дальнейшие рыцарские подвиги у Мити просто не хватило голоса.
– Кто упал, чей конь, кто собрался отомстить? – перебил мальчика Славников.
– Да Петр же собрался отомстить! И он на того дворянина напал, и они сшиблись, так крепко ударились, что конь упал!
– Митя, мы уже поняли, что Петр всех одолел, дальше что было? – спросил терпеливый Гриша.
– Дальше не так занятно… – Митя вздохнул. – Дальше – про прекрасную королевну Магилену…
Таким образом, то и дело перебиваемый Федькой, Митя рассказал, что прекрасная Магилена захотела замуж за Петра, все ее рассуждения по этому поводу опустив, поскольку забыл их окончательно и бесповоротно. И что подослала к нему няньку Потенцияну – узнать про его настоящее имя, и что Петр свое имя не назвал, а послал королевне перстень – материнское благословение. Федька, понятное дело, вспомнил, что всякий путешественник, прибыв в город, отдает паспорт со своим настоящим именем дворнику, чтобы тот снес его в полицейский участок, и задал разумный вопрос: видел ли кто паспорт Петра Златые Ключи?
Разговор ушел в сторону – Славников и Гриша пытались понять, как же люди в давнее время жили беспаспортно и чем могли доказать, что не врут о своем имени и фамилии. Таким образом они развлекались в трюме и до обеда, и после обеда.
А потом началась настоящая качка. И стало не до Петра Златые Ключи, который без всякого документа шатается по Неаполю, ведет неинтересные для Федьки с Митей галантные переговоры с Магиленой и наконец вновь берется за рыцарские дела и схватывается на турнире с французским рыцарем Андреем, а потом собирается похищать королевну.
Кочи, выйдя из двинского устья, неторопливо шли на северо-запад. Чтобы дойти до Соловков, им следовало обогнуть Онежский полуостров. Сквозь туман мудрено было разглядеть поморские прибрежные села, но опытные кормчие уже каким-то нюхом чуяли, где стоят опознавательные знаки – большие деревянные кресты, в которые часто бывали врезаны образа. Отдых предполагался в гавани Сюзьмы – богатого поморского села, которое в летнюю пору принимало немало архангелогородцев и даже жителей Санкт-Петербурга – там были знаменитые целительные морские купания.
Митя и Федька хорошо перенесли качку и даже смогли задремать. Когда с палубы им крикнули, что пора выходить, они даже не сразу поняли, чего от них хотят.
Там, снаружи, уже стояла ночь, не понять было, где кончается вода и начинается берег, но светились окна в нескольких домах, и местный житель, помор Никола, поспешил к своим – чтобы приготовить помещение для ночлега трудников.
Митя и Федька еле добрели до нужного дома и повалились на мешки-сенники. Даже от еды отказались – а им предлагали шанежки, к шанежкам – латку топленого маслица, чтобы макать.
Зато они проснулись раньше всех и сбежали из дома – посмотреть, куда попали.
– Эк нас далеко занесло, – сказал Федька. – Ну, что куксишься? Сидел бы ты у своего купца в лавке и кормили бы тебя подзатыльниками. А тут – вольная волюшка! Мы же, как тот Петр с ключами, поехали невесть куда – чем плохо?
– Он за славой поехал…
– Митька, глянь!
Уже достаточно рассвело, чтобы видеть и поморские дома – их тесовые стены от возраста стали не просто серыми, а почти серебряными, и одноглавую церковку, и другие дома – похожие на городские. На берегу стояли в ряд вытащенные из воды рыбачьи баркасы, а подальше, где в море впадала речка, колыхался привязанный к колу веревкой плот. Федькино внимание привлек водовоз – он заехал на телеге с большой бочкой на мелководье, остановил лошадь и стал черпаком брать воду и заполнять бочку.
– Тут они что – морскую воду пьют? – удивился Федька. – Вот ведь куда мы забрались…
Из дома, где ночевали чуть ли не вповалку, вышел Василий – по нужде. Потом он заметил парнишек и подозвал их.
– Этой водой здесь лечатся, – объяснил Василий. – Летом, когда не слишком холодная, купаются. А теперь – везут в лечебницу, там греют и делают для хворых ванны – от ломоты в костях. Пить ее невозможно – больно крепок рассол, но иные пьют по три-четыре глотка – утробу лечат, от чего – не скажу, потому что сам не знаю. Вон, видите, дачи стоят? Это архангельские понастроили, чтобы летом тут жить. Нужду справили? Пошли в дом, голубчики мои, – поедим и в дорогу.
Митя пошел сразу, Федька задержался. Он молча смотрел в спину Василию и сопел.
Как-то так вышло, что матери Федька почти не помнил – умерла, когда ему было года три, не больше. Отец привел в дом «злыдню», которая сразу принялась рожать своих, до маленького Федьки ей дела не было. Вся ее забота была – чуть что, хватать за ухо или обжигать прутом по заднице. Сперва парнишка терпел, потом стал огрызаться и убегать; наконец, начал пакостить злыдне, а заодно и отцу. Его отдавали в учение – он убегал. Что такое новая рубаха, отродясь не знал, соседи из жалости отдавали ему обноски. И получилось, что впервые он услышал добрые слова от трудников, отцовскую заботу же получил от Василия – тот, не попрекая копейкой, купил ему ветхую, но теплую одежонку, чтобы довезти до Соловков, там же – обещал, что дадут другую.
В похожем положении был и Митя. Только Митя утешался книжками, а безграмотный Федька – шкодами и проказами. Наличие отца ни для того, ни для другого почти ничего не значило; норовистый Федька не мог простить отцу «злыдни», а кроткий Митя не мог устоять, когда пьяненький Савелий Григорьевич клянчил гривенничка и божился, что его завтра возьмут приказчиком в москательную лавку.
Для Федьки внезапный побег из Вологды был настоящим праздником. Что бы ни пришлось делать в обители – все лучше, чем без толку болтаться по Вологде. Митя же сперва испугался, потом подумал: чего бояться, рядом же тятя, вот перестанет пить – может, все наладится? Но переставший пить Савелий Морозов был мрачен, хмур и в обществе сына не нуждался. Он понимал, что все ждут от него проявления отцовских чувств, и оттого чувств становилось все меньше и меньше.
Как Васька нашел себе «почти-отца» в уверенном и сильном Василии, так Митя обрел двух «почти-отцов» в Славникове и начитанном Грише. Гриша сперва поглядывал на него косо, потом как-то подобрел. Славников же близко к себе не подпускал, но Митя чувствовал: этот в обиду не даст.
Василий пошел по селу – он уже знал, в каких домах можно купить «морское масло». Трудники, ожидая его возвращения, прогуливались по берегу, причем женщины, невзирая на запрет Василия, вместе с мужчинами. Они наблюдали, как на плот поднимаются молоденькие девушки-поморки, одетые тепло, но с закатанными выше локтя рукавами. Одна шестом оттолкнулась – плот переместился сажени на полторы. Другие девушки, встав на колени, опустили какие-то загадочные для трудников орудия в щель, проделанную в плоту, шарили по дну, что-то добывали, кидали в корзинки.
– Кого ж они там ловят? – спросила Лукерья и с надеждой посмотрела на Родионова; ей казалось, что в отсутствие Василия этот мужчина отвечает за все непонятные вещи. Родионов только развел руками.
Добыча, судя по всему, была невелика, и девушки вернулись на берег.
Потом пришел Василий, за ним старая поморка несла в корзинке горшки, обвязанные тряпочками.
– Вот, порадую братию. Там, на Соловках, и в самой обители, и в скитах, много стареньких, у них от вечной сырости косточки ломит. А морское масло – целебное, – объяснил он.
– От морских коров, что ли? – спросил Родионов.
– Да нет, его с поверхности воды собирают. В тихую погоду что-то этакое то ли со дна всплывает, то ли приплывает, такое вроде студня, округлое, и бахрома свисает. Жжется не хуже крапивы. И вот то, чем жжется, и есть морское масло. Очень хорошо для растираний.
– Дяденька Василий, а что там девки на плоту делали? – спросил Федька.
– Вот на этом? А они, ты не поверишь, жемчуг ловили. Так-то за ним знатоки в верховья рек ходят, здешние поднимаются в верховья речки Сюзьмы, но немного раковин отрывается, и их выносит сюда. Я думаю, плот тоже оттуда принесло. Тут его вязать незачем. Речной жемчуг, Федя. Он раньше был в цене, девки им свои повязки и всякие кокошники расшивали. Теперь его гораздо меньше стало. Почему – не знаю.
Федька явно не поверил – не могло же на свете быть такого, чего бы не знал Василий.
Две поморки покормили гостей и напоили чаем. После чего плаванье продолжилось. Один из кочей остался в Сюзьме, остальные шли на север.
Пока море было относительно спокойным, Федька и Митя стояли на палубе, наблюдали за слаженными действиями поморов, высматривали на берегу приметные кресты. Потом море взволновалось, их загнали в трюм. И там, в трюме, они просидели остаток дня и всю ночь, выбираясь только для кормежки и известных нужд, справлять которые на судне их выучили поморы и дали также тряпицы – вытирать подмытые холодной волной задницы.
Поскольку для этих нужд следовало отправляться на нос коча, чтобы не загадить борта, Федька первым заметил вдали точку, и эта точка принялась расти.
– Соловки, Соловки! – закричал он. Поморы расхохотались и объяснили ему, что это пока лишь Жижгин остров, Соловки малость подальше, но тоже скоро появятся. После чего Федьку и Митю уже было не прогнать с палубы.
Обойдя остров с севера, кочи повернули на запад. И вскоре стала видна восточная оконечность Анзерского острова – Колгуев мыс. Федька и Митя решили, что путь окончен, но Родионов их огорчил – на Анзерском всего лишь скиты, а прибыть следует на Большой Соловецкий остров, и для того, чтобы причалить в нужном месте, подойти к самой обители, обогнуть его и зайти с восточного берега – там, на Соловецкой губе, были устроены причалы, и до монастырских Святых ворот – рукой подать.
Теперь плыть стало интересно.
За высокими берегами Анзерского острова скиты не были видны, а только главы церквей. Лишь одна гора возвышалась посреди острова, оказалось, называется Голгофой. Федька такого слова не знал, ему наскоро объяснили – в память о той злополучной горе, на которой распяли Христа. Митя, более образованный, крестился на главы церквей. И Славников с Гришей, в прежней жизни почти забывшие этот обычай, глядя на парнишку, также крестились.
Федька творил крестное знамение, даже немного смущаясь, было в этом движении нечто – не то чтобы непривычное, а из иного мира, не того, где он без дела болтался по Вологде, дрался и мирился с соседскими мальчишками, таскал на торгу у баб-торговок то морковку, то яблоко, строил козни злыдне и грелся в подвале у сапожника Харитона Данилыча.
– А вот и Троицка губа, – сказал старый помор Гаврила Иванович, показывавший парнишкам местность. – Цетыре версты длиной, вдается в остров, и в глубине – Анзерский скит. А иные скиты – на южном берегу.
А дальше уже была северная оконечность Большого Соловецкого острова.