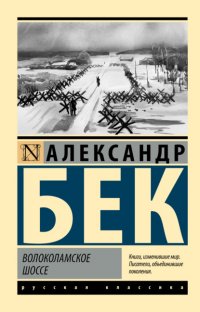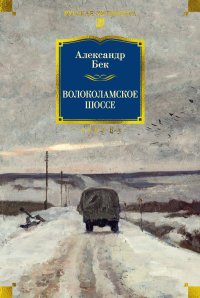Читать онлайн Новое назначение бесплатно
- Все книги автора: Александр Бек
Составитель серии В. И. Кичин
Текст печатается по изданию:
Бек А. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. Повести и рассказы. Новое назначение. М.: Худ. литература: Русский советский пен-центр, 1991.
© Бек А. А., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
* * *
Курако[1]
Повесть
Глава первая
Юг
I
Домны, расклепанные, разобранные, разложенные в штабеля гнутых листов, плит, балок, труб, пересекли океан вместе с мистером Джулианом Кеннеди и его братом Вальтером.
В теплом городе Мариуполе, на берегу зеленоватого моря, сложили из кирпича на извести и цементе два пня. Они поднимались на четыре метра. На пнях начали сборку печей.
Джулиан Кеннеди был знаменит. Решающие конструкции печей носили его имя. Засыпные устройства – системы Кеннеди. Охладительные приборы – системы Кеннеди. Каупера – системы Кеннеди. Джулиан Кеннеди был самым талантливым американским доменщиком – инженером, конструктором, строителем.
В 1898 году американцы закончили передачу завода Никополь-Мариупольскому акционерному обществу. Они уехали на родину, пробыв в Мариуполе пятнадцать месяцев.
Ведение печей приняли французы и поляки. Американские домны охотно и безропотно подчинялись американским инженерам. Когда поводья перешли в другие руки, печи вышли из повиновения.
Печь № 1 считалась погибшей. Тяжелое расстройство хода постигло и вторую домну.
В кабинете директора – мрачные лица. Там говорят по-французски. Распахивается дверь. Входит мокрый и грязный человек. Его сапоги обшиты грубым парусным брезентом. На голове войлочная шляпа, прожженная в нескольких местах. Так одеваются рабочие доменных печей.
Разговор в кабинете смолкает.
Вошедший спрашивает:
– Могу ли я переговорить с мосье директором?
Он произносит эту фразу по-французски. Французские слова вылетают у него непринужденно и легко, как родные.
Директор спрашивает:
– Кто ты и что тебе нужно?
Мастеровой вскидывает голову. Он тоже переходит на «ты».
– Ты должен меня знать. Я горновой второго номера. Берусь наладить печи.
– Что? Какие печи? – раздраженно спрашивает директор.
– Обе!
Это происходило в 1899 году. На Юге России ни один русский инженер не допускался к ведению доменных печей. Еще не началась пятнадцатилетняя война русского инженерства за вытеснение с площадок доменных печей французов, англичан, бельгийцев и немцев.
Горновой был наглец или сумасшедший. Его следовало бы выгнать вон. Директор не сделал этого. Он разрешил воскресить «труп»: в распоряжение горнового предоставлена была погибшая печь.
Печь умерла, едва изведав сладость белого огня, бушующего, как вихрь, под напором горячего дутья. Всего три недели назад раскаленный воздух, в мгновение при прорыве сжигающий насмерть человека, рвался внутрь через двенадцать отверстий, суживающихся, как брандспойты. Они называются фурмами. Теперь печь не дышала ни одной из фурм. Черным застывшим шлаком залиты изящные фурменные рукава системы Кеннеди. Ни одного кубометра воздуха нельзя вогнать в печь. Она холодна, неподвижна, она – труп.
Четверо суток, не смыкая глаз, горновой и трое подручных бились над печью. Утром на пятые сутки, когда песок на берегу хранил еще ночную свежесть, горновой побежал купаться. Он сбросил пробитую огнем брезентовую рубаху, хотел окунуться, упал на песок и заснул.
Печь гудела. Стенки ее клепаного железного панциря дрожали. Если бы у нее был голос животного, она заржала бы от полноты сил. Сквозь глазки фурм, через синее стекло – с ним никогда не расстаются доменные мастера – отчетливо виднелось горение кокса. Сияющие куски двигались, не останавливаясь ни на мгновение, «танцевали», как говорят доменщики. Из руды каплями выступал чугун, и тяжелый огненный дождь непрестанно падал в печи.
Горновой расплавил «козел», какого в России никто никогда не расплавлял. «Козел» – зловещее слово. «Козел» – застывший, затвердевший чугун в печи. «Козел» – это значило капут, каюк, конец: печь надо разбирать до основания.
Кувалдой, ломом, нефтяной форсункой горновой пробил и прожег в спекшейся черной чугунной массе узкий кротовый ход от фурмы к выпускной щели. И, не отходя от печи, по капле, по ложке, по ведру спустил из печи «козел».
Юг узнал фамилию горнового. Это был Курако.
II
О детстве Курако известно немного. Его мать была единственной дочерью Арцымовича, помещика Могилевской губернии. Арцымович не имел сыновей и искал верного человека дочке в женихи, чтобы без опаски передать имение. Где-то встретил Арцымович отставного полковника Курако, инвалида Севастопольской кампании. Полковник приехал к Арцымовичу, познакомился с имением, посмотрел Геннусю и сделал предложение. Арцымович согласился. Дочь вышла за нелюбимого, за старого. Через год она родила мальчишку. Его назвали Михась.
Вскоре Арцымович умер. После его смерти молодая Геннуся полюбила кучера. Полковник бил и запирал жену. Она скрывалась в черный лес и по ночам бегала к любовнику. Полковник уехал от позора.
Михась рос диким, заброшенным мальчишкой. Он перечитал всю библиотеку Арцымовича, проглотил лучшее из французской и русской литературы, знал Чернышевского и Писарева, декламировал наизусть поэмы Пушкина. Его воспитывал гувернер француз, которого мальчик однажды избил.
Пятнадцати лет Курако удрал из родных мест. Он ударил бутылкой по голове директора училища, побежал к реке, разделся, оставил одежду на берегу и исчез. Крестьянский хлопец Максименко, его молочный брат, дал Курако мужицкую одежду. Они бежали вместе.
Спустя несколько дней в доменный цех Брянского завода в Екатеринославе приняли двух мальчишек. Это были Курако и Максименко.
Больше года Курако разносил в цехе пробы чугуна и стаканы чаю – в горячем виде то и другое.
Невозвратно уходили времена, когда тихая степная Украина получала железо с Урала, за две тысячи верст по водному пути, с речным весенним караваном. В семидесятых годах в Таганрогском порту сгрузили с английских кораблей первый южный металлургический завод. Медлительные быки протащили завод от Таганрога до будущей Юзовки. Даже кирпич везли на быках. Больше миллиона штук шамота привез для завода из Англии кузнечный мастер Юз, Иван Иванович – по-русски, Джон – по-английски.
Завод был поставлен на жирных донецких углях. Одна из шахт выходила устьем во двор завода, прямо к коксовым печам. Руда нашлась близ завода – бурые донецкие железняки. Через десять лет были открыты криворожские руды, богатейшие в мире по содержанию железа.
И пришла на Украину небывальщина. О ней писали так:
«Пустынный Юг наш, еще так недавно представлявший одни безбрежные ковыльные степи, ожил. Среди былых пустынь выросли гиганты, извергающие миллионы пудов железа. Возникли поселки и целые города там, где так недавно шумел один бурьян».
Восемнадцать заводов привезли на Юг из-за моря. Старый Урал имел полтораста заводов, прекрасные руды и ни одной тонны кокса. Уральские домны не знали другого горючего, кроме древесного угля, дорогого и негодного для высоких печей – он крошится под давлением столба плавильных материалов. Кокс порист и крепок. Он не разбивается при ударе о чугунные плиты и не пачкает рук. Коксующиеся угли жирны, смолисты. Их размельчают в тяжелую черную пыль и накаливают без доступа воздуха. Продукты разложения смолистых веществ склеивают частицы угля в компактную пористую массу. Старый Урал не имел кокса. Восемнадцать южных заводов стали выдавать чугуна в четыре раза больше, чем полтораста уральских.
Хотя Курако и побил опостылевшего француза-гувернера, он по-прежнему ежедневно слышал французскую речь. Инженеры, мастера и старшие рабочие Брянского завода были французами. Все книги и записи велись по-французски.
Брянский завод принадлежал русским предпринимателям – Губонину и Голубеву. Это было редкостью. Из восемнадцати южных заводов только четыре основаны с участием русских капиталов.
Но и здесь ни одного русского инженера не допускали к доменным печам. Начальник доменного цеха, бывший французский мастер Пьерон, не доверял им даже лебедок – грубых простых машин, подымающих кокс и руду.
Французы острили, что, не в пример Наполеону, им удалось завоевать Россию без крови и без выстрелов. Остряки ошибались – грохот взрывов и черные лужи «дешевой» крови русской «мастеровщины» отмечали путь металлургического Юга.
Пьерон гордился изобретенной им системой крепления горна – нижней части домны, где скопляется жидкий чугун. Старые доменщики помнят систему Пьерона – знаменитый пикотаж, который Курако вывел впоследствии из употребления.
Система пикотажа была системой взрывов. На полном ходу, на самом горячем дутье, белый и пузырящийся, как кипящее молоко, чугун проедал горн, вырывался на мокрую глину и тысячами тяжелых молний ударял из-под печи. Иногда чугун просачивался в трещину огнеупорной кладки, прожигал себе длинный извилистый ход и вдруг начинал бить фонтаном в нескольких метрах от печи.
Взрывов бывало по десятку в год. Случались взрывы такой силы, что однажды чугунная плита весом в восемьдесят пудов была сорвана со своего места у печи, с бешеным свистом и звоном пробила кровлю, влетела в соседнюю контору и подмяла под себя письменный стол самого Пьерона.
Франция, Англия и Бельгия посылали нам старые, изношенные домны и невежественных, неискусных мастеров. Они приезжали обогащаться в «дикую» обильную страну.
Курако не прятался от взрывов. Со всех ног он бежал на грохот. Прижавшись к печи, вытянув голову вперед, он слушал дыхание домны. Он начинал понимать домну на слух, различать ее запахи и оттенки бьющегося внутри огня. Через год он научился предугадывать взрывы. Это было первое проявление его замечательного таланта.
Однажды ночью мастер-француз поймал Курако в лаборатории. Перед Курако лежали раскрытые записные тетради цеха и толстая французская книга о металлургическом процессе. Парень был наказан. Его перевели в катали.
Через два дня Курако выгнали с квартиры. Каталей в городе на квартирах не держали. Они находили себе пристанище в селах, у мужиков. Когда Курако проходил после работы по улицам, мальчишки кричали ему вслед:
– Дяденька, дай лапоть – чай заварить!
Как и другие катали, он весь – одежда, обувь, белье, поры кожи – был пропитан красной мельчайшей тяжелой пылью криворожской руды. Прохожие сторонились его.
Изо дня в день он подвозил по чугунным плитам двора доменного цеха тачки с рудой, коксом и известняком. Он вкатывал тачки в клеть, и она взвивалась наверх, на колошник домны. Там колошниковые рабочие – «верховые» – высыпали руду, кокс, известняк в ненасытное чрево печи. Держать печь постоянно полной – азбука доменной плавки.
Двенадцать часов в сутки работал Курако. По двенадцать часов ежедневно работали все рабочие доменных печей. Заводы плавили чугун непрерывно, ночью и днем, в праздники и будни, на Пасху и на Рождество. Печи не терпят остановок, они любят ровный непрестанный ход. Две смены служили домнам. Только две.
Через год Курако перевели на колошник. Он дышал выбивающимися кверху газами, спасался в специальной железной будке от вылетающих неожиданно, как из вулкана, столбов синего пламени и кусков руды, видел, как погиб, скорчившись, брат его друга, охваченный взметом огня.
Отец нашел пропавшего сына через семь лет после его исчезновения. В этот год Курако был «тигром» – так назывались рабочие, которые жили у завода, но не имели на нем постоянной работы. Они собирались около казенной винной лавки и ждали, не придет ли мастер. Мастер появлялся и кричал: «Пять человек на уборку шлака!» или «Трое перетаскивать рельсы!» Тогда сидевшие бросались, как тигры, и, отталкивая друг друга, захватывали случайную работу.
У казенной винной лавки Курако декламировал «тиграм» «Гавриилиаду» Пушкина. «Тигры» валялись в траве и рычали, захлебываясь хохотом. Никто не встал, когда показался старый полковник. Курако увидел отца, и ему стало стыдно перед «тиграми».
Полковник не узнал сына и испуганно оглядывался кругом. Провожатый показал отцу пальцем. «Тигр» подошел к полковнику и, глядя немигающими черными глазами, сказал, что никогда не вернется домой, что будет жить и умрет у доменных печей.
– Михась, пойдем отсюда. Поговори со мной.
У Курако перехватило дыхание, подступающие слезы защемили горло. Стало жаль дряхлого одинокого отца. «Тигры» молчали, Курако оглянулся на них и сказал:
– Ребята, возьмите старика. Донесите его до извозчика. Я не хочу его видеть.
«Тигры» увели полковника.
III
Решающим событием в жизни Курако была встреча с мистером Кеннеди.
Россия не знала американских домен. Мариупольская печь была на несколько метров выше всех других южнорусских приземистых и громоздких домен немецко-бельгийского типа. Мариупольская печь была одета невиданными устройствами. Ее производительность была почти вдвое выше самых больших южнорусских домен.
На Юге не было людей, которые умели обращаться с американкой. Никто на Юге не владел одноцилиндровой пушкой, автоматической засыпкой, секретами десятка приспособлений и приборов, носивших имя Кеннеди. С заводов Юга вербовали в Мариуполь грамотных и способных горновых. В их число попал Курако.
Американская домна покорила Курако сразу и навсегда. Чутьем прирожденного доменщика Курако понял, что американская конструкция соответствует самой природе организма домны, ее назначению, как природе коня соответствуют четыре крепкие ноги, стянутые копытами, и мощная грудная клетка, как природе рыбы – сплющенное тело, жабры и плавники.
В Мариуполе Курако выучился читать со словарем по-английски и перечитал американскую доменную литературу, которая нашлась у Кеннеди. Уезжая, Кеннеди назначил Курако первым горновым – старшим рабочим домны.
Когда пароход навсегда увез братьев Кеннеди, Курако долго стоял на берегу, провожая глазами исчезающие в море огни. Вернувшись домой, он всю ночь с молочным братом Максименко пил водку. Ему хотелось в Америку, страна мощных домен манила его. Но он не поехал туда.
IV
В сентябре 1902 года в Мариуполь примчался немец Томас – директор Краматорского завода. Томас заехал в дирекцию, потом прошагал к доменному цеху, нашел Курако и усадил его с собой в коляску. Специальный поезд в составе паровоза и одного вагона доставил их на станцию Краматорская на линии Ростов – Харьков. Одна из печей Краматорки стояла четыре месяца, вторая – восемнадцать дней. Эту последнюю Курако выправил в шесть суток.
Правление Краматорского завода пригласило его начальником доменного цеха.
Курако поставил условие: свой штат и переделка печей.
Курако не был инженером – и в 1902 году стал первым русским начальником доменного цеха на Юге. Он привез с собой из Мариуполя восемнадцать человек и Максименко поставил горновым.
В день приезда Курако угощал доменщиков. Дирекция предоставила ему квартиру в двенадцать комнат. Доменщики собрались там.
За полночь пришла горькая весть.
Второй брат Максименко – чугунщик – стал жертвой несчастного случая. Неизвестно, что хуже – профессия каталя или чугунщика. Из горна жидкий чугун выпускают по канаве на литейный двор под открытое небо, в песок. Когда разлитый чугун начинает сверху темнеть, его посыпают песком, чтобы на нем можно было стоять, и чугунщики начинают свою адову работу. Они ломами выковыривают красные чушки чугуна из песочных форм. Струи воды из пожарных рукавов поливают чугун и чугунщиков. Кверху валит пар. Чугунщики не могут работать в сухой одежде – сгорят. Они захватывают чушки клещами, волочат их по песку и грузят затем на платформы. Двое хватают чугунную чушку клещами – в каждой шесть, семь, восемь пудов – и подбрасывают кверху. Брат Максименко поскользнулся при взбросе, чушка сорвалась и раздавила ему череп.
Ночной кутеж оборвался. Курако подошел к своему другу. Все молчали, как всегда, когда близко-близко проходит смерть. Курако не знал, что сказать. Ему хотелось сказать что-то очень важное, очень большое, самое важное и самое большое. Образы Джулиана Кеннеди и чугунщика с залитыми кровью черными усами встали перед ним.
Курако положил руку на твердое плечо Максименко и сказал, что перестроит завод по-американски.
– Чугунщиков на заводе не будет. Ни одного! И каталей не будет! И на колошнике ни одного человека! Веришь мне, брат?
– Верю, – ответил Максименко.
– Печь пойдет так ровно, что у горна можно будет спать. Не будь я Курако, если не заставлю вас спать, барбосы. Веришь мне, брат?
– Верю, – сказал Максименко и не поверил.
V
Курако не исполнил своих обещаний. Ему удалось установить автоматическую засыпку своей системы. Вагончики с грузом взбирались по наклонному мосту и сами опоражнивались, ссыпая шихту в нутро печи. Колошниковые рабочие стали не нужны. Он перестроил по-американски горны своих печей и поднял вдвое производительность цеха. Дальнейшие нововведения дирекция сочла излишними. Рабочие руки были дешевы, и рентабельность затрат казалась сомнительной.
Подошел пятый год. Начальник цеха Курако становится начальником боевой дружины Краматорского завода. Боевая дружина контролирует движение на магистрали Харьков – Ростов. Она – власть на станции Краматорская и на Краматорском заводе.
В 1906 году Курако ускользает от жандармов и возвращается на родину после длительного отсутствия. Отца нет в живых, и Курако вступает в права наследства.
Когда формальности закончены и приложена последняя сургучная печать, Курако отдает имение крестьянам. В губернии полыхают аграрные волнения. Курако схватывают и в арестантском вагоне везут в Петербург.
Идут годы, перекатываются волны времени – о Курако ничего не слышно на Юге.
Глава вторая
Открытие Кузбасса
I
Профессор Леонид Иванович Лутугин лежит желтый, с провалами старческих щек, полузакрыв глаза. Он не ел четыре дня. Из-за волнений последних дней у него разыгралась нервная астма. Когда приходили приступы, единственное облегчение он находил в том, чтобы дышать диафрагмой, животом, не подымая ребер. Это возможно только при пустом желудке.
В двенадцать ночи кто-то нажал кнопку звонка. В спальню, отстранив горничную, входит Кратов, один из директоров Донбасса.
– Извините, Леонид Иванович, что я врываюсь. Ради бога, не вставайте. Я только что с поезда, в Петербурге всего три часа. Мне нужно переговорить с вами немедленно.
Лутугин смотрит на ночного гостя. Он знает Кратова давно. Они старые приятели. Леонид Иванович показывает Кратову на горло и знаком предлагает сесть.
Кратов не садится. Он ходит по комнате, странно помолодевший, оживленный и взвинченный.
– Скажите, Леонид Иванович… – Кратов останавливается и смотрит на Лутугина острыми стального цвета глазами. – Скажите, примиренье с Геологическим комитетом еще не состоялось?
Лутугин отрицательно трясет головой.
– Забастовка продолжается?
Лутугин кивает.
– Прекрасно, – говорит Кратов, прохаживаясь по комнате.
Он низкого роста, плотен, плечист и весит пять с половиной пудов. Он совершенно лыс, руки и пальцы покрыты густым черным волосом, как шерстью.
Леонид Иванович Лутугин – мировая геологическая величина, знаменитый следопыт и разведчик угля, открыватель подземных Америк, прославленный исследователь Донецкого бассейна.
Он, только он с озорной и веселой ватагой своих учеников знал запутанные, петляющие угольные пласты Донбасса. Он составил геологическую карту Донбасса и получил за нее золотую медаль на Всемирной Туринской выставке.
В феврале 1914 года директор Геологического комитета Богданович сказал в публичном докладе, что группа Лутугина за последнее время ведет исследования крайне медленно: «Денег истрачено много, а сделано неизвестно что».
На заявление Богдановича гордые лутугинцы ответили забастовкой. Пока Богданович не принесет публично извинений, ноги их не будет в Донбассе. Вышел скандал. Лутугин нужен углепромышленникам. Он безошибочно указывал точки для закладки новых шахт. Ползая неделями на коленях в грязи, прорывая канавы, отбивая геологическим молотком белые и коричневые камешки, он находил внезапно исчезнувшие пласты.
Посредничать взялся сам фон Дитмар, председатель Совета съездов горнопромышленников Юга России. Примирение, казалось, готово было состояться, но в Петербург примчался Кратов.
II
– Прекрасно, – повторил Кратов. – Леонид Иванович, вы знаете, кто я?
Лутугин смотрит недоумевающе. Кратов прячет улыбку в усы.
Иосифа Петровича Кратова Лутугин знает со студенческой скамьи. Лутугин был профессором, когда Кратов кончал Горный институт. Леонид Иванович хорошо помнит выпуск 1900 года. Этот выпуск прозвали директорским. В тот год вместе кончили Пальчинский, Гоготский, Свицын, Бенешевич, Кратов. Сейчас все – директора крупнейших предприятий или акционерных обществ.
Отец Кратова – адмирал Черноморского флота, два брата – морские офицеры. Приезжая в семью, Кратов бравировал своей инженерской тужуркой – два молоточка для него выше, чем черные орлы и золотые шевроны.
В студенческие годы Кратов считал себя социал-демократом, левым, очень левым, самым левым среди своей блестящей компании. На студенческой выпускной вечеринке один из его друзей задорно поклялся, что через пять лет станет директором завода. В ответ Кратов дал иную клятву: никогда не быть директором, никогда не идти в услужение капиталу.
Он отклонил ряд выгодных предложений и пошел заведовать маленькой захудалой спасательной станцией в Донбассе. Он избрал себе миссию: спасать рабочих при подземных катастрофах – при пожарах, взрывах, обвалах – и считал это единственно достойным делом для инженера-социалиста.
– Имбецил, – сказал о сыне старый адмирал, любитель непонятных слов: таким термином в медицине называют идиотов.
Через несколько лет спасательная станция стала вседонецкой. Кратов оснастил ее по образцу лучших станций Европы и Америки. Шесть подъездных путей расходились от нее в разные концы Донбасса. Через двадцать секунд после тревожного телефонного звонка из депо выкатывал специально оборудованный поезд, люди прыгали на подножки и в вагонах надевали маски. В 1904 году Кратов получил золотую медаль с надписью: «За спасение погибающих».
Было так. Подземный пожар охватил шахту «Иван». Колодец шахты затянут удушливым дымом. Дым лежал внизу колыхающимся серым пластом и не поднимался – он тяжелее воздуха. Никто не решался войти в мертвое газовое море. Кратов долго рассматривал план шахты и сказал, что можно ходить внизу без опасности для жизни. Никто не поверил, и Кратов пошел один. Он пробирался по штрекам и вентиляционным ходам, дым доходил до груди, ноги спотыкались о бревна и трупы.
На восстающей выработке Кратов нашел живых, забаррикадировавшихся брезентовым парусом от дыма. Кратов вывел их на-гора. Его китель почернел, лицо было белым. Он никогда не рассказывал о часе, проведенном над тяжелыми волнами удушливого дыма. Лишь однажды, чтоб отделаться от вопросов, Кратов сказал:
– Здесь не было отваги, только аналитический расчет. Я руководствовался теорией движения легкой жидкости в тяжелой.
В пятом году Кратов не мог усидеть в Донбассе. Он едет в Петербург и издает журнал социал-демократического направления «Труд техника и инженера». За два года девять раз правительство закрывало журнал, и он девять раз возрождался под привычным названием «Труд и техника», «Труд техника», «Техника и труд». В просторной квартире Кратова на Загородном помещался в пятом году Всероссийский союз инженеров и Союз союзов.
Революция подавлена. Спускалась ночь после битвы. Шел 1908 год – год отреченства, столыпинских галстуков[2], богоискательства и декадентства. В 1908 году Кратов влюбился в красавицу Елену Евгеньевну Баньолесси. Обрусевшая семья Баньолесси осела в Петербурге. Горные инженеры собирались в их уютной квартире. Елена, Леля, была почти девочкой, тоненькой и смуглой. Она щелкала Кратова по проступающей лысине, звала его Оськой, дразнила Моськой. Свадьбу сыграли в девятьсот девятом. Кратов любил жену, как одержимый. Она хотела выезжать, одеваться, жить. В девятом году Кратов впервые принимает выгодное положение – он становится директором Берестово-Богодуховского рудника, запущенного и разрушенного после огромного пожара.
Изменив юношеской клятве, Кратов не считает себя подлецом – перекрещенные молоточки для него по-прежнему выше двуглавых орлов и золотого шитья.
– Нормален! – говорит старый адмирал о сыне.
В один год Кратов выводит Богодуховку вперед. Это десятый – холерный – год. Холера свирепствует в Донбассе. В паническом страхе бегут рабочие с шахт. Кратов в белом халате ежедневно обходит больницу и холерный барак. На глазах рабочих он здоровается за руку с холерными больными. Ему удается сбить волну паники. Бегство с рудника прекращается. Окрестные шахты сокращают добычу из-за отсутствия рабочих рук, у Кратова работы идут нормально.
– Здесь не было риска, только расчет, – говорил Кратов впоследствии. – У французов есть поговорка: «Трудные положения создаются для того, чтобы выходить из них с выгодой». Я принимал соляную кислоту и мыл руки карболкой. Заболеть я не мог.
С этого времени благосостояние шахты Кратов измеряет количеством оседлых рабочих и количеством коров. Он вводит премирование за огороды и насаждения. В 1912 году он считается лучшим директором Донбасса и получает восемнадцать тысяч в год.
Все это знает Лутугин. Он не понимает усмешки Кратова.
– Нет, Леонид Иванович, не угадаете. С первого января я директор-распорядитель Копикуза.
Взгляд Лутугина по-прежнему выражает непонимание.
Кратов ходит по комнате и объясняет: Копикуз – это копи Кузбасса. Копикуз – это новое акционерное общество. Владимир Федорович Трепов, тайный советник, придворный, брат знаменитого Дмитрия Трепова – «патронов не жалеть»[3] и Александра Трепова, министра путей сообщения, получил от кабинета его величества в концессию на девяносто девять лет, до 2012 года, целое государство между Обью и Томью. Там лежала кузнецкая угленосная котловина, Кузнецкий бассейн. Какими сложными и тонкими ходами удалось Трепову пробить брешь в кабинете, этого Кратов не знал. Здесь была тайна.
Свои права Трепов передал акционерному обществу Копикуз. Он получил куртаж – сто тысяч рублей – и был избран председателем общества со стотысячным годовым окладом. Директором-распорядителем общество пригласило Кратова с окладом в двадцать четыре тысячи в год.
Лутугин никогда не бывал в Кузбассе. Производить исследования на кабинетских землях строжайше запрещалось. Геологи кабинета, носившие офицерскую форму, определяли угольные запасы Кузнецкого бассейна в полтора миллиарда тонн действительных и одиннадцать миллиардов возможных. Ерунда. В шесть раз меньше Донбасса.
– Дикое место, Леонид Иванович, – говорит Кратов. – Анализы исключительные – уголь без золы, без серы. Где пласты, сколько их – не знает ни одна собака. Двинем, Леонид Иванович, на новые места. Дадим Уралу кокс. Понимаете, что это значит – дать Уралу кокс?
Лутугин знает, что Кратову можно верить. Ему приятно присутствие этого человека. Леонид Иванович повертывается, садится и неожиданно вздыхает всей грудью. Боли нет, дышится легко. Приступ ушел неожиданно, как всегда.
– Осип Петрович, едем к нашим, они ведут все переговоры, боюоь, что вы опоздали.
В половине второго приятели будят лутугинскую ватагу на Петербургской стороне. Леонид Иванович подобрал себе команду талантливых озорников, работяг и чудаков. Снятков Авенир Авенирыч отказался сдавать дипломную работу в Горном институте, прекрасно зная курс. Он считал диплом буржуазным предрассудком. Лутугин взял Сняткова к себе. Гапеев Александр Александрович, здоровяк и силач, печатал научные работы, будучи студентом; в дни студенческих забастовок бросал в аудиториях химические бомбы и дважды исключался из института. Его взял Лутугин к себе. В лутугинской группе было четырнадцать молодых геологов. Шести из них была запрещена государственная служба и двум – проживание в столицах.
Ночью вопрос был решен. Кратов уговорил лутугинцев окончательно плюнуть на Донбасс, показать Богдановичу шиш и ехать на разведку Кузбасса.
В процедуре составления договора Леонид Иванович не участвовал. В таких вещах он был младенцем и мог запродаться за гроши. Его приглашали банки, предлагали сумасшедшие оклады, чтоб работал только для них. Лутугин отвечал:
– Я стар, много нахапать не успею, а некролог испорчу.
Переговоры с Кратовым вели Снятков и Гапеев. Леонид Иванович поставил только два условия: во-первых, результаты разведок он считает достоянием науки и будет публиковать во всеобщее сведение, не стесняя себя коммерческими тайнами; во-вторых, он не согласен получать ни копейки больше, чем его ученики.
Условия были ультимативными, и правление Копикуза согласилось. Лутугину нельзя было предложить меньше восьми тысяч в год. Все лутугинцы получили по стольку же.
Копикуз не останавливался перед затратами. После разрыва с Богдановичем лутугинцы не считали возможным пользоваться библиотекой Геологического комитета, и Кратов купил для них превосходную геологическую библиотеку Глушкова, замечательно подобранную, со множеством редчайших изданий. Это обошлось около десятка тысяч. В Петербурге была снята для геологов квартира, в ней оборудована лаборатория, кабинеты, поставлены телефоны. Были приобретены микроскопы, компасы, палатки, всяческие приборы и инструменты, вплоть до больших банок из толстого стекла с герметически завинчивающимися крышками для хранения образцов. Всем лутугинцам Копикуз презентовал бельгийские охотничьи ружья.
В марте 1914 года группа Лутугина отправилась в Кузбасс.
III
Четыре месяца спустя, восьмого июля 1914 года, в свои владения выехал председатель Копикуза тайный советник Трепов. К курьерскому поезду прицепили салон-вагон Копикуза и платформу с двумя автомобилями, укрытыми брезентом. С петербургского вокзала Трепов отправил две телеграммы – начальнику Алтайского горного округа генералу Михайлову и директору Копикуза Кратову.
«Выезжаю вместе французскими русскими горными инженерами. Тринадцатого июля буду станции Юрга, чтобы проехать оттуда Кольчугино потом Тельбес. Трепов».
Пять дней несся курьерский поезд на восток. Смотреть в окна было утомительно. За Уралом шла равнина, пустая и гладкая, как мертвое морское дно. Города были похожи на деревни.
Кратов встретил гостей в Юрге. Из вагона вышел Трепов, розовый и слегка надушенный, с круглой рыжеватой бородкой, в скромном сером костюме и соломенной шляпе-канотье. Тайный советник был огненно-рыжим и стригся наголо… Начальник станции вытянулся для рапорта. Трепов улыбнулся, сказал: «Не надо, не надо» – и пожал ему руку. Из семейства Треповых он единственный занимается коммерцией, пустив в оборот близость к придворным кругам и к государственной казне. Он куплен петербургским Международным банком или, говоря иначе, передал банку исключительное право пользоваться его услугами.
Когда-то он был губернатором Туркестана, интриговал против Столыпина и попал в немилость. Ему дали отставку, уволили из Государственного совета и послали путешествовать за границу. По возвращении Трепов дал обещание политикой не заниматься. Ему было даровано августейшее прощение.
На высочайшей аудиенции Николай спросил:
– Чем ты теперь займешься, Владимир Федорович?
Трепов сказал, что чувствует склонность к промышленной и коммерческой деятельности.
– Не еврей ли ты, рыжик? – сострил Николай и расхохотался.
Трепов покраснел и не улыбнулся государевой остроте. Он всегда считал царя хамом. Николай обещал покровительство новому дельцу.
– Иди в кабинет, что-нибудь выбери там, – сказал император.
Канцелярия кабинета его величества помещалась в Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки. Кабинет ведал землями, составлявшими личную собственность царя, в отличие от удельного ведомства, управляющего земельными угодьями членов императорской фамилии.
Два огромных куска земли, каждый величиной в Центральную Европу, принадлежали царю – Алтайский округ и Забайкалье. В Алтайском округе умещался Кузнецкий бассейн и за тысячу километров от него риддеровские полиметаллические месторождения, содержащие золото, серебро, свинец, цинк и медь. Алтайский округ не давал кабинету прибыли. Уголь не разрабатывался за отсутствием рынка. Геологи кабинета уделяли каменному углю не больше внимания, чем всякой другой горной породе, и на геологической карте Алтая оконтуренная площадь угленосных отложений носила название «Площадь красных песчаников каменноугольной системы». В начале прошлого столетия кабинет делал попытки самостоятельно добывать серебро и свинец, но после истощения самых богатых месторождений дело было оставлено из-за трудностей. Богатства Риддера заброшены к черту в зубы, за тысячу километров от железной дороги, в гористый безлесный район. Кабинет отдавал в концессию риддеровские месторождения. Пять концессионеров прогорели там, и в 1910 году кабинет отдал Риддер за бесценок знаменитому Уркварту.
В канцелярии кабинета Трепов встретил Мамонтова – младшего и неудачливого сына большого Мамонтова, Саввы Иваныча, известного купца, покровителя искусств и строителя Архангельской железной дороги. Мамонтов, промотавшийся барин с холеной бородой, обосновался в Барнауле заведующим химической лабораторией Алтайского горного округа. Через его руки проходили образцы руд и углей. Мамонтов рассказал Трепову о богатствах Кузбасса. Трепов задумался. Знакомые дельцы не посоветовали ему связываться с кузнецкими углями – они помнили прогоревших концессионеров Риддера. Трепов попросил у кабинета золотоносные участки в Забайкалье. Ему отказали. Мамонтов пришел к Трепову в особняк. Он рассказал о Цейдлере, директоре Надеждинского – самого крупного уральского завода. Цейдлер выступал реформатором старого Урала. Он переоборудовал надеждинские домны и поставил производство рельсов, которые раньше не катали на Урале, – для этого слишком дорога древесноугольная сталь.
Стране не хватало металла. С 1911 года был разрешен беспошлинный ввоз железа в Россию: его везли по морю и по суше из Западной Европы, и Цейдлер решился на опыт, который изумил Урал. Цейдлер организовал примитивный выжиг кокса на краю Кузнецкого бассейна, заарендовав крестьянские участки, выходившие за пределы владений кабинета. Производство кокса не ладилось, но уральский новатор, пренебрегая насмешками и предостережениями, упрямо добивался своего.
Трепов подумал и решился. Он попросил концессию на Кузнецкий бассейн. Она всемилостивейше была ему дана. Вместе с Мамонтовым Трепов отправился по банкам. Он предлагал недра и искал капитал. Ни один банк не согласился взять недра Кузнецкого бассейна. Русские банкиры с улыбкой разъясняли Трепову элементарнейшие вещи: капитал не может оставаться неподвижным, он требует вложения, но нуждается в одном условии, это условие – гарантированная прибыль.
– Мы получим там рубль на рубль, – уверял Трепов.
Каминка, бывший «марксист», глава Азовско-Донского, самого солидного из русских банков, ответил Трепову:
– Вы наивны, Владимир Федорович. Это у Маркса написано, что капитал становится разбойником и очертя голову бросается куда угодно, если поманить его стопроцентной прибылью. А нам дайте двадцать процентов, но наверняка. Нет ли там рассыпного золота, в этом вашем бассейне?
Трепов не мог возразить: он не знал Маркса и не имел рассыпного золота.
Отчаявшись, Трепов выехал в Париж, захватив Мамонтова, концессионный договор, образцы и анализы угля и краткий меморандум, отпечатанный по-французски на меловой бумаге. Парижский маклер свел Трепова с банками и финансистами, которые специализировались на колониальных странах. Удалось заинтересовать сомнительную и несолидную фирму, носившую звучное название – «Акционерное общество железных дорог Африки и Азии».
Председатель правления мосье Бардэк, низенький неряшливый еврей с брюшком, принял Трепова в конторе – темной комнате с запыленными окнами и немытыми полами.
– Что даст нам это? – спросил Бардэк.
– Миллионы, – ответил Трепов.
– Я верю, там есть хорошие угли. А сбыт? Слишком стесненный рынок.
– Мы имеем покровительство кабинета его величества.
– А сбыт? – повторил Бардэк. – Впрочем… Обеспечена ли вам поддержка военного ведомства?
Трепов перечислил свои связи, Бардэк смягчился, узнав, что начальник Главного артиллерийского управления – ближайший друг Трепова.
Африканско-азиатское общество согласилось прощупать дело. Бардэк послал с Треповым двух инженеров-французов Громье и Барильона – обследовать положение на месте.
В 1913 году французы в сопровождении Трепова осмотрели Кузнецкий бассейн, побывали на Тельбесском железорудном месторождении, написали брошюру «Миссион д’Алтай» («Алтайская экспедиция») и дали умеренно благоприятный отзыв о бассейне. Мосье Бардэк согласился финансировать дело при условии, что в дело войдет один из русских банков. Азовско-Донской отказался, Русско-Азиатский отказался, согласился петербургский Международный.
В ноябре 1913 года Министерство торговли и промышленности зарегистрировало акционерное общество Копикуз с капиталом в шесть миллионов рублей. Перед обществом встала задача – создать рынок кузнецкому углю. Металлургический завод – крупнейший потребитель угля. Трепов заручился согласием брата – министра путей сообщения – предоставить петербургскому Международному банку концессию на постройку Южно-Сибирской магистрали, с тем чтоб все рельсы, подкладки и накладки шли с завода, который будет сооружен Копикузом. Главное артиллерийское управление гарантировало военные заказы. Сто миллионов рублей требуется на постройку завода – это вне масштабов мосье Бардэка. Он заинтересовывает пушечную и металлургическую фирму «Шнейдер-Крезо». В июне 1914 года они прибыли в Петербург – Бардэк с сыном, Громье и доверенный «Шнейдер-Крезо» – горный инженер Рено. Старый Бардэк остался в Петербурге, остальные выехали с Треповым в Сибирь.
Вслед за Треповым из вагона выходят французы: Бардэк-сын, – Трепов называет его «бардачок», – за ним Рено, толстый, с седыми усами и длинным желтым лицом; последним прыгает с подножки молчаливый Громье. С платформы скатили машины. За рулевое колесо сел Кратов и двинулся впереди, указывая дорогу. Вторую машину повел Рено.
В Кемерово – центральный пункт Кузбасса, где расположилась штаб-квартира лутугинской группы, – приехали к обеду. Трепова качали – он улыбался, пожимал руки и бросил рабочим сто рублей на водку.
День стоял чудесный. После обеда вся компания вместе с Лутугиным выехала по реке Томи на моторной лодке, захватив копикузовского повара Федю, горького пьяницу и мастера на все руки. Правый обрывистый берег вздымался крутизной. Желтый глинистый песчаник исполосован наискось черными выходами угля, как зебра.
Подъехали к кемеровской штольне. Ее устье выходило на реку, и в половодье можно на лодке въезжать в огромный, длинный коридор, прорубленный в сплошном массиве угля.
Выйдя из штольни, вскарабкались по обрыву. Федя обмахнул французам сапоги, притащил из лодки бутылки, икру, консервы, пирожки и разложил костер.
Трепов разделся и полез в реку. Он любил воду, как утка. В вагоне он принимал душ из огромного резинового мешка.
Лутугин нарвал букет диких тюльпанов, из их чашечек пили водку. Кратов притащил снизу полную корзину угля. Руки его почернели. Он бросил куски в костер и следил, как они краснели, трескались и исчезали, как бы растворяясь в пламени. Разговор шел по-французски.
– Сокровища валяются под ногами, – сказал молодой Бардэк.
– И их не берет никто. Кому нужен уголь в этой пустыне? – поморщился мосье Рено.
Рено и Бардэк пикировались всю дорогу. Бардэк восхищался ландшафтом. Рено поражался безлюдью. Он все брал под подозрение. Царство Копикуза явно не нравилось ему. Он бросил банку из-под шпрот и искоса взглянул на измазанные руки Кратова. Кратов перехватил взгляд, и скулы его покраснели. Он сжал пальцы, и в кулаке хрустнул уголь.
– Это не грязь, – сказал он. – Здесь самый чистый уголь во всем мире. Это лучшие коксующиеся угли. Смотрите, какая прелесть.
Кратов разжал ладонь и протянул Рено кусочки и крошки раздавленного угля. Они играли на солнце матовым неярким блеском.
Рено достал из кармашка лупу, протер ее замшей и взял двумя пальцами кусок. Он рассматривал его полминуты.
– Уголь обманул вас, – проговорил он язвительно и вежливо. – Он годится только для паровозных топок.
Отбросив кусок, он вытер пальцы носовым платком.
– Леонид Иваныч, разрешите ваш молоток…
Лутугин передал Кратову геологический молоток с длинной полированной ручкой. На камне Кратов растолок в муку несколько кусков угля. Он ударял яростно и осторожно. В коробку из-под шпрот он высыпал угольную пыль, утрамбовал ее, забил зазубренную отогнутую крышку и щели замазал глиной. Он разгреб костер, бросил банку в самый жар и высыпал сверху уголь из корзины. Зеленоватый дымок пополз по ветру. Кратов побежал к реке мыться.
Солнце заходило. Лутугин встал. Седая борода охватывала его лицо, как веер. Он показал рукою на юг. Уходящее солнце окрасило розовым какие-то далекие снежные грани высокой горы.
– Это гора Мустаг. По-русски – Белок. Мы видим ее за полтораста километров. Я не знаю места, где воздух так прозрачен.
Лутугин стал говорить о Сибири. Он влюбился в эту страну. Он вынул из бумажника и показал фотографию. На снимке была лутугинская группа спустя несколько дней после приезда. Они расположились полукругом у сугроба снега. В центре стоял Лутугин с букетом цветов, которых не знает среднерусская равнина. Дикие орхидеи с чашечками величиной в маленький стаканчик; огоньки яркого и чистого тона, как хорошо обожженный кирпич; адонисы и пульзатиллы, из которых делают лекарства. Цветы собрали здесь же, рядом с сугробом. Это сибирская весна. Не сошел еще снег в затененных сопками впадинах, а рядом лопухи встают выше человеческого роста.
Чем дальше к востоку, тем воздух суше. В Казани суше, чем в Москве, в Омске суше, чем в Казани. Выстиранное белье в Сибири просыхает скорее. Рояли и пианино в Сибири рассыхаются, и в крупных сибирских городах есть специальные мастерские по переборке рассохшихся инструментов. Сухой воздух Сибири необыкновенно прозрачен. Вечерние зори и лунные ночи Сибири красивее западных. Звезды ночного неба крупнее. Весенний ковер богаче.
Кратов долго плескался и плавал. Он растерся на берегу докрасна. Солнце зашло. Из лодки он захватил ведерко с водой. Совсем стемнело, когда Кратов выгреб жестянку из костра. Глина почернела и потрескалась. Кратов не стал ждать, пока коробка остынет. Он поставил ее на ребро, прицелился и одним взмахом отбил крышку.
Красный камень отлетел и засветился в ночи. Трава вокруг него задымилась. Кратов плеснул из ведра. Камень зашипел и погас. Кратов взял его в руки, ладони ожгло, и Кратов кинул камень высоко вверх. Он шлепнулся о землю и не разбился. Угольная пыль спеклась. Камень был коксом. Все поочередно брали его, и он не пачкал рук.
– А много ли здесь угля? – спросил представитель Шнейдер-Крезо. Впервые в его голосе послышался живой интерес.
– По данным кабинета, двенадцать с половиной миллиардов тонн, – ответил Трепов.
Кратов вскочил:
– Я ручаюсь, что здесь несколько десятков миллиардов. Не меньше, чем в Донбассе.
– Разрешите сказать мне.
Все обернулись к Леониду Ивановичу. Мировое имя Лутугина известно французам.
– К вашему приезду я сделал приблизительный подсчет. Здесь шесть Донбассов. Здесь угля больше, чем в Германии и Англии, вместе взятых. Здесь двести пятьдесят миллиардов тонн, господа.
Все молчали.
За четыре месяца работы Лутугин выяснил общий характер бассейна. В Донбассе он разработал свой метод прослеживания запутанных путей угольных пластов. Он ввел в науку слово «свита». Он тщательно собирал и изучал под микроскопом породы, идущие сверху и снизу пласта, – известняки, песчаники, сланцы. Угольный пласт идет вместе с облегающими его породами, – они повсюду сопровождают его, как свита.
Лутугинцы разбились в Кузбассе на три партии и пошли по течению рек. На Томи, у деревни Балахна, был обнаружен выход колоссального пласта, толщиною в пятнадцать метров – выше четырехэтажного дома. Таких пластов Лутугин не видал нигде. По берегам рек, прорезающих бассейн, лутугинцы искали обнаженные горные породы. За сто, за двести километров от деревни Балахна они находили породы в точности такие, какие облегали выход пятнадцатиметрового пласта у Томи. Не видя угля, лутугинцы знали, где он проходит. В Кемерово они везли со всех сторон груды разноцветных камней. Первую свиту Лутугин назвал балахонской. Широкой лентой она шла вокруг всего бассейна, окаймляя его. За балахонской шла безугольная, или пустопорожняя свита. Дальше – кемеровская. На поверхности свиты шли концентрическими кругами, в глубину бассейн походил на срезанный сверху кочан капусты. Нижний лист – балахонская свита, второй – пустопорожняя, третий – кемеровская и т. д. Угленосная чаша была глубиной в восемь километров.
Все молчали, и только Рено повторил еще раз:
– Кому нужен уголь в этой пустыне?
На следующий день Трепов повез иностранцев на Тельбес.
IV
На Тельбесе Трепова ожидал Павел Павлович Гладков, молодой профессор Томского технологического института. Мягкий, добрый человек с русыми волосами и развинченной походкой, он был самым даровитым из сибирских геологов. Ему поручил Кратов разведку руды.
Гора Тельбес подготовлена к приезду иностранцев. Гладков вместе с бароном Фитингофом – заместителем Кратова – еще раз оглядел ее. Они смотрели на гору сверху. Она стояла как на блюде. Штольни, пробитые в массиве магнитного железняка, открыты, и можно взглянуть в их темную пасть. Канавы и шурфы расчищены и обведены жидким мелом. Буровые скважины отмечены столбиками с надписями. Можно сразу понять, где и какого качества лежит руда. Река Тельбес омывает гору. Дно реки железное. Предполагалось, что руда идет дальше за реку и противоположный берег тоже железный.
Гора стояла на столе. Это макет, тщательно выполненный Павлом Павловичем Гладковым. Больше двух недель со дня получения известия о приезде Трепова Гладков мастерил из дерева и глины железную гору. Даже барон Фитингоф, присланный Кратовым, не мог не признать, что идея представить Тельбес в миниатюре – превосходна. Вместе с Гладковым он увлекся макетом и приклеивал веточки пихты на вершину горы.
– Владимир Федорович может увезти эту гору в Петербург, – сказал Фитингоф. – Он будет там всем показывать, сколько железа имеет в Сибири Копикуз.
Из Томска верхами прибыли повара. Волоком и вьюком – телега на Тельбес не проходила – доставили кровати на сетках, столовое серебро, белье. В корзинах привезли закуски, в ящиках – шампанское. У шорцев – маленького охотничьего народа с плоскими лицами и зоркими глазами – скупили рябчиков. Из комнат самого большого дома выкурили комаров и гнус. Окна забелели марлей. Дорожки к штольням и к реке подчистили и посыпали песком.
Восемнадцатого июля утром прискакал верхом Кратов. Под мордой его лошади гремел большой колокольчик – в тайге так отгоняют медведей. Он обогнал кавалькаду Трепова и явился первым на Тельбес, чтобы проверить, все ли в исправности. Он прошел по дорожкам, заглянул в комнаты, узнал, что готовят ужинать. Все было в порядке.
О макете Гладков молчал. Он хотел сделать Кратову сюрприз. Миниатюрный Тельбес стоял на столе в конторе.
– Это что? – спросил Кратов.
Гладков, улыбаясь, разъяснил и, указывая на столбики, тут же подсчитал запасы Тельбеса. Он округлил цифру и подвел итог – шесть с половиной миллионов тонн.
– Топор, – сказал Кратов быстро.
Ему подали топор, и он сплеча, как забойщик, разбил в куски игрушечный Тельбес. Дерево, глина и стекло разлетелись по полу. Сторож, старик Костенко, качая головой, убрал остатки красивой игрушки.
Вдали звенели уже колокольчики Трепова и иностранцев.
Первый день отдыхали. Молодой Бардэк восхищался всем. Он сделал три дюжины снимков в душистой тайге, заросшей пыреем и густо оплетенной хмелем и синим башмачком. Виды Тельбеса он находил красивее швейцарских, пихты – стройнее кипарисов. Узнав, что шорцы язычники, он захотел непременно купить идолов из бересты и перьев. Был вызван охотник Майдаков, проводник Гладкова. Кратов переводил его рассказ. Француз записывал в книжку мудреные названия шорских богов: Ульгена – бога земли и неба и бога-разрушителя – Одазы, что значит «отец».
Майдаков рассказал легенду шорцев о железе. Предводитель дьяволов Ярлык-Баш-Хан подрался с духом гор – Темир-Баш-Тагом – железной головой. Три дня и три ночи продолжался бой. Реки вышли из берегов. С деревьев опали листья. Гром стоял на горах. Предводитель дьяволов победил. Железная голова Темир-Баш-Тага разбилась на куски. С той поры появились в тайге горы из черного камня.
– Теперь эти горы принадлежат нам, – пояснил Трепов.
На следующее утро приступили к ознакомлению с Тельбесом. Павел Павлович плохо владел французским. С трудом подыскивая слова, он разъяснил, какие богатства таит в себе гора. Кратов помогал Гладкову в каждой фразе. Цифру запасов Кратов не назвал. Он сказал, что рудные богатства Тельбеса неисчислимы, что речь идет о десятках, а возможно, о сотнях миллионов тонн. Гладков понял, почему был уничтожен макет.
Пошли смотреть руду в натуре.
Штольня «Семейная» пробита в сплошной руде. В ней стены, потолок и пол – железные. Руда черна, и куски ее глухо звенят при ударе друг о друга, как чугун. Мелкая пыль магнитного железняка пристает к молотку и пушистыми сосульками свешивается со стального бойка. Мосье Рено надел странную куртку, которая вся была покрыта маленькими карманчиками и казалась сшитой из них. В каждом карманчике лежал желтый холщовый мешочек под номером. Рено отбрасывал куски первоклассной руды, которые подносили ему. Он укладывал в мешочки пустую породу и куски руды с белыми жилками кальцита и золотистым налетом серы. Положив образец, он тут же что-то записывал в книжку. Гладков исподтишка передразнивал француза, и Трепов, улыбаясь, грозил ему пальцем.
В конторе на канцелярских столах, покрытых скатертью, сервировали торжественный обед. Шампанским запивали тосты. Рено сел за стол в своей куртке с карманчиками. Он никому не доверял ее. Он пил не меньше других, и казалось, его скептицизм начал таять.
Трепов провозгласил тост за союз русского и французского народов. С бокалом встал Кратов.
– Один из наших любезных гостей спросил, куда девать колоссальные сокровища угля в сибирской пустыне. Здесь, в глухой тайге, на тельбесских рудах мы воздвигнем металлургический завод. Наш кокс будет свежей кровью для одряхлевшего Урала. Сибирь – огромная дикая страна, которая не знает железа, – поглотит миллионы тонн металла. Владимир Федорович поднял бокал за союз народов. Я пью за союз капиталов.
Все закричали «ура».
Рено поднялся для ответного тоста. За столом стихло, и все вдруг услышали звон колокольчика. Он звенел слишком лихорадочно. Видимо, верховой гнал галопом по просеке. Лошадиная морда показалась в окне конторы. Верховой подал телеграмму. Она адресована Трепову.
– Господа, – сказал Трепов, вскрыв телеграмму, – Германия объявила войну России. – И повернулся к Кратову: – Прошу распорядиться: немедленно лошадей.
Обед прервался. Рено не сказал своего тоста. Он вышел из конторы и выбросил камни из своих карманчиков.
Все поняли, что теперь вряд ли найдутся капиталы, чтобы освоить новый район, провести железную дорогу, заложить рудники и построить завод.
На дворе спешно седлали лошадей. Гости уехали под вечер, и Тельбес погрузился в темноту и неизвестность.
Глава третья
Телеграмма
I
После революции пятого года дружина Курако рассеялась по белу свету.
Максименко вернулся из ссылки в Донбасс в 1913 году. Он отпустил длинные жесткие усы, черные и блестящие, как смоль. Такие усы носили его братья – чугунщик, раздавленный в Мариуполе, и «верховой», сгоревший на Брянке.
Максименко ехал в Юзовку – центр металлургического Юга – наниматься горновым или подручным. Из окна вагона видно было тяжелое красно-бурое облако. Будто прижатое к земле, оно недвижно лежит среди степи. Ветер обтекает, лижет его и не может сдвинуть. Это Юзовка. Скопище пыли непроницаемо для глаза – даже трубы завода не угадываются в нем.
В этом поселке солнце кажется грязным. Среди дня на него можно смотреть незащищенным глазом. Зелень в Юзовке не зелена. Черно-бурый слой мельчайших частичек руды и угля покрывает листья и траву. Этот налет можно снимать пальцем с глянцевитой поверхности листьев, как сажу с закопченного стекла. Сады директорской дачи и бальфуровского дворца, куда приезжает каждое лето из Англии главный акционер завода Арчибальд Бальфур, омываются ежедневно из брандспойтов.
Сквозь пробоину в заводской ограде Максименко входит на территорию завода. Десятки гигантских факелов пылают над батареями коксовых печей. Огонь ярко-красен даже при свете дня. Это сгорают коксовые газы – старые коксовые печи Юзовки не знают приборов для улавливания газа. Всюду заметны следы разрушения и изношенности. Напирая плечами, катали продвигают вагонетки без рельсов по чугунным плитам. Плиты сошли с мест, покосились, кое-где отбиты углы, и выбоины темнеют, как гнезда выпавших зубов.
По железной лесенке Максименко поднимается на рабочую площадку домны № 6. Горн протекает и свистит. Мокро и грязно.
Максименко спускается и переходит на рабочую площадку соседней печи. Он останавливается в изумлении. Несколько доменщиков лежат на сухом, чисто подметенном полу. Двое спят, Максименко видит это совершенно ясно. Один стоит, глядя в глазок фурмы сквозь синее стекло. Печь с головы до пят герметически закована в железную броню. Охлаждающая вода спрятана в трубки. Ни одной капли не проступает наружу. Максименко подбегает, наклоняется над спящими. Ровное дыхание, испарина на побледневших лбах. Они спят – в этом не может быть сомнения.
Максименко кричит, не помня себя:
– Где Курако? Где Курако?
Кто-то отвечает без удивленья:
– Он прошел на литейный двор.
Курако стоит во дворе доменного цеха. Он одет как мастеровой – синие широкие штаны, синяя куртка. Рядом высокий худой человек. Его странная шляпа – плоская, с широкими полями – бросается в глаза: такие шляпы носят ковбои в американских трюковых картинах.
На литейный двор прямо к печам въезжает коляска. Лакированные крылья матово блестят сквозь свежую пленку пыли.
С подножки соскакивает директор завода Адам Александрович Свицын. У него фигура спортсмена и танцора. Свицын – светский лев среди инженерства Юга, самая яркая его звезда, самая блестящая карьера.
Два человека подходят к Курако с разных сторон – директор завода и вернувшийся из ссылки горновой.
– Здравствуйте, Михаил Константинович, – говорит Свицын. – Из правления получен ответ на ваше предложение. Пойдемте…
– Курако? Константиныч? Ты ли?
Курако оборачивается и видит молочного брата. Они обнимаются, целуются, откидываются назад, смотрят друг другу в глаза и обнимаются вновь.
Курако мало изменился за восемь лет – он отпустил усы и бородку, глаза остались прежними – черными и блестящими, как черносливины.
Свицын прищуривает глаз. Он ожидает. Скулы двигаются, будто он жует.
Курако обращается к человеку в американской шляпе:
– Знакомьтесь. Это Максименко, я рассказывал о нем. Это Макарычев, Иван Петрович, – мой помощник.
Максименко не привык здороваться с инженерами за руку. У Курако все было иначе – Макарычев крепко тряхнул руку горнового.
– Иван Петрович, – говорит Курако Макарычеву, – слышали, получен ответ. Пройдете с Максименко ко мне. Я скоро приду.
Свицын пожевывает. Он садится вместе с Курако в коляску и молчит всю дорогу.
II
Максименко и Макарычев ждут Курако.
В Юзовке у Курако квартира в восемь комнат. Он занимает две, остальные пустуют. В самой большой комнате стены выложены книгами. Корешки, как разноцветные кирпичики, поднимаются до потолка. Здесь беллетристика, история, социология, и ни одной книги по металлургии. На большом столе несколько пузатых квадратных папок, похожих на переплетенные комплекты газет. Это знаменитый куракинский альбом чертежей. Из заграничных и русских журналов, из книг Курако вырезает чертежи, собирает из заводских архивов и вклеивает в альбом. Таких альбомов в России только два: у Курако и у профессора Михаила Александровича Павлова – отца русской металлургии.
Рядом с папками пишущая машинка «мерседес». Ее косой курсивный шрифт знают в Юзовке, в Мариуполе и на Краматорке. Курако отмечает интересные статьи в американских журналах, их переводят и размножают на «мерседесе». Курако рассылает их своим ученикам.
После ареста Курако отбыл ссылку в Вологодской губернии.
В 1910 году он вернулся к любимым печам. Свицын пригласил его начальником доменного цеха Юзовки.
В Юзовке Курако перестроил две печи – ввел наклонные мосты, американские глубокие горны, пушки для механической забивки лётки после выпуска. Печи шли ровно и выдавали чугуна вдвое больше, чем раньше.
Летом 1912 года в Юзовку, как обычно, приехал из-за моря Бальфур. Он имел обыкновение обходить завод в день приезда. Курако приказал рабочим горна подмести площадку и, оставив одного дежурного, лечь, уснуть.
Через два часа на площадку поднялся Бальфур. Никто не вскочил. Бальфур покраснел. Курако стоял подле печи, ожидая взрыва негодования, но Бальфур повернулся и вышел, не сказав ни слова. Он прекратил обход и уехал в главную контору. Туда вызвали Курако. Курако сказал, что спящие у горна рабочие – высший класс доменного искусства. Если рабочие спят, значит, печь идет отлично, не зависает, фурмы не прогорают, вода не сочится.
– Я прошу одного, – сказал Курако, – разрешите мне быть первоклассным доменщиком.
Бальфур рассмеялся.
– Ваш юмор победил меня, – сказал он.
Три года провел Курако на Юзовке. За три года он дал Югу двух начальников доменных цехов, трех помощников и шесть горновых.
Студенты-практиканты целыми днями обстреливали Курако вопросами – он водил их к себе и переворачивал страницы огромного альбома.
В распоряжения сменных инженеров, ведущих плавку, Курако не вмешивался. Ошибки разбирались, когда инженер кончал смену.
– Пусть плавит сам, – говорил Курако. – Через год он будет готовым начальником цеха, или из него никогда не выйдет доменщика.
Курако сам рассылал своих выучеников. Американские печи Мариуполя, привезенные мистером Кеннеди, и Краматорки, перестроенные Курако, повели инженеры, окончившие юзовскую академию. В Мариуполе и на Краматорке вновь ввели в употребление забытые, снятые с петель пушки. Ими управляли горновые, прошедшие в Юзовке школу Курако.
В 1912 году Курако увидел во дворе завода высокого худого человека в широкополой шляпе блином. Американская шляпа заинтересовала Курако, и он подошел к Макарычеву.
Макарычев только что вернулся из Америки. Два года Макарычев работал на заводе Герри – величайшем в мире и только на Юзовском заводе в разговорах с Курако осмыслил, что видел за океаном. В Юзовке Курако открыл Макарычеву Америку. Разрозненные впечатления Макарычева получали идею в комментариях Курако и давали форму, полновесную и плотную, мечте русского доменщика-американиста.
Металлургический процесс построен у Герри на основе непрерывного потока. С Верхних Озер движется конвейер пароходов с рудой к заводским пристаням. По железной дороге каждые пять минут подходят составы с углем. Гигантские грубые механизмы опрокидывают руду в огромные печи, неизвестные Европе. По непрерывной ленте к печам ползет кокс. Металлу не позволяют остыть до превращения в готовое изделие: в рельс, балку, цельнотянутую трубу. Жидкий чугун из ковшей выливают в сталеплавильные печи. Раскаленным болванкам стали не дают потемнеть. Огромные и красные, как свежеободранные туши, они подъезжают на железных платформах к колодцам блюминга. Потоки металла непрерывно льются в страну. Рабочих на заводе не видно. Слабые человеческие руки – будь их тысячи и десятки тысяч – не справятся с движением огромных масс металла и плавильных материалов. На заводе Герри люди нажимают рычаги и кнопки. Такой завод жил в голове у Курако. Такой завод лежал в альбоме чертежей. Такой завод во всех подробностях, в звуках и красках, вставал в рассказах Макарычева.
В дирекцию Новороссийского акционерного общества – ему принадлежал Юзовский завод – Курако вошел с предложением выстроить такой завод на Юге.
Максименко и Макарычев ждут прихода Курако. Что-то скажет ему Свицын, какой ответ получен из правления?
III
Они сидят у стола друг против друга – директор завода и начальник цеха, Свицын и Курако, самые прославленные имена металлургического Юга.
Свицын – первый после Курако – самостоятельно повел доменную печь на Юге. В списке директорского выпуска фамилия Свицына стояла первой. Вторым шел Скочинский. По всем предметам они имели круглые пятерки, и на мраморную доску золотыми буквами были записаны оба – единственный случай в истории Горного института.
В 1903 году царское правительство решило провести керосинопровод Закавказской железной дороги. Шла жесточайшая борьба за колоссальный заказ на трубы. Победы добиваются Губонин и Голубев – владельцы Брянского завода в Екатеринославе. Договор готов к подписанию, но начальник цеха Пьерон заявляет, что брянские домны никогда не плавили литейный чугун и не годны для этого – они могут давать лишь передельный, идущий в мартен для передела в сталь. Сделка рушится, удача ускользает. К владельцам завода является Свицын. Он два года был в Екатеринославе на практике. Он берется дать первоклассный литейный чугун из екатеринославских печей.
С доверенностью правления Свицын едет в Екатеринослав. В его полное распоряжение предоставляется одна только что выстроенная печь.
Домну подготовляли к задувке. В те времена перед задувкой печь набивали сухими березовыми вениками, стружками, дровами. В фурменное отверстие просовывали раскаленный на конце лом – веники воспламенялись, и семь суток в печи горели дрова. Лишь после этого загружали шихту. Свицын смотрит, как подвозят к печи дрова, и отчаянное решение зреет в нем. Он уходит и бродит по городу, не замечая улиц. Теоретический расчет говорит, что печь можно сразу загружать коксом; он должен вспыхнуть моментально при соприкосновении с горячим дутьем – с раскаленным воздухом температурой 800 градусов. Свицын знает из иностранных журналов, что этот способ успешно испытан за границей. Опыт воспламенения кокса раскаленным воздухом демонстрировался в лаборатории института. В России никто не решался применить новую задувку домны: при неудаче можно погубить печь.
Свицын возвращается и приказывает отбросить от домны веники, стружки и дрова. Никто не понимает, чего он хочет. Свицыну изменяет выдержка, и он кричит:
– Очистить площадку печи! Все вон! Все к черту!
Свицын приказывает сразу загружать домну коксом, потом тяжелой шихтой по рецепту литейных чугунов.
Французы со всех цехов собираются к печи. Они стоят поодаль, и никто не подходит к Свицыну. Он сам поднимает клапан горячего дутья. Французы бросаются к фурмам и без синих стекол приникают к глазкам. В ту же секунду Свицын видит – Пьерон отпрянул от глазка, как обожженный, повернулся и, не сказав ни слова, медленно пошел прочь. Свицын не может справиться с собой, у него дрожат от радости руки – он понимает, что кокс загорелся мгновенно. Через двадцать четыре часа печь выдала первую плавку – великолепный литейный чугун, марка ноль-ноль. В двадцать четыре часа Свицын стал знаменитостью. Он шел первым в списке директорского выпуска и первым сделал карьеру. Через три года после окончания института он получает две тысячи в месяц.
В пятом году на Брянском заводе дважды стреляли в директора. Его помощника убили. Пьерон удрал. Никто не соглашался занять пост директора Брянского завода.
Свицын не побоялся пуль. Оппозиционная интеллигенция собиралась в его квартире, как в салоне. Приставу он не подавал руки. Свицын дал понять правлению, что не откажется занять директорский пост. Он получил предложение и стал самым молодым директором Юга.
…Они сидят у стола друг против друга, Курако и Свицын, самые прославленные имена металлургического Юга. Пятый год сделал одного директором, другого ссыльным.
Свицын говорит:
– Вышло так, как я предсказывал. Правление отклонило ваш проект, как безудержную фантазию.
– Почему? – спрашивает Курако тихо.
Свицын видит, что Курако больно. Ему хочется что-то сказать в утешение.
– Михаил Константинович! Вы превосходный начальник доменного цеха. К чему портить себе жизнь? Россия сильна мужиком. У нас сколько угодно самых дешевых в мире рабочих рук, и нет оснований вкладывать капитал в дорогие механизмы. Вам сорок лет. Зачем вы мучаете себя пустяками?
– А когда руки не захотят задешево работать?
– Вы витаете в облаках, Михаил Константинович, я стою на земле. Мы не поймем друг друга.
– Я не останусь на заводе, – тихо говорит Курако.
Он встает и выходит из директорского кабинета. Дома ждут его Максименко и Макарычев.
– Я фантазер и дурак, – говорит Курако Макарычеву. – Ничего не вышло. Уйду к бельгийцам в Енакиево.
– Возьмите меня с собой, Михаил Константинович, – просит Макарычев.
Он знает – если Курако велит, придется остаться в Юзовке вести перестроенные печи.
– И я с вами! Плюнь на все, Константиныч!
Курако невесело открывает крышку альбома.
IV
На Енакиевском заводе Русско-Бельгийского общества Курако пробыл два года. Там шесть печей, и в договоре была обусловлена переделка всех шести. Он получал двадцать четыре тысячи в год и обычно не имел денег. Никогда не отказывал подполью и содержал за свой счет в Петербургском политехническом институте двух студентов – сыновей ослепшего юзовского шлаковщика.
По-прежнему днем и вечером Курако ходил в синей рабочей спецовке. Он часто и много пил. Четверть водки ему выпить легче, чем четверть молока.
Вяло и неохотно перестраивал Курако енакиевские печи. Исчезла прелесть новизны. Он повторял пройденное – наклонные мосты, фурменные рукава Кеннеди, глубокий горн, герметическая броня.
Выплавка металла снизилась в годы войны. Транспортные артерии страны переместились, и железные дороги Юга пришли в расстройство. Станы не были подготовлены к прокатке нового сортамента металла, нужного войне.
Курако высчитал, что в сражении на Марне[4] из французских и немецких пушек вылетело за три дня миллион двести тысяч тонн металла – за три дня треть годовой продукции всей России.
– Нечего спорить, кто победит, – говорит Курако. – Воюют металлом. У кого больше металла, тот победит.
Война давала колоссальные прибыли заводам. Можно было работать прескверно и загребать миллионы. В 1915 году Енакиевский завод получил пятнадцать миллионов прибыли. Юзовка – столько же. Курако злился и не сомневался, что Россию раскрошат вдребезги.
В начале 1916 года Енакиевский завод объявляет забастовку. Прорывается скопившееся недовольство. Рабочие требуют бесплатных квартир, доставки воды на квартиры и бесплатного угля. На митингах кричат: «Долой войну, долой самодержавие!»
В печах поднимается уровень жидкого чугуна. Он стекает через отверстия фурм.
– Спустить чугун? – спрашивает Максименко.
– Ну его к черту, – отвечает Курако. – Останавливай на ходу. После расплавим «козлы».
Забастовка кончается победой.
В двадцать дней Курако расплавил шесть «козлов». Это был новый рекорд, но Курако не радовался ему.
В конце 1916 года он закончил переделку печей. Ему нечего больше делать в Енакиеве. Его наперебой зовут южные заводы. Он уезжает, оставляя Макарычева начальником цеха.
Из вагона он смотрит на переделанные печи. К наклонным мостам катали подвозят свои тачки. Чугунщики клещами волокут сизые чушки. Нет бункеров, нет разливочных машин, нет американского непрерывного потока.
– Американцы, – говорит Курако, презрительно глядя на перестроенные домны. – Во фраках без штанов.
Курако кружит по Югу, смотрит заводы, где был мальчиком каталем, «тигром», где расплавлял «козлы» и перестраивал печи. Он чувствует себя усталым. Ему кажется, что ни один завод нельзя переделать. Надо срыть старье до основания и на ровном месте строить новые заводы. В Мариуполе Курако долго смотрит на море и вспоминает братьев Кеннеди. Курако перевалило за сорок. Что осталось ему в жизни? Ничто не влекло его.
В декабре 1916 года Курако приезжает в Юзовку. Он сидит одинокий в номере гостиницы и вспоминает слова Свицына: «Зачем вы мучаете себя пустяками?» В самом деле, зачем? Не проще ли кончить все сразу?
В номер приносят телеграмму.
«Юзовка тчк Гостиница “Великобритания” Курако тчк Акционерное общество Копикуз просит немедленно прибыть Петроград для переговоров строительстве металлургического завода-гиганта Кузнецком бассейне Сибирь тчк Директор-распорядитель Кратов».
Глава четвертая
«С Югом кончено, Барбосы!»
I
В министерской ложе сидят трое – Трепов, Кратов и Шайкевич – член правления Копикуза, брат директора петербургского Международного банка.
Дума взволнована вчерашним известием об убийстве Распутина.
В правительственной ложе нет ни одного министра. Заседание близится к концу, идет «вермишель» – мелкие законопроекты.
Сонливый и толстый Родзянко объявляет:
– Переходим к законопроекту Министерства путей сообщения о выдаче беспроцентной ссуды в двадцать миллионов рублей Акционерному обществу кузнецких металлургических заводов.
Секретарь читает проект. Чиновник Министерства путей сообщения, одергивая парадный вицмундир, проходит к трибуне, чтобы быть наготове для справок.
– В порядке записи слово предоставляется члену Государственной думы профессору Постникову, – цедит Родзянко.
Трепов вынимает золотой портсигар и вспоминает, что в зале заседаний курить воспрещено.
– Сейчас начнут трепать мою фамилию. Трепка Трепова, – неуклюже каламбурит он. – Осип Петрович, пойдемте походим.
Трепов и Кратов выходят в коридор. Шайкевич пожимает плечами – слабость нервов высокопоставленного дельца вызывает в нем легкое презрение.
Волнение Трепова передается Кратову. Он вновь оценивает план Шайкевича, и сомнения поднимаются в нем.
Кратов не верит банкам. У петербургского Международного особенно плохая репутация. Кратов знает несколько дел, раздутых банком и брошенных, как ненужная ветошь, после удачной игры на повышение акций.
Шайкевич – большой Шайкевич, директор банка – предложил создать наряду с Копикузом новое акционерное общество для постройки завода. Правление Копикуза стало одновременно правлением Акционерного общества кузнецких металлургических заводов, председатель – Трепов, член – Шайкевич-младший. Брат большого Шайкевича был членом правления едва ли не всех акционерных обществ, которые финансировал банк: общества Бахмутской соли, Горско-Ивановского каменноугольного, Жилинского брикетного, Николаевского судостроительного и других.
– Зачем два общества в одном деле? – спросил Кратов.
Шайкевич ответил:
– Копикуз укрепился, нельзя его ставить под удар. Если дело с заводом сорвется, это не отразится на акциях Копикуза.
«Копикуз укрепился», – повторяет про себя Кратов, прохаживаясь с Треповым по коридору Думы. Это сделал он, Кратов. Из шести миллионов рублей он получил четыре с половиной. Остальные растворились в банке. Кратов представил смету на закладку двух шахт в Кольчугине и в Кемерове, каждая на двадцать миллионов пудов в год. Бардэк настаивал на уменьшении вдвое масштаба работ, ссылаясь на стесненность рынка. Кратов наотрез отказался возиться с мелкими шахтенками: он хотел строить европейски оборудованные шахты.
– Кокс на Урал! Вот наш рынок! – твердил Кратов.
Он поехал к Цейдлеру, директору Надеждинска. От имени правления Копикуза Кратов просил Цейдлера принять заказ на рельсы. Цейдлер рассмеялся: заказы распределены вперед на три года. Кратов предложил Цейдлеру повышенную цену на рельсы.
– Сочувствую, но помочь не могу, – ответил Цейдлер.
Тогда Кратов, делая вид, что идет на крайнюю уступку, предложил Цейдлеру поставку кокса в обмен на рельсы. Цейдлер поднял брови – с выжигом кокса у него все еще не ладилось – и заключил сделку. Кратов получил рельсов на два миллиона рублей, не тронув капитала, и рынок для кокса.
Бардэк снял возражения.
Кратов выехал на Юг в представительства французских и бельгийских коксовых фирм. Все коксовые печи России построены иностранными компаниями – Копперс, Эванс Коппе, Оливье Пьетт, Семет Сольве, Бремер и другие. Обратившись к любой из фирм, владелец коксующихся углей мог получить кокс без затраты капитала. Фирма строила коксовые печи за свой счет. Шахтовладелец доставлял уголь к коксовым печам и получал кокс. За выжиг кокса фирма опять-таки не брала ни копейки. Вознаграждением для нее был дым – побочные продукты коксования. Триста различных компонентов можно получить из каменноугольного газа – сернокислый аммоний для удобрений и взрывчатых веществ, анилин для красочной промышленности, духи, вазелин, аспирин и нафталин. В школах рисуют генеалогическое дерево – внизу кусок угля, из него поднимается ствол, расходящийся на триста веток.
Коксовые фирмы имели миллионные прибыли. Высокие стены ограждали коксовые заводы в Донбассе. Туда не пускали русских инженеров. Фирмы охраняли секреты коксовых печей.
Кратов предполагал заключить договор на обычных началах – получить печи без затраты капитала. Ни одна фирма не согласилась рисковать капиталом в диком месте, в Кузбассе.
Кратов вспомнил поговорку французов о трудных положениях, которые создаются для того, чтобы выходить из них с выгодой. Он обратился непосредственно к французскому инженеру Пиррону, работавшему у фирмы Оливье Пьетт. Кратов стороной узнал, что фирма держала Пиррона в черном теле, мало платила ему, хотя он был знающим коксовиком-специалистом. Сделка с Пирроном стоила Копикузу дорого и состоялась быстро. С полным комплектом чертежей Пиррон сел с Кратовым в вагон петербургского экспресса.
В Петербурге Трепов, используя старые военные знакомства, получил от Главного артиллерийского управления заказ на поставку бензола и толуола – побочных продуктов коксования. Из них делают взрывчатые вещества для снарядов. Копикуз обязался выстроить коксохимический завод в восемнадцать месяцев – неслыханный для России срок – и получил под заказ ссуду в два миллиона рублей.
В Петербурге Кратова разыскал Оливье Пьетт. Он просил отказаться от договора с Пирроном.
– Вы зарезали фирму, – говорил мосье Пьетт.
Кратов неумолим. Оливье Пьетт согласился выстроить коксовый завод Копикуза, лишь бы Пиррон остался у фирмы.
Строительство начинается осенью 1915 года. Строитель Кемеровского рудника говорит, что в восемнадцать месяцев постройку закончить невозможно.
– Нам придется расстаться, – отвечал Кратов. – Мы найдем людей, которые сделают это.
Кратов назначает строителем рудника и коксохимического завода техника Садова, с которым работал в Донбассе. Сумрачный и нелюдимый Садов прошел тяжелый жизненный путь. Он сибиряк, уроженец Омска, не получивший ни высшего, ни среднего образования. Он не курил и не пил, выбился в люди из монтеров, любил Сибирь, был предан Кратову как пес. Рабочие боялись его – он суров и груб, может ударить под горячую руку.
В четырнадцатом и пятнадцатом Садов вел строительство Кольчугинского рудника. Он закончил там проходку шахты, выстроил рабочие казармы, колонию служащих и директорский дом. Дом директора-распорядителя Садов спроектировал сам – там было два этажа, двадцать комнат, бильярдная и зимний сад, столовая на сто человек, комнаты для приезжающих, каждая с отдельной ванной и уборной.
Зимой 1915 года в Кемерове работы велись в тепляках – огромные тесовые коробки покрывали площадь стройки. К весне 1916 года на левом берегу Томи стоял готовый железобетонный каркас коксобензольного завода. Кратов носился по южным заводам, вырывая металл и огнеупор. Оборудование ждали из Англии.
С каждым месяцем внимание Кратова все больше привлекала южная часть бассейна, смыкающаяся с рудами Тельбеса. Становилось очевидно, что лучшие богатства бассейна сосредоточены там. Заведующим южной группой Кратов назначил Перлова – инженера с двумя значками, окончившего Горный институт и математический факультет Петербургского университета.
Перлов восторгался углями Прокопьевска.
– Как могла природа создать такое чудо? Пласт семнадцать метров – и ни одного прослойка породы. Это чистый углерод. Природа герметически прикрыла его и хранила тысячелетья.
– Она хранила его для нас, Алексей Александрович, – отвечал Кратов. – Она ожидала, пока мы родимся.
Однажды Кратов рассматривал географическую карту России. Под рукой лежала готовальня. Он взял циркуль и воткнул острие в центр Кузнецкого бассейна. Другую ножку он оттянул до Минска и одним движением очертил полный круг – линия проходила через Батум, Одессу, Ригу, через пограничные пункты западного рубежа, пересекала Северный Ледовитый океан, шла сквозь Камчатку, резала пополам Сахалин и касалась Владивостока. Радиус круга был три с половиной тысячи километров. В центре находилась точка, вокруг которой сосредоточивалось три четверти угольных запасов страны. Он, Кратов, стоял в этой точке, затаив дыхание, с циркулем в руках. Проносились неясные мечты. Об этой минуте он не рассказал никому.
Копикуз укрепился, но с металлургическим заводом все оставалось неясно. Французы опасались вкладывать капиталы во время войны. Летом 1915 года Трепов повез на Тельбес представителя английской металлургической и пушечной фирмы Виккерс. К финансовой связи переговоры не привели.
Дальнейшее расширение рынка кузнецкого угля упиралось в необходимость иметь металлургический завод, и Владимир Федорович Трепов сделал попытку достать деньги у правительства. Через брата – министра путей сообщения – он получил казенный заказ на восемьдесят семь миллионов пудов рельсов и скреплений. Банк создал новое акционерное общество. Кратов представил расчет мощности завода. Он настаивал на крупном масштабе – иначе не оправдывались капитальные затраты на сооружение железной дороги и освоение района. Трепов уговорил брата сделать следующий шаг – просить у Думы двадцатимиллионную беспроцентную ссуду для сооружения завода.
…Трепов подходит к министерской ложе, приоткрывает дверь и слышит голос кадета Постникова:
– Придворная камарилья, бездарная в священном деле обороны, делит казенный пирог.
Трепов осторожно прикрывает дверь и говорит Кратову:
– Походим еще.
Через десять минут в коридор выходит Шайкевич.
– Провалили, – говорит он Трепову. – Поедем в правление. Я вызову брата по телефону.
Большой Шайкевич молча выслушал рассказ о заседании.
– Скандал! – сказал он. – Общество металлургических заводов придется ликвидировать – с такой рекламой не покажешься на бирже. Строительство завода начнет Копикуз. У нас казенный заказ – это уже капитал.
Правление Копикуза испрашивает у Министерства финансов разрешение на новый выпуск акций в двенадцать миллионов рублей.
Кратов телеграммой вызывает Курако.
II
В центре Юзовки два ресторана смотрят друг другу в окна – «Великобритания» и «Гранд Отель».
Шестнадцатого января 1917 года в «Гранд Отель» не впускали завсегдатаев. У дверей стоял розовый и пухлый человек.
– Ресторан закрыт, – говорил он, таинственно понижая голос. – Провожаем Михаила Константиновича.
Напротив, через улицу, старший официант «Великобритании» сообщал:
– Закрыто. Кутят доменщики. Провожаем Михаила Константиновича.
Даже старый татарин Джэп – так прозвали его англичане: «джэп» по-английски «японец» – не пускает никого в свой подвальчик на Пятой линии. Утром шлаковщик Нестор, удивительный безобразник и знаменитый пьяница, передал Джэпу триста рублей от Макарычева и забронировал, выражаясь современным языком, все наличие ликеров и шампанского.
Кутеж начался в «Великобритании». Когда стол залили вином и в грязных тарелках появились окурки, доменщики всем гуртом перешли на свежие скатерти «Гранд Отеля». На рассвете пир угаснет у старого Джэпа, где подается только черный кофе и шампанское. После кофе доменщики пойдут к печам.
Пятьдесят человек сидят за длинным столом. Вперемежку расселись начальники доменных цехов, старшие и сменные инженеры, горновые, механики и силовики. Из Мариуполя, Енакиева, Краматорки, Екатеринослава съехалось куракинское братство – его ученики, птенцы его гнезда, русские американисты. Старший по чину здесь Белоконь – директор Тульского завода. Он единственный директор в этой компании инженерства и мастеровщины.
Курако сидит в голове стола, сбросив пиджак и оставшись в белой косоворотке, заправленной в брюки, и черной жилетке, застегнутой на пять пуговиц. По правую руку Курако – Максименко, слева – Макарычев.
– С Югом кончено, барбосы! – кричит Курако.
Шум мгновенно стихает. Все, кто сидел за столом, обожали своего Константиныча, и каждый чувствовал себя счастливым, когда Курако подходил к нему.
– С Югом кончено! – повторяет Курако.
Это нелепость. Но все пьяны, и никто не спорит.
– Через год мы устроим пир в Сибири. Кто приедет ко мне?
Все отвечают:
– Приедем, приедем…
Курако приглашает каждого в отдельности. Он знает геройские подвиги за каждым, вспоминает вслух, как лазали вместе в горячие домны, как распаривали «козлы» и перестраивали печи. Каждого спрашивает Курако:
– Поедешь работать в Сибирь?
С ним выезжает завтра десять человек. Остальных Курако зовет к пуску. Никто не отказывается. В ответ кричат:
– Да здравствует Курако, отчаянный доменщик! – Это высшая похвала.
– Вот кто отчаянный доменщик, – говорит Курако, показывая на Макарычева. – Иван Петрович, ты будешь начальником кузнецких печей. Согласен?
Макарычев встает и смотрит на Курако влюбленно:
– С тобой хоть на край света, Константиныч.
III
Три месяца Курако живет в петроградской гостинице «Астория». Он томится бездействием. Южане, которых он взял с собой, ежедневно приходят и спрашивают:
– Когда же наконец поедем?
Курако ничего им не может ответить.
Революцию он встретил вдали от родного Юга. Там шли забастовки, все кипело на доменных заводах, а он сидел, ожидая, чем решится судьба Копикуза.
Владимир Федорович Трепов разгуливал по улицам с пышным бантом из красного шелка. Он первый поднял шляпу при встрече с Шайкевичем-большим. Директор Международного банка не заметил поклона.
Трепов звонил Кратову:
– Осип Петрович! Приезжайте, расскажите о новостях.
– Приехать не могу, занят.
Трепов вздыхал и не сразу опускал трубку – он ждал, не пригласит ли его Кратов к себе. Трубка молчала.
Владимир Федорович надевал бант и шел к Аничкову дворцу. Канцелярию кабинета занял Совет рабочих депутатов.
Революция обесценила связи Трепова и сделала Кратова первым лицом в Копикузе. В новом Министерстве торговли и промышленности Кратов чувствовал себя как в инженерном клубе. Министерством управлял Степанов, горный инженер, приятель Кратова по Донбассу. Директором горного департамента стал инженер Малявкин. С ним Кратов учился в Горном институте и работал на донецких углях.
Посещая министерство, Кратов обычно проходил прямо в огромный кабинет, который занимал Петр Акимович Пальчинский, его ближайший друг, душа директорского выпуска. Смолоду Пальчинский считал себя анархистом, в пятом году был арестован и предан военно-полевому суду, бежал за границу, сблизился с Кропоткиным и женился на его племяннице. Он увлекался утопиями Уэльса и идеей технократии – государства, которым правят инженеры. В первые дни объявления войны Пальчинский вслед за Кропоткиным объявил себя оборонцем, примирился во имя победы с правительством царя, вернулся в Россию, работал в банках. Февральская революция сделала Пальчинского товарищем министра торговли и промышленности и председателем комиссии по государственной обороне. Он возмущался мягкотелостью Керенского, требовал введения смертной казни и разгрома большевистской партии. Он говорил Керенскому: «Объявите Петроград прифронтовой полосой, назначьте меня генерал-губернатором – и посмотрите, как наведет порядок горный инженер». Анархист рвался к власти, к военной кровавой диктатуре.
Кратов просил Пальчинского «провести» через Временное правительство подтверждение договора с кабинетом и казенного заказа на рельсы.
Пальчинский сочувственно кивал. Огромный нос делал некрасивым его подвижное лицо.
– Проведем, – успокаивал он. – Дело бесспорное. Я всегда советовал заняться Кузбассом. Минеральное топливо Уралу – это ведь моя идея.
Кратов знал привычку Пальчинского приписывать себе все крупные экономические планы. О чем бы ни заходил разговор, Пальчинский обязательно вставляет: «Я об этом говорил, я это советовал». Кратов обычно защищал своего друга, когда Пальчинского называли хвастуном, Хлестаковым. Кратов объяснял, что Пальчинский – всеобъемлющий, энциклопедический ум, что он действительно размышлял и высказывался о великом множестве вопросов.
На этот раз Кратов сказал:
– Как же, как же… Ты Еве советовал соблазнить Адама. Все знают, что это твоя идея.
Решение вопроса задерживалось во Временном правительстве. Углепромышленники требовали отмены копикузовской концессии и распространения на Кузнецкий бассейн права свободных заявок, как в Донецком бассейне, как во всех бассейнах мира.
А Курако сидел без дела, впереди темнела неизвестность.
Двадцать девятого апреля утром его вызвал к телефону Кратов.
– Есть важные новости. Буду у вас через полтора часа.
Через час в дверь постучали.
– Входите, Осип Петрович, я жду вас.
В дверях не было Кратова. В комнату вошли четыре доменщика с Юга. Курако расцеловался с молочным братом. Максименко рассказал, что Курако избран членом Юзовского Совета рабочих депутатов. Доменщики звали Курако на Юг. На заводах Юга явочным порядком вводится восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль. Недалеко время, когда рабочие возьмут заводы в свои руки.
– Нас послали за тобой, – сказал Максименко.
Курако задумался. Снова раздался стук в дверь.
Вошел Кратов и вопросительно оглядел незнакомых людей.
– Говорите, Осип Петрович, – это мои друзья.
Кратов вынул из портфеля несколько хрустящих бумаг.
– Прочтите.
Курако развернул договор Копикуза с Временным правительством. Оно подтверждало все права и привилегии Копикуза, предоставленные ему кабинетом и свергнутым правительством. Копикуз получал ряд добавочных льгот.
– Когда можете выехать в Сибирь, Михаил Константинович?
– Поедем с нами, Курако. Тебя ждут в Совете рабочих депутатов.
Курако посмотрел на Максименко, потом на Кратова. Он сказал:
– Нет, барбосы, с Югом кончено! Завтра курьерским, Осип Петрович.
Глава пятая
Вагон №…
I
Из Петрограда до Москвы Гапеев ехал двое с половиной суток. Два матроса с маузерами пробили ему дорогу в вагон. Гинденбург стоял в тридцати километрах от Питера. Город эвакуировался. На поезд нельзя было попасть.
В день приезда Гапеев прочел в «Правде» приказ Реввоенсовета: «Каждый чех, обнаруженный с оружием в руках на линии железной дороги, подлежит расстрелу на месте без суда и следствия».
Леонида Ивановича Лутугина уже не было в живых. Он умер в 1915 году в Кузбассе. После приступа астмы, после четырехдневной голодовки, он выпил недоброкачественного молока и отравился. Кратов выслал из Томска лучших врачей. Они застали труп. Цинковый гроб Гапеев привез в Питер. За катафалком шло пятнадцать тысяч человек. Максим Горький вошел в комитет по увековечению памяти Лутугина.
Лутугинская группа не распалась. Каждую весну лутугинцы уезжали в Кузбасс. Бассейн раскрывал им свои тайны. Цифра, названная Леонидом Ивановичем, – двести пятьдесят миллиардов тонн, – была обоснована и подтверждена. Выплывала новая – четыреста миллиардов.
Весной восемнадцатого года никто не послал лутугинцев в Сибирь. Трепова арестовали и после убийства Володарского расстреляли на взморье против Кронштадта. Копикуз, казалось, перестал существовать. Советские правительственные учреждения покидали Питер.
Лутугинцы не могли там добиться толку и послали Гапеева в Москву. Они заканчивали составление геологической карты Кузнецкого бассейна, и бессмысленно было терять лето.
Десять дней Гапеев курсировал от Главугля к Горному совету ВСНХ и обратно. Ему говорили, что в Сибирь едут на крышах и на буферах, что лутугинцы доберутся в Кузбасс только к зиме, что по дороге их укокошат чехи.
Никто не давал средств на продолжение разведок. Будучи решительным по натуре человеком, Гапеев плюнул и обратился в Совнарком. В Кремле его принял управляющий делами Совнаркома.
– Напишите… Я доложу о вашей просьбе… Позвоните мне через неделю…
– Через неделю… Пропадают золотые дни…
– Вы думаете, у Совнаркома нет более важных дел?
Гапеев уходит злой. Хочется бросить все и пробираться обратно в Питер. Он сидит в Москве без дела, мрачный и недовольный.
Через два дня Гапеев застает у себя в номере гостиницы человека в кожаном костюме. Его руки маслянисты и черны. На правом боку висит браунинг.
– Вы товарищ Гапеев?
– Да…
– Я шофер Совнаркома. Мне приказано немедленно доставить вас в Кремль. Пойдемте в машину.
В Кремле Гапеева встречает управляющий делами. Он сообщает, что Совнарком предлагает лутугинской группе выезжать немедленно, по возможности без задержек. Ленин распорядился предоставить лутугинской группе все нужное, не допуская ни малейшей волокиты.
– Владимир Ильич хотел бы, чтобы вы не думали о продовольствии, об одежде, а только о работе. Вам предоставляется отдельный вагон. Он будет продвигаться как военно-оперативный. Вот предписание комиссарам и начальникам станций. Желательно, чтобы вы были на месте через восемь – десять дней. Сколько нужно денег?
Гапеев прикидывает на бумаге. Управляющий делами округляет цифру и выписывает чек.
– Что нужно еще? Продовольствие… Одежда… Вот ордера… Нужны ли инструменты, приборы? Вот мандат… Машина в вашем распоряжении до отъезда. Поезжайте на вокзал и переселяйтесь в вагон. Охрану потребуйте от комиссара узла. Сообщения из Кузбасса шлите прямо сюда – Кремль, Совнарком.
– А чехи? – спрашивает Гапеев.
– Чехи? Мы их раздавим в две недели… Ну, не задерживайтесь, не теряйте времени… Счастливого пути…
Гапеев выходит с мандатами, ордерами и чеком. Его ждет машина. Он садится и не знает, куда ехать. Прежде всего к себе – обдумать, опомниться. Машина взлетает вверх по Тверской.
II
На Страстной площади Гапеев вскочил и дернул шофера за плечо.
– Стой, товарищ!
Гапеев видит знакомую фигуру. Согнувшись, медленно шагает Кратов и тащит на плечах чемодан. Сзади красногвардеец с винтовкой.
«Конец Копикуза», – проносится в голове. Гапеев кричит:
– Осип Петрович!
Кратов оглядывается на крик. Пот заливает глаза, он никого не видит. Присев на чемодан, он вытирает лысину, лоб и шею платком.
Гапеев соскакивает с подножки.
– Куда вас ведут, Осип Петрович? А это что? Останки Копикуза?
– Поднимите-ка, батенька, – весело говорит Кратов.
Когда-то Гапеев славился своей силой. Он берет ручку, отрывает чемодан от земли и бросает обратно: чемодан мягко шлепается об асфальт. В Кузбассе Гапеев нажил грыжу, а в чемодане явно больше двух пудов.
– Чем вы его набили? Образцы тельбесских руд, что ли?
– Здесь десять миллионов восемьсот семнадцать тысяч керенками. Ссуда Копикузу от Советского правительства…
– А разве он не национализирован?
– Пока живем и здравствуем.
Кратов рассказал, что коллегия ВСНХ решила повременить с национализацией Копикуза. Две недели провел он в Москве в непрестанных хождениях по главкам, убеждая, что национализация Копикуза в данный момент преждевременна и развалит дело. Он виделся несколько раз с председателем ВСНХ.
– И вот…
Кратов похлопал чемодан по вздувшемуся пузу.
Гапеев рассказывает о своих новостях.
– Прекрасно… Еду с вами… Возьмете? – спрашивает Кратов.
– Пожалуйста… А почему вы пешком?
– Извозчика не найду… Дали охрану…
– Я вас подвезу… Садитесь…
Рука Кратова тянется в карман. Он нащупывает бумажку, чтобы дать красногвардейцу на чай. Тот стоит, усталый и мрачный, опершись на винтовку. Темное лицо, как истрескавшееся дерево, изрезано морщинами. На губах нет улыбки. Кратов передумывает. Рука выскальзывает из кармана, Кратов хватает ручку чемодана и тащит через площадь к автомобилю.
III
В 1918 году Ленин особенно много думал о востоке. Немцы захватили Украину. Прусские остроконечные лакированные каски появились в Ростове-на-Дону. Советская Россия потеряла Донецкий бассейн и металлургические заводы Юга. Страна потеряла девяносто процентов годовой добычи угля и семьдесят процентов выплавки металла. Ленин думал о востоке. Он писал[5], что Страна Советов, несмотря ни на что, может стать страной крупной индустрии, страной угля, железа, машин, электричества и химии, потому что пролетарская революция имеет в резерве гигантские запасы первоклассной руды на Урале и коксующегося угля в Западной Сибири.
Еще из Питера Ленин посылает на Урал телеграмму с предложением разработать проект создания «единой хозяйственной организации, охватывающей область горно-металлургической промышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна».
Президиум ВСНХ объявляет конкурс на лучший проект создания комбината на основе естественных богатств Сибири и Урала. Срок конкурса – шестимесячный. Премия – десять тысяч.
Общество сибирских инженеров высказывается против конкурса. Кратов, бессменный председатель общества, выдвигает иное предложение. От имени общества он входит в переговоры с ВСНХ, заявляя, что в шесть месяцев проект создать невозможно, что десять тысяч – ничтожное вознаграждение. Общество предлагает выполнить работу в порядке договора и представляет смету. ВСНХ дает согласие, Кратов получает в Москве по смете деньги для общества на полугодие и везет их с собой вместе с десятимиллионной ссудой Копикузу.
Разработку урало-кузнецкого проекта Кратов мыслит как продолжение дела Копикуза.
Он всегда рассматривал Общество сибирских инженеров как одну из подсобных организаций в системе Копикуза, одну из фигур его шахматной партии. Общество и раньше занималось проблемой сбыта кузнецкого угля. Предложение ВСНХ подвернулось кстати. Кратову хочется как можно скорее получить вычисления наивыгоднейших вариантов урало-кузнецкого проекта с точностью до одной сотой копейки. Близится время завоевания Урала эшелонами кузнецкого кокса. Кратову кажется, что в осуществлении этого – его миссия на земле.
IV
В вагоне Кратов неразговорчив и замкнут. С ним в купе поместился профессор Владимир Климентьевич Котульский – крупнейший специалист по рудным месторождениям, приятель Кратова по Горному институту. Котульский ничем не напоминал геолога. Полный, медлительный, с породистым барским лицом и холеными розовыми ногтями, он походил скорее на оперного певца. Котульский и в самом деле обладал превосходным баритоном.
Человек двадцать геологов пристроились к вагону, предоставленному Совнаркомом лутугинской группе. Ехали все, кто оставил в Сибири незаконченную полевую работу.
По вечерам собирались группами, пели хором. Котульский солировал:
- Что день грядущий нам готовит?
- Его мой взор напрасно ловит…
Он ехал на разведки руды в Забайкалье и всю дорогу изводил Кратова. Над урало-кузнецким проектом он издевался:
– Возить уголь за две с половиной тысячи верст… У тебя его раскрадут по дороге…
– В Кузбассе свой завод будет, – вяло отвечал Кратов.
Котульский таил давнюю обиду на Кратова. Он был оскорблен, что Копикуз пригласил разведывать руду в Горной Шории не его, а какого-то Гладкова.
– Завод в Кузбассе? На тельбесской руде? – спросил Котульский и расхохотался.
Кратову захотелось выйти из купе, хохот Котульского действовал ему на нервы.
– О тельбесской руде поговори с Гладковым.
– Что такое твой Гладков? Разве есть в этой сибирской дыре хоть один настоящий ученый?.. Оскандалишься ты со своим Гладковым.
– Владимир, оставим этот разговор…
В Екатеринбург поезд прибыл на шестые сутки. Цвели липы. Белые пушинки садились на желтовато-серый, низкий, как черепаха, бронепоезд. На путях – люди с винтовками. Пулеметные ленты крест-накрест опоясывали грудь. Геологам объявили, что на линии идут бои и дальше вагон не пойдет. Гапеев с мандатом Совнаркома бросается к командующему фронтом. Он уверяет, что геологи стоят вне политики, что чехи не тронут лутугинцев и вагон проскочит в Кузбасс. Командующий рассматривает печать Совнаркома и обещает снестись по прямому проводу с Кремлем.
Геологи разошлись по городу. К вечеру они возвращаются в вагон с покупками и новостями. У Котульского пластырем заклеен нос. В городе он заинтересовался домом инженера Ипатьева. Ограда была обшита неструганым тесом, будто внутри шла стройка. Котульский заглянул в щелку, и доска стукнула его по носу. Кто-то изнутри ударял прикладом и кричал:
– Проходи! Стрелять буду!
В доме Ипатьева сидел Николай Романов с семьей.
V
Вагон стоял на вокзальных путях. Кратов скучал в вагоне. Кремль не отвечал.
Достав циркуль, он вырисовывал диаграмму добычи угля рудниками Копикуза. Кружочки становились крупнее с каждым годом.
Семнадцатый год – год потрясения и развала – по-прежнему давал повышение, добыча возросла на сорок шесть процентов. Кратов не допустил забастовок: не дожидаясь требований, он сам повысил ставки и сократил рабочий день.
Вся промышленность переживала депрессию, крупнейшие общества замирали, много предприятий национализировано, а Копикуз дышал легко и свободно в его, Кратова, руках.
Кратов тихонько напевает по-французски:
- Труд-ные положе-ии-я соз-даются для того…
В купе входит Котульский со свежей газетой. Агитпункт вокзала ежедневно выдает для геологов по одному экземпляру «Правды».
– Поздравляю, – говорит Котульский. – Распрощайся с Копикузом. Сегодня декрет о всеобщей национализации.
Кратов кладет циркуль. Вспоминается карта, взмах руки, окружность от Батума до Владивостока. Кратов говорит спокойно:
– Покажи.
Он читает:
«В целях упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты объявить собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики все принадлежащие акционерным обществам предприятия…
Подпись: Ульянов (Ленин)».
Кратов читает:
ОТ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ
«Все акции и облигации объявляются аннулированными и не подлежат приему ни в государственных учреждениях, ни в частном обращении, как не имеющие никакой цены».
Кратов переворачивает лист. Он проглядывает подвал – «Пророческие слова», статья Ленина.
«Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный полумертвый кусок мяса. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму».
Кратов говорит:
– Они не родят.
Вагон стоит на вокзальных путях. Кремль не отвечает. Каждый день геологи читают «Правду».
«Правда», 4 июля
«Открытие Пятого Всероссийского съезда Советов состоится сегодня, 4 июля, в 2 часа дня в Большом государственном театре.
На съезд Советов прибыло около 1000 делегатов, большевиков – 617, других партий – 340».
Передовая – «Пятый съезд»:
«Печать буржуазии усердно подсчитывает мандаты левых эсеров, прибавляет к ним максималистов, анархистов, новожизненцев. Некоторые прибавляют еще не менее 50 левых коммунистов и обнаруживают, таким образом, большинство против Совета Народных Комиссаров… Но мы должны разочаровать буржуазию. Ей еще не суждены триумфы. Партия большевиков и на этом съезде выйдет победительницей».
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Златоуст занят противником.
«Правда», 5 июля
ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
СОВЕТОВ
«Свердлов. Итак, фракция левых эсеров покинула зал заседаний. Заседание Всероссийского съезда продолжается. (Аплодисменты)».
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Шадринск занят противником.
«Правда», 7 июля
ВО ВСЕ РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ РКП,
ВО ВСЕ РАЙОННЫЕ СОВДЕПЫ,
ВСЕМ ШТАБАМ КРАСНОЙ АРМИИ
«Около 3 часов дня 6 июля брошены две бомбы в немецком посольстве, тяжело ранившие графа Мирбаха. Мобилизовать все силы, немедленно поднять на ноги все для поимки преступников.
Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Сегодня, 6 июля, около 3 часов дня убит бомбой германский посланник граф Мирбах.
Россия теперь по вине негодяев левого эсерства на волосок от войны.
На первые же шаги, предпринятые для захвата убийцы, левые эсеры ответили восстанием против Советской власти.
Все на свои посты! Все под оружие!»
«Правда», 8 июля
ТЕЛЕГРАММА
«Задерживать все автомобили. Везде опустить шлагбаумы на шоссе. Арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения в непричастности к мятежу.
Ленин».
ПОДРОБНОСТИ
ЛЕВОЭСЕРОВСКОЙ АВАНТЮРЫ
Захватив Центральный телеграф, левые эсеры разослали телеграмму по всем линиям:
«Всякие депеши за подписью Ленина, а равно депеши, направленные контрреволюционными партиями правых эсеров, меньшевиков, кадетов и монархистов, задерживать, признавая их вредными для Советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых эсеров в частности».
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдано распоряжение об аресте всех левых эсеров и прежде всего об аресте всех членов ЦК ПАРТИИ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ. Оказывающих сопротивление при аресте – расстреливать.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Вследствие прорыва Волго-Бугульминской жел. дороги и недостатка сил Советской власти пришлось оставить Уфу.
«Правда», 11 июля
ЯРОСЛАВЛЬ В РУКАХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
«Белые выступили в ночь на 6 июля в 2 часа. Председатель Совета тов. Закгейм заколот штыками. Военный комиссар тов. Нахимсон захвачен в номере гостиницы «Бристоль». Он расстрелян во дворе офицерским отрядом… Населению сообщено, что Советская власть в Москве свергнута».
НА МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Англо-французско-сербскими войсками занята вся железнодорожная линия от Мурманска до Сорок. За вчерашний день неприятель продвинулся на 11 верст к югу от Сорок. Расстреляны члены Совдепа – Мальцев, Каменев, Вицук.
«Правда», 12 июля
«Муравьев, бывший главнокомандующий войск внутреннего фронта, левый эсер, пытался двинуть войска на Москву. Получив отпор, он покончил самоубийством».
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Ялуторовск занят чехословаками. В районе Екатеринбурга восстания против Советов подавлены.
«Правда», 16 июля
«Сегодня в номере: Германское правительство потребовало от Советского правительства допущения батальона германских солдат в Москву для охраны германского посольства. Совет народных комиссаров в этом отказал.
Коммунист!
Умеешь ли ты обращаться с оружием? Справишься ли с пулеметом, с ручной бомбой, с минометом?
Если нет, немедля приди в свой район и запишись на обучение.
Будь готов защищать социализм!»
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Бирск занят противником. Наши силы отходят.
«Правда», 17 июля
ПРИКАЗ ПО АРМИИ И ФЛОТУ
«Среди военных специалистов было за последние недели несколько случаев измены. Мохин, Муравьев, Звягинцев, Веселаго и некоторые другие перебежали к иностранным насильникам и захватчикам.
Никакой пощады предателям!»
«Правда», 19 июля
«Сегодня в номере: Николай Романов расстрелян».
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Противник ведет наступление по двум железнодорожным линиям: Екатеринбург – Челябинск и по Западно-Уральской. На первой из указанных линий наши войска отошли в районе станции Мраморской.
«Правда», 24 июля
ПЕРЕДОВАЯ – УГРОЗА РАСТЕТ
«Чехословаки взяли Симбирск. Волга перерезана еще в одном месте. Самая крупная артерия страны перехвачена тугой веревкой. Мятеж расползается, как жирное пятно на бумаге. Да здравствует натиск на врага!
Коммунист!
Умеешь ли ты обращаться с оружием?
Справишься ли с пулеметом, ручной бомбой, минометом?»
ГУБЕРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ
«…Слово о текущем моменте предоставляется тов. Ленину.
“Последние дни, – начинает оратор, – ознаменовались крайним обострением дел для Советской Республики. Голод – самый отчаянный враг Советской России”.
Товарищи!
Ввиду появления холеры в Москве прививайте себе противохолерную вакцину и убеждайте других делать это.
Прививки производятся бесплатно».
РЫТЬЕ МОГИЛ БУРЖУАЗИЕЙ
Петроград. Введенная среди буржуазии повинность по рытью могил для холерных проводится энергично. Ежедневно обеспеченное население отправляется на рытье могил.
«Правда», 25 июля
«Товарищи и граждане!
Чехословацкие банды временно лишили нас возможности получать и то скудное количество питания, которое мы получали до сих пор. Вчера и сегодня мы не могли совершенно выдавать хлеб населению. Приняты экстренные меры, чтобы добыть муку.
Товарищи рабочие!
В Финляндии и на Украине, где хозяйничают враги народа, на почве истощения работает новая болезнь под названием испанка. Что же будет здесь, где хлеба нет, если удастся дьявольский план взять рабочих измором.
Теснее революционные ряды!
Все на своих местах, все на страже в эти тяжелые дни!»
ЯРОСЛАВЛЬ НАШ
Чрезвычайная комиссия выделила из общей массы арестованных 350 человек, в большинстве бывших офицеров. По постановлению комиссии эти 350 человек расстреляны.
ВОССТАНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В ВОЛЬСКЕ
Вооруженные банды захватили Вольск, распространившись и на уезд.
КРОВАВАЯ РАСПРАВА В СЫЗРАНИ
Расстрелянные рабочие насчитываются сотнями, если не тысячами.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Чехословацкий восточный фронт. Наши части с боем отходят к Екатеринбургу.
Номер «Правды» от 25 июля был последним, который видели геологи. Страна, как женщина, истерзанная, обезумевшая от боли, рожала новый строй.
Утром 29 июля геологи увидели чехов. Екатеринбург стал белым.
Гапеев растерялся. Что делать с мандатом Совнаркома?
Геологи сошлись в проходе и спорили, не зная, что предпринять.
Из купе выходит Кратов. За ним парикмахер – Кратов никогда не посещал парикмахерских, вызывая мастеров к себе. Он выбрит, подстрижен и надушен. На нем новый костюм вместо дорожной тужурки – позолоченные молоточки празднично сияют на солнце. В руках поблескивает портфель крокодиловой кожи.
– Успокойтесь, господа. Прошу не выходить из вагона… Все дальнейшее я беру на себя…
Он вынимает из портфеля сложенный вчетверо лист плотной бумаги. Она голубая.
Это засвидетельствованная петербургским нотариусом полная доверенность акционерного общества Копикуз. Кратову передоверялись все права общества – он мог заключать договора на неограниченные суммы, продавать имущество общества и приобретать для него, отвечать на иски и вчинять таковые, производить любые расходы по собственному усмотрению, выдавать векселя, обеспеченные всем активом общества.
Через два часа Кратов возвращается из города. Вагон прицепляют к первому поезду, отправляющемуся на восток.
Через двое суток геологи прибыли в Омск. Там заканчивалось формирование временного Сибирского правительства.
В Омске стояли несколько дней. Кратов пропадал в городе. Он провел крупную деловую операцию, заключил договор с Сибирским правительством на поставку угля и получил в качестве аванса полтора миллиона керенками – они ходили у всех властей.
К пузатому московскому чемодану, покоившемуся всю дорогу на верхней полке, Кратов привязывает ремнями тяжелый маленький баульчик.
Он раздает лутугинцам удостоверения от нового правительства с предписанием военным и гражданским властям оказывать всяческое содействие геологоразведочной работе в Кузбассе.
С едва заметной усмешкой, потонувшей в усах, Кратов сообщает, что Павел Павлович Гладков получил портфель министра торговли и промышленности в новом кабинете.
Котульский прекратил остроты по адресу Гладкова. Вагон покатил дальше на восток. Его номер не сохранился для истории.
Глава шестая
Восстание
I
Шампанское стынет в серебряных ведрах со льдом. Погоны мелькают среди черных фраков. В зал входит Кратов.
Оркестр военнопленных мадьяр играет встречу. Кратов в дорожном костюме – сапоги на двойной подошве, инженерская куртка.
Пятого апреля 1919 года Кратов выехал из Томска в Кемерово. Через два дня на недостроенном Кемеровском коксохимическом заводе в маленьких печах упрощенного типа начнутся испытания коксуемости осиновских углей. Пласты Осиновского угольного месторождения выходили на реку Кондому как раз против площадки будущего металлургического завода. Осиновка – ближайший пункт к Тельбесу. Кратов был уверен, что результаты испытаний будут превосходны, но все же волновался. Он выехал, чтобы лично проследить за процессом коксования.
По пути в Кемерово Кратов остановился ночевать в Кольчугине и попал на офицерский бал. Кратову скучно, после дороги у него усталость и насморк. Поручик Зеленков, начальник гарнизона, бывший псаломщик, лезет к Кратову целоваться. Трезвые глаза Кратова брезгливо щурятся. Оркестр играет. Никто не замечает, что музыканты следят за стрелками на больших часах и переглядываются. Кратов исчезает с бала. Он идет в недостроенный директорский дом, где двадцать комнат, столовая на сто человек, бильярдная и зимний сад. Там ему приготовлена комната на ночь.
Поселок угрюмо чернеет сплошным пятном без единого огонька. Музыка прорывается сквозь двойные рамы. Часовой у казармы поглядывает на яркие окна. Из дверей пулеметной команды выставил рыльце «максим» с заправленной лентой. Офицерские комнаты на втором этаже пусты – все на балу. Кратов идет в темноте, сунув правую руку в карман, где лежит маленький браунинг без кобуры.
Когда-то здесь стоял сплошной березняк; три лета все трещало на этом месте – крестьяне рубили, тесали и возили лес. В 1913 году Кратов привез сюда триста шахтеров из Донбасса. Он отбирал их лично и всех знал по именам. Он приобрел для них крестьянские избы и каждому купил корову и свинью. Рабочие помесячно выплачивали за это. Теперь в бараках кольчугинских копей шесть тысяч человек. В бараках все знают фамилию Кратова. Там получают деньги, на которых стоит его подпись, – собственные деньги Копикуза, боны от рубля до ста. Их называют «кратовками» или «копи-кузовками», другими деньгами рабочим не платят.
В директорском доме Кратов ложится в постель, насыпает сухую горчицу в носки и надевает их. Горчичник у пяток на двадцать минут – лучшее средство от насморка.
Бал продолжается. Сменяются мазурки и вальсы.
Штейгер Вагнер выпивает последнюю рюмку и смотрит на часы. Две минуты первого. Аккуратный немец идет за калошами. Он рано встает.
В передней его сбивает человек в белье, весь в крови. Он влетает в зал и дико кричит:
– Восстание!.. Восстание!..
Офицеры сразу трезвеют, хватаются за оружие и кидаются к дверям. Оркестр ударяет залпом из шести револьверов. Падают тела. Офицеры выскакивают из окон. Дамы в бальных туалетах бегут в темноту.
Завыл гудок протяжно и тревожно. Из шахтерских бараков выбегают люди. Поручик Зеленков бросается к казарме. Часовой пропускает, не спрашивая пароля. Едва Зеленков переступает порог, часовой выстрелом в спину кончает с поручиком. Это кольчугинский подпольщик, снявший часового.
Офицеры, отстреливаясь, бегут к лесу. По ним трещит пулемет.
Кратова поднял надрывающий душу гудок. Он подошел к окну и пытался разглядеть зарево пожара. Сквозь двойные рамы слышны выстрелы.
Кратов одевается, не попадая ногами в сапоги. Он выбегает на улицу и мечется, как слепой. Он знает: его не пощадят подпольщики. Год назад, в начале восемнадцатого, в контору Кольчугинского рудника пришли представители ревкома. Кратов собирался уезжать в Петербург: связь с правлением была утеряна, оно притаилось в столице, поток ассигнований иссяк. Перед отъездом Кратов собрал администрацию рудника в директорском кабинете. Ревкомовцы вошли туда. На основании Декрета о рабочем контроле они потребовали права участвовать в управлении рудниками.
– Мы считаем рудник своим, – сказал председатель делегации.
Кратов взглянул с интересом.
– Вы уверены, что сможете управлять копями? – спросил он. – Где достанете вы капитал?
– Вот наш капитал, – ответил шахтер. – Этим создано все.
Он положил узловатые темные руки на зеленое сукно стола, сжал и разжал кулаки.
– Прекрасно, – сказал Кратов, – хозяйничайте сами.
Он уехал в столицу, и с этого дня прекратилось поступление на рудник денег, материалов, продовольствия из томской конторы Копикуза. Не стало леса, не стало хлеба, не было наличности для выдачи заработной платы. Ревкомовцы отправляли продотряды на Алтай за зерном; требовали крепежного леса от Сибсовнархоза, уговаривали рабочих не разбегаться.
Когда пришли чехи, к конторе привели захваченных ревкомовцев. Преданный Кратову Садов, строитель Кольчуги некоего рудника и кемеровских коксовых печей, ударял тычком в губы и в носы связанных шахтеров. Его большой костистый кулак оброс коркой почерневшей крови. Кратов, уже вернувшийся из Москвы в известном нам вагоне, сидел в директорском кабинете. Он подошел к открытому окну, посмотрел на расправу, поморщился, захлопнул прозрачные створки и наглухо задернул шторы.
И вот мечется он, как слепой, кровь мерещится ему. Он видит: чернеет в темноте чья-то оседланная лошадь. У него колотится сердце, он вскакивает в седло и мчится. В ушах свист – так свистит ветер и пуля. За ночь Кратов проскакал до станции Юрга. Он пишет телеграмму в Томск о восстании и вдруг чувствует острую боль в ногах. Со стоном снимает сапоги. К пяткам нельзя прикоснуться – кожа сошла. Второпях он забыл высыпать горчицу из носков. На коне он не почувствовал боли.
II
Через три дня Кратов, как обычно, сидит в своем кабинете в Томске. Он одновременно директор-распорядитель и председатель временного правления Копикуза. Все общества Международного банка, имевшие дела в Сибири, создали временные правления и поддерживали друг друга. Кратов изворачивался, перехватывая ссуды, выпуская «копикузовки», распределяя за половину номинала новый выпуск акций среди сибирского купечества.
Собранные крохи Кратов бросал на заводскую площадку и на южную группу рудников. Проектное бюро металлургического завода было переведено ближе к площадке – в город Кузнецк. Туда выехал со своим штабом сумрачный и неутомимый Садов, назначенный главным строителем завода. Центральное правление Копикуза оставалось в Томске.
Рядом с кабинетом приемная. Там ковры и картины. На столах образцы тельбесских руд и кузнецких углей. Без доклада в кабинет не входят. Докладывает о посетителях швейцар Константин. Обычно он спрашивает: «Как прикажете доложить?», уходит, возвращается и сообщает: «Просили немного обождать».
Сегодня все проходят мимо Константина без доклада.
Входит человек в адмиральской форме. Это брат Кратова – Михаил Петрович, адмирал Черноморского флота, друг Колчака, ныне начальник Томского гарнизона и вооруженных сил Томской губернии.
Он здоровается с Константином за руку. В 1918 году при советской власти адмирал служил в Копикузе экспедитором – заклеивал пакеты, перевязывал бечевкой посылки и носил их на почту. С тех пор он сохранил дружеские отношения с некоторыми низшими служащими Копикуза.
– Что слышно на фронте, Михаил Петрович?
– Плоховато, Костя, отдали Уфу.
– Что же так, Михаил Петрович?
Адмирал вертит пальцами в воздухе. Он считает, что Колчак много лучше понимает в морских делах, чем в сухопутных. Не отвечая, адмирал проходит в кабинет.
– Ну как? – спрашивает Кратов брата. – Что слышно из Кемерова, с Гурьевска?..
– Кажется, спокойно… Карательную экспедицию отправляем в Кольчугино завтра.
Дверь распахивается. Быстро входит Елена Евгеньевна – жена Кратова. Она любит благотворительность и верховую езду.
– Иоська! Я открываю сбор. Ты должен подписаться первый.
– Какой? Куда?
– В Кольчугине перебьют рабочих. Надо помочь сиротам?
– Но ведь их еще не убили, Елена Евгеньевна, – говорит адмирал.
– Давай лист, Леля…
Кратов целует у жены руку и смотрит на нее влюбленными глазами.
Он пишет крупными буквами:
«В пользу вдов и сирот рабочих Копикуза, погибших при подавлении кольчугинского мятежа,
И. П. Кратов – 1000 рублей».
– Теперь вы, Михаил Петрович.
– Мне неудобно, душенька…
– Ну как хотите… Потом вот что, Иоська: я хочу сегодня на доклад Грум-Гржимайло. Возьмешь меня?
– Тебе будет неинтересно…
– Нет, нет… Офицеры собираются… Я обязательно поеду.
Братья договариваются о субординации между начальником отряда и прикомандированным к карательной экспедиции представителем правления Копикуза. Адмирал шутит, поминутно отвлекается, любезничает с Еленой Евгеньевной. Кажется, что речь идет о деловой поездке, а не об убийстве сотен людей. На листе бумаги Кратов аккуратно и быстро, без единой помарки, перечисляет необходимые меры содействия военных властей быстрейшему восстановлению добычи. Эту памятку он вручает адмиралу. Поболтав еще несколько минут, адмирал прощается и покидает правление.
В кабинет входит Курако в азяме – светло-коричневом костюме из грубой верблюжьей шерсти. Он посещает Кратова редко и всегда приходит запросто.
– Осип Петрович! Я перебрасываю свой штат из Кузнецка на Гурьевский завод.
– Почему?
– На фронте отступление. Будут мобилизовывать всех, кто не на заводах…
– Пожалуй, вы правы.
– Я беру с собой всех, кроме Близунова. С ним можете делать что хотите.
– Почему?
– Из него не выйдет доменщика. Он слишком любит свою жинку…
– Фу, какой вы… – говорит Елена Евгеньевна.
– У вас странные взгляды, Михаил Константинович, – поддерживает ее Кратов.
– Доменщик должен любить только одну женщину – домну.
В кабинет входит Константин. Он наконец дождался посетителей, о которых следовало доложить…
– Приехали с коксом из Кемерова… Прикажете обождать?
– Давай их сюда сейчас же…
Кемеровцы привезли новости. В Кемерове не было никаких попыток к восстанию – испытание осиновских углей прошло спокойно в назначенный срок. Приезжие развернули упакованные в бумагу конусообразные серебристые куски. Кокс был превосходен. При ударе друг о друга куски издавали металлический звук.
– Прекрасно, – говорит Кратов. – Могу вас поздравить, Михаил Константинович. Вы будете иметь уголь для коксовых печей в трех километрах от завода.
– Разрешите, Осип Петрович, взять один кусок…
– Пожалуйста. Вы будете на докладе Грума?
– Приду…
III
Актовый зал Томского университета переполнен. Сидят профессора, инженеры, студенты, дамы. Много офицеров. В первом ряду Кратов. Рядом адмирал, геологи Гладков и Усов, профессор Гутовский и барон Фитингоф.
Грум-Гржимайло выступает против урало-кузнецкого проекта, выдвигая взамен собственный план – так называемый план Северной Сибирской магистрали.
Проекты Грума всегда неожиданны и часто скандальны. Промышленники не допускали его к предприятиям. Он не шел на сомнительные сделки и мешал темным делам акционерных обществ.
Грум вырос на Урале, стал лучшим мастером качественной стали, называл вздором все, что было написано о производстве черного металла, увлекся металлургией войны, изготовлением орудий смерти. Со всех заводов прогоняли его, как скандалиста. Студентом он прочел у Добролюбова[6], что русским писателям не даются практические деятели, Штольцы (из романа «Обломов»), потому что не с кого писать.
«Я решил стать Штольцем», – записал Грум в своей автобиографии. Это не удалось ему. Цейдлер, умнейший делец Урала, директор акционерного общества Надеждинских заводов, сказал однажды Груму:
– Вы слишком порядочный человек, чтоб быть управителем завода.
Грум любил вспоминать эту фразу.
Грум выходит на трибуну. Он огромного роста, с длинными зубами, с насупленными мохнатыми бровями, седая борода спускается до пояса – настоящий дед Черномор. Его встречают аплодисменты.
– Господа, – произносит Грум. В зал врывается ветер.
Не закрывая за собой дверей, в зал входит Курако и одиннадцать куракинцев вслед за ним. Все одеты одинаково – в светло-коричневые куртки и штаны из грубой верблюжьей шерсти. Среди них инженеры, окончившие по два высших учебных заведения, но ни один не носит форменной фуражки. Курако ненавидел инженерскую форму. Он говорил:
– Не тот инженер, у кого два молоточка на лбу, а тот, кто за рубль сделает то, что дурак за два.
– Господа, – повторяет Грум. – На свете есть страна, работающая черный металл на древесном угле в маленьких заводах, очень напоминающая Урал. Однако в противоположность Уралу железная промышленность не влачит в ней жалкого существования. Напротив, она побеждает на мировом рынке колоссы Западной Европы и Америки, ввозя свои изделия в мировые центры промышленности и культуры. Эта страна – Швеция. Она поставляет сталь недосягаемого для Европы качества. Эта маленькая страна справедливо вызывает удивление металлургов всего мира.
Курако всю жизнь воевал с металлургами немецко-бельгийского типа. Он впервые видел перед собой нового противника – представителя шведского течения – и слушал его с интересом.
Грум перешел к личным воспоминаниям о Швеции. Он рассказал о маленьких чистеньких заводах, об огромных лесах, прорезанных паутиной железных дорог. Железные дороги Швеции приспособились к малой населенности и к малой провозоспособности. Большинство станций упрощенного типа. Это домики в два окна с верандой для пассажиров. К проходу поезда начальник станции, он же стрелочник, телеграфист и сторож, отворяет станцию, пропускает поезд и возвращается к себе.
– В середине прошлого столетия, – продолжает Грум, – шведская железная промышленность находилась накануне краха. Рост коксовой металлургии и падение цен на железо на мировом рынке грозили совершенно погубить слабую металлургию Швеции, работавшую на древесном угле и потому поневоле дорогую. Шведы нашли выход. Они открыли свою страну для иноземного дешевого грязного железа и объединились для борьбы с мировой конкуренцией в области высших сортов стали.
Грум подходит к критике урало-кузнецкого проекта. Год работали над ним инженеры, геологи и профессора Сибири. Кипы экономических записок, таблиц, чертежей могут заполнить небольшую комнату. Основа проекта проста и понятна ребенку. Строятся четыре – только четыре – завода. Один в Сибири на рудах Тельбеса, три на Урале – у горы Магнитной, у Байкала и Алапаевска. Каждый завод американского типа, производительностью 800 тысяч тонн металла в год. Все четыре дадут мощность довоенной русской металлургии. Кузнецкий бассейн даст заводам кокс.
Грум говорит:
– Урал обладает самыми чистыми в мире, бессернистыми рудами. Чистота руд – столь драгоценное качество, что засорять их плавкой на коксе, всегда содержащем серу, – государственное преступление.
Грум изложил проект, которому Курако не мог отказать в остроумии. Грум предлагал провести круговую магистраль из Томска на Урал. Он называл ее Северной Сибирской магистралью. Свыше трех тысяч километров железной дороги просекут сплошной массив почти безлюдных лесов площадью больше Германии. Отсюда Урал получит практически неисчерпаемое количество древесного угля.
Грум перечислил изделия, требующие высококачественного древесноугольного металла: цилиндры паровозов, поршневые пружины, изложницы, прокатные валы с закаленными поверхностями, детали автомобилей, инструментальная сталь.
– Кроме того… – Грум возвысил голос: – Кроме того, уральские руды как бы специально созданы для предметов вооружения и обороны. На Урале мы возродим булат древних. История металлургии указывает, что все изобретения в ее области делаются и применяются прежде всего в военном деле. Война – это лаборатория мирной культуры. Человеческая культура проходит дорогую и суровую школу милитаризма и только путем этой школы познает возможности, вложенные в металл.
Грум подводил итог. Страна настежь открывает ворота потокам грязного коксового железа из-за границы. Урал становится мировым центром древесноугольного железа, несравненного по качеству. Россия выделывает лучшие в мире орудия войны. Этим она обеспечивает свою мощь в концерне мировых держав. Миллионные капиталы, русские и иностранные, частные и государственные, надо направить не в Кузнецкий бассейн и не в четыре сверхгиганта, а на сооружение Северной Сибирской магистрали и в уральскую древесноугольную промышленность.
Кратов не пошевелился в течение всего доклада. Проект Грум-Гржимайло резал под корень дело, которому он посвятил себя.
Общество сибирских инженеров разрабатывало урало-кузнецкий проект по заданию Высшего Совета Народного Хозяйства на советские средства. Пока Гладков был министром, власти смотрели на это сквозь пальцы. Когда Колчак стал диктатором и создал новое правительство, Кратова вызвал премьер Вологодский – раньше он был присяжным поверенным в городе Томске.
– Вы занимаетесь странными делами, Осип Петрович, – сказал Вологодский. – Знаете, как называется то, что совершаете вы, работая для большевиков?
– Для большевиков? – переспросил Кратов. – Я никогда не работал и не буду работать для них. Ни для них, ни для кого другого. Вы знаете меня не первый день, Петр Васильевич. Я создаю проект, пригодный для любой общественной структуры и нужный всякой власти.
– Как хотите, Осип Петрович! Я не делаю формального запрета, но предупреждаю. Это опасная дорожка. Советую оставить ее. Подождите до спокойных времен и придумывайте тогда что угодно.
Разработка урало-кузнецкого проекта свернулась. Кратов дорабатывал его в своем домашнем кабинете с самыми близкими людьми. В основу расчетов Кратов клал принцип коммерческой выгоды. Смета полного осуществления урало-кузнецкого проекта составляла миллиард рублей золотом. Вся южная промышленность – металлургические заводы, шахты Донбасса, рудники Криворожья – стоила четыреста миллионов. Миллиард не пугал Кратова, он строил проект так, чтоб его можно было осуществить по частям, растягивая сроки хотя бы на столетие. Даже постройка каждого завода в отдельности мыслилась по принципу концентрических кругов – сначала две домны, четыре мартена и один прокатный стан, потом еще две домны, четыре мартена и стан, потом еще и еще.
Лишь одна проблема оставалась неразрешенной. Кратов ночами думал о ней и не мог ничего придумать. Уголь при перевозке в обычных условиях удваивается в стоимости через каждые шестьсот километров. Переброска огромных масс кузнецкого угля на Урал станет коммерчески выгодной при условии сооружения сверхмагистрали – прямой, как натянутая нитка, и абсолютно ровной, без единого подъема и спуска. Треть миллиарда падала из сметы на сверхмагистраль. Ее нельзя вводить в действие по частям – тут требовалось триста пятьдесят миллионов сразу.
Банки не подымут этой суммы. К большевикам Кратов не относился серьезно. Он считал их падение неизбежным. На правительство военной диктатуры Кратов не рассчитывал: кумир военных – Грум, колчаковцы поддерживали его.
В одну из бессонных ночей Кратов впервые подумал об инженерном правительстве, вспомнил Пальчинского и улыбнулся. Инженеры всегда смеялись, когда Пальчинский, размахивая руками, фантазировал о государстве, которым правят инженеры. Кратов усмехался вместе со всеми, как практик и реалист.
Бессонной ночью, в тупике от бесплодных поисков реальной комбинации, Кратов взвесил идею Пальчинского. Она уже не казалась смешной.
Кратов сидел сутулый и скучный. Он плохо слушал Грума и думал о проблеме транспорта.
Грум проявлял в Сибири кипучую активность. Он расколол надвое томскую профессуру. Многие отошли от Кратова. В Томске в Обществе сибирских инженеров уже действует урало-сибирская комиссия под руководством Грума, наподобие урало-кузнецкой.
Профессор Поварнин ведет опыты над улавливанием продуктов перегонки при производстве древесного угля. После доклада Грума Поварнин будет демонстрировать керосин из древесины, порох и шелк из древесины и множество других чудес.
Грум заготовил эффектный конец речи.
– Любопытно, – сказал он, – что, составляя сокращение, как это теперь принято, для древесноугольного железа, мы получим слово – «друг». Древесный уголь действительно есть истинный друг русского народа.
Под шум оваций Грум сошел с трибуны.
– Генеральский бред! – раздался выкрик из зала.
Все обернулись. Крикнул Курако.
– Вывести его! – закричал один из офицеров.
На офицера зашикали. Странному украинцу, чья слава украшала город, позволялось многое, что не прощалось другим.
Курако попросил слова. Одиннадцать человек в верблюжьих куртках и в верблюжьих штанах захлопали ожесточенно и весело.
Курако говорил коротко и резко. Он сказал, что грязное железо – это рельсы, паровозы, машины, заводы. Стране серой и нищей нужны миллионы и миллионы тонн грязного металла. На пятьсот килограммов железа идет один килограмм качественной стали. Отказаться от выплавки грязного железа и вместо этого лить пушки из древесноугольного металла – нелепость, плод разгоряченного генеральского воображения.
В переднем углу поднялся офицер и что-то прокричал. Курако остановился на полуслове. Он хотел сказать, что берется выплавить в новых американских печах металл, не уступающий качеством древесноугольному, что изумительная чистота кузнецких углей позволяет добиться этого. Выкрик офицера отвлек его. Неясная мысль шевельнулась у него. Курако показалось, что не это и не здесь он должен говорить. Он посмотрел по рядам, увидел погоны, петлицы и не захотел больше говорить.
Курако махнул рукой и сошел с трибуны, недовольный собой.
Елена Евгеньевна наклонилась к мужу:
– Мне нездоровится. Проводи меня домой.
Кратов не мог уйти и обратился к Гутовскому. Профессор с готовностью встал. В трудные времена он сохранил верность Копикузу. Он работал с Кратовым с 1914 года, выбирал площадку для завода, поворачивал вместе с Гладковым общественное мнение Сибири в пользу нового начинания и председательствовал в урало-кузнецкой комиссии.
На трибуну входил Гладков. Бывший министр возглавлял Сибирский геологический комитет и выступал против Грума.
– Господа… – начал Павел Павлович.
Внизу щелкнул выстрел. Еще и еще… Публика вскочила. В руках офицеров замелькали револьверы. Заметались истерические крики. Начали прыгать из окон.
Гутовский получил в раздевальне пальто Елены Евгеньевны. К ним подошел офицер-каратель, влюбленный в Елену Евгеньевну.
– Попрощайтесь со мной, Елена Евгеньевна. На рассвете я еду прямо в бой.
Он протянул ей руку.
– Вы мне надоели, уйдите, – сказала она и не подала руки.
Капитан выхватил револьвер и выстрелил несколько раз. Последний патрон пустил себе в висок и упал мертвый.
Елена Евгеньевна еще дышала, ее сейчас же увезли в университетскую клинику. Когда Кратов пробился в раздевальню, там швейцар, отталкивая любопытных, вытирал половой тряпкой лужицы крови. Кратов бросился в клинику. Елена Евгеньевна умерла на извозчике, не приходя в сознание. Кратов вернулся домой, упал головой на письменный стол и всю ночь оставался как каменный. Приходили и уходили люди. Кратов не сделал ни одного движения. Только к утру он заплакал. В комнате был Гладков. Кратов посмотрел на него и сказал:
– Теперь мне остался только Копикуз.
Елену Евгеньевну похоронили в тот же день. Кратов не проронил больше о ней ни слова. Вечером после похорон он спросил брата:
– Карательная экспедиция выехала?
– Да. Восемь пулеметов. Начальником полковник Ромашев.
IV
Следующей ночью к Курако постучали. Экономка Анна Ивановна впустила невысокого худого человека с глубоко запавшими черными глазами. Иногда он приходил каждую ночь, иногда исчезал надолго.
Это Сергей Дитман, большевик, член томского подпольного комитета партии. Когда-то, еще до войны, он работал у Курако в Юзовке студентом-практикантом, в 1914 году был арестован и сослан в Нарым.
В дни колчаковщины Курако встретил его на одной из улиц Томска и радостно кинулся с протянутой рукой, крича:
– Дитман, вы ли?
Дитман вздрогнул, быстро взглянул. Курако почудилось что-то странное в его лице, потом выражение изменилось, мелькнуло облегчение, в глазах вспыхнул огонек улыбки и исчез, словно прихлопнутый. Лицо стало отчужденным и непроницаемым.
– Вы ошиблись, я Харин, а не Дитман.
– А-а-а… – понимающе произнес Курако. Потом покраснел и вспылил: – Ты что, барбос, Курако подлецом считаешь?
Дитман молча пожал ему руку.
Сейчас он сидит в кабинете Курако и, забыв об остывшем чае, рассказывает подробности восстания. Он говорит негромко, перемежая речь длительными паузами. Ему тяжело. Он знает, хотя и не сообщает Курако, что в Кольчугине поднялись раньше времени, не зная, что срок перенесен. Этим сломан план общего всекузбасского восстания и кольчугинцы обречены на разгром. Посланы люди, чтобы вывести их в тайгу к партизанам.
Дитман скупо повествует. Курако сидит на столе, обхватив руками колено, и слушает не перебивая.
– Вчера отправились каратели, – говорит Дитман и вновь замолкает.
Курако вспыхивает и нервным движением выхватывает из кармана браунинг:
– Вот. Возьмите.
– Зачем? У меня есть…
– Кому-нибудь понадобится.
Дитман пристально смотрит на Курако. Курако вдруг густо краснеет и отводит глаза. Во взгляде Дитмана он прочитал: «Что же ты, оружье отдаешь кому-нибудь, а сам?»
Револьвер чернеет на протянутой ладони, Курако смотрит в сторону, залившись краской стыда. В мыслях смятение, весь жизненный путь в эту минуту кажется неправильным. Он сует револьвер в карман и искоса взглядывает на Дитмана. У того на лице хорошая улыбка. Курако невольно улыбается в ответ, вскидывает голову и произносит:
– Я пригожусь вам вместе с этой штукой.
Дитман молчит, его глаза просветлели. Курако шагает по комнате, овладевая собой. Прерывая затянувшееся неловкое молчание, он спрашивает:
– А что там?
Взмахом руки он указывает куда-то далеко. Дитман понимает. Он рассказывает последние новости о Советской России. На Юге белых теснят – взяты Бердянск, Мариуполь, Юзовка. Знакомые названия вызывают улыбку воспоминания у Курако – там сражается сейчас его доменная гвардия, отвоевывая заводы.
На восточном фронте плохо – Колчак подступает к Волге. Внутри тяжелей всего с транспортом, на месяц совершенно прекращено пассажирское движение, чтобы протолкнуть к центру уголь и хлеб. На днях закончился Восьмой съезд партии, там принята новая партийная программа.
– Вот, вот, расскажите.
Дитман отвечает, что новая программа в Сибирь еще не дошла, но в прошлом году, в период передышки, Ленин много писал о том, как организовать хозяйство.
– Подробнее, подробнее, – просит Курако.
Дитман оживляется, голос становится звучнее. Статьи Ленина были не только прочитаны, но и пережиты им. Он говорит, каждая его фраза согрета чем-то глубоко личным и оттого приобретает какую-то добавочную силу сверх своего логического смысла. Ему самому было бы невозможно различить, если б он захотел это сделать, где он пересказывает Ленина и где говорит свое, много раз передуманное, отложившееся из жизненного опыта.
Курако слушает, налегши на стол, подперев голову руками и неотрывно глядя в лицо Дитмана. На минуту ему становится странно: две тысячи километров отделяют Томск от черты фронта, за которой изнемогает Советская республика, далеко вокруг властвуют колчаковцы, в этот час они чинят, быть может, расправу в Кольчугине, а Дитман с увлечением говорит об организации социалистического общества.
– Вопрос будет решаться тем, – восклицает Дитман, – сумеем ли мы, сумеет ли социализм создать более высокую производительность труда по сравнению с капитализмом.
– Неужели Ленин так и написал?
Стараясь быть точным, Дитман приводит наизусть некоторые выдержки.
– Как это верно, как это верно! – произносит Курако.
– Прежде всего придется преодолеть расхлябанность, распущенность, падение дисциплины.
Возбужденный разговором, Курако с воодушевлением развивает свои планы преобразования России. Центр металлургии и угля будет в Кузбассе, здесь он построит невиданные во всем мире домны. Его черные глаза блестят.
Они сидят далеко за полночь. Курако сам стелет гостю постель на кожаном диване и спрашивает:
– А как там доменные печи?
– Где-то я читал, что одна еще работает.
– Какая? Где?
– В Енакиеве.
– В Енакиеве? Мои барбосы? Откуда вы все это знаете?
Дитман улыбается, не отвечая. За окном синеет. Ночь прошла незаметно.
– Ну, ложитесь, ложитесь, – говорит Курако.
Пожелав спокойной ночи, Курако идет к двери и на полдороге останавливается. На лице непривычное смущение.
– Мне хочется… – неуверенно говорит он.
С письменного стола он берет серебристый кусок кемеровского кокса.
– Мне хочется переслать это в Россию, на Енакиевский завод. Не знаю, можно ли…
– Кому там передать?
– Инженеру Макарычеву.
– И что сказать?
– Ничего. Это первый кокс Кузбасса. Они сами все поймут.
– Экий вы неисправимый доменщик. Давайте.
Дитман улыбнулся, качая головой.
V
Самодельный броневик и эшелон повстанцев были разбиты карателями около Раскатихи. Повстанцы уходили в тайгу.
Утром каратели на конях влетели в Кольчугино. Поселок был оцеплен.
В штаб отряда сгоняли прикладами все взрослое мужское население. Начался допрос и проверка документов.
Весь день около штаба стояла длинная очередь. Впускали через одну дверь, выпускали в другую.
У тех, кто выходил из дверей, были землистые лица. Их мутило от противного сырого запаха крови и страшных криков. Подозрительных избивали и сбрасывали в подвал.
На рассвете начались расстрелы. Людей уводили к лесу. Трупы убирать запретили. Собаки выли по ночам и бегали с окровавленными мордами. На третьи сутки стали расстреливать днем.
Военным приказом оставшиеся по гудку спускались в шахты. Везде сверкали штыки и шашки наголо.
Каждую ночь рабочие тайком уходили в тайгу к Рогову и Новоселову, наводившим ужас на колчаковцев.
Пустые места на барачных нарах занимали прибывающие сибирские крестьяне.
Черная пыль, прокаленная жарким солнцем, садилась на огромный холм братской могилы, не отмеченный ничем.
Глава седьмая
Черное знамя
I
Маленькие тюремные окна пробиты высоко, под самым потолком. Светит луна. Тени решеток накрест перечеркивают каменную стену.
Слышится шепот. Людей не видно. Они лежат, притаившись, укрытые мягкими охапками стружек. Их двенадцать человек – проектное бюро доменного цеха Копикуза.
Чернеет толстое железное кольцо, намертво вделанное в стену: когда-то к нему приковывали каторжников на ночь. Курако пробирается к двери. Он шуршит в стружках, как мышь. У дверей он замирает и прислушивается. Тишина. Давно смолкли скрипы саней на дороге.
Белые ушли с Гурьевского завода. Опасаясь, чтоб они не забрали с собой конструкторов, Курако спрятался с ними в стружках модельного цеха.
Когда-то Гурьевский завод был сереброплавильным и принадлежал кабинету его величества. Он выстроен каторжниками. В старинной книге приказов писали гусиным пером: «Рабу Божьему имярек отпустить полста розог».
Триста километров отделяют Гурьевский завод от железнодорожной магистрали. На лошадях везут к заводу уголь и руду, на лошадях отправляют железо.
Завод считается работающим на оборону. Курако перебросил сюда свою группу и включил ее в штат завода. Это гарантировало от мобилизации.
Осматривая впервые завод, Курако отплевывался и хохотал. Маленькая домна с открытым колошником не зашита железной броней. Огонь выбивается сквозь щели каменной кладки и длинным синим языком выхлестывает кверху. Руду и уголь возят на колошник лошадьми по деревянному помосту. Чугунную летку забивают березовыми клиньями, пихлами – от слова «пихать».
Вода – единственный источник двигательной силы завода. Из пруда – его называют «водяной ларь» – лавина воды ниспадает на огромное деревянное мельничное колесо. Дутье в доменную печь подается деревянной воздуходувкой. В огромных деревянных чанах медленно ходят вверх и вниз деревянные поршни, нагнетая воздух.
– Черти! – хохотал Курако. – Деревом железо делают. Эх, Сибирь деревянная!
Из дерева сделан в доменном цехе подъемный поворотный кран в виде огромной буквы «Г». Даже механические молоты в кузнице деревянные.
Курако долго стоял у деревянного молота. Молот поднимался медленно, еле полз и внезапно срывался со страшной силой, расплющивая податливое раскаленное железо.
– Гордишься, старик? – сказал Курако и потрогал горячую обугленную поверхность молота. – Думаешь, дерево сильней железа? В музей тебя, чудака, поставим.
Около года провели куракинцы на Гурьевке. В лунную декабрьскую ночь 1919 года, зарывшись в стружки, они выждали ухода белых. Завод остался без власти. Белые ушли, красные не приходили.
II
Отряд Рогова идет на рысях из Кузнецка на Гурьевский завод.
Переднюю кошеву несет отобранная у золотопромышленника пара коней, гладких, как налимы. Дуга увита красными лентами. Полощется по ветру большое черное полотнище – черное знамя отряда.
Трое суток провели роговцы в Кузнецке. Они вошли туда без боя, как почетные и званые гости. Белый гарнизон Кузнецка поднял восстание, и начальник гарнизона полковник Скурат был убит из пулемета, когда скомандовал пулеметчикам открыть огонь по восставшим. Наступающие красные войска были еще далеко. Кузнецкий ревком разослал гонцов в тайгу искать партизан, звать на помощь.
Отряд Рогова, обмерзший, обтрепанный, изголодавшийся, скрывался на звериных тропах от карательных отрядов. На войсковые соединения белого тыла роговцы наводили панический страх. Они обрушивались внезапно и деревянными саблями рубили наповал. Пленных не брали. Всем смерть.
Нестройной тысячной массой с присвистом и гиканьем вступили роговцы в Кузнецк. На заморенных конях сидели верхами по двое. У большинства самодельное оружие – деревянные сабли и длинные колья. Одеты в полушубки, в женские салопы, в купеческие дохи, в солдатские шинели. Некоторые в одних гимнастерках. Всевозможным тряпьем обернуты ноги, редкие имели пимы. Там и сям блестели одежды из поповских риз. Иметь штаны из ризы или накрыть ризой коня вместо попоны считается у роговцев особым щегольством.
У кузнецкого собора на базарной площади отряд остановился.
Человек в ладной синей бекеше, в черной папахе, в сапогах тронул коня и по каменным ступеням въехал верхом в раскрытые двери собора. Несколько всадников поднялись за ним. Отряд рассыпался по улицам.
Через несколько минут окна собора озолотились изнутри огнем.
Огромный костер горел посреди собора. Туда подбрасывали разрубленные иконы и резную деревянную утварь.
Рогов стоял поодаль, задумчиво глядя на огонь. Каменщик по профессии, он построил много церквей и теперь жег их подряд. К нему подошли представители ревкома договориться об организации власти.
– Не треба народу власти, – сказал Рогов. – Наша мать – анархия.
Он вышел из собора и приказал поджечь его со всех четырех сторон.
Единственным промышленным предприятием Кузнецка был спиртоводочный завод. Рогов послал отборных бойцов с пулеметом на охрану завода. Он запретил трогать только спирт, все остальное – «грабь награбленное».
Из трех тысяч жителей Кузнецка больше половины приходилось на торговые семьи. За Кузнецком не было больше городов. Он стоял на границе тельбесской тайги. Шорцы приносили сюда соболя, горностая и белку, здесь скупали свеженамытое золото, охотники и золотоискатели увозили отсюда продовольствие, одежду, порох и водку.
Торговцы у роговцев вне закона. Купцов рубили на месте, добро вывозили на подводах.
В сомнительных случаях Рогов предоставлял суду народа вынесение приговора. Возле сгоревшего собора сколотили высокий деревянный помост. Сюда выводили обвиняемых, и скопище людей собиралось вокруг. Отряд голосовал – жизнь или смерть. Однажды к Рогову привели торговца, у которого дома осталось девять человек детей. Рогов передал купца на суд народа. Суд решил – башку долой и жителей Кузнецка обложить данью, чтоб хватило на прокорм детей. Сию же минуту купцу на помосте снесли голову.
На следующий день Рогов судил своих. Четыре роговца убили старика – сторожа копикузовских складов. В суматохе он захватил со склада несколько кусков мыла и нес домой.
– Куда идешь? Стой! – раздался окрик.
Старик испугался и побежал. Четверо всадников настигли его, затоптали конями и насмерть засекли плетьми – в концы плетей в кожу было зашито железо. Рабочие пришли жаловаться Рогову.
– Я за справедливость борюсь, товарищи, – сказал Рогов. – Рабочего человека убивать не дам.
Четырех роговцев вывели на помост. Им проголосовали смерть, и они упали на доски с раскроенными черепами.
Копикуз Рогов ненавидел. Его брата запороли при кольчугинской расправе. Роговцы сорвали замки со складов Копикуза. Склады были набиты скобяным товаром – дверными ручками, петлями, шпингалетами и оборудованием для квартир – умывальниками, ватерклозетными суднами и ваннами. Это предназначалось для жилых помещений на площадке. Ванны привели роговцев в ярость – они стали разбивать в куски фаянс и мрамор, раскидывать петли и ручки. На защиту складов бросился Садов. Жестокого администратора узнали. Сабельным ударом его положили на месте.
Начались поиски инженеров Копикуза. Всем им Кратов давно роздал на случай таблетки с цианистым калием. Захватили инженера Челпанова – коксовика. Один из роговцев нащупал у него в кармане что-то твердое и вытащил две белых пилюли.
– Ишь, буржуй, конфеты носит, – сказал партизан и сунул таблетку в рот.
Он захрипел и свалился мертвым. Челпанова прикончили на месте.
Роговцам указали квартиру Курако. Когда партизаны узнали, что там живет один из главных копикузовцев, начальник проектного бюро, они начали разгром. Все вещи выволокли из комнаты. Принялись рвать и топтать огромную библиотеку Курако. Мимо проезжал Рогов. Он увидел книги, падающие на снег из разбитых окон, и сказал:
– Гадов бейте, а книжки не тревожьте. От них народу вреда не будет.
Через трое суток отряд Рогова оставил Кузнецк и двинулся на Гурьевский завод.
Идет отряд на рысях. Полощется по ветру большое черное полотнище, черное знамя отряда.
III
Завод остался без власти, а куракинцы, как всегда, в восемь утра садятся за чертежные столы. Ни одного дня не позволял прогуливать Курако.
С утра Курако обходит чертежные столы и просматривает работу каждого.
– Расскажите, что вы сделали? – спрашивает он.
Курако обладал способностью в две-три минуты проникнуть в смысл сложнейших чертежей и улавливать ошибки расчетов, производившихся несколько дней.
Курако проектирует завод по типу величайшего в мире завода Герри, но вчетверо меньший по размеру.
У окна за чертежным столом сидит Жестовский – студент последнего курса Петербургского политехнического института… Он набело вычерчивает рудный кран. Курако смотрит.
– Ну как, Михаил Константинович?
– Постольку-поскольку. По-эсеровски, пан Жестовский.
Это обычная поговорка Курако, когда он недоволен работой. Лицо Жестовского мрачнеет.
– Эта балка слаба, – говорит Курако. – Возьмите вдвое больше.
– Я два дня высчитывал.
– Еще посчитайте. Вечером скажете.
Курако отходит.
В группу Курако Жестовский попал случайно. В 1917 году в номере петербургской гостиницы, ожидая, как решится судьба Копикуза, Курако сделал карандашом несколько эскизов деталей домны и попросил знакомого профессора поручить студентам сработать чертежи по карандашным наброскам. Профессор передал работу Владимирскому и Жестовскому – студентам последнего курса. Гордые, что чертят для знаменитого доменщика, студенты быстро закончили работу и принесли Михаилу Константиновичу.
Курако посмотрел на чертеж и удивленно вгляделся в лица студентов. Он никогда не видел их, а между тем чертеж выполнен так, как делали только его, Курако, выученики.
На Юзовском заводе доменный цех имел самостоятельное проектное бюро под руководством Гребенникова, не получившего инженерского диплома, но восемь лет проведшего в Америке на металлургических заводах.
Доменное проектное бюро Юзовки стало школой конструкторов-американистов. Они отличались от других даже в мелочах – чертежи исполнялись на стандартных листах одинакового формата, рамка чертежа отступала от края на пять миллиметров, надписи располагались в правом верхнем углу. Достаточно бросить взгляд на чертеж, чтоб узнать работу куракинской школы. Такой чертеж принесли Жестовский и Владимирский.
– Кто научил вас так чертить? – спросил Курако.
Студенты ответили, что провели лето на одном из уральских заводов, там их учил Казарновский, и с тех пор они не могут чертить по-иному.
– Чему еще вас научил Казарновский?
Студенты стали рассказывать. Курако слушал, улыбаясь. Как упругие мячи, к нему возвращались слова, которые он бросал на Юге. Студенты говорили, и Курако узнавал свою теорию, свое понимание печи, излюбленные свои словечки.
Казарновский два лета – в одиннадцатом и в двенадцатом году – провел на студенческой практике в Юзовке, и это навсегда решило его инженерскую судьбу. Он стал куракинцем, американистом. Он передавал другим, что воспринял от Курако. Так создавалась школа.
– Казарновский едет со мной, – сказал Курако. – Не поехали бы вы? Дело найдется.
Два года провели студенты с Курако, отрезанные от Петербурга.
…Вечером Жестовский приходит к Курако. У него решительный и мрачный вид. Он говорит:
– Михаил Константинович, вы правы. Предельной нагрузки балка не выдерживает.
– Вот и отлично.
– Я решил уйти от вас, Михаил Константинович. Из меня ничего не выйдет. Ничего я не знаю, ничего не умею. Люди без институтского образования работают лучше меня.
– Вот это правильно, вот это хорошо.
Курако смеется, и глаза его светятся радостью.
Жестовский стоит, понуря голову.
– Вы действительно ни черта не знаете. Поздравляю, из вас выйдет человек. Об уходе бросьте думать. У меня есть спиртяга, отпразднуем этот случай. Только чур, Жестовский, – помните: каким бы большим начальником вы ни были, никогда не воображайте, что вы много знаете.
Вечером Курако созывает доменщиков. В праздники у них любимое развлечение – охота; окрестные деревни знают куракинцев. Когда приезжает Курако, крестьяне выпрягают и прячут лошадей, кучера поят допьяна, чтоб Михаил Константинович никуда не мог выбраться от них, чтоб жил с ними сутки, двое и трое.
Другое развлечение доменщиков – споры. Все объединяются против Курако. Никто не помнит, чтоб в споре удалось уложить его на обе лопатки.
Казарновский, Жестовский и другие подолгу готовились к спорам. Последние дни они рылись в гурьевском заводском архиве и перевели разговор на историю сибирской металлургии.
Жестовскому удалось прижать Михаила Константиновича к стенке. Курако не знал, когда и почему был закрыт первый в Сибири Томский железоплавильный завод.
Развеселившийся Жестовский притащил архивную папку и разыскал доклад о закрытии Томского завода. Завод закрылся два года спустя после отмены крепостного права.
Курако взял архивное дело из рук Жестовского и прочел сам:
«Переход алтайских заводов от обязательного труда к вольнонаемному изменил условия выгодности заводского хозяйства до такой степени, что в некоторых местностях, где могла существовать горная промышленность при обязательном труде, принося выгоды, по совершенном заменении этого труда вольнонаемным она вместо выгод будет приносить прямой убыток, ибо для привлечения вольнонаемных рабочих придется значительно возвысить заработную плату».
Курако побледнел, как всегда в минуту волнения. Никто не понимал, почему он взволнован.
– Что теперь с Томским заводом? – спросил Курако.
– Он сровнялся с землей, – сказал Жестовский. – Там вырос молодой пихтач.
– Это будущая судьба заводов Юга. Три дня готовились, барбосы, – и ничего не поняли.
Курако ходил по комнате и говорил. В Америке на одного рабочего приходится шесть тонн суточной выплавки, в России половина тонны. Техническую отсталость заводы Юга перекрыли нищенской заработной платой и двенадцатичасовым рабочим днем. Старые заводы не выдержат революции – восьмичасового рабочего дня и высокой оплаты труда, потому что там в десять раз больше рабочих, чем требуется уровнем современной техники. Американские гиганты – вот что несет революция.
– Учитесь, барбосы! – говорит Курако. – Кроме вас, никто не умеет проектировать американские печи. Вам придется строить заводы, которые сейчас никому не снятся.
Дверь распахивается без стука.
– На улицу, товарищи! Красные партизаны идут!
– Ура! – кричит Курако. – Вот она – революция! Все население Гурьевска на улице. Рабочие с красными знаменами встречают партизан.
Впереди отряда скачет Рогов на белой лошади. Он выкрикивает приветствие и поворачивает к церкви. Через несколько минут деревянная церковь пылает.
Курако стоит с Жестовским и Казарновским. Клубы дыма кажутся белыми в темноте. Взвиваются языки огня. Как бы продолжая прерванный разговор, Курако говорит тихо:
– Так расправляется революция со старьем.
Несколько роговцев с деревянными саблями наголо подходят к ним. Курако тянется к деревянному оружию:
– Ха-ха-ха… Покажи, покажи…
Роговец спрашивает:
– Вы что за люди?
Курако называет себя.
– Попался, гад! – кричит роговец.
Он замахивается саблей. Дерево почернело от времени и крови.
Всех троих ведут к Рогову.
Рогов занял лучший дом поселка. Это квартира Курако.
На полу валяется архивное дело. Видны заглавные буквы – «Доклад о приостановке действия Томского горного завода…».
Рогов ждет обеда и чистит ногти перламутровым перочинным ножиком. Ему докладывают об арестованных.
Курако всматривается.
– Откуда у тебя ножик? – вырывается у него. – Ведь это Садова.
– Народ башку ему срезал, – хмуро отвечает Рогов. – И тебе то же будет.
Рогов поднимает голову, и Курако видит добрые глаза и простое спокойное лицо.
– Завтра народ вас судить будет. До завтрева живите, – говорит Рогов.
Приносят щи. Курако смотрит остановившимся взглядом на дымящуюся миску. Белый пар поднимается и исчезает бесследно.
– Есть хочешь? – спрашивает Рогов. – Садись, хлебай последний раз.
Курако сбрасывает оцепенение, садится к столу и кричит:
– Под кроватью у меня две бутылки. Помирать, так с музыкой.
Рогов недоверчиво щурится. Он помнит пилюли цианистого калия.
– Наливай первый, – говорит он.
Курако наливает стакан. Он выпивает залпом, переводит дыхание и, не закусывая ничем, нюхает корку черного хлеба. Все выжидающе смотрят. Курако выпивает еще полстакана, крякает и тянется к щам.
Наливает из бутылки Рогов. Привычным жестом он опрокидывает стакан в рот, и в то же мгновение лицо его наливается кровью, глаза выпучиваются, как у удавленника, он хрипит и со свистом хватает воздух. Роговцы бросаются на Курако с саблями. Рогов машет руками на своих.
Курако смеется.
– Это чистый спирт, – говорит он. – Девяносто шесть градусов.
Отдышавшись, Рогов смотрит на Курако и не может скрыть восхищения.
– За что судить будешь? – спрашивает Курако.
– Не я буду судить – народ. Как жизнь прожил? Кому служил? Паразитам служил.
Курако молчит. Вся жизнь пробегает в секунду. Вспоминается то, о чем не любил вспоминать, – товарищи уговаривали стать подпольщиком-профессионалом, он отказался и вернулся к печам. Не здесь ли ошибка всей жизни? Неужели вот оно – пришло возмездие? Курако отвечает:
– Я железо плавил. Оно нужно народу…
– Не треба народу железа, – задумчиво и убежденно говорит Рогов. – От железа – насилие. Без железа все равны будут. Войн не будет. Сильных не будет и слабых.
Рогов понижает голос и с доверчивым детским любопытством спрашивает:
– Не умеешь ты этого – чтоб все железо в порошок, в пыль? Состава такого не знаешь?
– Не знаю.
– Я б тебя в помощники взял… Сибирь подняли бы, в Китай пошли бы. Китай мою программу примет.
– Да тебя в музей надо! – восклицает Курако.
Наутро в модельном цехе собрался народный роговский суд. Туда привели арестованных.
– На верстаки вставайте, – тихо командует своим Курако, – народа не бойтесь, пусть видит народ.
Они взбираются на верстак. В маленькие тюремные окошки, пробитые под самым потолком, видно небо и солнце. Чернеет в стене толстое железное кольцо. Они прятались здесь позавчера.
Рабочие и роговцы наполняют цех. Первым судят Казарновского. Рогов голосует.
– Инженеру Казарновскому, угнетателю народа, башку долой. Подымите руки…
– А мы дадим?
Рядом с Казарновским вырастает над толпой старик котельщик Егоров. Он большевик. Несколько месяцев назад Казарновский случайно поймал обрывок разговора офицера и уловил несколько фамилий, в том числе Егорова. Инженер предупредил всех. Ночью каратели перерыли все барахло в каморке Егорова, но котельщика не нашли. Он скрывался около завода и появился, когда ушли белые.
Маленький человек в защитной шинели, в сдвинутой кубанке с красноармейской звездой вбегает в цех.
– Товарищи! – кричит он. – Я делегат сто двадцать девятого красного полка. Красные бойцы послали меня приветствовать товарищей рабочих. Ура!
Он снимает кубанку и машет. Долго не смолкает приветственный рев. Андрияшко – это фамилия делегата – спрашивает, почему собрались. Ему объясняют.
– Самосуды запрещаю! – кричит Андрияшко. – За самосуды расстрел! Объявляю открытым митинг о международном положении и задачах советской власти.
– С Красной Армией мы не бьемся, – хмуро говорит Рогов.
Он встает с председательского места и выходит из цеха.
Через час роговцы покинули Гурьевск.
Сутки спустя в Гурьевск вошел 129-й кавалерийский красный полк. Он растянулся длинной лентой. Через каждые три ряда верховых двигались на санях пулеметы.
Глава восьмая
Бегство
I
Поезд движется медленно, часами простаивая у семафоров. Они сидят в отдельном купе – Кратов, Гладков и Валентина Петровна – жена Гладкова. По обеим сторонам пути валяются красные коробки товарных вагонов. Товарные составы сбрасывались с рельсов, чтобы очистить путь на восток.
Потянулась Анжеро-Судженка – крайний северо-восточный угол Кузбасса. Геологическая карта Кузбасса, составленная учениками Лутугина, напоминает силуэт летучей мыши – два огромных распластанных крыла, острая мордочка смотрит на восток. Краем правого крыла Кузбасс касается сибирской магистрали. В сумерках темнеют загрязненные вышки надшахтных зданий. Зажигаются редкие огни. Кратов не отрываясь смотрит в окно.
– Валя, – говорит Гладков, – куда нас несет? Может быть, останемся?
Жена Гладкова не произносит ни слова. Вторые сутки она не умывалась. В уборных спят и едят. Сейчас она совсем не похожа на свои портреты. Там высокая дама с пышной грудью в кружевах, с китайским веером и белым зонтиком в руке. Здесь грязная женщина, подернутые просинью губы, посеревшее злое лицо.
– Валя, – еще раз ласково и робко повторяет Гладков.
Ответа нет.
– Осип Петрович, как вы думаете? Ведь не расстреляют же нас, а?
Кратов молчит. Он уткнулся в окно и не поворачивается к Гладкову.
Гладков смотрит поочередно на жену и на Кратова. Это два человека, которые семь лет вели его жизнь. Почему они молчат сейчас?
Они сделали его министром Сибирского правительства.
– Осип Петрович, почему вы сами не пошли в правительство? Ведь вам же предлагали.
Кратов молчит. Да, ему предлагали, он отказался. Он порекомендовал Гладкова, руководителя разведок Копикуза, открывателя новых богатств Сибири, искателя сибирского железа. Валентина Петровна настояла, чтобы Павел Павлович согласился. Он упирался, но уступил. Она стала женой министра торговли и промышленности временного Сибирского правительства. И вот… Поезд, мешки, посеревшие лица, впереди неизвестность. Почему они молчат?
II
Фигура Гладкова была подходяща для министерского поста. Коренной сибиряк, геолог, путешественник, открывший в Сибири железо, связанный с Копикузом, друг Кратова.
Первое сибирское контрреволюционное правительство, подготовившее диктатуру Колчака и разогнанное им, называло себя демократическим и выступало под флагом сибирского областничества, под знаком потанинства. Потанинцем считал себя и Гладков.
Во время Февральского переворота Потанин встречал демонстрацию, сидя в кресле на крыльце Томской городской управы. Ему трудно стоять. Старику шел девятый десяток. Толпе не видно Потанина. Студенты бросились к креслу и подняли его на руках. Его длинная в серебре борода развевалась по ветру, как знамя.
Потанин любил Сибирь, любил свою родину. В этом его программа, его мировоззрение, его жизнь. Он получил за это девять лет каторжных работ, не будучи ни социалистом, ни революционером. О себе и о своем друге Ядринцеве Потанин писал:
«Мы видели перед собой свою родину, лишенную культурных благ, мы видели ее отсталость и хотели уравнять ее в культурном отношении с остальными областями России. Нам хотелось, чтоб на нашей родине было равное количество школ, чтоб безопасность и удобства жизни были такие же, как и к западу от Урала, чтобы и здесь процветали и богатели города, чтобы росла сибирская интеллигенция».
Три кита составляли основу программы Ядринцева и Потанина – отмена уголовной ссылки, создание сибирской интеллигенции путем учреждения университета и свержение московского мануфактурного ига, то есть создание местной промышленности.
«Что бы вы, москвичи, сказали, если бы мы собрали в Сибири весь наш таежный гнус, всех наших ядовитых змей, перевезли через Урал и выпустили на ваши поля? Зачем же вы посылаете в Сибирь убийц, воров, растлителей, всю гнусь вашего общества?»
Их усилия не были бесплодны. Ссылка уголовных преступников в Сибирь была отменена. В Томске открылся первый сибирский университет. Но промышленное иго по-прежнему тяготело над Сибирью.
Перед смертью Ядринцев писал своему другу из Чикаго:
«Америка меня поразила. Это Сибирь через тысячу лет. Я вижу будущее родины. Сердце замирает, и боль, и тоска за нашу родину. Боже мой! Будет ли она такой цветущей?»
К Копикузу сибиряки отнеслись настороженно. Они увидели пришельцев, чужаков, завоевателей. Они называли приезжих «навозным элементом». Безликие банки, протягивающие руки из Петрограда и Парижа, пугали их. В 1914 году умный Кратов привлек к работе Гладкова и Гутовского. Сибирская интеллигенция поворачивалась к Копикузу. Она начинала видеть в нем осуществление своих надежд.
III
– Что сейчас в Томске? – вслух спрашивает Гладков.
Он не может долго выносить молчания. Он отвечает сам себе:
– Усов перебирается на мою квартиру.
Гладков передразнивает Усова. Он надувает щеки, расправляет плечи, делается грузным и солидным.
– Тэк-с, тэк-с… – говорит он голосом Усова. – Нуте-ка, Павел Павлович, примерим ваши брюки. Коротковаты-с, коротковаты-с.
Гладков передразнивает так похоже, что Кратов не может удержаться от улыбки. Гладков продолжает разговор с собой:
– Усов получит кафедру геологии. Он станет директором Сибирского геологического комитета. Я всю жизнь стоял ему поперек дороги.
Гладков внезапно что-то вспоминает и заливается смехом.
– Но его Котульский съест, ей-богу, съест, помяните мое слово, Осип Петрович.
Гладков хохочет. Кратов молчит. Гладков изображает Котульского. Движения становятся медлительными, голова высокомерно поднимается, губы брезгливо отвисают.
– Это мальчишка из бакалейной лавки, а не профессор геологии, – говорит он голосом Котульского.
Очень похоже и очень смешно, но никто не смеется, Гладков становится грустным.
В этот час в Томск приходит телеграмма Сибревкома.
«Примите все меры возвращению Гладкова убеждению его остаться имени Сибревкома гарантируйте ему работу».
Гладков пробыл министром Сибирского временного правительства меньше года. Он помогал Кратову и проводил в правительстве субсидии Копикузу. Но единственным настоящим делом, совершенным им в бытность министром, было, по его мнению, создание Сибирского геологического комитета. Еще в программе Потанина создание Сибирского геологического комитета шло вслед за учреждением сибирского университета. Потанинцы хотели, чтоб сами сибиряки искали и разрабатывали несчетные богатства сибирских недр. Петербургский геологический комитет считал это блажью. Все разведки в Сибири велись петербургскими геологами. Кратов едва ли не первый нарушил эту традицию.
В конце 1918 года Гладков использовал власть министра и создал Сибирский геологический комитет. Во главе его встали сибирские геологи – сам Гладков и Усов. С этого времени все разведки полезных ископаемых Сибири могли проводиться лишь по заданию или разрешению Сибирского геологического комитета. Петербургские геологи боролись против этого. Котульский пришел в ярость. Он отказался подчиняться «соплякам» и не подавал им руки. Он дошел до Колчака и с его дозволения создал Российский геологический комитет в Сибири. Кратов пытался примирить врагов. Успеха он не добился.
IV
Поезд останавливается в поле и стоит всю ночь. На рассвете Кратов соскакивает с подножки. Его меховые сапоги уходят в снег по колено. Паровоз не дымит. Кратов идет в поле. Спереди и сзади, насколько хватает глаз, стоят красные и зеленые составы, теряясь вдали, по обе стороны горизонта. Кратов переходит через площадку на другую сторону пути. В двух километрах виднеется дорога. По ней непрерывно двигаются сани, увозя людей на восток. Кратов возвращается в вагон. Чугунная печка покрылась изморозью. В вагоне нет угля. Гладков и Валентина Петровна прижались друг к другу, накрывшись шубами и одеялами. Гладкова прохватывает временами мелкая дрожь.
– Пробка, – говорит Кратов. – Поезд дальше не пойдет.
– Что же делать?
– Добывать лошадь и сани.
– А может быть, останемся, – жалобно просит Гладков.
– Мы замерзнем здесь, как котята.
Увязая ногами в снегу, падая и задыхаясь, они выходят на лощенную полозьями дорогу. Бесконечной чередой сани уходят навстречу поднимающемуся белесому солнцу. Трупы лошадей со вздутыми животами и надтреснутыми задами лежат по краям дороги, отмечая черными вехами путь на восток. Глядя вниз, тащатся пешеходы.
– Бросайте вещи, и пойдем.
Кратов говорит властно, словно приказывает.
Впереди неожиданно останавливается пара лошадей. Там сбиваются люди, Кратов проталкивается вперед, схватив под руку Валентину Петровну.
В санях сидит старик в меховом картузе, обвязанный пуховой шалью. Правой рукой он обнимает седую женщину в собольем салопе. Лицо его побелело. Уши, щеки, седые баки одинакового грязновато-молочного цвета. Это один из томских золотопромышленников с женой. Они ехали всю ночь и оба замерзли, уснув на ходу. Их грубо выволакивают из саней. Старик ударяется носом о деревянный ободок, и кончик носа отлетает, как у гипсовой статуи. Из саней выкидывают сундуки и узлы. Кратов вталкивает в сани Валентину Петровну и Павла Павловича. Туда втискиваются еще двое. Для Кратова не остается места.
Директор-распорядитель Копикуза стоит на дороге, притоптывая меховыми сапогами, и провожает глазами уплывающие сани.
Глава девятая
Партбилет № 1
I
«Срочная.
Новониколаевск, Тайга, Юрга, Кольчугино, Кемерово, Топки, Кузнецк, Гурьевск.
Михаилу Константиновичу Курако.
Уполномоченный Совета обороны немедленно просит прибыть его поезд станцию Томск. Милютин».
Никто не знал, где Курако и жив ли он. Милютин телеграфировал в восемь адресов.
Поезд Ивана Михайловича Милютина из шести классных и двух товарных вагонов подтягивался за наступающей Пятой армией. В вагонах расположились крупнейшие специалисты Москвы и Петрограда по всем отраслям хозяйства. В вагоне Милютина стоял сундук, доверху набитый тугими связками желтых советских миллионов – лимонов, как их называли тогда. Экспедиция была сформирована и двинута из Москвы по предписанию Ленина. Милютин имел право без сношения с Москвой делать окончательные распоряжения по всем хозяйственным вопросам. Ленин просил сугубо, архисугубо нажать на восстановление нормального движения по сибирской магистрали. «В этом сейчас гвоздь для снабжения фронта, для переброски сибирского хлеба в голодающий центр», – говорил на прощание Владимир Ильич.
Хозяйство Сибири было парализовано откатывающимся фронтом. Так ползучий гусеничный танк, подминающий деревья, изгороди, дома, оставляет после себя широкую омертвелую полосу, и не скоро встает придавленная рассеченная трава.
Средняя скорость движения по сибирской магистрали была три километра в час.
Больше половины железнодорожного персонала лежало в тифу. На станционных платформах валялись полуголые трупы. Теплую одежду живые снимали с мертвых. Тела примерзали к обледенелым платформам, их заносило снегом, и некому было убирать.
На станциях не было угля. Паровозы простаивали без топлива. Милютин пошел на крайнюю меру – он остановил все движение на пять суток. Военное командование устраивало ему скандалы по прямому проводу. Пять суток по линии проходили лишь составы с бурым углем из Челябинских копей. На станциях появились крохотные запасы угля – на два, на три, на четыре дня.
Поезд пробивался на восток, к углям Кузбасса. Надо во что бы то ни стало восстановить там добычу и дать магистрали кузнецкий уголь.
Перед Новониколаевском поезд застрял. Впереди линия забита пробкой. Несколько сот пассажирских и товарных поездов стояли в затылок с замороженными паровозами. Лента поездов тянулась на сорок километров. Подобной пробки не знала мировая история железнодорожного движения. Колоссальные трофеи на колесах преграждали движение, как взорванный мост.
Пробку рассасывали с двух концов. Ремонтные бригады развертывали походные кузницы на снегу. За каждый оживленный паровоз премии выплачивались немедленно, на месте. Москва стучала по телеграфу: «Хлеба, хлеба». Разогретые паровозы уходили на запад. Они назывались ленинскими. Поезд Совета обороны просекало красное полотнище с лозунгами: «Дадим паровозы Ленину». Из пробки вышло двести исправных паровозов.
– Угля! Угля!
Паровозным топкам не хватало топлива. Несколько вагонов с теплой одеждой Милютин отправил из пробки в Кузбасс, чтоб поднять там добычу.
Кузбасс угля не давал.
В конце января 1920 года поезд прибыл в Томск. Милютин вызывал управляющего Сибугля. В вагон явился заместитель управляющего – главный инженер Сибугля Кратов Иосиф Петрович.
Кратову не удалось бежать от красных. Распрощавшись с Гладковым, уехавшим в санях с женой, Кратов пошел пешком к Красноярску. Советские войска взяли Красноярск боковым ударом. Гладков проскочил, Кратов не успел. Он вернулся в Томск. Там его назначили техническим руководителем Сибугля. Кратов сел в свой кабинет, за свой письменный стол, – Сибуголь расположился в помещении бывшего правления Копикуза.
II
После ухода роговцев Курако вернулся из Гурьевки в Кузнецк. Квартира поразила пустотой. Голос странно отдавался в белых штукатуренных стенах. Роговцы топили печи письменным столом, комодом, стульями. Не осталось ни одной смены белья. Рукопись «Доменная печь», над которой Курако работал два года, исчезла. Обрывок Курако нашел во дворе в уборной, и ему бросилось в глаза выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако хотел прочесть и не смог. Буквы танцевали и сливались. Двухлетняя работа погибла. Сам не зная зачем, он сложил аккуратно обрывок и положил в бумажник.
После прихода Красной Армии Курако ввели в члены Кузнецкого ревкома и назначили председателем уездного совнархоза. Одновременно ему пришлось стать управляющим южной группой копей Кузбасса. Его просили взяться за это, чтобы не допустить развала. После испытания на кокс осиновских углей Копикуз нагнал в Осиновку около тысячи рабочих. Они сверлили землю, вкапывались в пласты. Проходку вели и в Прокопьевске, богатейшем месторождении Кузбасса, в сорока верстах от Кузнецка. Теперь все грозило рухнуть. Три месяца рабочие не получали денег. На зиму остались без пимов, рукавиц и полушубков. Курако не знал, что будет дальше с заводом.
Телеграмма Милютина не застала Курако в Кузнецке. Он выехал на Осиновку. Три дня подряд на него валились неожиданности. В санях на паре коней ему привезли на квартиру два каравая черного хлеба. Они затвердели на морозе, как чугун. Не снимая тулупа, привезший разрубил их в комнате топором. Выпали слежавшиеся холодные деньги. Две недели везли их из Томска. Шайки дезертиров шесть раз обыскивали сани. Никто не польстился на черный замерзший хлеб – в Сибири было много пшеницы, сала и молока. Курако выдал расписку в получении. На следующий день пришло извещение о прибытии на станцию Бочаты двух вагонов с теплой одеждой и трех вагонов с оборудованием – буровой инструмент, проволока, гвозди, лопаты… Курако послал на разгрузку лошадей и людей. На третий день он получил бумажку из Сибугля. Курако сразу узнал энергичный лапидарный стиль Кратова и его вытянутую, как проволока, подпись. Кратов сообщил о высылке денег, одежды, оборудования и предписывал ни на день не приостанавливать работ на Осиновке и Прокопьевске.
Курако сам повез деньги на Осиновку. В трех километрах от осиновского улуса, на Туштелепской площадке, – она предназначалась для завода, – он остановил коня. Курако находился на самом возвышенном месте площадки, – здесь будет народный дом. Лесопилка, склады, штабеля камня укрыты снегом. Курако знал площадку наизусть. Он видел под снегом ее террасы, бугры и впадины. Курако нашел глазами точку, где станет первая домна, – он угадал ее безошибочно. Печь, спроектированная им, встала в воображении. Большие и маленькие трубы, оплетающие ее во всех направлениях, похожи на вывороченные внутренности какого-то гигантского животного.
Будет ли здесь завод? Или останется нерожденный, на кальке, как шестимесячный выкидыш в банке с желтоватым спиртом?
Распоряжения Сибугля давали надежду. С какой стати всаживать сюда капиталы, если не будет завода?
Курако тронул коня и шагом проехал мимо площадки.
Вернувшись в Кузнецк, он застал телеграмму Милютина.
Курако запрыгал на одной ноге. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь новостью. В городе не было никого из своих, и Курако при свече набросал карандашом своему другу и лучшему ученику, с которым не виделся три года:
«Не знаю, дойдет ли эта цидулька. Сейчас получил телеграмму от Милютина, представителя центра. Будем строить завод. Хорошо в Сибири. Здесь быстрые реки и чистая вода. Когда купаешься и залезешь по шею, на дне видны ноги. Не то что юзовская муть. Фурмы не будут гореть. Приезжай в гости. Может, через год пустим первый номер – останешься совсем. Курако».
На обороте он написал: «Енакиевский завод. Инженеру Ивану Петровичу Макарычеву».
Перед рассветом Курако выехал на лошадях к поезду.
III
Милютин пробыл в Томске больше недели. Он несколько раз говорил с Кратовым. Перед отъездом он пригласил его последний раз. В вагоне появился самовар. На столе варенье, лимон, торт. Милютин хотел поговорить с Кратовым дружески, начистоту.
Иван Михайлович Милютин – мягкий и деликатный человек. С высшим образованием, побывавший за границей, имевший массу знакомств в кругу московской и питерской интеллигенции, он просто и легко устанавливал отношения взаимного понимания со специалистами. Новая власть появилась перед сибирской интеллигенцией в лице чрезвычайно вежливого и деликатного человека. Из каждого крупного города он слал телеграммы по линии «всем, всем, всем» с призывом бережного и чуткого отношения к интеллигенции. Всем специалистам, работавшим у Колчака, гарантировалась полная безопасность от имени центральной власти. Милютин делал это по прямому поручению Ленина.
Когда Кратов вернулся в Томск, он не подвергся никаким репрессиям.
В первые же дни своего пребывания на посту главного инженера Сибугля Кратов отправил все, что можно, – насосы, железные изделия, теплую одежду – по Кольчугинской ветке южной группе рудников – Осиновке и Прокопьевску. Он послал туда всю наличность, чтобы обеспечить ход капитальных работ.
Милютин считал это непростительной ошибкой. Он дал указания Сибуглю, но Кратов все же проводил свое.
Милютин заварил чай и откупорил бутылку черного муската. Он говорил о столичных новостях, сообщил подробности гибели Трепова и потом спросил Кратова, какое впечатление произвел на него управляющий Сибуглем большевик Рождественский.
– Мне кажется, он справится не хуже Трепова, – сказал Кратов без улыбки.
Сдержанность Кратова тает. Милютин переводит разговор на урало-кузнецкий проект. Кратов может говорить об этом до утра.
Милютин слушает.
– Нужны ли деньги для окончания проекта?
– Да, Иван Михайлович.
– Сколько?
Кратов называет сумму.
– Общество сибирских инженеров может получить деньги завтра здесь, у меня в вагоне. Скажите, Осип Петрович, почему вы противитесь развитию Анжеро-Судженки?
Кратов смотрит на Милютина с удивлением. Неужели этот человек ничего не понял из того, что он только что говорил о завоевании Урала кузнецким коксом, о перспективах Кузнецкого бассейна? Кратов отвечает сухо и точно:
– Потому, что там бедные, грязные, тощие пласты. Там нет коксующихся углей.
– Но ведь Анжерка и Судженка прилегают к магистрали… Близ магистрали нет больше шахт. Нам нужен уголь немедленно, сегодня, грязный, зольный, тощий, какой хотите. У нас стоят паровозы.
Кратов не понимает этой логики.
Он объясняет Милютину, что единственная коммерчески правильная стратегия – гнать все, что можно, в Прокопьевск, в Осиновку, в южную часть бассейна. Анжерка не дает перспектив Кузбассу; ее нужно, конечно, поддерживать, но не она создает мировое положение бассейну. В Прокопьевске чудесные угли выходят на поверхность. Можно снять два-три метра покрова и обнажить пласты, ввести экскаваторы в семнадцатиметровую угольную толщу и прямо в вагоны подавать оттуда уголь. Через год-другой туда подойдет железная дорога, там будет золотое дно России. Разве можно равнять Анжерку с Прокопьевском?
– Через год-другой? Нам нужен уголь немедленно. Только Анжерка может завтра дать его паровозам.
– Я считаю, что мы снабжаем Анжерку достаточно.
– Мало, мало… Как вы не понимаете, Осип Петрович, что жизнь страны, что судьба революции зависят сейчас от сибирской магистрали, от продвижения составов с сибирским хлебом?
Кратов пожимает плечами. Он безразличен к судьбе революции.
В дверь стучат.
– К вам товарищ Курако… По вызову.
– Ага! Попросите его сюда…
– Здравствуйте, Осип Петрович! – восклицает Курако, увидя Кратова. – Опять мы вместе. Вместе завод будем строить.
– В Москве другие планы, – говорит Кратов.
Милютин здоровается с Курако.
– Я много слышал о вас, Михаил Константинович. Вы нужны республике.
Спор продолжается. Курако слушает молча.
Опять стучат в дверь. Телеграмма.
Милютин читает про себя, потом вслух:
– «Поезд Совета обороны Милютину.
Передаю полученную телеграмму кавычки Омск Сибпродком тчк ввиду обострившегося до крайности положения продовольствием предписываю в порядке боевого приказа напряжение всех сил повысить погрузку отправку хлеба центру до максимума тчк ежедневно прямому проводу сообщайте лично мне и наркомпроду первое наличие на станциях желдорог второе количество подвезенного станциям хлеба за сутки третье погрузка хлеба за сутки четвертое если был недогруз причины последнего тчк предсовобороны Ленин кавычки тчк движение погруженных маршрутов задерживается отсутствием угля прошу сосредоточить все силы даже ущерб другим заданиям на снабжении магистрали углем тчк запредсибревкома Михайлов».
– Как хотите, Осип Петрович, а я попрошу вас все средства направить в Анжеро-Судженку. Нам нужна крепкая, бесперебойно работающая угольная база у магистрали. Прокопьевск и Осиновку поставьте на консервацию.
– Я подчиняюсь, но…
– Никаких но… Михаил Константинович, ну убедите же его…
– Курако никогда не согласится с вами, – говорит Кратов.
Курако встает. Он чувствует себя нехорошо. Голова горит. Во рту противно. Вывороченные внутренности гигантского животного промелькнули в глазах.
– Товарищ Милютин прав, – говорит он.
Кратов простился. Милютин попросил Курако остаться. Через час Курако выходит из вагона. Светит луна. Курако вынимает бумажник. На глаза попадается обрывок. Курако развертывает и видит выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако мнет и бросает бумажку.
IV
Через сутки пара коней доставила Курако на Гурьевский завод. Из Томска он привез спирт. Курако разбудил Казарновского, Жестовского, Зайцева, Джумука – все орлиное гнездо.
– Постройка завода отложена, – говорит он. – Правительство зовет на Юг, восстанавливает старые калоши. Собирайтесь, барбосы. Выступим через неделю.
Лицо его пылало. Он закуривал и выбрасывал папиросы. Табачный дым, казалось, оседал на слизистой оболочке рта какой-то тошнотворной пленкой. Казарновский спросил:
– Не больны ли вы, Михаил Константинович? Поставьте термометр…
– Ерунда. Пей, Казарновский. Мы еще вернемся сюда.
На рассвете Курако выехал в Кузнецк. Через три дня пришло известие, что у Курако сыпняк. Куракинцы послали Жестовского ухаживать за больным.
Жестовский приехал накануне кризиса. Он привел местного доктора и военного полкового врача. На груди Курако вокруг сердца пошли темно-синие, почти черные пятна. Это самая тяжелая форма тифа.
Курако метался в бреду. Он видел аварии. Он кричал:
– Прорвался чугун! Забивай летку! Пушкой! Пушкой! Пусти, я сам. Не умеете работать! Кто меня держит? Почему не пускаете?
Он бредил только домнами. Только доменщик мог понять, что кричал Курако.
Он строил в бреду завод, придумывал новые конструкции, требовал вынести газоочистку из пределов доменного цеха. Доктор сказал:
– Сегодня в двенадцать ночи все решится.
После двенадцати Курако пришел в сознание. Температура упала. Жестовский вздохнул облегченно. Через несколько минут Курако снова забылся. Он лежал тихо, без бреда, с закрытыми глазами. Жестовский не спал трое суток. Он уснул на стуле. Его разбудил вопль.
– Умер! Умер! – кричала сиделка.
Светало. Бледное солнце заглядывало в окно сквозь ветви березы. Полосы света и тени лежали на лице Курако. Жестовский взял руку Курако – она была теплой. Жестовский хотел найти пульс и не мог. Пальцы дрожали. Он бросился к врачу и поднял его с кровати.
Врач констатировал смерть. Весть о смерти Курако облетела город. Кто-то смерил покойника и сколотил гроб. Мертвого не во что было одеть, в пустой квартире не было ничего, кроме верблюжьего азяма. Жестовский снял тужурку и надел на Курако. Пришли музыканты. Принесли красные знамена. С кирпичного завода пришли рабочие. Съехались крестьяне из соседних сел. Появились попы с хоругвями и образами. Их прогнали, они не уходили. Курако решили похоронить на заводской площадке. Гроб вынесли в полдень, поставили в сани и покрыли ковром. Красноармейцы дали три залпа. Из Кузнецка до площадки двадцать пять километров. Несколько сот человек двинулось за гробом. Падал снег. Шли целый день. По пути крестьяне выходили встречать покойника, становились на колени, и снег заносил их. Они знали Курако. На полдороге процессию встретили рабочие Осиновки. Они подняли гроб на плечи и донесли до площадки. Было темно, когда гроб опускали в могилу. Похоронили Курако на самом высоком месте площадки, где предполагался народный дом.
– Отсюда ему будет видно завод, – сказал кто-то.
На Гурьевском заводе о смерти Курако узнали на следующий день. Скорбную весть привез уполномоченный Реввоенсовета Пятой армии. Он остановился у секретаря гурьевской ячейки Лагзинга. Туда сошлись куракинцы. Они молча слушали рассказ о похоронах.
– А вы знаете, – обернулся представитель Реввоенсовета к Лагзингу, – Курако был партийным. У него в бумажнике нашли партийный билет. Партбилет номер первый кузнецкой организации РКП(б). Он давно был связан с нами и вступил в партию за три недели до смерти.
V
Четыре года – с тысяча девятьсот семнадцатого – в улус Майдакова не приезжали купцы. Шкурки – длинношерстные горностаи, седые соболя, козы, такие мягкие, что от одного их вида становится тепло, – были навалены в кладовой. Четыре года работы лежало там. Никто не приезжал. Кончались запасы пороха.
Майдаков вышел на охоту. В буреломе он разглядел Горностаеву тропинку. Кора поваленных деревьев оцарапана у основания острыми коготками зверька. След вел на Тельбес. Он поднимался вверх по Мрас-су. Рядом по бурелому параллельно шел соболь, и это было важнее. Соболь шел рядом, шел на Тельбес.
Странно было Майдакову. Тельбес – населенное место, стоят там рудничные дома. Соболь живет в нетронутой дикой тайге. В самой целине живет соболь. Но след шел к Тельбесу. По бурелому шла запутанная соболиная дорожка.
И рядом горностай. Это еще понятно. Горностай глупее соболя. Он подходит к человеческим жилищам. Охота на него – развлечение мальчишек.
Они вышли втроем к Тельбесу. Впереди шел горностай – императорская шкурка, потом шел соболь, потом Майдаков.
Пусто было на Тельбесе. Дома исчезли. Сгинули постройки. Заросшие, заплывшие, занесенные снегом, стояли шурфы и штольни. И только над горой расставлены ульи пасечника Костенко.
Майдаков знал Костенко. Соболь потерялся в буреломе и пропал. Горностай шел дальше – на Темир, но идти за ним не стоило. Майдаков постучался к Костенко. Костенко угостил Майдакова светлым липовым медом. Под образами стоял игрушечный Тельбес. Костенко собрал разбитую Кратовым игрушку, скрепил куски глиной и проволокой. Трещины насквозь просекали Тельбес. Там, где стояли столбики с надписью «Руда», не было ничего, кроме окаменевшей глины.
Это все, что осталось от металлургического завода Копикуза. Штабеля камня на площадке разобрали и увезли крестьяне, лесопилку растащили, склады в Кузнецке разгромили роговцы, чертежи Курако уложили в ящики и отправили неизвестно куда.
Старики любят поговорить. Костенко знал пять-шесть слов по-шорски. Майдаков так же говорил по-русски. Они разговорились, ломая для понятности родные языки.
Сказал Костенко:
– Мой, понимаешь, сторожит рудник. Якши, понимаешь? Постройка мой сторожит, а постройки-то нету. Мед мой собирает немного. Понимаешь.
Сказал Майдаков:
– Я много стрелял. Четыре года я стрелял. Никто не менял. Никто не приезжал. Хлеба нету, меду нету, порох тоже нету. Куда пойдем?
VI
В 1934 году на могиле Курако поставлен памятник – рельс Кузнецкого металлургического завода.
1934
События одной ночи[7]
Повесть
I
Круглая комната обита черным бархатом, черен пол, и черен вращающийся купол. Четко тикает часовой механизм, на столе мерцает маленький фонарик, свет не отражается от стен. Наверху открыт люк, и виднеется звездное небо. Смутно поблескивают металлические части телескопа – огромной трубы величиной в человеческий рост, опирающейся на чугунную штангу. Штанга черна, ее не видно, труба кажется висящей в воздухе.
Крицын выписал цейссовский семидюймовый телескоп из Йены, выстроил над домом круглую башенку и оборудовал домашнюю обсерваторию. Нежнейший инструмент установлен на специальном железобетонном фундаменте, чтобы ничтожнейшая вибрация здания не передавалась ему. Башенку Крицын обил изнутри черным бархатом, поглощающим свет, чтоб посторонние лучи не мешали ночным наблюдениям.
Для наблюдателя застроено деревянное крылечко с четырьмя ступеньками; по ним можно подниматься или опускаться вслед за вращением телескопа.
Сейчас на ступеньках сидит женщина, прижав лицо к глазку. Сквозь открытый люк проникает зимний холод. Она придерживает руками шубку, надетую на белое бальное платье. Это жена Кратова, директора соседних Чистяковских рудников.
Рядом стоит Крицын, в черной инженерской тужурке и в высоких сапогах. Его фигура на фоне бархата неразличима, видно лишь лицо.
– Ну, что же вы видите, Елена Евгеньевна?
– Какой-то завиток, вроде локона.
– Присмотритесь хорошенько. Это мириады точек, скопление звезд, туманность Андромеды.
Женщина смотрит; тикает часовой механизм, телескоп двигается вслед за туманностью, на которую наведен. Вращение трубы и купола незаметно для глаза.
Крицын рассказывает об Андромеде. Луч света, прорезывающий пространство с невероятной скоростью – триста тысяч километров в секунду, – доходит от Андромеды до Земли через много тысяч лет. Каждая пылинка в туманности во много раз больше нашей планеты.
– Это мир бесконечности, – говорит Крицын. – Представьте себе, Елена Евгеньевна, куб из алмаза, самого твердого вещества, которое мы знаем. Огромный куб, в версту длины, в версту ширины и в версту высоты. Один раз в тысячу лет прилетает ворон и точит свой клюв об алмаз. Один раз в тысячу лет. Когда ворон сточит весь алмазный куб, пройдет лишь один миг вечности, и ничто не изменится во Вселенной.
– А мы?
– Мы? Наша жизнь, Елена Евгеньевна, нуль, бессмыслица. Проживем ее повеселей.
Крицын говорит о звездных мирах, о Млечном Пути, опоясывающем нашу Вселенную, и о множестве других вселенных… Он увлекается астрономией с ранней юности. В студенческие годы он мечтал о такой обсерватории и теперь, через десяток лет, выстроил ее в дымном заводском поселке, где доступна ночным наблюдениям лишь половина неба, противоположная заводу, не озаренная пламенем доменных печей.
Женщина отрывается от телескопа и зябко кутается в шубку.
– Закройте там, наверху, Адам Александрович. Я не хочу этих звезд. Мне холодно. Мне страшно. Ося, ты здесь?
От стены отделяется фигура невысокого человека, одетого, как и Крицын, в черную инженерскую тужурку с перекрещенными молоточками в петлицах. Смутно блестит в полумраке его большая лысина. Это Иосиф Петрович Кратов, муж Елены Евгеньевны, приятель Крицына по институту. Он угольщик, директор рудников – и занимается только углем, целиком отдаваясь делу. Дилетантские причуды Крицына не нравятся ему.
Он обнимает жену и говорит:
– Ты никогда не жалеешь, Адам, что не стал астрономом?
Поворотом рычага Крицын закрывает створки люка, в круглой черной комнате становится еще темнее, тиканье механизма прекращается. Он отвечает не сразу:
– Никогда…
Дверь обсерватории открывается, падает свет из коридора, в башенку заглядывает жена Крицына.
– Адам, Норочка с тобой? Я не могу ее найти…
Норочка – пятилетняя дочь Крицына. Отец балует ее, часто берет с собой в кабинет, в обсерваторию или в комнату для проявления фотоснимков. Он любит болтать и возиться с ней.
– Не волнуйся, киса. Сейчас мы ее разыщем.
Пропустив вперед Елену Евгеньевну и Кратова, Крицын выходит в коридор. У него вытянутое продолговатое лицо с высоким лбом. Небольшая рыжеватая бородка и прическа ежиком делают лицо еще длиннее. Улыбка открывает зубы; верхний ряд правилен и ровен, нижние кривы и сдвинуты.
Юлия Петровна мельком взглядывает на мужа. У нее гордая, властная посадка головы, правильные, точеные черты лица. Она очень внимательна к своему туалету – никаких бантиков, кружев, все просто, изящно и дорого. Ей нравится, когда говорят, что она одевается в английском стиле. Она влюблена в мужа, ревнива и наедине нередко устраивает сцены. Улыбка Крицына сейчас кажется ей принужденной; он как будто чем-то удручен.
Со второго этажа они спускаются в огромный двусветный танцевальный зал, отделанный мореным дубом. В углу большая елка; маковка с блестящей звездой поднимается к потолку.
Под елкой, украшенной гирляндами стеклянных разноцветных бус и шелковыми флагами всех стран, сидит в красном колпаке Дед Мороз величиной с пятилетнего ребенка. Фрукты и сладости остались только наверху, снизу их уже сорвали дети. В ветвях заметно много серых колбасок. Это бенгальские огни, они в несколько раз толще обычных. Крицын сам их изготовил в своей лаборатории. Детский праздник уже кончился, елку сдвинули в угол, теперь в центре зала стоит концертный рояль.
Сейчас четверть десятого. Гости только начинают съезжаться. В зале немного народу; он кажется пустынным, как площадь. Сияют две большие хрустальные люстры, отражаясь в блестящем паркете.
Балы у Крицыных устраиваются по-английски. Таков стиль дома. Хозяева не встречают и не занимают гостей; в нижнем этаже все комнаты открыты, каждый сам ищет развлечений, танцы начинаются после ужина, и разрешается уходить не прощаясь.
Войдя в зал, Крицын издает протяжный легкий свист. Два белых фокса, Боб и Кики, с обрубленными хвостами, с черными пятнами на спинах, мчатся к нему через зал. Крицын любит животных. Во дворе у него есть шестипудовые собаки, на задних лапах они выше человека, – то созданная им самим порода, помесь дога с сенбернаром; в парке у него гуляют павлины и живет медвежонок.
Крицын делает движение к Елене Евгеньевне, чтобы снять с ее плеч шубку. Собакам кажется, что он начинает игру; они улепетывают с радостным визгом, кувыркаясь, падая и скользя по паркету. Удирать от погони – любимейшее развлечение Боба и Кики.
Смешная беготня собак сейчас не забавляет Крицына. Он снова свистит, фоксы мгновенно возвращаются и прыгают, помахивая обрубками хвостов. Собаки понимают Крицына. Они чувствуют, что ему не хочется играть, перестают скакать и вертятся у ног, заглядывая ему в глаза. Он говорит:
– Нора… Где Нора? Ищи, ищи…
Фоксы понимают. Они кидаются из зала, и через минуту издалека раздается их веселый лай.
– Слышишь?.. Вот тебе и Норочка, киса…
У Елены Евгеньевны, похожей на цыганку смуглым и живым лицом, слегка растрепались волосы; одна черная блестящая прядка, в мелких завитках, упала на лоб.
Она уходит поправить прическу. Ее платье со шлейфом отражается в паркете мутным белым пятном. Юлия Петровна прислушивается к лаю: он доносится из кабинета. Она торопливо идет туда. Крицын передает шубку подошедшей горничной и следует за женой вместе с Кратовым.
В кабинете на большом письменном столе стоит девочка, наступив желтыми башмачками на бумаги, и бросает в собак тяжелыми разноцветными камешками, лежащими на зеленом сукне. Камешки падают бесшумно – пол устлан темным пушистым ковром.
Норочке пять лет. Она родилась в конце 1905 года, когда Крицын был начальником доменного цеха. Крицын не крестил ее. У девочки единственная в своем роде метрика: в ее документе написано, что Нора Адамовна Крицына не принадлежит ни к какому вероисповеданию. Канцелярия екатеринославского губернатора долго не хотела выдавать такой документ, хотя Крицын основывал свое требование на Манифесте 17 октября о свободе слова, свободе совести и свободе вероисповедания. «Это нельзя, – говорили ему в канцелярии, – у нас и книг таких нет». – «Никому нельзя, а мне можно!» – ответил Крицын.
Он передал дело адвокату и добился, чтобы завели книгу для лиц, не принадлежащих ни к какой религии. Первая запись в книге была сделана о его дочери.
Юлия Петровна прекращает забаву Норы. Взяв девочку на руки, она сурово пробирает ее. Юлия Петровна – строгая мать, она часто сердится на мужа из-за того, что он балует дочь.
Норочка видит отца. У нее в кулаке зажат зеленоватый тяжелый кусочек. Повернувшись на руках у матери, она бросает им в собак и кричит:
– Папа, откуда у тебя такие камешки?
Мать выносит ее из кабинета. Крицын кричит вдогонку:
– Спокойной ночи, Норочка! Завтра расскажу…
Он подбирает разноцветные кусочки, раскиданные по ковру, и кладет на стол. На письменном столе директора завода можно увидеть порой самые странные предметы: битые кирпичи, золу на листе бумаги, конусообразные надтреснутые куски кокса или обломок железа.
На столе вырастает кучка камней – желтоватых, красноватых, фиолетовых, словно собранных на морском берегу, – это пробы специального чугуна, известного под названием ферромарганца. В свежем изломе ферромарганец серый с ясно проступающими кристаллическими иглами, на воздухе он жадно присоединяет кислород, окрашиваясь в цвета радуги. Все металлургические заводы мира нуждаются в ферромарганце для производства литой стали. В России не умели плавить ферромарганец в больших доменных печах, кое-где его выделывали в маленьких вагранках.
Россия – мировой монополист марганцевой руды: чиатурские месторождения на Кавказе богаче всех марганцевых залежей земного шара, вместе взятых. Марганцевая руда вывозилась из России за границу; оттуда после переплавки ее везли обратно в виде ферромарганца. Крицын недавно перестроил домну № 3, перевел ее на плавку специальных чугунов, и, как всегда, ему улыбнулась удача. Он получил первоклассный восьмидесятипроцентный ферромарганец. Он захватит теперь весь рынок специальных чугунов в России и бросит за границу тысячи и десятки тысяч бочек с русским ферромарганцем. Три миллиона ежегодной прибыли – вот что означают разноцветные камешки, лежащие на его столе.