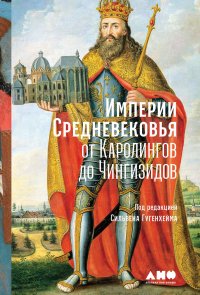Читать онлайн Легион ужастиков бесплатно
- Все книги автора: Коллектив авторов
Над составлением работали:
Аня Тэ
Артем Виноградов
Виктория Радионова
Маргарита Эннс
Алексей Талаев
Ярослав Хотеев
Игорь Хотеев
Выражаем огромную благодарность художнице Лев Елене за замечательную обложку книги.
Иллюстрации к рассказам сборника нарисованы при помощи нейросети.
Спасибо издательству «Перископ-Волга» за корректуру и верстку сборника.
* * *
Осыпанный перьями
Всеволод Старолесьев
«Я золотой орел среди червей».
Эта мысль заставила Арсула улыбнуться.
Да и как не улыбаться, глядя с вершины трона на замерший в предвкушении пира и зрелищ зал? Золото и мрамор, поделочная кость и эбеновое дерево, серебро и гранит сплетались в узоры орнаментов, вились спиралями колонн, застывали арочными изгибами и мозаикой на полу.
«Я много беру у мира, но отдаю куда больше. Красоту, порядок, знания! Моя библиотека тянется к небу, а тень ее покроет любой стольный град!»
Гости давно расселись за столами. Щербеты, медовая сдоба, истекающее соком мясо… Кушаний было так много, что визирь распорядился раздать следующим утром на площади объедки.
Танцовщицы и танцоры, словно сотканные из огня и воды, извивались между столами, собирая полные похоти взгляды.
– Третья смена блюд, великий властитель! – Визирь неслышно появился из тени и склонился над плечом Арсула. – Птицелов здесь.
– Да трижды плевал я птицелову в лицо, а он всякий раз благодарил меня и не утирался! Я жду лишь ее.
– Тогда четвертой смены блюд не будет. Все мы ждем лишь Ильшару.
«Мудрый человек. Побольше таких, и моя власть простиралась бы куда дальше. Но на то и редки самородки, чтобы видеть изъяны сора на их фоне».
В его роду были правители и воины. Интриганы, что переворачивали государства. Служители тайных культов и колдуны. Лишь ученых пока не было. Но сегодня его единственное дитя, сиятельная Ильшара, познавшая за десятки лет десятки наук, предстанет перед цветом знати.
Для того, чтобы обучить Ильшару последнему таинству, верные слуги отыскали в недавно подчиненных воле Арсула землях удивительного колдуна-птицелова.
То был сухопарый мужчина в простых дорожных одеяниях. Лицо его сморщилось от ветров и солнца. Столько убогий облик казался кощунственным среди богатства и чистоты дворца.
Птицелов шел медленно, не решаясь глядеть на правителя. Как мул он тащил большую клетку, накрытую шелком. И покорность колдуна радовала Арсула.
– Ваши птицы здесь, властитель, – проговорил птицелов, опускаясь на колени.
Он чуть приподнял шелковое покрывало и отпер дверцу.
В зал выпорхнула птаха в оперении цвета льда.
Следом под своды поднялась огненная птица. Она полыхала, разгоняя тени и внушая трепет.
Третья оказалась ярко-зеленой и напоминала змею.
– Мои любимицы, – проговорил птицелов. – И ваша славная дочь обучена ими управлять.
Он сорвал шелк с клетки.
В зале воцарилась тишина.
Арсул вмерз в трон.
Существо, распятое на прутьях, не имело ничего общего с прекрасной Ильшарой… так хотелось думать правителю. Но чем дольше он глядел на нее, тем больше узнавал.
– Нож и нити, – проговорил птичник, – искроили ее плоть, как ты искроил мои родные земли. Перья, что я вгонял в мясо, подобны стрелам, отнимавшим жизни моих близких. Я забрал ее язык, погрузив в рот раскаленные угли, взятые с пепелищ наших городов. Но Ильшара живет подобно тому, как живут захваченные тобою земли.
– Стража! – завопил визирь, но ни один из охраняющих зал воинов не шелохнулся. Существо в клетке пленило их взоры и одурманило разум.
– Бесполезно кричать. Я дам правителю то, чего они достоин. Ильшара, это твой пир!
Рот существа, превращенный в жуткую пародию костяного клюва, раскрылся, и булькающий клекот разнесся над залом.
Синяя птица расправила крылья, и огни погасли. Холод, что она источала, резал острее бритвы.
Красная заметалась под потолком, роняя огненные перья. Они плавили золото и мрамор.
Зеленая сочилась ядом, оставляющим на телах гостей гноящиеся язвы.
– Жри, Ильшара, покуда твое брюхо, подобно ненасытной воле отца, не раздуется и не лопнет.
Хорошо одетый господин
Анастасия Астерова
Джил приютила Джереми на время болезни мамы. Юноше нравилось про себя звать старуху по имени. Будто от этого серый хлеб на завтрак становился менее унылым, дом – менее затхлым, а её странный каркающий смех – менее безумным.
Джереми приходилось торговать цветами, с которыми старуха возилась на заднем дворе. В октябре, когда по утрам вот-вот на траву выпадет иней вместо росы, цвели только хризантемы.
Покупателей было мало, но зато каждый день ровно в шесть из тумана являлся хорошо одетый господин. Джереми отдавал ему цветок со словами «Госпожа Джил кланяется». «Благодарю, Джереми», – отвечал господин и уходил.
Очередное промозглое утро началось с охапки хризантем в лицо.
– Придержи одну! – каркнула Джил.
Он только кивнул, собираясь на рынок.
По дороге заглянул в витрину кондитерской, и леденцы там смотрелись не хуже, чем те, что он видел в Манчестере.
День тянулся как обычно, пока после четырёх вдруг не явилась девица в яркой шляпке. Увидев Джереми, она припустила к нему.
– Какое счастье, – воскликнула она, хватая цветы. – А есть ещё? Я дам тебе шиллинг и ещё по пенсу за каждую хризантему.
Пенсы зазвенели у Джереми в голове, и он вспомнил, что Джил всегда оставляла вазу с цветами в нетопленой столовой.
– Деньги вперёд, – сказал он.
И припустил домой, сжимая в руке монеты. В столовой и впрямь стоял букет. А потом Джереми вышел на задний двор и срезал всё, что нашёл, не пощадив даже бутоны. С добычей он вернулся на рынок, забрал у девицы деньги и отправился набивать карманы сладостями.
Только когда пробило шесть, Джереми вспомнил о господине.
«Но цветов всё равно больше не осталось», – подумал он.
Гулял он, пока улицы совсем не опустели, а потом прокрался домой. По пути он заметил что-то белое в траве. Хризантема.
«Эх, простофиля, мог бы заработать ещё один пенс!»
Джереми поднял цветок, на цыпочках дошёл до чулана за той самой столовой и затаился. Вдруг старуха ещё не спит и думает невесть что. Просидев несколько часов, он решил подняться, но тут раздался стук в дверь.
Затрещала лестница, заскрипели половицы в коридоре, и потом Джереми расслышал два голоса – старухи и того самого господина-в-шесть.
– Дрянной мальчишка! – сказала громко Джил.
Джереми насупился. Вот гадкая старуха.
Шаги приближались. Джил вошла в тёмную столовую, а господин следом за ней.
– Как же так! – воскликнула она, увидев пустую вазу из-под цветов.
– Плата, – напомнил господин.
– Секунду, да, да, – Джил выбежала на задний двор, и оттуда послышались её восклицания.
Господин ничуть не удивился, а спокойно ждал, покуда часы в гостиной не пробили полночь. Тогда он стукнул тростью об пол, и старуха медленно, бессильно шаркая промокшими домашними туфлями, вернулась с заднего двора.
– Цветов нет, – каким-то тусклым, надтреснутым голосом сказала старуха, потом вдруг затараторила. – Но завтра я найду ещё! Сколько угодно!
– Один цветок в день, не больше и не меньше. Договор нарушен.
– Нет, нет!
Джил закричала исступлённо, отчаянно. Под ногами её вдруг разгорелось пламя, охватило её всю. Корчась в огне, старуха упала на пол и провалилась будто сквозь него. От ужаса Джереми не устоял на ногах. Господин повернулся к чулану, сделал пару шагов и распахнул дверцу. Джереми уставился на него во все глаза и задрожал.
– С ведьмами такое случается, не переживай, – успокоил его мужчина.
Посмотрел на хризантему в руках Джереми и добавил:
– Но ты мог отдать цветок, когда Джил его искала, верно?
Господин усмехнулся, и в глазах его юноша узрел нечто такое, что не давало ему потом спать долгие годы, и добавил:
– Значит, свидимся, Джереми.
И исчез, словно его не бывало.
Не смотри ерунду
Роман Цай
– Ты куда билеты убрал? – спохватилась Настя.
– В чемодан, – отвечаю, – во внутренний карман. К паспортам.
На кухне гудит чайник, пахнет горелым.
– А как мы на досмотре будем? За документами в чемодан лезть?
Не подумал. А точно в чемодан убрал? Или…
– Ты маме позвонил, чтобы кота забрала?
– Она приходить будет.
– Она хоть знает, что приходить надо? Какой корм насыпать, как лоток менять?
– Сейчас позвоню. У тебя горит что-то.
– Ой!
Настя убежала на кухню. Я смотрю на собранные вещи и не могу вспомнить, куда спрятал документы. Придётся разбирать всё, но начну с чемодана. Так, какой там код?
– Гы! – улыбается Мишка. Один зуб уже выпал, второй шатается. Лишь бы во время отпуска не возникли проблемы с его зубами. Чёрт его знает, куда там обращаться.
– Банан будешь? – спрашиваю.
Мишка довольно кивает, не выпуская из рук планшет с мультиками. Краем глаза подмечаю Дим Димыча. Хоть не всякую ерунду смотрит. Не до него сейчас.
– Слава, а термос где? – кричит Настя.
– В верхнем ящике посмотри.
– Посмотрела, там нет.
Рассержено встаю, иду на кухню. Открываю дверцу и вспоминаю, что последний раз убирал термос в шкаф в гостиной. Чертыхаюсь. Возвращаюсь в комнату.
– Пап, а где банан? – возмущается Мишка.
Чертыхаюсь вслух. Достаю термос, иду за бананом. Из динамика планшета звучит писклявый Машин смех – опять медведя мучает. Успел переключить мультик – ни на чём сосредоточиться не может! Надо будет с ним поговорить.
– Нашёл билеты? – говорит Настя, принимая у меня термос.
– Ищу. А где у нас бананы?
– Кончились. В магазин надо идти.
– А что есть?
– Слива, яблоко.
Беру и то и другое, возвращаюсь к сыну, протягиваю фрукты. Мишка берёт, не отрываясь от экрана.
– Спасибо.
Вижу, листает фотографии. Всяко лучше мультиков.
Кладу чемодан на пол и мучаюсь с замком.
– Настя, а какой код, не помнишь?
– Мишкин день рождения.
Точно!
Щёлкает замок, и я поднимаю крышку. Вещи врассыпную на пол. Чёрт!
– Смотри, что у меня есть! – звучит из динамика Мишкин голос.
Поднимаю глаза: сын смотрит видео с собой же, играющимся с какой-то ерундой. Сгребаю вещи, думаю, как попрочнее закрепить лямки. Так, стоп. Не помню, чтобы мы что-то снимали с ним последние полгода.
Сажусь рядом с Мишкой. Бледный какой-то. На экране Мишка тоже какой-то не такой.
Вот он сидит за столом (не помню у нас такого стола), глядит в камеру. Руки испачканы чем-то красным, пальцами ковыряется в непонятной гадости, увлечённо так ковыряется.
Судорожно вспоминаю, чем эта гадость может быть: пластилин, краски? Нет, не похоже.
– Настя, иди сюда.
– Что такое?
Настя заходит с полотенцем в руках (вытирает руки), озадаченно смотрит на нас.
– Не ты снимала? – киваю на планшет.
– Не помню.
– Папа, мне страшно, – лопочет Мишка. Тревога поднимается и у меня, необъяснимая такая, странная.
Вглядываюсь в картинку и понимаю: тот Мишка держит в руках пульсирующее сердце. Пальцами отрывает кусок – с четверть – и ехидно смотрит на нас.
Настя берёт ребёнка на руки, отбрасывает планшет.
– Что за шутки, Слава?
Смотрю на неё непонимающе. Перевожу взгляд на отброшенный планшет.
У тамошнего Мишки в руках ещё бьётся сердце, а оторванный кусок он кладёт в рот.
И тут изувеченное сердце останавливается.
– Мама, мама, сердечко болит, – жалуется Мишка.
* * *
Жену с сыном увезла скорая, а я ковыряюсь в планшете. История просмотров, файлы на карте – ничего! Откуда видео взялось?
Звонок среди ночи. Я не сплю.
В трубке рыдающий Настин голос.
– Слава, наш Мишка, он…
Кладу трубку. Сердца не чувствую. Ничего не чувствую.
Даже не заметил, как включился телевизор. Разве он работал?
Вот на экране я, сижу за каким-то столом. В руках что-то красное…
Скрипы
>Всеволод Старолесьев
Лес был жадным. Отнял всё. Вначале – мечты. Потом – семью, уложив кого в густой ракитник, кого в реку бросил, а кого и волкам в пасти.
Теперь затребовал Петра, но не всего разом – лишь стопу. Взял с куском голени, оставив обессиленного человека скрести влажную от рос и осевших туманов землю, рыть, как червь, ходы в грудах листьев.
Боли было много, как опавших ветвей и сучков в старой промоине, по которой полз к смерти изувеченный человек. Ему говорили, что ловчих и охотников здесь нет. Зато были ямы на зверя. На какого? Двуногого. Потому что лес не терпел чужаков, рьяно охраняя тайны.
Пётр уткнулся пламенеющим от жара и боли лицом в грязную лужу и замер, прощаясь с миром. Кругом виноватый, больной оттого, что родных не уберёг и сам стухнет в промоине. Просил у леса уже не богатства или излечения, как раньше, а простой смерти.
Такую и бог раздаёт в охотку. Но…
– Глаза открыл? – спустя вереницу чёрных дней послышался незнакомый голос. – Цепляйся ими за балки. За паутину. За сажу цепляйся, они удержат.
Пётр зацепился. Словно якорь бросил, и потоки смерти оставили его в покое. А боль, ставшая его спутницей давно, вдруг исчезла.
Он лежал на полатях голый, целя срамом в чёрный потолок.
– О, и червячка уже прикрыл? Жить будешь, раз наготы стыдишься! – расхохоталась его спасительница.
Так смеяться мог бы мох, забитый в щели на чердаке, и так смеялась старуха, сидевшая на полу кривой избы.
Пётр едва шевелил языком, опухшим от жажды и укусов, и еле смог спросить, где он, почему жив.
– В избе моей, я отсюда с миром толкую, слушаю его, пою для него, а он поёт мне! – старуха поднялась. Жёлтая её кожа обтянула кости, а ветхая одежда держалась, не иначе, на жировых и грязных пятнах – иначе давно бы распалась на волокна. – Дождь мне поёт, ветер, волк, покойник. А я пою им, как умею. Только не песни им нужны, а музыка. Её сыграешь ты.
Пётр вдруг заметил, что стены избы увешаны сопилками, свирелями, дудками. Костяными и деревянными, глиняными, выточенными из ракушек. И изба гудела страшную музыку, рождённую сквозняками.
Он поднялся, боязливо глядя на культю…
– Мать моя, – пролепетал он, увидав деревянную лапу, слившуюся с костями и плотью. – Как же так…
– Лягушкой тебе уже не быть, но под солнцем ещё походишь, – ответила старуха, пристально глядя на него бесцветными глазами. – Я тебя спасла, но вот мой зарок – земля тебя будет носить, покуда слова моего не ослушаешься. А слово такое – топчи погост, скудельницу, курган, заходи на всякое пепелище и руины, коли повстречаются. Иди в чащобу – тебя ни зверь, ни злой дух не тронет. Вот и весь зарок.
Пётр медленно кивнул, с трудом соображая, чего хочет безумная бабка.
– Награда тебе будет и помимо ноги. Получишь, едва за околицу выйдешь. Ты ж в лес за дарами моими пришёл когда-то? Вот тебя они и повстречают.
Старуха помогла ему спуститься по сходням и вывела к едва заметной стёжке.
– Иди – и слушай. Помни зарок.
И Пётр пошёл, будто вела его неведомая сила.
Нога заскрипела, словно разом сотни душ застонали от боли. Каждый шаг был словом, что лилось из сухого дерева. Пётр слышал мелодию, рассказывающую о владычице леса. Была она тут до старых богов, изгнала и их, и бога нового. А из креста и пня, которым поклоны били, смастерила ногу, изувечив всё доброе, что было в них.
Нога пела для тех, кто ушёл в землю, и звала их за собой.
Пётр рассмеялся, когда увидел, как из лесу к нему идут родные. Пусть плоть их черна, пусть глазницы пусты и полны личинок, но семья снова вместе! И так будет всегда, покуда несёт он страшную музыку лесной старухи в большой мир.
Идеал
>Ксения Еленец
Автобус тряхнуло на ухабе. Выдернутый из дрёмы Сеня выругался и тут же сжался, ожидая мамкиного ора. Лишь пару секунд спустя он осознал, что мамы рядом нет.
– Арсений, не стоит употреблять такие слова, – Толя держал спину прямо, словно проглотил железный прут.
Сеня окинул взглядом поджатые губы, прилизанные волосы, ворот отутюженной рубахи, торчащий из-под пальто, и с трудом подавил желание сплюнуть.
– Чё-то не нравится, вали, – буркнул он, надвигая замусоленный козырек кепки на глаза.
Сеня уже сто раз пожалел, что решил бежать, не дождавшись, пока мамина подруга с сыночком свалят. Кто ж знал, что этот тюфяк, увидев Сенины сборы, увяжется следом.
– Ты обещал найти нам место для ночлега.
Толя нудел как заведённый всю дорогу. Ему не нравилось, что Сеня забрал и выключил его телефон, не нравился автобус, не нравились чипсы, которые Сеня взял на перекус.
– Задрал! – получилось слишком громко.
Водитель нахмурился. Он с начала поездки подозрительно косил на двух подростков без сопровождения на междугороднем рейсе.
– На, – Сеня с раздражением швырнул Толе телефон и несколько мятых купюр. – Бабла больше нет. Ма карту заблочила.
– Я подыщу что-то по финансам, – заверил Толя, зажимая кнопку включения телефона.
Сеня упёрся носками кед в спинку переднего сидения и прикрыл глаза.
* * *
Кнопка смыва не работала. Сеня раздражённо пнул унитаз.
Гостиницу Толя нашёл шикарную – на городском отшибе, посреди промзоны. За окном грохотало, в комнате воняло так, словно под кроватью что-то сдохло. Лампа мигала как припадочная. Зато тётка на вахте не спросила у них документов.
Мелькнула малодушная мысль написать отцу, но Сеня её отогнал. Узнав, что сын на пути к нему, отец сразу же начнёт названивать матери. Нужно явиться неожиданно.
В кармане висящего на вешалке пальто зажужжало. Толя – дурень – не вырубил мобильник.
Сеня вытащил телефон, тронул кнопку выключения, но пляшущее на экране название контакта заставило остановиться: «Заказчик».
По хребту поползли колючие мурашки. Лампа в очередной раз затрещала и мигнула. Стало жутко. Он дёрнул ручку двери, и сердце тревожно замерло. Уходя в магазин, Толя запер его в номере.
Сеня попятился и полетел на пол, споткнувшись о брошенный у порога рюкзак. Тот – чистенький и серенький, как его хозяин, – странно зашуршал. Потирая ушибленный зад, Сеня открыл самое большое отделение и бесцеремонно перевернул рюкзак вверх тормашками.
На пол посыпались толстые свечи, огромный кусок мела, банка с густой бурой жидкостью, неаккуратно свёрнутый шмат полиэтилена. Последним выпал огроменный нож.
Негнущимися пальцами Сеня разблокировал экран чужого телефона. Отцовский номер никак не вспоминался. Сеня уже запаниковал, но в памяти всплыли мамины цифры. Закончить набор он не успел.
Мамин номер оказался забит в Толином телефоне под именем «Заказчик».
Щёлкнул замок. Сеня попятился вглубь комнаты.
Толя оглядел гору вещей на полу.
– Не волнуйся, – сказал он. – Один ритуал, и ты станешь идеальным ребёнком. Как я.
Сеня закричал, но звук утонул в грохоте промзоны за окном.
Чай гибискуса
Соня Эль
– Это хороший щай, полесный, гибискус, – говорила Ира, слегка шепелявя. И слегка выпучивая глаза. Жидкие волосы обтягивали её череп; застиранный халат давно потерял цвет.
Эдик говорил спасибо, обречённо смотрел на чашку с кровавым напитком и каждый раз вспоминал лужу крови…
Он говорил себе, что был молодой, глупый, что произошла трагическая случайность, несчастный случай, но в глубине души знал. Они поссорились с Севой из-за другой девчонки. Он даже не помнил, как и почему. Помнил берег, опушку леса, что много выпили тогда на пикнике, помнил, как все начали разъезжаться. Что они остались вдвоём. Допили последнее. А дальше очнулся, увидев Севу у своих ног. Их одежда залита кровью, а в руках у себя увидел нож. Помнил жуткий крик и не сразу понял, что это кричит он сам – так тонко и страшно. Помнил, как Ира вернулась и улыбнулась своей чуть безумной улыбкой. И сказала, шепелявя неправильным прикусом:
– Всё будет хорошо, пойдём со мной. Я отвес-су тебя домой.
Серая мышка Ира, которую никто на курсе никогда не замечал, постирала его одежду, накормила, уложила спать. В свою постель. А когда через несколько дней пришёл следователь, сказала, что ушли вместе, провели ночь вместе. Ничего не слышали, ничего не знаем. Кажется, Сева оставался с кем-то, но не помним, кто это был. Темнело, знаете ли.
И никто не нашёл тот нож, никто не нашёл и убийцу.
Так и осталась Ира в его жизни, охраняя его, как серая скала. Как страшный ангел… Как демон с выпученными глазами.
К счастью, у них не было детей. Зато была рутина. Эдик торчал до ночи на работе, чтобы устать, как чёрт, и вернуться поздно. Она приносила ему чай и печенье, которое пекла сама. Он тысячи раз говорил, что ненавидит и то и другое. Она смотрела на него оловянными глазами навыкате и отвечала, что это «очень полес-сно».
Особенно страшно было, когда она улыбалась.
Эдик вырабатывался до дна, чтобы вернуться и сразу заснуть, чтобы не видеть её, но тогда она приходила во сне и приносила ему кровавый чай. Зачерпывала его из трупа Севы, прямо из его груди, ставила перед Эдиком и говорила, чуть присвистывая:
– Это так поле-с-с-но!
И в темноте горели только её круглые выпученные глаза, в которых, казалось, навеки застыл ужас. А под ними – безумная улыбка.
Однажды ночью он проснулся от тонкого крика. Долго не мог понять, что происходит, но когда пришёл в себя, то понял, что это воет кран. Эдик поднялся выпить воды, покрутил кран, наклонился под раковину и в темноте увидел, что что-то блеснуло. Это был тот самый нож. Ещё в засохшей крови.
У Эдика затряслись руки. Он не знал, как и почему, но вдруг увидел, что заносит нож над спящим телом. И закричал тонко, как кран, вонзая его в тело снова и снова.
Пока она не открыла глаза и не улыбнулась:
– Тебе принес-сти щаю, дорогой?
* * *
Следователь был пухлый, румяный, с маленькими свиными глазками-буравчиками. Но зачёсанные на лысину волосы сразу напомнили Иру.
– Итак, за что вы убили вашу жену? – спросил он, поставив перед собой стаканчик кофе.
– Я её не убил, – ответил Эдик дрожащим голосом. – Её невозможно убить.
– То есть вы не признаётесь в убийстве? – следователь покачал головой.
– Признаюсь, – ответил Эдик. – Я убил Севу. Десять лет назад.
– Это какой такой Сева? – следователь удивлённо начал листать дело.
– Другой… – отмахнулся Эдик, раскачиваясь и тряся ногой.
– А свою жену?
– Что жену? – Эдик посмотрел на следователя, и у него похолодела спина.
Лицо следователя странно похудело, у него выпучились глаза, а на губах заиграла безумная улыбка.
– Выпей щаю, дорогой, это полес-с-сно, – прошептала Ира и придвинула к нему стаканчик с кровавой жидкостью.
Просто нужны силы
Юлия Воинкова
Солнце скатилось за деревья. Над кронами небо чуть багровело, а вверху, над дольменом, плыли серые косматые тучи.
– Страшновато здесь, – шепнула Катя.
– Трусиха. Иди сюда.
Вадик стоял на серой глыбе и протягивал руки. Катя ухватилась за него, вскарабкалась на камень и с опаской встала рядом.
– Что-то никакой я тут энергии не чувствую.
– Погоди, сейчас почувствуешь, – Вадик прижал ее к себе и потянулся с поцелуем.
Катя уперлась ладонями ему в грудь.
– В смысле? Я думала мы как-то… ну… словами будем просить. Или просто посидим – сил почерпнем…
– От слов дети не рождаются, – пробурчал он и снова полез целоваться.
– С ума сошел? Увидят, – Катя оглянулась на тропинку.
– Да кто сюда попрется к ночи? Ну давай – вдруг получится? – Вадик потянул Катю вниз, на гладкий, нагретый солнцем камень.
– Может, и правда… – Катя поозиралась и сдалась.
Отверстие в дольмене озарилось легким светом, он чуть помигал и погас.
Ночью дома Кате снился тяжелый ватный туман и глухой голос, доносящийся из него: «Потом отдай. Не твое».
Через пару недель тест показал две полоски. К этому времени Катя была уже до прозрачности бледна и совершенно измучена ранним токсикозом.
Беременность оказалась настолько же тяжелой, насколько желанной. Ребенок тянул из Кати силы еще в утробе.
А, родившись, и не думал останавливаться. Кате казалось, что вместе с молоком сын высасывает ее жизнь. Дни не походили на когда-то рисуемое в мечтах материнское счастье со смеющимся карапузом на руках. Сын не орал, только когда прикладывался к теплой отяжелевшей груди. Вадик до самой ночи пропадал на работе, а на просьбы о помощи отвечал одно: «Ты же мать. Давай сама». Сначала хотелось плакать, потом выть, потом – открыть окно и шагнуть вниз. Но и тут Кате не повезло – квартира была на первом этаже.
Когда сыну исполнилось шесть месяцев, Кате опять приснились клубы тумана и доносящееся из них: «Отдай. Не твое. Нужны силы».
Утром Катя собралась в дорогу, усадила сына в слинг и вышла за порог.
Над дольменом, как и в прошлый раз, собрались тучи. Накрапывал дождь. Катины волосы превратились в сосульки, струйки влаги текли по щекам. Не разобрать было: дождь это или слезы. Оскальзываясь на сырой тропинке, Катя подошла к дольмену, с трудом влезла на него и на коленях подобралась к отверстию в камне. Заглянула внутрь – темнота. Ребенок в слинге притих, смотрел на Катю внимательно и напряженно. Она засомневалась на мгновение, приникла лбом к дольмену и вновь услышала знакомое «Отдай». Сын завозился и скривил губы, собираясь заплакать.
Катя, торопясь, скользя пальцами по мокрой ткани, ослабила узел слинга, вытащила младенца, поспешно сунула его в отверстие и разжала руки. Внутри дольмена появилось слабое свечение, ребенок вскрикнул, и Катя потеряла сознание.
Очнулась она, почувствовав теплый солнечный луч на щеке. Села, огляделась, потерла виски. Бросилась к отверстию, пытаясь хоть что-то в нем разглядеть или услышать. Ни звука, ни движения – лишь мертвая тишина.
– Нужны силы… – бормотала Катя, слезая с дольмена вниз.
Она поплелась по тропинке, едва держась на ногах, но, кроме слабости, чувствовала невероятное облегчение.
Вечером, войдя в кухню, где Катя резала мясо для жаркого, Вадик задал ей ожидаемый вопрос. Она сжала покрепче нож, повернулась и несколько раз, резко и яростно, воткнула ему в грудь.
«Нужны силы… просто нужны силы», – беззвучно шептала она, закинув сочные куски говядины в сковородку и отмывая под ледяной водой кровь с ладоней.
Багровая лужа, вытекшая из-под тела Вадика, загустела и уже подсыхала по краям.
Взгляд снизу
Маргарита Эннс
Он прижался голодным брюхом к земле и прополз несколько шагов. Тихо скуля, возвёл глаза – так он просил о милости, раззявив пасть. Густая слюна белой нитью тянулась, падая на песок, принесённый ветром.
Манька прошла мимо, не глянув на мохнатое чудовище. Оно, как всегда, на месте, словно барашек с густой свалявшейся шерстью и голосом точно скрип несмазанных петель в ожидании пастыря. Только жевать иссохшую траву не в силах, потому смотрело на Маньку в ожидании подачки. Она и воды не налила.
Пустыня приближалась неотвратимо, охватывала деревушку в десяток саманных домов кольцом. Если были места, где дожди всё ещё проливались с неба, то люди их не знали.
Насекомые исчезли – заметили? Жители облегчённо выдохнули, когда москиты перестали залетать в дома, дети не расчёсывали укусы слепней в язвы. В другую ночь не стало птиц, уносящих последнее зерно с полей. Домашние уходили постепенно, с открытых пастбищ, из незапертых дверей. Скот при перегоне разбредался не возвращаясь назад.
Пустыня шла, заметая следы, приближалась так же, как уходило всё живое, кроме человека. Одного колодца хватало, чтобы напоить несколько метров ещё плодородной земли с бобами и фасолью, дать воды людям и козам, смотрящим вдаль, привязанным к центровому дому, ставшему храмом.
Манька вытерла пот с лица, плеснула ведро на грядку с чахлой листвой и помолилась. Осенив крестом землю, она вернулась к дому, погладила старого друга по холке. Шерсть жёсткая, тёплая, зарыться бы в неё руками, раззадорить чудовище, чтоб пёс весело прыгнул сверху, ткнулся мокрым носом, лизнул лицо – прогнал подступающую лихорадку и румянец щёк. В лучшие годы он своей добротой, простотой и верностью был опорой, сейчас – не давал унывать. Маньке, бабе немалого роста, медведеподобный зверь доходил до бедра. Белый, огромный, как туча-облако из старой сказки, становясь лютоволком в ночь, когда выл, подняв морду, уставившись красными глазами в небо. Одно хорошо – детей не трогал ни своих, ни чужих, даже когда неосмотрительная ребятня, пахнущая козьим молоком и ветром, отбирала последнюю, брошенную ему кость.
Сколько дано, чтобы жить: руки и способность понимать, а люди закрывали окна, чтобы не видеть. Пёс хотел пить, а никто не пришёл. Никто не мешал Маньке выплёскивать воду в надежде на хоть бы и последний урожай. Никто не помогал уносить последнее ведро в дом и делить по нуждам.
Зверь слушал шёпот ушедших, смотрел на тощих коз и следы, засыпанные песком. Но хотел всего лишь пить, когда Манька, будто случайно вспомнив, вышла из дверей и плеснула в миску воды, протянула руку. Он вцепился зубами и рванул на себя. Перехватив за горло, пёс мотал тело женщины, глотал кровь, не разжимая челюстей, пока не затих последний хрип. Тогда только взвыл, горько и громко, а маленькие уродцы вышли из дома. Ноги и руки как обтянутые кожей сломанные спички, безволосые круглые головы с ясными голубыми глазами, пустые бурдюки вместо животов. Кровь матери тонким ручьём текла им под ноги. Алая вода, чернея, собиралась в лужу и уходила в землю, лишь один из сыновей, самый младший, зачерпнул пригоршню и поднёс ко рту.
Никто из соседей не видел, как дитё подползло к псу, прижалось к его морде и взяло из пасти кусок мяса, чтобы наесться впервые за много дней.
Дети барахтались в пыли, дрались и ели, таскали мохнатое чудовище, душили верёвкой, пытаясь снять поводок. Пёс не трогал детей – он смотрел вокруг, скульптура самого себя, такая же огромная и пушистая туча-облако, стремящаяся вдаль во вновь обретённой свободе. Так или иначе путей всегда больше, чем один. Надо только увидеть.
Белый
Артём Виноградов
– Белый, серый, красный, зелёный, жёлтый. Сиреневый!
Крохотное воспоминание тревожило мозг. Катя указывала пальцем на скалы и удивлялась, какие они разные. Когда это было? Две или три тысячи метров назад? Три дня назад или неделю? Было ли это вообще?
Нет, не было. Не могло быть просто потому, что таких цветов не существует. И Кати не существует. И его не существует, есть только парящая в буране мысль.
Твари вгрызались в ноги, пытаясь добраться до его крови. Красная. Да, это он помнил, кровь – красная. Зачем им красная, если сами они белые? А может, им просто все равно. Они найдут свою жертву, как бы она ни старалась уйти – не сможет. Вот как сейчас. Белые, они носились вокруг и кусали, кусали, кусали.
Одежда им не мешала. Четыре разноцветных слоя – они их даже не заметили. И кожу прогрызли, купаясь в его крови, резвясь среди органов. А может, и не кровь им нужна. Но что тогда? Зачем? Что нужно от него этим прожорливым? Белым.
Глаза еле видели. Сквозь дрожащие веки он разбирал только носящихся вокруг белых. Ещё силуэты, но, кому они принадлежат, вспомнить бы.
Сквозь вой, принадлежащий то ли ветру, то ли белым, он услышал крик. Бурый – отчаяние пополам со страхом. Кто-то рыдал. Очень далеко, не дотянуться, не достать, не утешить. Где-то там, в другом мире.
Внезапно мельтешение перед глазами прекратилось, будто кто-то махнул рукой. На мгновение ему даже показалось, что он увидел небо. Голубое. Но его тут же закрыла фигура. Высокая, заслоняющее всё. Седая голова, белый, с выглядывающей из-под него чёрной тканью балахон.
– Хан.
Повелитель Неба коротко кивнул. Его лицо не выражало ничего – не пугало, не обнадёживало. Он был здесь всегда, задолго до первых людей. Он знал всё, больше, чем человек когда-то сможет узнать. Наверное, он понимал тех, кто приходил к нему. И отпускал. Но не всегда.
– Их отпусти.
Было всё ещё невозможно вспомнить, кого «их». Но Повелитель кивнул. Он знал. И он не жесток. Лишь суров с теми, кто слишком самоуверен, кто считает себя здесь хозяином, покорителем, а не гостем. Сознание пыталось понять, так ли всё было, но концентрации хватало лишь на пару секунд. Единственный вопрос бился в голове, ответ на него казался самым важным.
– Хан, это не обман? Цвета правда есть? Синий?
Повелитель медленно покачал головой. В его глазах промелькнула грусть. Хотелось поднять руку, чтобы показать ему на небо, мелькнувшее всего несколько секунд назад, но тело было сковано и не слушалось. Только губы ещё шевелились.
– Жёлтый?
Вновь отрицание. Конечно, нет. Всё это лишь выдумка, попытка облегчить страдания умирающего.
– Может, серый?
Вместо ответа вернулись белые. Даже Хан не мог сдерживать их, и они продолжили кусать и терзать то, что ещё оставалось живым.
– Хотя бы чёрный?
Повелитель нахмурился и запахнул плотнее свою хламиду, скрывая всё, кроме белого. Губы дрожали. Тело прошивало словно разрядами тока. Глухо, как из-под воды, ещё слышались голоса.
– Хватит, уходим!
– Здесь его оставим?
– Мы ему не поможем, только сами погибнем, Катя! Спасатели сейчас не придут. Подбери его рюкзак, вон, красный. И вперёд. Лагерь по траверсу ближе на сотню метров, в просветах мелькали жёлтые палатки.
– Здесь его оставим?! – настойчиво повторил голос, но ответ остался неслышен.
Уходите. Если вы и правда их видите, если способны, то уходите. Даже если это обман или дьявольская шутка. Обманываться хорошо. Просто мне уже известна правда. Нет никаких других цветов. Есть только один. Белый.
Хан наклонился над самым лицом.
Белый.
Протянул руку и провёл ладонью по глазам.
Белый.
Осталась только пелена. Вечная пелена.
Бе…
Охотник на бумажных птиц
Ксения Еленец
Ветер пронёсся по крыше, подхватил принесённые на подошвах ботинок листья. Егор поплотнее укутался в куртку, открутил крышку термоса и сделал большой глоток. Кофе плескался на самом донышке и практически остыл.
Листья – жёлтые, ломкие – сделали пару вальсовых па и сорвались вниз. Смотреть, как они планируют с высоты тринадцатого этажа, Егор не стал. Он старался без нужды не подходить к краю крыши – копошение крошечных фигурок внизу скручивало внутренности в тугой ком. И манило. Щекотало сознание сладостным ужасом. Звало шагнуть за край.
Нить на запястье натянулась, отвлекая от раздумий. Значит, пора готовиться.
Егор приложил ладонь козырьком к глазам, прячась от солнца.
Птица плясала в вышине белой кляксой.
Вторую Егор разглядел не сразу. Она была маленькой и какой-то неуклюжей. Петляла странными зигзагами, замирала в нерешительности. Но на приманку клюнула.
Егор потянул за нитку, заставляя свою птицу медленно снижаться. Вторая, мелкая, бездумно полетела следом. Нитка в несколько мотков обвила запястье, заставляя птицу сесть на подставленную ладонь. Егор в очередной раз подивился, какая она странная. Совершенно лишённая цвета. Белый клюв, белые бусинки глаз, белые, шуршащие – будто бумажные – перья. Белые лапки, в несколько петель оплетённые красной нитью.
Мелкая птичка – точно такая же – безбоязненно опустилась на вторую ладонь, и Егор сомкнул пальцы. Пойманная птица затрепетала, шурша бумажными пёрышками, но сил вырваться у неё не хватило.
Егор развязал горловину сумки, просунул кулак внутрь и разжал пальцы, позволяя добыче упасть на дно. Внутренности сумки беспокойно закопошились.
– Как успехи? – Егор вздрогнул. Жнец оказался за спиной неожиданно, будто из воздуха возник.
Егор молча продемонстрировал сумку. Птиц внутри было мало – не больше десятка.
– Хреновый ты работник, Егорка, – жнец сокрушённо покачал головой. – Вернуть тебя, что ли, в больницу?
Егор сглотнул резко пересохшим горлом. В больницу он не хотел. Больница остро пахла лекарством, болью и безысходностью. Разрывала барабанные перепонки писком приборов и стонами умирающих.
Егор ещё помнил, каково это – умирать. Нырять в чернильное небытие, барахтаться там, захлёбываясь от ужаса. И не было никаких тоннелей с белым просветом. Были минуты, когда Егору удавалось вынырнуть в реальность, но и там не ждало ничего, кроме боли. Проникающей в каждую клетку тела, изнуряющей.
Ещё там ждал жнец. Тёмная бесполая, лишённая возраста фигура, которая раз за разом предлагала сделку. Спасение. И Егор сдался.
– Я наловлю ещё! Много! – пробормотал он, разматывая нить. Его птица расправила крылья, и прежде, чем она взмыла в небеса, Егор с ужасом обнаружил чёрную кайму на хвостовом пере. Жнец раздосадовано цокнул языком:
– Недолго осталось. Почернеет, другие перестанут к ней подлетать.
Испугаться Егор не успел. Где-то внизу раздался хлопок, завыли сигналки машин. В воздух взвились клубы черного дыма. Егор осторожно перегнулся через край крыши. Город лежал как на ладони – крошечный и суетливый. Пламя плясало на груде камней, оставшейся от жилого дома. Со всех сторон уже начали стягиваться мигающие маячками машины спецслужб.
– Готовься, – жнец хищно потёр ладони, – сейчас попрут.
Черные клубы дыма расползались по округе, застилали небо, словно грозовые тучи.
Первая птичка вынырнула из дымного облака и закружилась, потерянная. Следом за ней появилась ещё одна. И ещё. Первые уже заметили товарку с красной нитью на лапке, парившую над крышей многоэтажки.
Клин белоснежных птиц, шурша бумажными крыльями, двинулся к приманке.
Наоборот
Антон Олейников
Юншэн рисует. В подполе тесно, а крошки света едва просачиваются между рассохшихся половиц. Хочется забиться в угол и заплакать. И конфету. Но для конфеты ещё рано, а отец говорит, что страх не должен побеждать, поэтому Юншэн дрожит и рисует монстра.
У монстров синие шуршащие ботинки, штаны того же цвета и длинный белый плащ. Отец называет их врачами. На самом деле Бо ему не отец. Бо думает, что Юншэн забыл, но он помнит, как врачи забрали его первых родителей. Юншэн тогда оказался совсем один в самом логове монстров. Он долго плакал, потом уснул, а проснулся уже в доме Бо. Так новый отец спас его в первый раз.
Юншэн потерял красный карандаш, и руки врача он рисует оранжевым, а потом закрашивает розовым. У его врача длинные острые когти. Если честно, когти он никогда не видел, но у монстров они должны быть. В доказательство Юншэн трогает шрам у себя на боку – чем ещё можно такой оставить?
У Юншэна есть ещё шрамы. На боку и животе – старые, уже не болят, но тот, что посередине груди, совсем свежий – всё время жжёт и чешется.
Сейчас бы конфету…
Юншэн вытирает дурацкую слезу и рисует монстру глаза: два чёрных и ещё один – светящийся – на лбу. Такой есть не у всех врачей, а только у самых главных. Юншэн почти не помнит их лиц, будто видел во сне, но ни рта, ни носа у них нет, а только глаза и этот свет…
Юншэн дважды попадал к врачам, а потом долго лежал в их логове, и ему было очень плохо. Он молился, чтобы отец поскорее нашёл его и спас, и отец спасал. В третий раз Бо успел ещё до того, как врачи навредили Юншэну, и тому не пришлось лежать в их логове. Только грудь теперь болит.
Половицы скрипят прямо над головой, и свет пропадает. Юншэн забывает, как дышать.
Бо говорит, врачи не сами находят своих жертв, за них это делают легавые. Наверное, раньше легавые приходили ночью, потому что Юншэн их не видел, но сегодня они явились посреди дня, и пришлось прятаться. Легавые не слишком умные, но могут тебя учуять или услышать. Юншэн может не двигаться и не дышать, но как ему не пахнуть?
Горло сводит судорогой, грудь горит огнём, слёзы растекаются липкими дорожками по лицу, капают на тетрадь, портят рисунок. Юншэн не хочет к врачам…
Свет возвращается, скрип половиц уходит всё дальше, хлопает дверь. Снова можно дышать.
Бо открывает подпол и зовёт Юншэна. Потом берёт его на руки, вытирает слёзы.
– Ну-ну, перестань. Всё хорошо, тебя никто не заберёт. Вот, держи.
Бо протягивает конфету – жёлтую, со звёздочкой.
– Можно?
– Конечно! Ты молодец! Отлично прятался.
Юншэн спешит проглотить конфету.
– Они больше не придут?
– Кто, легавые? Конечно, придут. Врачам очень нужно твоё сердечко.
– Моё… – Юншэн трогает шрам на груди. – Сердечко… Зачем?
– Ну, у одного маленького… врача оно больное. Четвертинка сердца работает неправильно, поэтому он хочет забрать твоё. И, если заберёт, даже я не смогу тебя спасти, понимаешь?
Юншэн не понимает. Ему нужно верить, что отец всегда придёт на помощь.
– Но ты ведь уже спасал…
– Это только потому, что твоё сердце приглянулось ещё одному и он предложил больше.
– Чего больше?
Бо хмурится. Ему не нравится вопрос, а Юншэн не понимает почему. Но он не хочет, чтобы отец сердился, ведь больше у него никого нет.
– Не придирайся, малыш. Понравилась конфета?
Юншэн кивает. Страх прошёл, плакать больше не хочется. Даже шрам уже не болит.
– Тогда беги, поиграй. Пока там торгуются, неделька у тебя есть.
И Юншэн бежит. Он счастлив.
Автобус дальше не идет
Елена Шлиман
Он опять проспал свою остановку и очнулся только на конечной. Он сильно перерабатывал, уставал до чертиков, домой добирался поздно ночью, последним рейсом, и часто засыпал прямо в автобусе. Просыпался, пошатываясь, выбирался из пустого салона и возвращался за три остановки пешком по длинной улице. Впрочем, его это не особо беспокоило.
Прогулка по ночному притихшему городу, где мягким эхом от темной массы кустов вдоль дороги отдаются шаги, а воздух свежее и чище, чем суматошным днем, наполненным рычанием моторов, выхлопами, гудками, несмолкаемой людской какофонией… наверное, он просто радовался этой прогулке. Просто брел в полусознании, свободный от духоты, монотонности, глубоко въевшегося напряжения и застарелой привычной скуки. Медлил, тянул время, отдаляя конец пути.
Постепенно в такт неспешным шагам на внутреннем его экране появлялись смутные картинки, точно непроявленные сны. Они никак не мешали телу двигаться по направлению к дому, но дух его мысленно переносился на какую-то другую дорогу, в какую-то другую жизнь, может, ту, о которой мечтал в детстве… ведь не о жизни же мелкого офисного клерка он мечтал. Не о рутине бесконечной. Нет, мечты были ярче, чище, светлей. Потихоньку рассеивалась муть, отодвигался горизонт, распахивалось пространство, и вот уже не асфальт под ногами, а широкая натоптанная тропа, переступают по ней копыта… коня? Да, конь под ним, и плащ за спиной, плечи развернуты, меч у пояса, неведомые дали впереди, и приключения, и геройства, и победы, и признание, и заслуженная награда…
Когда он сбился с этого пути? Почему? Ведь для чего-то даны ему эти мечты, был у его жизни какой-то смысл. Для чего был он избран? Какие испытания должен был преодолеть, какого результата достичь? Почему вместо ясной и высокой цели стоит перед ним эта глухая серая муть, и нет от нее спасения?
Шаги зазвучали резче – по обе стороны дороги выросли бетонные громады домов, здесь уже не было никакой зелени, никакого укрытия. Он вынырнул из воображаемого мира, и тут же вернулось напряжение. Дальше поворот во двор, проходная арка… на этом месте ему почему-то всегда становилось не по себе. Настолько, что приходится останавливаться, прислушиваться, унимать бьющееся сердце. Почему? Почему он каждый раз так не хочет туда идти? Ведь нет же ничего страшного в ночных закоулках двора, никто не подстерегает в темной подворотне, ничьи тени не толкутся во мгле. Он заставил себя сделать еще несколько шагов, переступил стершуюся меловую черту, неизвестно как разглядев ее под ногами. Ничей задушенный возглас не вырвется из тьмы, возня, приглушенная ругань, удары, тихий крик…
Крик. Тонкий голосок: «помоги…», – и замолчал голос, и вскинулась тьма, протянула щупальца, рванулась наперерез, вдогонку – потому что он сразу побежал, сломя голову побежал, слыша за спиной топот, заячьими прыжками виляя, подвывая от ужаса. И тут подвернулась нога, и он начал падать, опять увидев под собой расчерченный мелом асфальт, а за его спиной взметнулась рука с чем-то тяжелым, и это тяжелое – он все еще падал – обрушилось на его затылок, и тогда он упал окончательно и в последнее мгновение увидел, что падает точно в меловой контур, и бьющееся в агонии тело застывает, обведенное когда-то аккуратной меловой чертой.