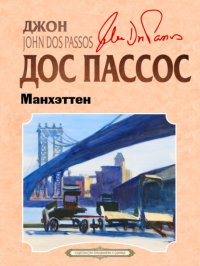
Читать онлайн Манхэттен бесплатно
- Все книги автора: Джон Дос Пассос
John Dos Passos
Manhattan Transfer
© ИП Воробьёв В. А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
* * *
Часть первая
I. Паром у пристани[1]
Три дикие чайки кружатся над разбитыми ящиками, над апельсинными корками, над гнилыми кочанами капусты, выглядывающими из-за расщепленных свай. Зеленые волны пенятся под круглым носом, паром тормозит течение, громыхает, глотает взволнованную воду, скользит, медленно входит в гнездо. Жужжат лебедки, грохочут цепи. Ворота распахиваются, шаркают ноги, мужчины и женщины жмутся в деревянном, пропахшем навозом туннеле, тиская и толкая друг друга, как яблоки под прессом.
Держа корзину, точно ночную посудину, в отставленных руках, сиделка открыла дверь в большую, сухую, жаркую комнату с зелеными выцветшими стенами. В воздухе, пропитанном запахом спирта и йодоформа, дрожал мучительный, слабый, унылый крик. Он доносился из ряда корзин, висевших вдоль стены. Поставив свою корзину на пол, поджав губы, сиделка заглянула в нее. Новорожденный ребенок слабо копошился в вате, точно комок земляных червей.
На пароме пожилой мужчина играл на скрипке. У него было обезьянье лицо, стянутое все в одну сторону, и он отбивал такт носком потрескавшегося лакового башмака. Бэд Корпнинг сидел на перилах спиной к реке и наблюдал за ним. Ветерок играл его волосами, выбившимися из-под тесной кепки, и холодил потные виски. Его ноги были покрыты пузырями, усталость давила его свинцовой тяжестью, но когда паром отошел от берега, вздымая ленивые, лепечущие волны, он сразу ощутил какой-то теплый, пронизывающий трепет.
– Скажите-ка, приятель, как далеко от пристани до города? – спросил он молодого человека в соломенной шляпе и полосатом галстуке, стоявшего рядом с ним.
Молодой человек перевел глаза с изношенных башмаков Бэда на красные кисти рук, свисавшие из потертых рукавов куртки, потом на пергаментную, индюшечью шею и встретил напряженный взгляд из-под изломанного козырька.
– Зависит от того, в какое место города вам нужно.
– Мне нужно на Бродвей[2], в центр – туда, где можно достать работу.
– Пройдите один квартал на восток, сверните на Бродвей, прогуляйтесь как следует – может, что и найдете.
– Благодарю вас, сэр. Так и сделаю.
Скрипач обходил толпу с протянутой шляпой, ветер развевал пряди седых волос на его жалкой плешивой голове. Бэд увидел склоненное к нему лицо; глаза, точно две черные шпильки, пронизывали его.
– Нет ничего, – сказал он грубо и отвернулся, глядя на реку, сверкавшую, как лезвие ножа.
Гнилые сваи гнезда затрещали, когда паром стукнулся о них; загрохотали цепи, и толпа вынесла Бэда на берег. Он протиснулся между двумя вагонами с углем и вышел на пыльную улицу. Его колени дрожали. Он глубоко засунул руки в карманы.
На улице стоял фургон-ресторан. Он неуклюже сел на вращающийся стул и долго просматривал меню.
– Яичницу и чашку кофе.
– Перевернуть? – спросил рыжий буфетчик; он стоял за прилавком и вытирал передником мясистые, веснушчатые руки.
Бэд Корпнинг вздрогнул и выпрямился.
– Что?
– Я говорю – яйца перевернуть или вам простую глазунью?
– Да, конечно, переверните. – Бэд снова склонился над прилавком, обхватив голову руками.
– Видать, здорово устали, приятель, – сказал буфетчик, выпуская яйца в шипящий жир сковороды.
– Я не здешний. Сегодня утром я прошел пятнадцать миль.
Буфетчик свистнул сквозь зубы.
– Пришли в город искать работу, а?
Бэд кивнул.
Буфетчик шлепнул шипящую, подрумяненную яичницу на тарелку и пододвинул ее Бэду вместе с хлебом и маслом.
– Я вам кое-что посоветую, приятель. Совет даровой. Побрейтесь-ка, постригитесь и стряхните солому с платья, раньше чем отправитесь искать работу. Легче найдете. Тут с этим очень считаются.
– Я хороший работник, – промычал Бэд с набитым ртом.
– Да я так просто, – сказал рыжий буфетчик и отвернулся к плите.
Когда Эд Тэтчер поднимался по мраморной больничной лестнице, он весь дрожал. Запах лекарств перехватил ему дыханье. Женщина с накрахмаленным лицом смотрела на него из-за конторки. Он постарался придать своему голосу твердость.
– Скажите, пожалуйста, как чувствует себя миссис Тэтчер?
– Поднимитесь наверх.
– А все ли благополучно, мисс?
– Все узнаете у сиделки. Лестница налево, третий этаж, родильная палата.
Эд Тэтчер держал букет цветов, завернутый в зеленую восковую бумагу. Широкие ступеньки уходили у него из-под ног, он стукался носками сапог о медные палки, стягивавшие фибровую дорожку[3]. Где-то захлопнулась дверь и оборвала придушенный крик. Он остановил проходившую сиделку.
– Я хотел бы видеть миссис Тэтчер.
– Идите, если вы знаете, где она.
– Ее куда-то перенесли.
– Тогда спросите у конторки в конце приемной.
Он закусил похолодевшие губы. В конце приемной краснолицая женщина смотрела на него, улыбаясь.
– Все прекрасно. Вы – счастливый отец прелестной девочки.
– Видите ли, это наш первый ребенок, а Сузи такая хрупкая… – пролепетал он, моргая.
– О, я понимаю, вы волнуетесь… Можете войти и побеседовать с ней, когда она проснется. Младенец родился два часа тому назад. Только не утомляйте роженицу.
Эд Тэтчер был маленький человек с двумя светлыми пучками усов, с водянистыми серыми глазами. Он схватил руку сиделки и потряс ее, обнажая в улыбке неровные желтые зубы.
– Понимаете, первый ребенок…
– Поздравляю, – сказала сиделка.
Ряды кроватей в желтом свете газа, тяжелый запах сбившихся простынь, лица – толстые, тонкие, желтые, белые. Вот она. Желтые волосы Сузи лежали прядями вокруг маленького, бледного личика, казавшегося сморщенным. Он развернул розы и положил их на ночной столик. Он посмотрел в окно, и ему показалось, что он смотрит в воду. Деревья в садике были окутаны голубой паутиной. На авеню вспыхивали фонари, заливая зеленым сиянием кирпично-красные массивы домов; желоба и трубы врезались в небо, багровое, как мясо. Синие веки приподнялись.
– Это ты, Эд?… К чему это, Эд? Как ты расточителен.
– Не мог удержаться, дорогая, – ты их так любишь.
Сиделка возилась у кровати.
– Можно посмотреть на малютку, мисс?
Сиделка кивнула. У нее были впалые щеки, серое лицо и сжатые губы.
– Я ненавижу ее, – прошептала Сузи. – Она меня раздражает, эта женщина. Скверная старая дева!
– Не обращай внимания, дорогая, потерпи еще день-два.
Сузи закрыла глаза.
– Ты все еще хочешь назвать ее Эллен?
Сиделка принесла корзинку и поставила ее на кровать около Сузи.
– Какая прелесть! – воскликнул Эд. – Смотри – она дышит. Они намазали ее маслом.
Он помог жене приподняться на локте; желтая прядь ее волос распустилась, упала на его руку.
– Как вы отличаете их, нянюшка?
– Бывает, что и не отличаем, – ответила сиделка, растягивая рот в улыбку.
Сузи жалобно посмотрела на крошечное багровое личико.
– Вы уверены, что это моя?
– Конечно.
– Но ведь на ней нет никакой отметки.
– Я потом отмечу.
– Но моя была черноволосая! – Сузи упала на подушку, задыхаясь.
– У нее чудный светлый пушок, того же цвета, что ваши волосы.
Сузи подняла руки над головой и пронзительно закричала:
– Это не моя, не моя! Уберите ее… Эта женщина украла моего ребенка!
– Дорогая, ради Бога. Дорогая, ради Бога. – Он попробовал натянуть на нее одеяло.
– Скверно, – сказала сиделка, спокойно забирая корзинку. – Надо будет дать ей успокоительное.
Сузи сидела на кровати, выпрямившись.
– Уберите ее! – закричала она и забилась в истерике.
– О Господи! – крикнул Эд Тэтчер, ломая руки.
– Вы лучше уходите, мистер Тэтчер. Она успокоится сразу, как только вы уйдете. Я поставлю розы в воду.
На лестнице он поравнялся с толстым мужчиной, который медленно спускался вниз, потирая руки. Их взгляды встретились.
– Все в порядке? – спросил толстый мужчина.
– Да, кажется, – слабо сказал Тэтчер.
Толстый мужчина повернулся к нему; в его хриплом голосе булькала радость.
– Поздравьте меня, поздравьте меня! Моя жена родила мальчика.
Тэтчер пожал его пухлую маленькую руку.
– А у меня девочка, – робко сказал он.
– Пять лет подряд каждый год по девочке, а теперь, представьте себе, мальчик.
– Да, – сказал Эд Тэтчер, – это великий день.
– Вы не откажетесь, сэр, выпить со мной по этому поводу? Позвольте пригласить вас.
– С удовольствием.
На углу Третьей авеню хлопали решетчатые двери бара. Аккуратно вытерев ноги, они прошли в заднюю комнату.
– Ах, – сказал толстый мужчина (по-видимому, немец), усаживаясь за изрезанный коричневый стол, – семейная жизнь причиняет много беспокойств.
– Совершенно верно, сэр. Это мой первый ребенок.
– Угодно вам пива?
– Пожалуйста, мне все равно.
– Две бутылки «кульмбахского» – моего родного.
Хлопнули пробки, и окрашенная сепией пена поднялась в стаканах.
– За наши успехи… Прозит! – сказал немец и поднял свой стакан. Он отер пену с усов и ударил по столу розовым кулаком. – Не сочтите за нескромность, мистер…
– Меня зовут Тэтчер.
– Не сочтите за нескромность, мистер Тэтчер, если я полюбопытствую – какова ваша профессия?
– Счетовод. Надеюсь в скором времени стать главным счетоводом.
– А я владелец типографии, и зовут меня Зухер, Марк Антоний Зухер.
– Очень приятно, мистер Зухер.
Они пожали друг другу руки над столом между бутылками.
– Главные счетоводы зарабатывают много денег, – сказал мистер Зухер.
– Мне нужно много денег – для моей девочки.
– Дети поглощают много денег, – заметил мистер Зухер густым басом.
– Разрешите угостить вас бутылочкой, – сказал Тэтчер, высчитывая, сколько у него денег в кармане.
«Бедняжка Сузи была бы недовольна, если б узнала, что я пью в таком кабаке. Ну, ничего, только один раз; и я учусь, учусь законам отцовства».
– Чем больше, тем веселее, – сказал мистер Зухер. – Да, я говорю, дети поглощают много денег… Ничего не делают – только едят и изнашивают платье. Когда я поставлю свое дело на ноги… Ах! Так все это трудно – закладные заедают, денег занять негде, заработная плата растет, а тут еще эти сумасшедшие социалисты с их профессиональными союзами, бродяги…
– Ну ничего, мистер Зухер.
Мистер Зухер выжал пену из усов большим и указательным пальцами.
– Верно, ведь не каждый же день рождается мальчик, мистер Тэтчер.
– Или девочка, мистер Зухер.
Бармен принес еще несколько бутылок, вытер стол и остановился неподалеку, прислушиваясь; полотенце болталось на сгибе его красной руки.
– И я надеюсь, что, когда мой сын будет вспрыскивать рождение своего сына, он будет пить шампанское. Да, вот такие-то дела…
– Я бы хотел, чтобы моя девочка была скромной и тихой – не то что нынешние барышни; они только и думают, что о тряпках, кружевах, да шелковых чулочках. А я к тому времени уйду со службы, обзаведусь домиком на Гудзоне[4], буду по вечерам копаться в саду… У меня есть знакомые – они ушли на покой с тремя тысячами в год. Копить надо – в этом весь секрет.
– Никакого смысла нет копить, – сказал бармен. – Я десять лет копил, а банк возьми и лопни. Только чековая книжка мне и осталась. Надо завести знакомства на бирже и воспользоваться подходящим случаем – это единственный шанс.
– Так ведь это чистейший азарт, – ответил Тэтчер.
– А вы что думали, сэр? Азарт и есть, – сказал бармен и пошел к стойке, помахивая двумя пустыми бутылками.
– Азарт! Но он прав, – сказал мистер Зухер, глядя в свой стакан стеклянными, задумчивыми глазами. – Честолюбивый человек должен ловить шанс. Честолюбие погнало меня сюда из Франкфурта, когда мне было двенадцать лет. А теперь у меня есть сын, и он будет работать… Я назову его Вильгельмом, в честь нашего великого кайзера[5].
– А моя дочка будет Эллен, как моя мать. – Глаза Эда Тэтчера налились слезами.
Мистер Зухер встал.
– Ну, до свиданья, мистер Тэтчер. Очень приятно было познакомиться. Мне пора домой, к моим девочкам.
Тэтчер еще раз пожал пухлую руку. Теплые, нежные мысли о материнстве и отцовстве, об именинных тортах и Рождестве проносились в его голове; сквозь пенную, окрашенную сепией пелену он смотрел, как мистер Зухер выходил из бара. Вдруг он протянул руки. «Бедняжка Сузи была бы недовольна, если бы узнала, что я здесь… Все для нее и для малютки!»
– А платить кто будет? – рявкнул бармен, когда он дошел до дверей.
– Разве тот не заплатил?
– Черта с два!
– Да ведь он у-угощал меня…
Бармен расхохотался, загребая деньги красной ладонью. «Он копит – видно, он в это дело все-таки верит».
Маленький, бородатый, кривоногий человек в котелке шел по Аллен-стрит[6], по исполосованному солнцем переходу, увешанному небесно-голубыми, багрово-красными и горчично-желтыми одеялами, уставленному подержанной дубовой мебелью. Сложив холодные руки за спиной, над фалдами сюртука, он пробирался между ящиками и снующими детьми. Он кусал губы и то сплетал, то расплетал пальцы. Он шел не слыша детского крика и убийственного грохота воздушных поездов[7] над его головой, не чувствуя тошнотворного, сладкого, одуряющего запаха скученных жилищ.
У желтой двери аптекарского магазина на углу Канала[8] он остановился и уставился невидящим взглядом на зеленую рекламу. На ней было изображено солидное, чисто выбритое, почтенное лицо с дугообразными бровями и пушистыми, аккуратно подстриженными усами – лицо человека, у которого есть деньги в банке; оно торжественно возвышалось над стоячим воротником с отогнутыми уголками и широким, просторным черным галстуком. Под ним конторским почерком было выведено: «Кинг С. Жиллет»[9]. Сверху красовался девиз: «Не точить, не править». Бородатый человек сдвинул котелок с потного лба на затылок и долго глядел в гордые, многодолларовые глаза Кинга С. Жиллета. Потом он стиснул кулаки, расправил плечи и вошел в аптекарский магазин.
Жены и дочерей не было дома. Он согрел чашку воды на газовой плите. Ножницами, найденными на камине, отрезал длинные коричневые пряди бороды. Потом стал очень осторожно бриться новой, никелевой, сверкающей безопасной бритвой. Он стоял перед тусклым зеркалом и, дрожа, поглаживал пальцами свои гладкие белые щеки. Подстригая усы, он услышал за своей спиной шум. Он повернул к вошедшим свое лицо – гладкое, как лицо Кинга С. Жиллета, лицо с многодолларовой улыбкой. У двух девочек глаза вылезли из орбит.
– Мама… Посмотри на папу! – закричала старшая.
Жена ввалилась в комнату, как корзина с бельем, и закрыла передником лицо.
– Ой! Ой! – завыла она, покачиваясь.
– В чем дело? Тебе не нравится? – Он зашагал по комнате, размахивая сияющей безопасной бритвой и нежно поглаживая пальцами свой гладкий подбородок.
II. Столица
Были Вавилон и Ниневия[10] я – они были построены из кирпича. Афины – золото-мраморные колонны. Рим – широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг Золотого Рога[11], точно огромные канделябры… Сталь, стекло, черепица, цемент – из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове миллионнооконные здания будут, сверкая, вздыматься – пирамида над пирамидой, – подобно белым грядам облаков над грозовыми тучами.
Когда дверь комнаты закрылась за Эдом Тэтчером, он почувствовал себя одиноким, полным щекочущего беспокойства. Если бы только Сузи была здесь, он рассказал бы ей, как он станет зарабатывать, как он будет еженедельно откладывать на книжку десять долларов для маленькой Эллен; это составит пятьсот двадцать долларов в год… Через десять лет наберется, не считая процентов, пять тысяч долларов с лишним. Надо еще считать проценты на проценты с пятисот двадцати долларов – четыре годовых. Он возбужденно шагал по крохотной комнате. Газовый рожок уютно, по-кошачьи мурлыкал. Его взгляд упал на заголовок газеты, лежавшей на полу около угольной корзинки. Он уронил ее, когда побежал за каретой, чтобы отвезти Сузи в больницу.
Принят билль, ставящий Нью-Йорк на второе место среди мировых столиц…[12]
Тяжело дыша, он сложил газету и положил ее на стол. Вторая мировая столица. А отец хотел, чтобы я оставался в его глупом москательном складе[13] в Онтеоре; так бы и было, если бы не Сузи… «Джентльмены, сегодня, когда вы предлагаете мне войти младшим компаньоном в вашу фирму, я хочу представить вам девочку мою дорогую, жену то есть. Ей я обязан всем».
Он поклонился камину, и фалды его визитки смахнули фарфоровую статуэтку с консоли возле книжной полки. Он слегка прищелкнул языком и нагнулся, чтобы поднять ее. Голова голубой фарфоровой девочки была отбита. А бедняжка Сузи так любит безделушки. «Лучше пойду спать».
Он распахнул окно и высунулся. В конце улицы с грохотом промчался поезд надземки. Струя дыма едко защекотала в носу. Он долго стоял у окна, глядя на улицу. Вторая столица мира. В кирпичных домах, в тусклом свете фонарей, в голосах мальчишек, ссорившихся на ступеньках дома напротив, в мерной, твердой поступи полисмена он чувствовал размеренный марш – словно солдаты шли по мостовой, словно колесный пароход поднимался по Гудзону, словно торжественная процессия направлялась по длинным улицам к какому-то зданию – белому, высокому, многоколонному, величественному. Столица.
Вдруг с улицы послышался топот. Кто-то крикнул, задыхаясь:
– Пожар!
– Где?
Мальчуганы сорвались со ступеней напротив. Тэтчер вернулся в комнату. Было невыносимо душно. Его тянуло выйти. Надо лечь спать. С улицы доносился лихорадочный стук копыт и бешеный звон пожарной машины. Только взглянуть. Он сбежал вниз со шляпой в руке.
– Где горит?
– В соседнем квартале.
– Жилой дом.
Горел шестиэтажный дом с узкими окнами. Уже поставили выдвижную лестницу. Коричневый дым, кое-где пронизанный искрами, валил из нижних окон. Три полисмена махали дубинками, оттесняя толпу к ступеням и решеткам на другую сторону улицы. На узком пространстве мостовой пожарная машина и красный насос сверкали медью. Толпа молча смотрела на верхние окна, где двигались тени и изредка вспыхивал огонь. Тонкий столб пламени встал над домом, как римская свеча[14].
– Двор как колодец! – прошептал кто-то на ухо Тэтчеру.
Порыв ветра наполнил улицу дымом и запахом горелых тряпок. Тэтчеру внезапно стало дурно. Когда дым рассеялся, он увидел несколько человек, свисавших гроздьями с подоконников. Пожарные помогали женщинам сползать по лестнице. Пламя над домом вспыхнуло ярче. Что-то черное упало из окна и лежало на тротуаре, визжа. Полисмены оттесняли толпу в соседний квартал. Прибыло еще несколько пожарных машин.
– Пять частей вызвали, – сказал кто-то. – Что вы на это скажете? Все жильцы двух верхних этажей попались, как в мышеловку. Наверно, поджог. Какой-нибудь проклятый поджигатель…
Молодой человек сидел, скорчившись, на тротуаре под газовым фонарем. Тэтчер опустился возле него – его протолкнула вперед напиравшая сзади толпа.
– Он итальянец.
– Жена его в этом доме.
– Фараоны его не пускают.
– А он им не может объяснить. Он не говорит по-английски.
На итальянце были голубые подтяжки, связанные на спине веревкой. Его спина содрогалась, и он время от времени бормотал какие-то слова, которых никто не понимал.
Тэтчер выбрался из толпы. На углу какой-то человек разглядывал пожарный сигнал. Проходя мимо, Тэтчер почуял запах керосина, исходивший от его платья. Человек, улыбаясь, заглянул ему в лицо. У него были бледные, дряблые щеки и глаза навыкате. У Тэтчера внезапно похолодели руки и ноги. Поджигатель. Вот так они и бродят и подстерегают! Об этом пишут в газетах. Он быстро пошел домой, вбежал по лестнице и запер дверь. Комната была спокойная и пустая. Он забыл, что Сузи не ждет его. Он начал раздеваться. Он не мог забыть запах керосина, которым пахло платье того человека.
Мистер Перри сбивал тросточкой головки репейника. Агент по продаже недвижимого имущества певучим голосом излагал свои доводы:
– Не стану скрывать, мистер Перри, что такой удобный случай обидно было бы упустить. Вы знаете старую пословицу, сэр: «удача не часто стучится к молодым людям». Через шесть месяцев – могу вам гарантировать – эти участки удвоятся в цене. Теперь, когда мы являемся частью Нью-Йорка, второго города в мире, сэр, вы не должны забывать, что… Придет время – я уверен, что мы оба доживем до него, – когда мосты один за другим скуют Ист-ривер, соединив Лонг-Айленд и Манхэттен в одно целое; когда Квинс будет таким же центром, таким же сердцем великой столицы, каким теперь является Астор-сквер[15].
– Знаю, знаю, но я ищу что-нибудь абсолютно верное. Кроме того, я хочу строиться. Моя жена была нездорова последние несколько лет.
– Но что может быть вернее моего предложения? Обратите внимание, мистер Перри, что я себе в убыток даю вам один из самых больших и надежных земельных участков. Я даю вам, кроме того, удобство, комфорт, роскошь. Нас, мистер Перри, помимо нашей воли увлекает мощная волна прогресса. Мы стоим на пороге великих событий. Все изобретения – телефон, электричество, стальные мосты, механическая тяга – все это открывает широчайшие перспективы, и мы должны быть впереди, в первых рядах прогресса. Господи, да разве все перескажешь?
Вороша тростью сухую траву и репейник, мистер Перри шевельнул какой-то предмет. Он нагнулся и поднял треугольный череп с парой загнутых спиралью рогов.
– Черт возьми! – проговорил он. – Замечательный был баран.
Одурев от запаха мыльного порошка, вежеталя[16] и паленых волос, отягчавшего спертый воздух парикмахерской, Бэд сидел, склонив голову, свесив красные руки между колен.
– Следующий.
– А? Что? Ах, да! Побрейте и постригите.
Пухлые руки парикмахера ворошили его волосы, ножницы шмелем жужжали над ухом. Его глаза слипались; он заставлял себя открыть их, пытался преодолеть сон. У края полосатой простыни, усыпанной светлыми волосами, он видел стриженую круглую голову негритенка, чистившего его башмаки.
– Да-с, сэр, – пробасил сосед. – Пришла пора демократической партии начать…
– Шею побрить прикажете? – Лунное, лоснящееся лицо парикмахера склонилось над ним.
Он кивнул.
– Шампунь?
– Нет.
Когда парикмахер откинул спинку кресла, чтобы приступить к бритью, клиент вытянул шею, точно черепаха, перевернутая на спину. Мыльная пена расползлась по его лицу, щекоча ноздри, забиваясь в уши. Он утопал в перинах мыльной пены, синей пены, черной, прорезанной далеким блеском бритвы, блеском мотыги сквозь сине-черные пенные облака. Старик, распростертый навзничь в картофельном поле, борода, вздернутая кверху, пенно-белая, полная крови. Носки, полные крови от волдырей на пятках. Руки стиснуты, холодные и красные, точно руки мертвеца под саваном. «Дайте мне встать…» Он открыл глаза. Пухлые пальцы трогали его подбородок. Он уставился глазами в потолок, где черные мухи описывали восьмерки вокруг фонаря из красной гофрированной бумаги. Язык во рту казался сухим кожаным ремнем. Парикмахер снова поднял кресло. Бэд, мигая, посмотрел вокруг.
– Сорок центов и пятак за чистку обуви.
Признался в убийстве увечной матери…
– Вы разрешите мне посидеть у вас и прочесть газету? – услышал он свой голос, вползавший в его уши, полные гула.
– Пожалуйста.
Сторонники Паркера[17] защищают…
Черные строки прыгают перед глазами.
Русские… Толпа забросала камнями… (от нашего специального корреспондента, Трентон, Нью-Джерси).
Натан Сиббетс[18], четырнадцати лет от роду, сегодня, после двухнедельного упорного запирательства, сознался наконец, что он убил свою престарелую увечную мать, Ханну Сиббетс. Причиной убийства была ссора. Преступление было совершено в доме Сиббетсов на Джэкоб-Крик, в шести милях от города. Сегодня вечером он заключен в тюрьму. Дело передано в суд присяжных.
Помощь Порт-Артуру на глазах у неприятеля…[19] Миссис Рикс потеряла прах мужа.
«Во вторник 24-го мая, около половины десятого, – показал убийца, – я вернулся домой и поднялся наверх, чтобы лечь спать. Только я начал засыпать, как мать пришла наверх и сказала, чтобы я вставал, а если я не встану, то она сбросит меня с лестницы. Она схватила меня, чтобы сбросить меня с лестницы. Я первый толкнул ее, и она упала с лестницы. Я спустился вниз и увидел, что она сломала себе шею. Увидев, что она мертва, я выпрямил ей шею и прикрыл ее простыней, взятой с моей постели».
Бэд аккуратно складывает газету, кладет ее на стул и выходит из парикмахерской. На улице воздух пахнет толпой, полон шума и солнечного света. Иголка в стоге сена…
– Вот мне двадцать пять лет, – бормочет он вслух. – А мальчишке четырнадцать, подумайте…
Он шагает быстрее по гудящим тротуарам. Сквозь стропила воздушной дороги солнце льет на синюю улицу теплые переливчатые желтые полосы. Иголка в стоге сена.
Эд Тэтчер сидел, сгорбившись над роялем, наигрывая «Парад москитов». Воскресное послеполуденное солнце прорывало пыльным потоком тяжелые кружевные занавеси окна, барахталось в красных розах ковра, заполняло гостиную светлыми пятнами и бликами. Сузи Тэтчер неподвижно сидела у окна, наблюдая за Эдом слишком синими для ее болезненного лица глазами. Между ними, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра, танцевала малютка Эллен. Две маленькие ручки приподымали складки розового плиссированного платья; и время от времени взволнованный детский голосок восклицал:
– Мама, следи за моим выражением!
– Посмотри на нее, – сказал Тэтчер, продолжая играть, – она настоящая маленькая балерина.
Воскресная газета упала со стола и рассыпалась. Эллен, танцуя, наступила на листы, разрывая их своими проворными маленькими ножками.
– Не делай этого, Эллен, дорогая! – простонала Сузи с розового плюшевого кресла.
– Но, мама, ведь я танцую.
– Не делай этого, раз тебе мама говорит!
Эд Тэтчер заиграл баркаролу.
Эллен танцевала баркаролу, взмахивая в такт ручками, разрывая ножками газету.
– Ради Бога, Эд, убери девочку, она рвет газету.
Он взял замирающий аккорд.
– Милочка, ты не должна этого делать. Папочка еще не дочитал ее.
Эллен продолжала танцевать.
Тэтчер бросился к ней и посадил барахтающуюся, смеющуюся девочку к себе на колени.
– Эллен, ты должна слушаться, когда мама говорит с тобой. И не надо портить вещи, дорогая. Изготовить бумагу для этой газеты стоило денег, люди трудились над ней, а папочка ходил покупать ее и еще не дочитал. Понимаешь, Элли? Нам нужно созидание, а не разрушение.
Он вновь сел за баркаролу, а Эллен продолжала танцевать, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра.
Шесть человек сидели за столом в кафе и наскоро закусывали, сдвинув шляпы на затылок.
– Черт побери! – воскликнул молодой человек в конце стола; он держал в одной руке газету и чашку кофе в другой. – Вот так штука!
– Какая штука? – проворчал длиннолицый человек с зубочисткой во рту.
– «Огромная змея на Пятой авеню[20]. Сегодня утром, в половине двенадцатого, дамы с визгом разбежались по всем направлениям, когда большая змея выползла из каменной стены водокачки на Пятой авеню и стала переползать тротуар…»
– Утка!
– Это еще что! – вставил старик. – Когда я был мальчиком, мы охотились на бекасов в Бруклине[21]…
– Ах, Боже мой! Уже четверть девятого, – пробормотал молодой человек, складывая газету.
Он выбежал на Гудзон-стрит. Улица была полна спешащих людей. Скрежетали подковы лохматых ломовых лошадей, скрипели колеса грузовых фургонов, сливаясь в оглушительный грохот и наполняя воздух едкой пылью. Девушка в шляпке с цветами, с большим голубым бантом у острого подбородка, ожидала его в дверях товарного склада «М. Сюлливан и K°». Молодой человек почувствовал, как внутри у него все забурлило, точно в откупоренной бутылке.
– Хелло, Эмили!.. Знаете, Эмили, я получил прибавку.
– Вы сегодня очень опоздали.
– Честное слово, я получил прибавку на два доллара.
Она дернула подбородком сначала в одну сторону, потом в другую.
– Подумаешь!
– А помните, что вы обещали мне? Если я получу прибавку, то…
Она взглянула на него и хихикнула.
– Это еще только начало.
– Подумаешь! Пятнадцать долларов в неделю.
– Помилуйте, ведь это шестьдесят долларов в месяц. А я еще вдобавок изучаю торговлю, по импорту работать буду.
– Глупыш, вы опоздаете. – Она вдруг повернулась и побежала по грязной лестнице; ее широкая юбка колоколом колыхалась из стороны в сторону.
– Господи! Я ненавижу ее. Я ненавижу ее. – Смахивая слезы, которые жгли ему глаза, он быстро пошел вниз по Гудзон-стрит в контору «Уинкл и Джюлик. Вест-индский импорт».
Палуба на носу около брашпиля была теплая и солоновато-сырая. Они лежали в грязных куртках, растянувшись бок о бок, и лениво перебрасывались словами. В их ушах не проходило шипенье воды; пароход грузно расталкивал широкую травянисто-серую зыбь Гольфстрима.
– J’te dis, mon vieux, moi j’foux l’camp à New-York…[22] Как только мы бросим якорь, я сразу сойду на берег и останусь там. С меня довольно этой собачьей жизни.
У юнги были светлые волосы и овальное румяное лицо. Недокуренная папироса выпала у него изо рта.
– Merde![23] – Он потянулся за ней, но она скатилась в желоб для стока воды.
– Брось, у меня их много, – проговорил другой парень; он лежал на животе и болтал в воздухе грязными ногами. – Консул отправит тебя обратно на пароход.
– Ему не поймать меня.
– А воинская повинность?
– К дьяволу ее! И Францию туда же.
– Хочешь стать американским гражданином?
– Почему нет? Каждый человек имеет право выбирать себе родину.
Второй мальчик задумчиво потер нос кулаком и, вздохнув, медленно свистнул.
– Ты умный малый, Эмиль, – сказал он.
– Слушай, Конго. Почему бы тебе не сойти вместе со мной? Неужели ты собираешься всю жизнь выгребать лопатой разную дрянь из корабельной кухни?
Конго перевернулся, сел, скрестив ноги, и почесал голову, густо обросшую курчавыми черными волосами.
– Сколько стоит женщина в Нью-Йорке?
– Не знаю. Думаю, что дорого… Я не для того схожу на берег, чтобы валандаться. Я буду искать работу. Неужели ты ни о чем не можешь думать, кроме женщин?
– А почему бы нет? – проговорил Конго и снова растянулся на палубе, спрятав грязное, смуглое лицо в скрещенные руки.
– Я бы хотел чего-нибудь добиться. Это моя мечта. Европа прогнила и воняет. А в Америке молодой человек может выдвинуться. Происхождение роли не играет, образование не имеет значения. Все дело в том, чтобы выдвинуться.
– А что, если бы вот тут, на палубе, появилась красивая, пылкая женщина? Ты бы ее полюбил?
– Когда мы разбогатеем, у нас будет масса всего.
– А в Америке есть воинская повинность?
– К чему им? Их интересуют только деньги. Они не хотят воевать – они хотят торговать.
Конго ничего не ответил.
Юнга лежал на спине, глядя в облака. Они плыли с запада – большие здания с колоннами, сквозь которые прорывалось солнце, яркое и белое, как фольга. Он шел по высоким, белым, многоколонным улицам, в сюртуке и высоком белом воротничке он всходил по фольговым ступеням, широким, чисто вымытым; он проходил голубыми порталами в пестрые мраморные залы, где на длинных фольговых столах звенели и шуршали деньги – банкноты, серебро, золото.
– Merde, v’là l’heure![24] – Двойные удары колокола донеслись к ним из вороньего гнезда. – Так не забудь, Конго, в первый же вечер, как мы сойдем на берег… – Он издал булькающий звук.
– Я спал. Мне снилась маленькая блондинка. Я бы ее имел, если бы ты не разбудил меня. – Юнга ворча поднялся и несколько секунд смотрел на запад, где вода тонкой волнистой чертой упиралась в небо, твердое и резкое, как никель. Потом он пригнул голову Конго к палубе и побежал на корму; деревянные башмаки хлопали, спадая с его босых пяток.
Жаркая июньская суббота волочилась по Сто десятой улице. Сузи Тэтчер лежала в постели, вытянув на одеяле синие, костлявые руки. Из-за тонкой перегородки долетали голоса. Молодая женщина кричала гнусаво:
– Говорю вам, мама, я не вернусь к нему!
Потом раздался укоризненный голос старой еврейки:
– Но, Роза, семейная жизнь это не только пиво и кегельбан. Жена должна повиноваться мужу и работать на него.
– Не хочу, не могу! Я не хочу возвращаться к этому грязному скоту.
Сузи присела на кровати, но ей не удалось услышать, что ответила старуха.
– Я больше не еврейка! – внезапно взвизгнула молодая женщина. – Тут не Россия! Тут Нью-Йорк! Тут у девушки есть свои права!
Потом дверь захлопнулась, и все стихло.
Сузи Тэтчер зашевелилась на постели и застонала. Эти ужасные люди не дают мне ни минуты покоя. Снизу долетело бренчанье пианолы. Играли вальс из «Веселой вдовы»[25]. О Боже, почему Эд не возвращается? Жестоко оставлять больную женщину одну. Эгоист! Она скривила рот и заплакала. Потом успокоилась и лежала, устремив взор в потолок, следя за мухами, жужжавшими вокруг электрической лампочки. На улице загромыхала телега. Слышались визгливые детские голоса. Пробежал мальчишка с экстренным выпуском газеты. А что, если случится пожар? Вроде пожара театра в Чикаго. «О, я сойду с ума!» Она металась в кровати; ее ногти впивались в ладони. «Я возьму еще таблетку. Может быть, мне удастся заснуть». Она приподнялась на локте и взяла последнюю таблетку из маленькой коробочки. Глоток воды, смывший таблетку, успокоил ее. Она закрыла глаза.
Внезапно она проснулась. Эллен прыгала по комнате; ее зеленая шляпа сползла на макушку, рыжеватые кудри развевались.
– Мамочка, я хочу быть мальчиком!
– Тише, дорогая. Мамочка нехорошо себя чувствует.
– Я хочу быть мальчиком!
– Что ты сделал с ребенком, Эд? Она так взволнована.
– Мы смотрели чудесную пьесу, Сузи. Тебе бы она, наверное, понравилась. Так поэтично! Мод Адамс[26] была изумительна. Элли была в восторге.
– Глупо брать такую крошку…
– О папочка, я хочу быть мальчиком!
– Мне моя девочка нравится и так. Мы пойдем еще раз, Сузи, и возьмем тебя с собой.
– Эд, ты прекрасно знаешь, что я не поправлюсь.
Она сидела выпрямившись, ее увядшие желтые волосы свисали вдоль спины.
– О, я хотела бы умереть. Я хотела бы умереть и не быть вам больше в тягость… Вы оба меня ненавидите, иначе вы не оставляли бы меня одну. – Она закрыла лицо руками. – О, я хотела бы умереть! – зарыдала она.
– Сузи, ради Бога, как тебе не стыдно! – Он обнял ее и сел на кровать рядом с ней.
Продолжая тихо плакать, она опустила голову к нему на плечо. Эллен стояла, глядя на них круглыми, серыми глазами. Потом начала прыгать по комнате, напевая про себя:
– Элли будет мальчиком, Элли будет мальчиком!
Бэд плелся по Бродвею, прихрамывая из-за волдырей на ногах, мимо пустырей, на которых в траве среди крапивы и бессмертника блестели консервные банки, мимо рекламных щитов и вывесок; мимо лачуг и брошенных будок; мимо канав, полных щебня и раздавленных колесами отбросов; мимо серых каменных холмов, в которые настойчиво вгрызались паровые сверла; мимо ям, из которых вагонетки, полные камня и глины, карабкались по деревянному настилу на дорогу, пока не выбрался на новый тротуар и пошел вдоль желтых кирпичных домов, заглядывая в окна мелочных лавок, китайских прачечных, закусочных, цветочных, овощных, портновских, гастрономических магазинов. Проходя под лесами строящегося здания, он встретился глазами со стариком, который сидел на краю тротуара и заправлял керосиновые лампы. Бэд остановился, подтянул брюки и откашлялся.
– Скажите, мистер, не укажете ли вы мне, где можно получить приличную работу?
– Работа бывает всякая, молодой человек, кроме приличной. Через месяц и четыре дня мне исполнится шестьдесят пять лет, работаю я с пяти лет и, признаться, ни разу еще не находил приличной работы.
– Мне всякая подойдет.
– Союзная карточка есть?
– Ничего у меня нет.
– Не получите никакой работы на постройках без союзной карточки, – сказал старик.
Он потер кистью руки серую щетину на подбородке и снова склонился над лампами. Бэд стоял, глядя на пыльные леса новой постройки, пока не заметил, что какой-то человек в коричневом котелке пристально всматривается в него из окна сторожевой будки. Неуклюже шаркая, он пошел дальше. Если бы я мог добраться до центра…
На углу вокруг большого белого автомобиля собралась толпа. Автомобиль пыхтел. Полисмен держал за руку маленького мальчика. Человек с красным лицом и белыми моржовыми бакенбардами, высунувшись из автомобиля, сердито говорил:
– Я заявляю: он бросил камень! Пора положить этому конец!
Женщина с волосами, завязанными на макушке в тугой узел, грозила кулаком человеку в автомобиле:
– Он чуть меня не переехал, констебль, чуть не переехал!
Бэд стоял около молодого мясника в переднике и спортивной кепке, сдвинутой на затылок.
– Что случилось?
– Не знаю. Опять автомобильная история, очевидно. Вы читаете газеты? Какое право имеют эти проклятые автомобили носиться по городу, сбивая с ног женщин и детей?
– А разве они это делают?
– Конечно!
– Скажите, не можете ли вы указать мне место, где можно получить работу?
Мясник рассмеялся.
– А я думал, вы просите милостыню. Видно, что вы не здешний. Я вам скажу, что вам надо делать. Идите прямо по Бродвею, пока не дойдете до ратуши.
– Это центр?
– Ну да. Потом зайдите в ратушу, спросите мэра и скажите ему, что по вашим сведениям в совете олдерменов есть свободные места.
– Ни черта у них нет, – проворчал Бэд и быстро пошел дальше.
– Бросайте, ребятки!.. Бросайте, черти полосатые!
– Ну-ка покажи им, Слэтс!
– Семерочка! – Слэтс бросил кости и щелкнул потными пальцами. – Ах, черт!
– Ты, я вижу, замечательный игрок, Слэтс.
Грязные руки бросили по пятаку в центр круга, образованного торчащими вперед, штопаными коленками. Пять мальчишек сидели на корточках под фонарем на Южной улице[27].
– Пошевеливайтесь, писуны!.. Бросайте кости, черт вас возьми!
– Кончай игру, ребята! Сюда идет Большой Леонард со своей бандой.
– Я ему выпущу мозги на панель!
Четыре мальчика побежали вдоль верфи, постепенно рассыпаясь и не оглядываясь. Самый маленький, с лицом без подбородка, похожим на клюв, остался на месте и спокойно собрал монеты. Потом он побежал вдоль стены и исчез в темном проходе между двумя домами. Он спрятался за трубой и ждал. Смутный шум голосов проник в проход, потом замер в конце улицы. Мальчик сосчитал пятаки: десять штук.
– Ого, пятьдесят центов… Я скажу, что Большой Леонард все забрал.
У него были дырявые карманы, и он завязал пятаки в подол рубашки.
Винный бокал шушукался с фужером для шампанского перед каждым прибором на сверкающем белизной овальном столе. На восьми блестящих белых тарелках лежали, подобно черным бусам, на листах салата восемь порций икры, обрамленные ломтиками лимона, посыпанные рубленым луком и яичным белком.
– Beaucoup de soing[28], не забывай этого, – говорил старый лакей, морща шишковатый лоб.
Он был низкого роста, ходил переваливаясь; несколько прядей черных волос были зачесаны на макушку.
– Хорошо. – Эмиль важно кивнул головой – крахмальный воротничок был ему узок.
Он опускал последнюю бутылку шампанского в никелированное ведро со льдом.
– Beaucoup de soing, sporca madonna![29] Этот тип сорит деньгами, как конфетти, и щедро дает на чай. Он очень богатый человек. Он тратит деньги без счета.
Эмиль расправил складку на скатерти.
– Не делай этого, у тебя грязные руки, могут остаться следы.
Переступая с ноги на ногу, они стояли в ожидании, с салфеткой под мышкой. Снизу, из ресторана, вместе с жирным запахом еды и звоном ножей и вилок, доносились нежно кружащиеся звуки вальса.
Рот Эмиля сложился в почтительную улыбку, когда он увидел, что метрдотель, стоявший за дверью, поклонился кому-то. Появилась длиннозубая блондинка, в розовом манто. Она висела на руке человека с лунообразным лицом, который нес цилиндр, держа его перед собою, точно полный до краев стакан. За ними вошла маленькая кудрявая девушка в синем – она смеялась, показывая зубы. Дальше – полная женщина с диадемой на голове и черной бархоткой на шее… нос бутылкой, длинное лицо табачного цвета… крахмальные сорочки, руки, поднесенные к белым галстукам, сверкание цилиндров и лакированных ботинок… Еще один – юркий человечек с золотыми зубами; он размахивал руками, изрыгая приветствия каркающим голосом. В пластроне[30] его сорочки сверкал огромный бриллиант. Рыжеволосая девушка в передней собирала верхнее платье. Старый лакей подтолкнул Эмиля локтем.
– Это главный, – шепнул он краешком губ, низко кланяясь.
Эмиль прижался к стене, пока гости с шумом проходили в комнату. Запах пачулей[31] заставил его внезапно покраснеть до корня волос.
– А где Фифи Уотерс? – воскликнул человек с бриллиантовой запонкой.
– Она сказала, что приедет не раньше, чем через полчаса. Я думаю, что поклонники не выпускают ее из театра.
– Ну, мы не станем ее ждать, хотя бы сегодня был день ее рождения. Я никогда в жизни никого не ждал. – Он постоял секунду, обводя глазами женщин, сидевших за столом, потом вытянул манжеты из рукавов фрака и внезапно сел.
Икра исчезла в одно мгновение.
– Человек, как насчет крюшона? – каркнул он.
– De suite, monsieur…[32]
Эмиль, задерживая дыханье и втягивая щеки, убирал тарелки. На бокалах оседал иней – старый лакей наливал в них вино из хрустального кувшина, в котором плавали листья мяты, льдинки, лимонные корочки и длинные ломтики огурца.
– Вот! Это хорошо! – Человек с бриллиантовой запонкой поднес бокал к губам, пригубил и, поставив его на место, бросил насмешливый взгляд на свою соседку.
Она намазывала масло на кусочки хлеба и, кладя их в рот, все время бормотала:
– Я очень мало ем, очень мало…
– Это не мешает вам пить, Мэри, не правда ли?
Она закудахтала и хлопнула его по плечу закрытым веером.
– И шутник же вы!
– Allteez moi ça, sporca madonna![33] – зашипел лакей на ухо Эмилю.
Эмиль зажег две горелки на столике для посуды, и запах горячего хереса, сливок и омаров начал распространяться по комнате. Было жарко, шумно, пахло духами и табаком. Подав омаров и наполнив бокалы, Эмиль прислонился к стене и провел рукой по влажным волосам. Глаза его остановились на пухлых плечах женщины, сидевшей впереди него, потом скользнули вдоль напудренной спины к тому месту, где под кружевами отстегнулся маленький серебряный крючок. Человек с плешивой головой, сидевший рядом с ней, переплел свою ногу с ее ногой. Она была молода – одних лет с Эмилем. Она смотрела в лицо мужчине, и ее полуоткрытые губы были влажны. У Эмиля закружилась голова. Он не мог оторвать взгляд от ее спины.
– Но что случилось с прелестной Фифи? – каркнул человек с бриллиантом, прожевывая омара. – Как видно, она имела сегодня такой успех, что наша компания кажется ей чересчур скромной.
– У кого хотите закружится голова!
– Ну-с, если она думает, что мы ее будем ждать, мы ей преподнесем сюрприз. Хо-хо-хо! – заорал человек с бриллиантовой запонкой. – Я никогда в жизни никого не ждал и не собираюсь ждать.
Человек с лунообразным лицом отставил тарелку и играл браслетом на руке женщины, сидевшей рядом с ним.
– Вы сегодня настоящая красавица, Ольга.
– Я теперь как раз позирую одному художнику, – ответила женщина, держа свой бокал против света.
– Клянусь Богом, я куплю портрет.
– Едва ли это вам удастся. – Она покачала золотистой головкой.
– Вы скверный маленький бесенок, Ольга!
Она рассмеялась, не разжимая губ над длинными зубами.
Какой-то мужчина наклонился к человеку с бриллиантом, стуча толстым пальцем по столу.
– Нет, сэр, Двадцать третья улица в качестве объекта для операций с недвижимыми имуществами лопнула.[34] Это все признают. Но вот о чем я хотел бы поговорить с вами частным образом, мистер Годэлминг… Как создаются миллионы в Нью-Йорке?… Астор[35], Вандербильд[36], Фиш[37]… Только на недвижимом имуществе! Теперь очередь за следующими пустырями… Почти рядом… Покупайте на Сороковой…
Человек с бриллиантом поднял бровь и покачал головой:
– Проведем хоть один вечер не по-деловому. Как это говорится… «откинь заботы и печали» или что-то в этом роде… Эй, человек! Почему вы, черт возьми, не подаете шампанского? – Он встал на ноги, кашлянул в кулак и запел хриплым голосом:
О, если б океан сплошным шампанским был…
Все захлопали. Старый лакей только что обнес гостей пудингом и теперь, с красным, как свекла, лицом, вытаскивал тугую пробку из бутылки. Когда пробка выскочила, дама в диадеме взвизгнула. Пили за здоровье человека с бриллиантовой запонкой.
Он такой веселый, славный малый…
– Как называется это блюдо? – спросил человек с носом бутылкой, наклоняясь к девушке.
Ее черные волосы были разделены прямым пробором. Она была одета в светло-зеленое платье с пышными рукавами. Мужчина подмигнул и поглядел в упор в ее черные глаза.
– Это самое фантастическое блюдо, какое я когда-либо ел. Вы знаете, милая моя, я не часто приезжаю в этот город. – Он допил свой бокал. – Когда я уезжаю отсюда, я постоянно чувствую отвращение. – Его лихорадочный, блестящий от шампанского взгляд скользил по контурам ее шеи, плеч и остановился на голой руке. – Но на этот раз я думаю…
– Жизнь старателя, должно быть, захватывающе интересна, – прервала она, вспыхнув.
– Она была захватывающей в прежние времена. То была грубая, но мужская жизнь; я доволен, что нажил капитал в прежние времена… теперь мне так не повезло бы.
Она посмотрела на него.
– Как вы скромны, называя это везением!
Эмиль вышел из отдельного кабинета. В его услугах больше не нуждались. Рыжеволосая девица из гардероба прошла мимо с большим кружевным капором в руках. Он улыбнулся, попытался поймать ее взгляд. Она фыркнула и вздернула нос. «Не хочет смотреть на меня, потому что я лакей. Ладно, когда я наживу деньги, я им покажу!»
– Скажи Чарли, чтобы подал еще две бутылки «Моэ», «Шандон», американский разлив, – раздался шипящий голос старого лакея.
Человек с лунообразным лицом встал.
– Леди и джентльмены…
– Эй вы, поросята, тише! – прокричал чей-то голос.
– Свинья хочет говорить, – сказала Ольга шепотом.
– Леди и джентльмены! Вследствие отсутствия нашей звезды Вифлеема…
– Джилли, не кощунствуйте, – сказала дама в диадеме.
– Леди и джентльмены, так как я не привык…
– Джилли, вы пьяны!
– Я говорю: хоть счастье и покинуло нас…
Кто-то дернул его за фалды, и лунолицый со стуком сел на стул.
– Это ужасно, – сказала дама в диадеме, обращаясь к человеку с длинным лицом табачного цвета, сидевшему в конце стола. – Это ужасно, полковник, как Джилли богохульствует, когда напьется.
Полковник осторожно снимал фольгу с сигары.
– Что вы говорите! – процедил он; его седоусое лицо ничего не выражало.
– Знаете, ужасная история случилась с Аткинсом, стариком Эллиотом Аткинсом. Помните, он работал с Мэнзфилдом…
– Неужели? – ледяным тоном спросил полковник, отрезая кончик сигары перламутровым перочинным ножом.
– Скажите, Честер, это правда, что Мэби Эванс имела огромный успех?
– Не представляю себе этого, Ольга. У нее плохая фигура…
– Понимаете, как-то вечером – они тогда гастролировали в Канзасе – он был в стельку пьян и начал говорить речь…
– Она не умеет петь…
– Бедняга всегда плохо чувствует себя перед публикой…
– У нее отвратительная фигура…
– Речь, вроде Боба Ингерсолла…[38]
– Бедный старик… Я хорошо знал его в былые дни, в Чикаго…
– Что вы говорите! – Полковник медленно поднес зажженную спичку к концу сигары.
– И вдруг сверкает страшная молния, и огненный шар влетает в одно окно и вылетает в другое.
– Убило его? – Полковник пустил под потолок синий клуб дыма.
– Что такое? Вы говорите, Боба Ингерсолла убило молнией? – пронзительно крикнула Ольга. – Так ему и надо, гнусному атеисту!
– Нет, не убило. Но он постиг сущность жизни и стал методистом.
– Странно! Почему это актеры так часто становятся проповедниками?
– Иначе их никто не хочет слушать! – каркнул человек с бриллиантовой запонкой.
Оба лакея стояли за дверью и прислушивались к разговору.
– Tas de sacrés cochons… sporca madonna![39] – прошипел старый лакей.
Эмиль пожал плечами.
– Эта брюнетка весь вечер делала тебе глазки. – Он наклонился к Эмилю и подмигнул. – Может, подцепишь рыбешку, а?
– Ну их, с их грязными болезнями!
Старый лакей хлопнул себя по ляжке.
– Никуда не годится современная молодежь… Когда я был молод, я не зевал.
– Они даже не глядят на нас, – сказал Эмиль, стиснув зубы. – Автомат во фраке, и больше ничего.
– Подожди, приучишься.
Дверь открылась. Они почтительно поклонились бриллиантовой запонке. Кто-то нарисовал карандашом пару женских ножек на пластроне его сорочки. Яркие пятна горели на его щеках. Нижнее веко одного глаза отвисло, и это придавало его лицу саркастическое выражение.
– Что за черт, Марко, что за черт… – бормотал он. – Нам нечего пить. Принесите две кварты «Атлантического океана»…
– De suite, monsieur. – Старый лакей поклонился. – Эмиль, скажи Огюсту, immédiatement et bien frappé[40].
Когда Эмиль бежал по коридору, к нему донеслось пение:
О, если б океан сплошным шампанским был…
Лунолицый и бутылконосый возвращались под руку из уборной, лавируя между пальмами.
– Эти проклятые дураки кормят так, что меня тошнит.
– Да, это не те ужины с шампанским, что мы едали в Фриско в былые времена.
– Да, то были славные времена.
– Между прочим… – Лунолицый выпрямился и прислонился к стене. – Холлиок, старина, вы видели мою статью о каучуковой промышленности в утренней газете? Капиталисты погрызут этот камешек… как мышки…
– Что вы знаете о каучуке? Дрянь товар…
– Подождите и присмотритесь, Холлиок, старина, иначе вы потеряете замечательный шанс. Пьян я или трезв, а запах денег я чую издалека.
– Почему же у вас их нет? – Красное лицо носатого сделалось пурпурным; он перегнулся пополам и разразился хохотом.
– Потому что я всегда втягиваю в дело моих друзей, – сказал другой очень серьезно. – Эй, человек. Где отдельный кабинет?
– Par ici, monsieur.[41]
Красное плиссированное платье промелькнуло мимо них. Маленькое овальное лицо, обрамленное плоскими темными прядями, жемчужные зубы, открытые в улыбке.
– Фифи Уотерс! – закричали все.
– Дорогая Фифи, приди в мои объятия!
Ее поставили на стол; она стояла, перебирая ножками. Шампанское пенилось в ее бокале.
– С веселым Рождеством!
– С Новым годом!
Красивый молодой человек, приехавший с Фифи Уотерс, пел и танцевал, мотаясь вокруг стола:
Мы пошли на базар к зверям,
Были звери и птицы там,
Павиан большой,
Озарен луной,
Расчесывал длинные волосы.
– Оп-ля! – крикнула Фифи Уотерс и взъерошила седые волосы человека с бриллиантовой запонкой. – Оп-ля! – Она спрыгнула со стола и закружилась по комнате, высоко вскидывая юбки. Ее стройные ноги, в блестящих черных шелковых чулках и красных трусиках с розетками, мелькали перед лицами мужчин.
– Она сумасшедшая! – воскликнула дама в диадеме.
– Оп-ля!
Холлиок покачивался, стоя в дверях, нахлобучив цилиндр на багровую шишку носа. Она гикнула, дрыгнула ногой и сбила с него цилиндр.
– Вот это удар! – закричали все.
– Вы мне выбили глаз!
Она уставилась на него своими круглыми глазами и вдруг залилась слезами, припав к груди с бриллиантовой запонкой.
– Я не хочу, чтобы меня оскорбляли! – рыдала она.
– Протрите другой глаз!
– Принесите бинт!
– Ей-богу, она могла ему выбить глаз!
– Эй, человек, скорее кэб!
– Доктора!
– Ну и бедлам, дружище!
Спотыкаясь и прижимая к глазу платок, мокрый от слез и крови, бутылконосый вышел.
Женщины и мужчины двинулись за ним; молодой человек со светлыми волосами вышел последним, покачиваясь и напевая:
Павиан большой,
Озарен луной,
Расчесывал длинные волосы.
Фифи Уотерс рыдала, уронив голову на стол.
– Не плачьте, Фифи, – сказал полковник, который все еще сидел на своем месте. – Вот это вас успокоит. – Он пододвинул ей бокал шампанского.
Она потянула носом и стала пить маленькими глотками.
– Хелло, Роджер! Как поживает мальчик?
– Очень хорошо, благодарю вас… Знаете, я устал. Весь вечер с этими крикунами…
– Я голодна.
– Кажется, ничего съедобного не осталось.
– Я не знала, что вы здесь, иначе я пришла бы раньше, честное слово.
– Правда, пришли бы? Это очень мило.
Пепел упал с сигары полковника. Он поднялся.
– Знаете, Фифи, я возьму кэб, и мы поедем кататься в парк.
Она допила шампанское и радостно кивнула.
– Боже, уже четыре часа.
– Вы тепло одеты, не правда ли?
Она опять кивнула.
– Прелестная Фифи… Вы прекрасны… – Лицо полковника расплылось в улыбку. – Ну, едем!
Она недоуменно осматривалась кругом.
– Я как будто приехала с кем-то?
– Неважно.
В передней они наткнулись на красивого юношу – он спокойно блевал в пожарное ведро под искусственной пальмой.
– Оставим его тут, – сказала она, вздернув носик.
– Неважно, – сказал полковник.
Эмиль подал пальто. Рыжеволосая девица ушла домой.
– Эй, мальчик! – Полковник помахал тросточкой. – Позовите, пожалуйста, кэб, но выберите приличную лошадь и трезвого кучера.
– De suite, monsieur.
Небо над крышами и трубами было как сапфир. Полковник несколько раз глубоко вдохнул воздух, пахнувший рассветом, и бросил свою сигару в сточную канаву.
– Что вы скажете насчет завтрака у Клермонта? Тут совершенно нечего было есть. Это мерзкое сладкое шампанское… Фу!
Фифи хихикнула. Полковник осмотрел копыта лошади и погладил ее морду; они сели в кэб. Полковник бережно обнял Фифи, и они уехали. Эмиль секунду стоял у дверей ресторана, разглаживая бумажку в пять долларов. Он устал, и у него болели ноги.
Когда он вышел с черного хода из ресторана, то увидел Конго, который ждал его, сидя на ступеньках. Лицо Конго казалось зеленым и замерзшим над поднятым воротником куртки.
– Это мой друг, – сказал Эмиль, обращаясь к Марко. – Мы приехали с ним на одном пароходе.
– Нет ли у тебя коньяку? Какие славные курочки выходили отсюда.
– Что с тобой?
– Потерял место, вот и все. Невтерпеж стало. Пойдем, выпьем кофе.
Они заказали кофе и орехи в тесте в фургоне-ресторане, стоявшем на пустыре.
– Eh bien[42], как вам нравится эта чертова страна? – спросил Марко.
– Почему чертова? Она мне все-таки нравится. Всюду одинаково. Во Франции вам платят плохо, а живете вы хорошо. Тут вам платят хорошо, а живете вы плохо.
– Questo paese е completamente solo sopra.[43]
– Я думаю, что снова уйду в море.
– Почему вы не говорите по-английски? – спросил буфетчик с лицом, похожим на кочан цветной капусты, поставив три чашки кофе на стойку.
– Если мы будем говорить по-английски, – проворчал Марко, – то вам, пожалуй, не понравится то, что мы говорим.
– Почему вас выставили?
– Merde! Не знаю, у меня был разговор со старым верблюдом-управляющим. Он жил рядом с конюшней и заставлял меня делать все – от чистки экипажей до мытья полов в его квартире. Его жена – ужасная рожа. – Конго втянул губы и скосил глаза.
Марко рассмеялся.
– Santissima Maria putana![44] A как вы с ним сговаривались?
– Они указывали на какой-нибудь предмет, а я кивал головой и говорил «хорошо». Я приходил в восемь и работал до шести, а они с каждым днем наваливали на меня все больше и больше грязной работы. Вчера вечером они приказали мне вычистить уборную, а я покачал головой. Это, дескать, бабья работа. Она ужасно рассердилась и начала визжать. Тогда я заговорил по-английски. «Идите к черту», – сказал я ей. Тогда пришел старик, выгнал меня на улицу кучерской плетью и сказал, что не заплатит мне за отработанную неделю. Пока мы с ним спорили, он позвал полисмена, а когда я попытался объяснить полисмену, что старик мне должен десять долларов за неделю, он сказал: «Ах ты, паршивая вошь!» – и ударил меня палкой.
Марко весь побагровел.
– Он назвал вас паршивой вошью?
Конго кивнул головой.
– Сам он поганый ирландец, – проворчал Марко по-английски. – Осточертел мне этот гнусный город! Во всем мире одно и то же: полиция избивает нас, богатеи надувают нас на нашем нищенском жалованье, а чья вина? Dio cane![45] Ваша вина, моя вина, вина Эмиля.
– Не мы создавали мир, а они или, может быть, Бог.
– Бог на их стороне, как и полиция. Настанет день, когда мы убьем Бога. Я – анархист.
Конго затянул:
– Les bourgeois в la lanterne, nom de Dieu![46]
– Вы из наших?
Конго пожал плечами.
– Я не католик и не протестант. У меня нет денег и нет работы. Посмотрите! – Конго ткнул грязным пальцем в разорванную коленку. – Вот вам анархизм. К черту! Я поеду в Сенегал и сделаюсь негром.
– Ты и так похож на негра, – рассмеялся Эмиль.
– Потому меня и зовут Конго.
– Все это ужасно глупо, – продолжал Эмиль. – Все люди одинаковы. Разница только в том, что одни пролезают вперед, а другие нет. Поэтому я и приехал в Нью-Йорк.
– Dio cane! Я думал то же самое двадцать пять лет тому назад. Когда вам будет столько лет, сколько мне, вы лучше поймете. Разве у вас от всего этого не горит вот тут? – Он ударил кулаком по пластрону своей крахмальной рубашки. – А у меня горит, и я задыхаюсь… и говорю себе: «Держись, наш день придет, кровавый день».
– А я говорю себе, – сказал Эмиль, – когда ты будешь богатым, дружище…
– Слушайте. Перед тем, как покинуть Турин – я ездил туда повидаться с матерью, – я пошел на митинг. Говорил один парень из Капуи. Красивый такой, высокий, стройный… Он говорил, что после революции насилие исчезнет, что тогда никто не будет жить за счет работы другого человека… Полиция, правительство, армия, президенты, короли – все это сила. Но сила – не реальная вещь, сила – это иллюзия. Трудящийся человек сам все это создает, потому что он верит в это. Тот день, когда мы перестанем верить в деньги и в собственность, будет днем пробуждения, и нам не нужны будут ни бомбы, ни баррикады. Религия, политика, демократия – все это для того, чтобы усыплять и морочить нас. Вы должны кричать народу «Проснись!»
– Когда вы выйдете на улицу, я пойду с вами, – сказал Конго.
– Помнишь, я тебе рассказывал про одного человека, Энрико Малатеста. Он – величайший человек Италии после Гарибальди. Он провел всю свою жизнь в тюрьмах и в изгнании, в Египте, в Англии, в Южной Америке, всюду… Если б я был таким человеком, мне было бы наплевать на все. Пусть меня вешают, пусть расстреливают. Мне все равно. Я счастлив.
– Но ведь такой человек сумасшедший, – медленно проговорил Эмиль – сумасшедший.
Марко проглотил остатки своего кофе.
– Подожди, ты слишком молод. Ты еще поймешь. Мало-помалу нас заставляют понимать. И запомни, что я тебе скажу… Может быть я слишком стар, может быть я мертв, но настанет день, когда трудящиеся проснутся от рабства… Вы выйдете на улицу – и полиция разбежится; вы пойдете в банк – и там на полу будут рассыпаны деньги, и вы даже не остановитесь, чтобы поднять их, – они больше не будут нужны… Во всем мире мы подготовляем революцию. У нас есть товарищи даже в Китае… Коммуна у нас во Франции была только началом. Социализм провалился. Следующий удар нанесут анархисты. А если и мы провалимся, то придут другие…
Конго зевнул:
– Хочу спать, как собака.
Лимонный рассвет затоплял пустынные улицы, стекая с карнизов, с перил, с пожарных лестниц, с водосточных желобов, взрывая глыбы мрака между домами. Уличные фонари погасли. На углу они остановились – Бродвей казался узким и покоробившимся, словно огонь спалил его.
– Когда я вижу рассвет, – хрипло сказал Марко, – я всегда говорю себе: «Может быть… может быть, сегодня…» – Он откашлялся и сплюнул на фонарный столб, потом удалился своей ковыляющей походкой, жадно вдыхая холодный воздух.
– Это правда, Конго, что ты снова собираешься стать моряком?
– Почему бы нет? Увижу свет…
– Мне будет не хватать тебя. Буду искать другую комнату.
– Ты найдешь другого товарища.
– Если ты уйдешь в море, то останешься на всю жизнь моряком.
– Ну, и что ж с того? Когда ты разбогатеешь и женишься, я приеду навестить тебя.
Они шли по Шестой авеню.[47] Поезд прогремел над их головами. Он давно уже исчез, а смутный грохот еще таял в стропилах.
– Почему ты не ищешь другого места? Почему остаешься здесь?
Конго вынул из нагрудного кармана две смятые папиросы, протянул одну из них Эмилю, зажег спичку и начал медленно выпускать клубы дыма.
– Я сыт по горло! – Он провел ребром ладони по кадыку. – Сыт по горло! Может быть, поеду домой, посмотрю, что делают девчонки в Бордо… Не все же они ходят в корсетах… Может быть, поступлю добровольцем в военный флот и буду носить красный помпон. Девочки любят это… Вот это жизнь! Напиваться, получать жалованье, увидеть Дальний Восток…
– И в тридцать лет умереть от сифилиса в больнице.
– Чепуха!.. Тело каждые семь лет обновляется.
На лестнице их дома пахло капустой и прокисшим пивом. Зевая, они поплелись наверх.
– Ждать – это гнусное, утомительное занятие. От него подошвы болят… Смотри-ка, кажется, будет хорошая погода. Из-за водокачки проглядывает солнце.
Конго стащил сапоги, носки, брюки и свернулся клубком на кровати.
– Эти паршивые ставни пропускают свет, – пробормотал Эмиль, растягиваясь на другом конце кровати.
Он беспокойно ворочался на скомканной простыне. Дыхание Конго, лежавшего рядом с ним, было медленно и ритмично. «Если бы я мог быть таким, – думал Эмиль, – никогда ни о чем не беспокоиться… Господи, как это глупо… Марко… старый дурак…»
Он лежал на спине, глядя на грязные пятна на потолке, вздрагивая каждый раз, когда проходивший поезд сотрясал комнату. Черт возьми, надо копить. Когда он повернулся, кровать заскрипела, и он вспомнил голос Марко: «Когда я вижу рассвет, я говорю себе: «Может быть, сегодня…»
– Простите меня, мистер Олафсон, я должен уйти на минутку, – сказал жилищный агент. – А вы пока решите с мадам вопрос о квартире.
Они остались в пустой комнате, глядя в окно на аспидный Гудзон, на военные суда, стоявшие на якоре, на шхуну, шедшую вверх по течению.
Вдруг она повернулась к нему. Ее глаза заблестели.
– О Билли, ты только подумай!
Он обнял ее за плечи и медленно притянул к себе.
– Почти чувствуешь запах моря…
– Ты только подумай, Билли! Мы будем жить на Риверсайд-драйв[48]. У меня будет приемный день. «Миссис Вильям Олафсон, 218, Риверсайд-драйв…» Я не знаю, помещают ли адрес на визитных карточках.
Она взяла его за руку и повела по пустым, чисто выметенным комнатам, в которых никто никогда еще не жил. Он был высокий, неуклюжий мужчина с блекло-синими глазами на белом, детском лице.
– Но это стоит уйму денег, Берта!
– С нашими средствами мы теперь можем себе это позволить. Твое положение требует этого. Подумай, как мы будем счастливы.
Агент возвратился, потирая руки.
– Прекрасно, прекрасно! Я вижу, что мы пришли к благоприятному решению. Вы поступаете очень разумно – во всем Нью-Йорке вы не найдете лучшей квартиры. Через несколько месяцев вы не достанете такой квартиры ни за какие деньги.
– Мы берем ее с первого числа.
– Очень хорошо, вы не пожалеете о вашем решении, мистер Олафсон.
– Я пришлю вам чек завтра утром.
– Как вам будет угодно. Будьте добры, ваш нынешний адрес…
Агент вынул записную книжку и послюнил огрызок карандаша.
Она выступила вперед:
– Запишите лучше: отель «Астор»[49]. А вещи на складе.
Мистер Олафсон покраснел.
– И… э… я бы хотел иметь имена двух лиц, могущих дать рекомендацию.
– Я служу у «Китинг и Брэдли», сорок три, Парк-авеню.
– Он как раз назначен помощником главного управляющего, – прибавила миссис Олафсон.
Когда они вышли и пошли по набережной против ветра, она воскликнула:
– Дорогой, я так счастлива! Теперь действительно стоит жить.
– Но почему ты сказала ему, что мы живем в отеле «Астор»?
– Не могла же я сказать, что мы живем в Бронксе[50]. Он бы подумал, что мы евреи, и не сдал бы нам квартиры.
– Но ты ведь знаешь, что я не люблю этих штук.
– Ну тогда переедем на несколько дней в отель «Астор», если уж ты хочешь быть правдивым. Мне еще никогда не приходилось жить в большом отеле.
– Но, Берта, это дело принципа. Мне не нравится, когда ты так поступаешь.
Она повернулась и посмотрела на него, раздувая ноздри.
– Какая ты рохля, Билли! Почему я не вышла замуж за настоящего мужчину?
Он взял ее за руку.
– Идем, – сказал он грубо и отвернулся.
Они пошли по перпендикулярной улице между строительными участками. На углу еще высился остов полуразрушенной фермы. Виднелась половина комнаты с голубыми, изъеденными коричневыми потеками обоями, закопченный камин, шаткий буфет и железная кровать, сложенная вдвое.
Одна тарелка за другой скользит из жирных рук Бэда. Запах помоев и горячей мыльной пены. Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Колени промокли от разлитой воды, жир стекает по рукам, локти сведены судорогой.
– Черт побери, это не работа для белого человека!
– А мне наплевать, было бы что жрать! – сказал еврей, перекрикивая звон посуды и шипенье плиты, на которой три повара, обливаясь потом, жарили яичницу с ветчиной, бифштексы, картошку и солонину с бобами.
– Это верно, пожрать тут можно, – сказал Бэд и обвел языком зубы, высасывая кусочки солонины; он размалывал ее языком о нёбо.
Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Минута отдыха. Еврей протянул Бэду папиросу. Они облокотились о раковину.
– Не Бог весть, как много зарабатываешь мытьем посуды.
Папироса прилипла к толстой губе еврея и болталась, когда он говорил.
– Конечно, это не работа для белого человека, – сказал Бэд. – Быть лакеем куда лучше. Там чаевые…
Из закусочной вошел человек в коричневом котелке. У него были тяжелые челюсти, маленькие свиные глазки, во рту у него торчала длинная сигара. Бэд встретил его взгляд и почувствовал, как по его спине ползут мурашки.
– Кто это? – прошептал он.
– Не знаю. Вероятно, посетитель.
– А вам не кажется, что он похож на сыщика?
– Откуда я, черт возьми, знаю? Я никогда не был в тюрьме. – Еврей покраснел и выдвинул нижнюю челюсть.
Мальчик из закусочной принес новую стопку грязных тарелок. Взмах мочалкой, в раковину под кран – и на край стола. Когда человек в коричневом котелке проходил по кухне, Бэд опустил глаза и уставился на свои красные, покрытые жиром руки. К черту! Что ж с того, если он даже и сыщик… Перемыв тарелки, Бэд направился к двери, вытер руки, взял куртку и шляпу, висевшие на гвозде, и вышел черным ходом мимо помойных ведер на улицу. Вот дурак! Лишился платы за два часа работы. В окне оптического магазина часы показывали двадцать пять минут третьего. Он пошел по Бродвею мимо Линкольн-сквер через Колумб-сквер[51] вниз, по направлению к центру, где толпа была гуще.
Она лежала, подняв колени к подбородку, туго стянув ночную рубашку у пяток.
– Ну постарайся заснуть, дорогая. Обещай маме, что ты будешь спать.
– А папочка придет поцеловать меня на ночь?
– Придет, когда вернется. Он опять пошел в контору. А мама идет к миссис Спингарн.
– А когда папа придет домой?
– Элли, я же тебя просила заснуть. Я не буду тушить свет.
– Не надо, мамочка, от него тени. Когда придет папочка?
– Когда освободится. – Она потушила газовый рожок. Тени во всех углах окрылились и слились.
– Спокойной ночи, Эллен.
Полоса света в дверях сузилась за мамой, медленно сузилась в длинную нить. Щелкнул замок; шаги удалились и замерли в передней. Хлопнула входная дверь; где-то в молчаливой комнате тикали часы. За стенами комнаты, за стенами дома – стук колес и удары копыт, громкие голоса. Гул рос. Было совершенно темно, только две полоски света образовали опрокинутое «L» в углу двери.
Элли хотелось протянуть ноги, но она боялась. Она не смела оторвать глаз от опрокинутого «L» в углу двери. Если она закроет глаза, свет исчезнет. За кроватью, из-за оконных занавесей, из шкафа, из-под стола тени, скрипя, подползали к ней. Она обхватила ноги руками, прижала подбородок к коленям. Подушка набухала тенью, тени ищейками всползали на кровать. Если она закроет глаза, свет исчезнет.
Черный спиральный гул с улицы проникал сквозь стены, заставляя вкрадчивые тени содрогаться. Ее язык стучал о зубы, как язык колокола. Руки и ноги одеревенели, шея одеревенела, она начала кричать. Кричать, чтобы заглушить грохот и гул улицы, кричать, чтобы папочка услышал, чтобы папочка вернулся домой. Она глубоко вдохнула в себя воздух и опять закричала. Чтобы папочка вернулся домой! Ревущие тени колебались и танцевали, тени подстерегали ее со всех сторон. Тогда она заплакала; глаза ее наполнились уютными теплыми слезами, они скатывались по щекам, стекали в уши. Она повернулась и плакала, уткнувшись лицом в подушки.
Газовые фонари еще некоторое время дрожат на багрово-холодных улицах, а потом гаснут, растворяясь в победной заре. Гэс Мак-Нийл идет рядом со своей тележкой, размахивая проволочной корзиной, наполненной молочными бутылками. Сон еще склеивает его глаза. Он останавливается у дверей, собирает пустые бутылки, карабкается по сырым лестницам, вспоминает, кому и какой сорт молока, сливок и сметаны оставить. Тем временем небо над крышами, желобами, карнизами и трубами становится розоватым и желтым. Иней блестит на ступеньках домов и на тумбах. Лошадь медленно плетется, качая головой, от двери к двери. На замерзшей панели уже чернеют следы пешеходов. Тяжелый воз с пивом грохочет по улице.
– Как поживаете, Майк? Замерзли, небось? А? – кричит Гэс Мак-Нийл полисмену, потирающему руки на углу Восьмой авеню.
– Доброе утро, Гэс! Коровы еще дают молоко?
Уж совсем рассвело, когда он, наконец, бросает вожжи на облезлый круп мерина и едет обратно на ферму с пустыми бидонами, подпрыгивающими и дребезжащими в тележке за его спиной. На Девятой авеню прямо над его головою грохочет поезд. Маленький зеленый паровоз выбрасывает клуб дыма, белого и плотного, как вата. Дым тает в стылом воздухе между жесткими, чернооконными домами. Первые лучи солнца выхватывают золотые буквы вывески «Вина и ликеры Мак-Джилли-кеди» на углу Десятой авеню. Язык у Гэса Мак-Нийла пересох, рассвет оставил во рту солоноватый вкус. Кружка пива была бы самым подходящим делом в такое холодное утро. Он наматывает вожжи на кнут и соскакивает с тележки. Его закоченелые ноги ноют, прикасаясь к панели. Потопав ногами, чтобы согреть пальцы, он входит в бар, распахнув шаткую дверь.
– Будь я проклят, если молочник не привез нам сливок к кофе!
Гэс плюет в начищенную плевательницу подле стойки.
– Пить хочу…
– Слишком много молока выпили, Гэс, держу пари, – басит хозяин с четырехугольным жирным лицом.
Из открытого окна красная солнечная полоса ласкает тело голой дамы – она возлежит позади стойки в золотой раме, спокойная, как крутое яйцо на ложе из шпината.
– Ну, Гэс, чем прикажете потчевать?
– Я думаю, Мак, пива.
Пена дрожит и переливается через край. Хозяин срезает ее деревянной ложкой, дает ей осесть, потом опять подставляет кружку под визжащий кран бочки. Гэс устраивается поудобнее, ставит ноги на медную решетку.
– Ну, как дела?
Гэс опорожняет кружку и, прежде чем вытереть рот, проводит ребром ладони по кадыку.
– Сыт по горло. Я вам скажу, что намерен делать. Я поеду на восток, возьму себе кусочек свободной земли в Северной Дакоте или где-нибудь в другом месте и буду сеять пшеницу. Я на этот счет мастер… Городская жизнь никуда не годится.
– А как на это посмотрит Нелли?
– Ей, наверно, сначала не очень понравится. Она так любит комфорт, свой дом, все, к чему она привыкла, но, я думаю, ей понравится. Она привыкнет к новому месту, как только мы устроимся. Здешняя жизнь не подходит ни мне, ни ей.
– Вы правы, этот город – сущий ад. Я думаю, что в один прекрасный день мы с женой все распродадим. Если бы я только мог купить хороший ресторанчик за городом или гостиницу. Это было бы самое подходящее для нас дело. Я уже присмотрел кое-что неподалеку от Бронксвильского шоссе. – Он задумчиво трет подбородок кулаком. – Надоело мне каждый вечер разливать это проклятое пойло. Ведь я ушел с ринга для того, чтобы больше никогда в жизни не драться. А вчера вечером два негодяя сцепились тут, и мне пришлось вмешаться и драться с обоими, чтобы выкинуть их. Надоело мне до черта воевать с каждым пьяницей на Десятой авеню. Выпейте на дорогу!
– Боюсь, Нелли почувствует запах.
– Неважно. Пусть привыкает к небольшой выпивке. Ее отец это дело тоже любил.
– Честное слово, Мак, я ни разу не был пьян со дня моей свадьбы.
– Да я ничего не говорю. Она славная девчонка, ваша Нелли. Этакие у нее кудряшки – кого угодно с ума сведет.
От второй кружки у Гэса щиплет и щекочет в кончиках пальцев. Он хохочет и хлопает себя по ляжке.
– Она наливное яблочко, Гэс. Настоящая леди и все такое…
– Ну, пора ехать домой.
– Счастливый дьявол! Идет спать с женой, а мы только начинаем работать.
Багровое лицо Гэса краснеет. Его уши горят еще сильнее.
– Иногда я еще застаю ее в кровати… Ну, прощайте, Мак. – Он выходит на улицу.
Утро стало пасмурным. Свинцовые тучи собираются над городом.
– Ну, пошла, старуха! – кричит Гэс, дергая лошадь за гриву.
Одиннадцатая авеню полна ледяной пыли, визга и грохота колес, топота копыт. С железнодорожного пути доносятся свистки паровоза и стук товарных вагонов, переходящих на запасной путь. Гэс лежит в кровати со своей женой и нежно говорит ей: «Слушай, Нелли, ты ничего не имеешь против переезда на Восток? Да? Я подал заявление о предоставлении мне свободной земли под ферму в Северной Дакоте; там чернозем, и мы наживем кучу денег на пшенице; многие богатеют с пяти хороших урожаев… И, во всяком случае, для детей там здоровее…»
– Хелло, Майк!
Бедный старый Майк… Он все еще на посту. Гнусное занятие – быть фараоном. Лучше быть фермером, сеять пшеницу, иметь собственный большой дом, хлев, свиней, лошадей, коров, кур… Хорошенькая кудрявая Нелли кормит цыплят у кухонной двери…
– Эй! Эй! Ради Бога, осторожнее! – кричит Гэсу человек с угла улицы. – Поезд!
Разверстый рот, изодранная кепка, зеленый флаг. «Господи, я на рельсах!» Он пытается повернуть лошадь. Удар опрокидывает тележку. Вагоны, лошадь, зеленый флаг, красные дома кружатся и исчезают во мраке.
III. Доллары
Вдоль перил – лица; в иллюминаторах – лица. Ветер доносил тухлый запах с парохода. Пароход, похожий на бочонок, стоял на якоре, накренившись на бок. С его фок-мачты свисал желтый карантинный флаг.
– Я бы дал миллион долларов, чтобы узнать, зачем они приехали, – сказал старик, роняя весла.
– Чтобы нажиться, – ответил юноша, сидевший на корме. – Ведь Америка – страна больших возможностей.
– Одно я знаю, – сказал старик, – когда я был мальчиком, весной сюда вместе с первой сельдью приезжали ирландцы… Теперь сельди больше нет, а люди все едут и едут. Откуда они берутся – Бог их знает.
– Америка – страна больших возможностей.
Молодой человек с худым лицом, стальными глазами и тонким орлиным носом сидел, откинувшись на вертящемся стуле, положив ноги на стол красного дерева. У него были пухлые губы и болезненный цвет лица. Он раскачивался на стуле, разглядывая царапины, которые его ботинки оставляли на фанере. К черту! Наплевать! Вдруг он выпрямился и сел так внезапно, что пружина стула запищала. Он ударил сжатым кулаком по колену.
– Результаты! – закричал он. – Три месяца я протираю брюки, сидя на этом вертящемся стуле… Какая польза от того, что я кончил университет и имею право выступать в суде, если я не могу найти ни одного клиента?
Он нахмурился, глядя на золотые буквы, красовавшиеся на матовой стеклянной двери:
НИУДЛОБ ЖДРОЖД ТАКОВДА
– «Ниудлоб…» К черту! – Он вскочил на ноги. – Я читаю эту проклятую надпись задом наперед каждый день в течение трех месяцев. Я с ума от этого сойду. Пойду завтракать.
Он одернул жилет, смахнул платком пыль с ботинок, затем, придав лицу выражение чрезвычайной озабоченности, поспешно вышел из своей конторы, сбежал с лестницы и пошел по Мэйден-лейн[52]. Напротив ресторана он увидел заглавную строчку экстренного выпуска газеты: «Японцы отброшены от Мукдена»[53]. Он купил газету, сунул ее под мышку и, хлопнув дверью, вошел в ресторан. Он занял столик и уставился в меню. Нельзя быть расточительным.
– Дайте обед по-английски, кусочек яблочного пирога и кофе.
Длинноволосый лакей записал заказ на манжете, глядя на нее сбоку с озабоченным видом. Это был обед адвоката без практики. Болдуин откашлялся и развернул газету…
Наверно, теперь русские бумаги немного поднимутся… Ветераны войны посетили президента. Еще один несчастный случай на Одиннадцатой авеню. Молочник тяжело изувечен…
«Ага, вот материал для славного процесса с иском за увечье!»
Огэстос Мак-Нийл, проживающий в доме № 253 по 4-ой улице, ехавший на тележке молочной фермы «Эксцельсиор и K°», сегодня утром попал под поезд, шедший по Центральному нью-йоркскому пути. Мак-Нийл тяжело изувечен…
«Надо затеять дело против железной дороги. Ей-богу, я должен поймать этого человека и заставить его подать в суд на железную дорогу…»
Еще не пришел в сознание…
«Может быть, он уже умер. Ну, тогда его жена имеет еще больше шансов выиграть процесс. Сегодня же пойду в больницу, надо опередить других ходатаев». Он решительно откусил кусочек хлеба и энергично прожевал его. «Конечно, нет, я пойду к нему на дом и узнаю, есть ли у него жена, мать или кто-нибудь в этом роде. «Простите, миссис Мак-Нийл, что я навязываюсь вам. У вас такое страшное горе, но мне необходимо узнать… Я как раз занят одним крупным процессом…» Он допил кофе и заплатил по счету.
Твердя «253, Четвертая улица», он нанял экипаж до Бродвея, потом пошел по Четвертой улице и перешел Вашингтон-сквер[54]. Деревья распростерли на фоне серо-синеватого неба хрупкие багряные ветки. Великолепные здания с широкими окнами пылали розово, беззаботно, богато. Самое подходящее место для адвоката с большой солидной практикой. Посмотрим, посмотрим… Он пересек Шестую авеню и углубился в грязную западную часть города, где пахло конюшней, а на тротуарах валялись отбросы и ползали дети. Какой ужас жить среди ирландцев и иностранцев, отбросов всего мира! У дверей дома № 253 было множество звонков без надписи. Женщина в платье из бумажной ткани, с рукавами, засученными над колбасообразными руками, высунула из окна седую голову.
– Скажите, пожалуйста, здесь живет Огэстос Мак-Нийл?
– Он лежит в больнице. Где ему еще быть?
– Без сомнения. А может быть, здесь живет кто-нибудь из его родных?
– А что вам от них надо?
– У меня к ним дело.
– Поднимитесь на верхний этаж, там найдете его жену. Но я не думаю, чтобы вам удалось ее увидеть, – бедняжка ужасно потрясена несчастьем, случившимся с ее мужем. Они только полтора года, как повенчались.
Лестница была испещрена следами грязных ног и кое-где посыпана золой. Наверху он увидел свежевыкрашенную темно-зеленую дверь и постучал.
– Кто там? – раздался женский голос.
Он вздрогнул. «Должно быть, молоденькая».
– Миссис Мак-Нийл дома?
– Да! – ответил звонкий женский голос. – В чем дело?
– Я по поводу несчастного случая с мистером Мак-Нийлом.
– «По поводу несчастного случая»?
Дверь осторожно приоткрылась. У нее был резко очерченный, молочно-белый нос, такой же подбородок и масса волнистых рыжевато-коричневых волос, которые мелкими, плоскими кудрями лежали на ее высоком, узком лбу. Серые глаза остро и подозрительно посмотрели ему прямо в лицо.
– Могу я с вами минуту поговорить о несчастном случае с мистером Мак-Нийлом? Существует целый ряд законов, и я считаю своим долгом поставить вас о них в известность… Кстати, я надеюсь, ему лучше?
– О да. Он скоро вернется домой.
– Можно войти? Это довольно долго объяснять.
– Я думаю, что можно. – Ее пухлые губки сложились в лукавую улыбку. – Я думаю, вы меня не съедите.
– Нет, честное слово, не съем. – Он нервно рассмеялся.
Она повела его в темную гостиную.
– Я не открываю ставен, чтобы вы не видели беспорядка.
– Позвольте представиться, миссис Мак-Нийл: Джордж Болдуин, восемьдесят восемь, Мэйден-лейн. Моя специальность, видите ли, – несчастные случаи вроде вашего. В двух словах: вашего мужа переехал поезд и он чуть не погиб из-за преступной халатности служащих Нью-йоркской центральной железной дороги. Вы имеете все основания возбудить дело против железной дороги. Я также думаю, что «Эксцельсиор и K°» предъявит иск за убытки, причиненные фирме несчастным случаем, то есть за потерю лошади, тележки и тому подобное.
– Вы хотите сказать, что Гэсу возместят все убытки?
– Совершенно верно.
– А как вы думаете, сколько он получит?
– Ну, это зависит от того, насколько тяжелы его увечья, от судебного решения и, может быть, от ловкости адвоката. Я думаю, десять тысяч долларов – подходящая сумма.
– А вы сейчас не берете денег?
– Гонорар адвоката редко уплачивается до того, как дело доведено до успешного конца.
– А вы настоящий адвокат? Правда? Вы выглядите слишком молодым.
Серые глаза метнули на него взгляд. Оба рассмеялись. Он почувствовал, как теплая, неизъяснимая волна пробежала по его телу.
– Я адвокат, моя специальность – несчастные случаи. Не далее как в прошлый вторник я взыскал шесть тысяч долларов в пользу одного клиента, который попал под почтовый фургон. В настоящее время, как вам, вероятно, известно, поднята усиленная кампания за упорядочение уличного движения на Одиннадцатой авеню. Момент, как мне кажется, чрезвычайно подходящий.
– Скажите, вы всегда так говорите? Или только в деловом разговоре?
Он откинул голову и рассмеялся.
– Бедный, старый Гэс, я всегда говорила, что ему везет!
Плач ребенка раздался из-за перегородки.
– Что это такое?
– Это ребенок. Малютка все время только пищит.
– Так у вас есть дети, миссис Мак-Нийл? – Это открытие несколько охладило его.
– Только один. А что?
– Ваш муж лежит в больнице скорой помощи?
– Да, и я думаю, что вам позволят повидаться с ним, если вы по делу. Он ужасно стонет.
– Если бы я мог достать несколько свидетелей…
– Майк Дойни, полисмен, все видел. Он приятель Гэса.
– Ей-богу, это верное дело! Мы им покажем. Я пойду прямо в больницу.
Новый взрыв плача раздался из соседней комнаты.
– Ах ты, дрянь, – прошептала она, скривив лицо. – Деньги нам очень пригодились бы, мистер Болдуин.
– Ну, мне пора. – Он взял шляпу. – Я, конечно, сделаю все возможное. Можно заходить к вам время от времени и докладывать о ходе дела?
– Надеюсь, вы придете.
Когда они прощались, стоя у дверей, он не мог сразу отпустить ее руку. Она покраснела.
– Ну, до свиданья и большое спасибо за то, что вы зашли, – сказала она.
Чувствуя головокружение и спотыкаясь, Болдуин спустился по лестнице. Кровь стучала ему в виски. «Самая красивая девочка, какую я когда-либо видел». На улице шел снег. Снежные хлопья робко ласкали его пылавшие щеки.
Небо над парком[55] было усеяно маленькими облачками, точно лужайка белыми цыплятами.
– Алиса, пойдем по этой тропинке.
– Нет, Эллен, папа приказал мне идти из школы прямо домой.
– Трусиха!
– Эллен, ты ведь знаешь, как воруют детей.
– Я же тебя просила не называть меня Эллен.
– Ну хорошо, Элайн.
На Эллен было новое черное шотландское платьице. Алиса носила очки; ноги у нее были тонкие, как шпильки.
– Трусиха!
– Вот видишь, какие страшные люди сидят на скамейке. Идем, Элайн, красотка, идем домой!
– А я не боюсь. Я умею летать, как Питер Пен в сказке.
– Что же ты не летаешь?
– Сейчас не хочется.
Алиса начала хныкать:
– Эллен, какая ты скверная! Ну идем же домой, Элайн.
– Нет, я пойду гулять в парк.
Эллен спустилась с лестницы. Алиса несколько секунд стояла на верхней площадке, балансируя то на одной, то на другой ноге.
– Трусиха, трусиха, трусиха! – закричала Эллен.
Алиса убежала плача:
– Я скажу твоей маме.
Эллен шла по асфальтовой дорожке между кустами, высоко вскидывая ноги.
В новом шотландском платьице, купленном мамой в магазине Херна, Эллен шла по асфальтовой дорожке, высоко вскидывая ноги. Серебряная брошка сверкала на плече нового черного шотландского платьица, купленного мамой в магазине Херна. Элайн из Ламмермура шла к венцу[56]. Невеста. Там-там-там, там-там-там – гудят волынки по полям! У человека на скамье пятно под глазом. Подстерегающее, черное пятно. Черное, подстерегающее пятно. Черный шотландец, похититель детей. Среди шелестящих кустов похитители детей – на черной страже. Эллен уже не вскидывает ноги. Эллен ужасно боится черного шотландца, похитителя детей, огромного, скверно пахнущего шотландца с черным пятном под глазом. Она боится бежать. Ее отяжелевшие ноги шаркают по асфальту – она пытается бежать по дорожке. Она боится повернуть голову. Черный шотландец, похититель детей, в двух шагах за ней. «Когда я добегу до фонаря, я догоню няньку с ребенком, когда я догоню няньку с ребенком, я добегу до большого дерева, когда я добегу до большого дерева… Ох, как я устала… Я пробегу по Центральному западному парку и прямо по улице домой». Она боялась свернуть. Она бежала, и у нее кололо в боку. Она бежала до тех пор, пока во рту у нее не стало горько.
– Куда ты бежишь, Элли? – спросила Глория Дрэйтон; она прыгала через скакалку на опушке парка.
– Так мне хочется! – задыхаясь, сказала Эллен.
Винная вечерняя заря окрашивала тюлевые занавески и просачивалась в голубой мрак комнаты. Они стояли у стола. Звездные нарциссы в горшке, еще завернутом в папиросную бумагу, блестели фосфорическим блеском и издавали влажный запах земли, смешанный с острым, бесстыдным ароматом.
– Вы очень любезны, мистер Болдуин. Я завтра снесу цветы Гэсу в больницу.
– Ради Бога, не называйте меня так.
– Но мне не нравится имя Джордж.
– А мне нравится ваше имя, Нелли.
Он стоял, глядя на нее. Тяжелый аромат струился с ее рук. Его руки болтались, как пустые перчатки. Ее глаза почернели, зрачки расширились, припухшие губы тянулись к нему из-за цветов. Она подняла руки, чтобы закрыть лицо. Он обнял ее худенькие плечи.
– Право, Джордж, мы должны быть осторожны. Вы не должны приходить сюда так часто. Я не хочу, чтобы все старые сплетницы в доме начали болтать.
– Не беспокойтесь… Не надо ни о чем беспокоиться.
– Всю прошлую неделю я вела себя как сумасшедшая. С этим надо покончить.
– А я разве вел себя как нормальный человек? Клянусь Богом, Нелли, я никогда ничего подобного не делал раньше. Я не из той породы.
Она улыбнулась, обнажив ровные зубы.
– От мужчин всего можно ожидать.
– Если бы это не было особенным, исключительным чувством, то я бы не бегал так за вами. Я никогда не любил никого, кроме вас, Нелли.
– Ну уж и никого!
– Правда, я никогда этим не интересовался. Я слишком усердно занимался в университете. У меня не было времени для ухаживанья.
– Теперь стараетесь наверстать потерянное?
– О Нелли, не говорите так!
– Честное слово, Джордж, я решила положить этому конец. Что мы будем делать, когда Гэс выйдет из больницы? Я совершенно забросила ребенка.
– Не все ли равно, что случится, Нелли?
Он повернул ее лицо к себе. Они прильнули друг к другу, шатаясь, губы их слились в диком поцелуе.
– Посмотрите – мы чуть не опрокинули лампу.
– Вы прекрасны, Нелли.
Ее голова упала к нему на грудь. Он чувствовал острый запах ее спутанных волос. Было темно. Зеленые змейки света от уличных фонарей извивались вокруг них. Ее глаза смотрели в его глаза – страшные, торжественные, черные.
– Нелли, пойдем в ту комнату, – прошептал он тонким, дрожащим голосом.
– Там бэби.
Они смотрели друг на друга. Руки их были холодны.
– Идите сюда, помогите мне. Я перенесу колыбель сюда… Осторожно, не разбудите ее, иначе она завопит во всю глотку. – Ее голос звучал хрипло.
Ребенок спал. Его маленькое красное личико было спокойно. Крошечные, розовые сжатые кулачки лежали на одеяльце.
– Она выглядит счастливой, – сказал он с насильственным хихиканьем.
– Потише вы! Вот что, снимите ботинки… Джордж, я никогда бы этого не сделала, но это сильнее меня.
Он нашел ее впотьмах.
– Дорогая… – Он неуклюже навалился на нее, прерывисто и тяжело задышал.
– Врешь, Хромой!..
– Честное слово, не вру, клянусь могилой матери! Тридцать семь градусов широты, двенадцать долготы… Вы бы посмотрели! Мы добрались до острова в шлюпке, когда «Эллиот П. Симкинс» пошел ко дну. Нас было четверо мужчин и семь женщин и детей. Да ведь я сам все рассказал репортерам. Потом это было во всех воскресных газетах.
– А скажи-ка, Хромой, каким же образом тебя оттуда вытащили?
– На носилках – лопни мои глаза, если я вру! Сукин сын буду, если я не тонул самым настоящим образом, точь-в-точь как старая лоханка «Симкинс».
Головы на толстых шеях откидываются назад, громыхает смех, стаканы стучат о круглый стол, ладони хлопают по ляжкам, локти въезжают в ребра.
– А сколько человек команды было на судне?
– Семеро, считая мистера Доркинса, второго офицера.
– Четыре и семь – это одиннадцать… Черт побери, по четыре и три одиннадцатых бабы на парня!.. Славный островок!
– Когда отходит следующий паром?
– Брось! Выпей лучше еще стаканчик. Эй, Чарли, налей!
Эмиль дернул Конго за рукав.
– Выйдем на минутку. J’ai que’quechose à te dire.[57]
Глаза у Конго были влажны, он слегка спотыкался, следуя за Эмилем.
– Oh, le p’tit mysterieux![58]
– Слушай, я иду в гости к одной даме.
– А, вот в чем дело. Я всегда говорил, что ты ловкий парень, Эмиль.
– Вот я тебе записал мой адрес на случай, если ты забудешь его: «Девятьсот сорок пять, Двадцать вторая улица». Можешь ночевать там, но только не приводи с собой женщин и вообще… Я в хороших отношениях с хозяйкой и не хочу портить их. Tu comprends?[59]
– А я хотел, чтобы ты пошел со мной на вечеринку. Faut fire un peu la noce, nom de Dieu![60]
– Мне утром надо работать.
– Брось! У меня в кармане жалованье за восемь месяцев.
– Нет, приходи завтра в шесть утра. Буду ждать.
– Tu m’emmerdes, tu sais, avec tes manières![61]
Конго сплюнул в плевательницу, стоявшую в углу под стойкой и нахмурившись отошел в глубь комнаты.
– Эй, Конго, садись! Барней нам сейчас споет.
Эмиль вскочил в трамвай и поехал в город. На Восемнадцатой улице он слез и зашагал по направлению к Восьмой авеню. Вторая дверь от угла – маленькая лавочка. Над одним из окон висела надпись «Кондитерская», над другим – «Гастрономия». Посредине, на стеклянной двери, была надпись эмалированными буквами: «Эмиль Риго, первоклассные деликатесы». Эмиль вошел. Задребезжал дверной колокольчик. Полная смуглая женщина с черными усиками на верхней губе дремала за кассой. Эмиль снял шляпу.
– Bonsoir, madame Rigaud![62]
Она вздрогнула, посмотрела на него, и на ее широко улыбающемся лице образовались две ямочки.
– Tieng, c’est comma ça qu’ong oublie ses ami-es![63] – сказала она громко, с сильным южно-французским акцентом. – Уже неделя, как месье Люстек не посещает своих друзей.
– У меня не было времени.
– Много работы – много денег, а? – Когда она смеялась, ее плечи и большие груди колыхались под тесной синей кофтой.
Эмиль прищурил глаз.
– Могло быть хуже. Но мне надоело быть лакеем… Это утомительно, никто и смотреть не хочет на лакея.
– Вы тщеславный человек, месье Люстек.
– Que voulez vous?[64] – Он покраснел и добавил застенчиво: – Меня зовут Эмиль.
Мадам Риго закатила глаза.
– Так звали моего покойного мужа. Я привыкла к этому имени. – Она тяжело вздохнула.
– Ну а как идет дело?
– Comma ci, comma ça…[65] Ветчина опять вздорожала.
– Это чикагские дельцы вздувают цены… Спекульнуть на свинине – вот где можно заработать.
Эмиль заметил, что черные глаза мадам Риго глядят на него испытующе.
– Я так наслаждался вашим пением последний раз. Я часто о вас вспоминал. Музыка всегда хорошо действует, не правда ли?
Ямочки мадам Риго все больше расширялись.
– У моего бедного мужа не было слуха. Это меня очень огорчало.
– Не споете ли вы мне что-нибудь сегодня?
– Если вы хотите, Эмиль… Но кто будет заниматься с покупателями?
– Я выйду в магазин, если услышу звонок. Вы разрешите?
– Хорошо. Я выучила новую американскую песенку. C’est chic, vous savez.[66]
Мадам Риго заперла кассу ключом, висевшим у нее на поясе, и прошла в комнату за лавкой. Эмиль последовал за ней со шляпой в руках.
– Дайте мне вашу шляпу, Эмиль.
– О, не беспокойтесь, пожалуйста.
Задняя комната представляла собой маленькую гостиную с желтыми обоями в цветах и старыми красными портьерами. Под хрустальным газовым рожком стояло пианино, уставленное фотографическими карточками. Табурет перед пианино затрещал, когда мадам Риго села на него. Она пробежала пальцами по клавишам.
Эмиль сидел на самом краешке стула около пианино, держа шляпу на коленях и вытягивая лицо так, чтобы мадам Риго, играя, могла видеть его. Мадам Риго запела:
Прелестная резвая птичка
В клетке сидит золотой,
Поет и порхает,
И никто не знает,
Как пленнице тяжко порой.
В лавке громко зазвенел колокольчик.
– Permettez![67] – крикнул Эмиль, выбегая.
– Полфунта болонской колбасы. Нарежьте, – сказала маленькая девочка с крысиным хвостиком.
Эмиль провел ножом по ладони и старательно нарезал колбасу. Он на цыпочках вернулся в гостиную и положил деньги на край пианино. Мадам Риго продолжала петь:
Несладко бедняжке живется,
Она раньше пела в лесу,
Но старик богатый
Купил за злато
Ее молодую красу.
Бэд стоял на углу Вест-Бродвей и Франклин-стрит. Он грыз фисташки. Был полдень, и у него не было больше денег. Над его головой грохотала воздушная железная дорога. Пылинки танцевали перед глазами в изрешеченном солнечном свете. Обдумывая, в какую сторону пойти, он в третий раз произносил названия улиц. Черная, блестящая коляска, запряженная двумя черными лошадьми с блестящими крупами, обогнула угол прямо перед ним, грохоча по мостовой красными блестящими колесами. Подле кучера лежал желтый кожаный чемодан. В коляске мужчина в коричневом котелке громко разговаривал с женщиной в сером боа и с серыми страусовыми перьями на шляпе. Мужчина выстрелил себе в рот из револьвера. Лошади рванули и врезались в сбежавшуюся толпу. Полисмены локтями пробивали себе дорогу. Они вынесли на мостовую мужчину, плевавшего кровью: голова его свесилась на клетчатый жилет. Женщина стояла подле него, высокая и бледная, дергая боа; серые перья на ее шляпе кивали в полосатых лучах солнца.
– Его жена хотела увезти его в Европу… «Дойчланд» уходит в двенадцать… Я хотела проститься с ним навсегда… Он должен был уехать на «Дойчланд» в двенадцать… Он хотел проститься со мной навсегда…
– Прочь с дороги!
Фараон толкнул Бэда локтем в живот. Его колени тряслись. Он вышел из толпы и, дрожа, зашагал прочь. Машинально он очистил орех и положил его себе в рот. Остальные лучше сохранить до вечера. Он свернул кепи и сунул его в карман.
Под дуговым фонарем, плававшим в розовых и лиловых с зелеными краями пятнах, человек в клетчатом костюме встретил двух девушек. У той, что ближе, было овальное лицо с полными губами; глаза ее были как удар ножа. Он прошел несколько шагов, потом повернул и пошел за ними, ощупывая свой новый шелковый галстук. Он удостоверился – булавка с бриллиантовой подковкой была на месте. Он перегнал их. Она отвернула лицо. Может быть, она… Нет, он бы не сказал… Хорошо, что пятьдесят долларов при нем. Он сел на скамейку и пропустил их вперед. Еще ошибешься и попадешь в участок. Они не заметили его. Он пошел за ними по аллее и вышел из парка. Его сердце колотилось. «Я дал бы миллион долларов за… Простите, вы не мисс Андерсон?» Девушки пошли быстрее. На площади Колумба он потерял их в толпе. Он помчался по Бродвею, квартал за кварталом. Полные губы, глаза, как удар ножа. Он смотрел направо и налево в девичьи лица. Куда она провалилась? Он помчался дальше по Бродвею.
Эллен сидела рядом с отцом на Бэттери[68]. Она глядела на свои новые коричневые ботинки с пуговками. Она качала ногами, и, когда ноги выходили из теневого круга платья, на носках ботинок и на каждой круглой пуговке дрожал солнечный блик.
– Подумай, как хорошо было бы, – говорил Эд Тэтчер, – поехать за границу на океанском пароходе. Вообрази только – пересечь великий Атлантический океан в семь дней!
– Папочка, а чем все это время занимаются пассажиры на пароходе?
– Не знаю. Наверно, гуляют по палубе, играют в карты, читают и тому подобное. Потом танцуют.
– Танцуют? На корабле? Я думаю, это ужасно весело. – Эллен хихикнула.
– На современных пароходах все можно делать.
– Папа, почему мы не едем?
– Может быть, когда-нибудь поедем, если я накоплю денег.
– Папочка, поторопись! Накопи побольше денег. Мать и отец Алисы каждое лето ездят на Белые Горы, а будущим летом поедут за границу.
Эд Тэтчер смотрел на залив. Синим, сверкающим полем залив уходил в коричневую дымку канала Нэрроуз. Статуя Свободы[69] стояла, зыбкая, как лунатик, в клубящемся дыме, среди буксиров, стройных шхун и неповоротливых, неуклюжих барок, груженных кирпичом и песком. Тут и там яркие солнечные блики играли на белых парусах и пароходных трубах. Красные паромы сновали взад и вперед.
– Папочка, почему мы не богаты?
– Очень многие еще беднее нас, Элли. Разве ты любила бы своего папочку больше, если бы мы были богаты?
– О да, папочка!
Тэтчер рассмеялся.
– Может быть, когда-нибудь это случится… Как тебе нравится фирма: «Эдуард Тэтчер и компания, присяжные счетоводы»?
Эллен вскочила.
– Посмотри-ка на этот огромный пароход! Вот на нем я хотела бы поехать.
– Это «Арабик», – произнес чей-то скрипучий голос около них.
– Да? – сказал Тэтчер.
– Да, сэр, лучший пароход в мире, – охотно пояснил обтрепанный человек, сидевший на скамейке рядом с ними.
Кепка со сломанным лакированным козырьком была надвинута на его маленькое, острое лицо. От него пахло виски.
– Да, сэр, это «Арабик».
– Хорошо выглядит.
– Один из самых больших пароходов, сэр. Я плавал на многих: и на «Мэджестик» и на «Тьютоник», сэр. Я тридцать лет служил официантом, а теперь, на старости лет, меня выкинули.
– У всех бывают тяжелые дни.
– Я был бы счастливым человеком, если бы мог вернуться на родину. Тут не место для старого человека. Тут могут жить только молодые и сильные. – Он протянул скрюченную подагрой руку по направлению к заливу и указал на статую. – Поглядите на нее – она смотрит в сторону Англии.
– Папочка, уйдем отсюда, мне не нравится этот человек, – прошептала Эллен дрожащим голосом.
– Ладно, пройдемся, посмотрим на морских львов. Будьте здоровы!
– Не дадите ли вы мне на чашку кофе? Я изголодался. Тэтчер сунул монету в грязную, узловатую руку.
– Но, папочка!.. Мама говорила, что никогда не нужно позволять кому-нибудь заговаривать с тобой на улице. Надо позвать полисмена, если к тебе будут приставать, и потом убежать как можно быстрее от этих ужасных похитителей детей.
– Я не боюсь похитителей детей, Элли. Они страшны только маленьким девочкам.
– Когда я вырасту большая, мне можно будет разговаривать с людьми на улицах?
– Нет, дорогая, конечно нет.
– А если бы я была мальчиком, то можно было бы?
– Я думаю, да.
Они остановились на минутку, чтобы еще раз посмотреть на залив. Океанский пароход, влекомый буксиром, который окутывал его нос белым дымом, возвышался прямо перед ними над паромами и баржами. Чайки кружились и кричали. Солнце лило кремовые лучи на верхние палубы и на большую, желтую, с черной крышкой, трубу. Гирлянда флажков весело плясала на аспидном небе.
– Много народу приезжает из-за границы на этих пароходах? А, папочка?
– Посмотри сама… Видишь – палубы так и кишат людьми.
Бродя по Пятьдесят третьей улице, Бэд Корпнинг очутился перед кучей угля, лежавшей на тротуаре. По другую сторону этой кучи стояла седовласая женщина с кружевными воланами на блузе, с большой розовой камеей на высокой груди. Она смотрела на его небритый подбородок и на кисти рук, выглядывавшие из рваных рукавов. Потом он услышал свой голос:
– Не снести ли вам уголь, сударыня? – Бэд переступил с ноги на ногу.
– Об этом я как раз и думаю, – сказала женщина надтреснутым голосом. – Этот несчастный угольщик принес утром уголь и сказал, что вернется перенести его. Вероятно, напился. Я не знаю только, можно ли пустить вас в дом.
– Я с севера, – пролепетал Бэд.
– Откуда?
– Из Куперстоуна[70].
– Хм… А я из Буффало[71]. Возможно, что вы громила, но ничего не поделаешь – надо внести уголь. Идемте, я вам дам лопатку и корзину, и если вы не растеряете уголь по дороге и на кухне, я дам вам доллар. На кухне только что мыли пол. Это всегда так, уголь приносят, когда моют пол.
Когда он внес первую корзину, она возилась на кухне; у него кружилась голова от голода, но он был счастлив, что работает, а не бродит бесцельно по тротуарам, с улицы на улицу, увертываясь от фургонов, колясок и трамваев.
– Почему у вас нет постоянной работы, голубчик? – спросила она, когда он вернулся с пустой корзинкой, едва переводя дыхание.
– Я думаю, что еще не приспособился к городским нравам. Я родился и вырос на ферме.
– А чего ради вы приехали в этот ужасный город?
– Не мог больше жить на ферме.
– Это ужасно! Что станет со страной, если все сильные молодые люди покинут землю и уйдут в город?
– Я думал, что найду работу в доках, но там никого не берут. Пожалуй, я бы и матросом мог быть, да никто не хочет брать неопытного. Я не ел уже два дня.
– Ужасно! Ах вы, несчастный… Почему же вы не пошли в какую-нибудь миссию или куда-нибудь в этом роде?
Когда Бэд принес последнюю корзину, он нашел на кухонном столе тарелку с холодным мясом, полкаравая черствого хлеба и стакан скисшего молока. Он ел быстро, едва прожевывая пищу, и остаток хлеба спрятал в карман.
– Как вам понравился завтрак?
– Благодарю вас, сударыня. – Он кивнул головой.
– Отлично, теперь вы можете идти. Благодарю вас.
Она сунула ему в руку четвертак. Бэд удивленно взглянул на монету, лежавшую на его ладони.
– Но, сударыня, вы сказали, что дадите мне доллар.
– Я никогда не говорила ничего подобного. Что за чушь! Если вы сейчас же не уйдете, то я позову моего мужа, а то еще обращусь в полицию.
Бэд молча положил монету в карман и вышел, едва волоча ноги.
– Какая неблагодарность! – брюзжала женщина, пока он закрывал за собой дверь.
Судорога сводила его желудок. Он снова повернул на восток и шел вдоль реки, крепко прижимая кулаки к ребрам. Ему все время казалось, что он упадет. «Беда, если я потеряю сознание». Он дошел до конца улицы и лег на серый щебень около верфи. Из близлежащей пивоварни вязко и сладко тянуло хмелем. Заходящее солнце пылало в окнах фабрик Лонг-Айленда, вспыхивало в иллюминаторах буксиров, сверкало желтыми и оранжевыми курчавыми пятнами на коричнево-зеленой воде, горело на изогнутых парусах медленно плывущей вверх по течению шхуны. Боль внутри утихла. Что-то пламенное и знойное, как солнечный закат, просачивалось в его тело. Он сел. «Слава Богу, я не потерял сознание».
На рассвете на палубе сыро и холодно. Троньте рукой перила – на них влага. Коричневая вода гавани пахнет умывальником и мягко бьется в борта парохода. Матросы отдраивают люки. Грохот цепей, стук паровой лебедки. Высокий человек в синем халате стоит у рычага, среди облаков пара, который хлещет по его лицу, как мокрым полотенцем.
– Мамочка, сегодня в самом деле четвертое июля?
Рука матери крепко сжимает его руку и ведет по трапу вниз, в салон-ресторан. Стюарды собирают багаж у лестницы.
– Мамочка, сегодня в самом деле четвертое июля?
– Да, кажется, дорогой мой. Это ужасно – приезжать в праздник, но я думаю, что нас все-таки будут встречать.
На ней синее саржевое платье, длинная коричневая вуаль, и вокруг шеи – маленький темный зверек с красными глазами и настоящими зубами. От платья пахнет нафталином, распакованными чемоданами, шкафами, устланными папиросной бумагой. В салоне жарко. За перегородкой уютно сопят машины. Он клюет носом над горячим молоком, чуть подкрашенным кофе. Три звонка. Он вскидывает голову. Тарелки звенят и кофе расплескивается от содроганий парохода. Потом толчок, лязг якорных цепей и постепенно тишина. Мать поднимается и выглядывает в иллюминатор.
– Будет прекрасный день, солнце прогонит туман. Подумай, дорогой, наконец-то мы дома! Здесь ты родился, мой мальчик.
– Сегодня четвертое июля.
– Это как раз очень плохо… Джимми, посиди на палубе и будь умницей. Маме нужно укладываться. Обещай мне не шалить.
– Обещаю.
Он спотыкается о медную обшивку порога и выскакивает на палубу, потирая голые колени. Он успел увидеть, как солнце прорвалось сквозь шоколадные облака и пролило огненный поток в мутную воду. Билли с веснушчатыми ушами (его родители сторонники Рузвельта, а не Паркера, как мамочка) машет желто-белому буксиру шелковым флагом величиной с носовой платок.
– Ты видел восход солнца? – спрашивает он таким тоном, словно солнце принадлежит ему.
– Я еще из иллюминатора видел, – говорит Джимми и отходит, задерживаясь взглядом на флаге.
С другого борта земля совсем близко; ближе всего зеленая скамейка с деревьями, а подальше – белые дома с серыми крышами.
– Ну-с, молодой человек, как вы чувствуете себя дома? – спрашивает господин с длинными усами.
– Там Нью-Йорк? – Джимми протягивает руку над спокойной, яркой водой.
– Да, мой мальчик, вон там, за туманом, – Манхэттен.
– А что это такое, сэр?
– Это Нью-Йорк. Нью-Йорк расположен на острове Манхэттен.
– Неужели на острове?
– Вот так мальчик! Он не знает, что его родной город расположен на острове.
Золотые зубы длинноусого господина сверкают, когда он смеется, широко открывая рот. Джимми расхаживает по палубе, щелкая каблуками; внутри него все бурлит. Нью-Йорк расположен на острове!
– Вы, кажется, очень рады, что приехали домой, милый мальчик? – спрашивает дама.
– О да, мне хочется упасть и целовать землю.
– Какое прекрасное, патриотическое чувство! Я так рада слышать это.
Джимми весь горит. «Целовать землю, целовать землю!» – звенит у него в голове. Кругами по палубе…
– Вот то, с желтым флагом, – карантинное судно. – Толстый еврей с перстнями на пальцах разговаривает с длинноусым господином. – Мы опять двигаемся… Быстро, правда?
– Будем как раз к завтраку, к американскому завтраку, к славному домашнему завтраку.
Мама идет по палубе. Ее коричневая вуаль развевается.
– Вот твое пальто, Джимми, понеси его.
– Мамочка, можно мне взять флаг?
– Какой флаг?
– Шелковый американский флаг.
– Нет, дорогой. Все убрано.
– Ну пожалуйста, мне так хочется взять флаг. Ведь сегодня четвертое июля. И вообще все…
– Не приставай, Джимми. Мама говорит «нет» – значит нет.
Колючие слезы. Он глотает их и смотрит матери прямо в глаза.
– Джимми, флаг запакован и мама очень устала – она достаточно возилась с чемоданами.
– У Билли Джойса есть флаг.
– Смотри, дорогой, ты все прозеваешь. Вот Статуя Свободы.
Высокая зеленая женщина в длинной рубашке стоит на острове, подняв руку.
– Что у нее в руке?
– Факел, дорогой мой. Свобода светит миру… А с другой стороны – Говернор-айленд, там, где деревья. А вон там – Бруклинский мост… Чудный вид! А это – доки. А это – Бэттери… И мачты кораблей, и шпиль Троицы[72], и Пулитцер-билдинг[73]…
Вопли пароходных гудков, свистки, красные пестрые паромы, ныряя как утки, пенят воду. Буксир содрогаясь тащит баржу с целым составом вагонов и выпускает похожие на вату клубы дыма, все одинаковой величины. Руки у Джимми холодные, и он все время внутренне содрогается.
– Дорогой, не надо так волноваться. Сойдем вниз и посмотрим, не забыла ли мамочка чего-нибудь.
Вода усеяна щепками, ящиками, апельсинными корками, капустными листьями, все уже и уже полоса между пароходом и пристанью. Оркестр сверкает на солнце, белые шапки, потные красные лица, играют «Янки Дудль».
– Это встречают посла, знаешь – того высокого господина, который никогда не выходил из своей каюты.
Вниз по пологим сходням, стараясь не бежать. «Yankee Doodle went to town…»[74] Блестящие черные лица, белые эмалевые глаза, белые эмалевые зубы.
– Да, мадам, да, мадам…
«Stuck a feather in his hat, and called it macaroni…»[75]
– У нас есть пропуск.
Синий таможенный чиновник обнажает лысую голову, низко кланяясь… Трам-там, бум-бум, бум-бум-бум… «Cakes and sugar candy…»[76]
– А вот и тетя Эмили и все… Дорогие, как хорошо, что вы пришли!
– Дорогая, я тут уже с шести часов!
– Боже мой, как он вырос!
Светлые платья, искрящиеся брошки, лица и поцелуи, запах роз и дядиной сигары.
– Он настоящий маленький мужчина! Пойдите-ка сюда, сэр! Дайте взглянуть на вас!
– Ну, прощайте, миссис Херф. Если вы когда-нибудь будете в наших краях… Джимми, я не вижу, чтоб вы целовали землю.
– Ах, он ужасен! Такой старомодный ребенок…
Кэб пахнет плесенью, он грохочет, трясется по широкой авеню, вздымая облака пыли, по улицам, мощенным кубиками, пропитанными кислым запахом, полным злых, гогочущих детей. А чемоданы все время скрипят и подпрыгивают на крыше кэба.
– Мамочка, дорогая, а вдруг крыша провалится?
– Нет, голубчик! – смеется она, склоняя голову набок; она разрумянилась, и глаза ее сияют из-под коричневой вуали.
– Ах, мамочка! – Он привстал и целует ее в подбородок. – Сколько народу, мамочка!
– Это по случаю четвертого июля.
– А что делает тот человек?
– Кажется, пьет.
На маленьком возвышении, задрапированном флагами, человек с белыми бакенбардами и красной повязкой на рукаве говорит речь.
– А это оратор. Он читает Декларацию независимости.
– Почему?
– Потому что сегодня четвертое июля.
Бух… Хлопушка.
– Противный мальчишка! Мог испугать лошадь… Четвертое июля – это день независимости, провозглашенной в 1776 году во время войны и революции. Мой прадедушка Харлэнд был убит на этой войне.
Маленький смешной поезд с зеленым паровозом громыхает над их головами.
– Это воздушная железная дорога, а это – Двадцать третья улица. А вот и Утюг[77].
Экипаж круто сворачивает на сверкающую солнцем, пахнущую асфальтом и толпой площадь, и останавливается перед большой дверью. Чернолицые люди с бронзовыми пуговицами выбегают навстречу.
– Ну, вот мы и приехали в отель на Пятой авеню[78].
Мороженое у дяди Джеффа, холодный, сладкий налет оседает на нёбе. Смешно – когда сходишь с парохода, еще долго кажется, будто тебя везут. Синие глыбы сумерек падают на прямоугольные улицы. Ракеты взвиваются, вспарывая синий мрак, цветные огненные шары, бенгальские огни, дядя Джефф прикрепляет римские колеса[79] к дереву около входа и зажигает их своей сигарой. Римские свечи надо крепко держать.
– Будь осторожен, мальчик, не обожги лица!
В руках жар, гром и дребезг, овальные шары крутятся, красные, желтые, зеленые, пахнет порохом и паленой бумагой. На шумной, раскаленной улице звенит колокол, – звенит все ближе, звенит все громче. Подхлестываемые лошади выбивают искры подковами, пожарная машина гремит за углом – красная, дымящаяся, медная.
– Должно быть, на Бродвей.
Дальше выдвижная лестница и рысаки брандмайора. Дальше позвякивает карета скорой помощи.
– Кто-нибудь обгорел.
Ящик пуст, пыль и опилки забиваются под ногти, когда шаришь в нем рукой. Он пуст – нет, в нем есть еще несколько маленьких деревянных пожарных машин на колесах. Настоящие пожарные машины.
– Заведем их, дядя Джефф. Какие они чудные, дядя Джефф!
В них заложены пистоны, они жужжа катятся по гладкому асфальту, а за ними вьются хвосты огня и клубится дым, как у настоящих пожарных машин.
Он лежит на кровати в большой, незнакомой, неуютной комнате. Глаза горят, ноги ноют.
– Больно, дорогой, – сказала мама, укладывая его, склоняясь над ним в блестящем шелковом платье с широкими рукавами.
– Мама, что это у тебя за черная штучка на лице?
– Это? – Она рассмеялась, и ее колье тихонько зазвенело. – Это чтобы мама была красивее.
Он лежал среди высоких, настороженных комодов и шкафов. С улицы доносились крики и шум колес, изредка звуки далекой музыки. Ноги его болели, точно отваливались, и когда он закрывал глаза, то мчался сквозь пылающую темноту на красной пожарной машине, изрыгающей огонь, искры и разноцветные шары.
Июльское солнце проникало сквозь щели старых ставен в контору. Гэс Мак-Нийл сидел в соломенном кресле с костылями между колен. У него было белое, опухшее после больницы лицо. Нелли, в соломенной шляпке с красными маками, раскачивалась на вертящемся стуле у стола.
– Сядь лучше около меня, Нелли. Адвокату может не понравиться, что ты сидишь за его столом.
Она сморщила нос и встала.
– Гэс, ты напуган до смерти.
– Ты тоже была бы напугана, если бы попала, как я, в лапы к железнодорожному доктору. Он выстукивал и выслушивал меня как арестанта, а потом еще этот адвокат сказал, что я на сто процентов нетрудоспособен. По-моему, он врет.
– Гэс, делай то, что я тебе говорю. Держи язык за зубами, пусть другие болтают.
– Ладно, я не пикну.
Нелли встала рядом с ним и погладила его курчавые, спутанные волосы, падавшие на лоб.
– Как хорошо снова быть дома, Нелли! Опять ты будешь стряпать… и вообще… – Он обнял ее за талию и притянул к себе.
– А может, я больше не хочу стряпать?
– Ну не знаю… Что мы будем делать, если не получим этих денег?
– Папа поможет нам, как помогал до сих пор.
– Бог даст, я не останусь калекой на всю жизнь.
Джордж Болдуин вошел, хлопнув стеклянной дверью. Засунув руки в карманы, он остановился и поглядел на мужа и жену. Затем, спокойно улыбнувшись, сказал:
– Ну, господа, все улажено. Как только будет подписан отказ от дальнейших претензий, юрисконсульт железной дороги вручит мне чек на двенадцать с половиной тысяч долларов. Это сумма, на которой мы сошлись.
– Двенадцать тысяч, черт возьми! – задохнулся Гэс. – Двенадцать с половиной тысяч… Подождите минутку! Вот вам мои костыли, я пойду – пусть меня переедут еще раз. Расскажу эту штуку Мак-Джилликэди. Увидите – старый негодяй сейчас же бросится под товарный поезд. Мистер Болдуин… сэр… – Гэс приподнялся. – Вы великий человек. Правда, Нелли?
– Правда.
Болдуин старался не смотреть ей в глаза. Он нервничал, его знобило, ноги его ослабели и дрожали.
– Теперь вот что, – сказал Гэс, – возьмем кэб, поедем к Мак-Джилликэди и промочим горло в отдельном кабинете. Я плачу. Мне нужно подкрепиться. Едем, Нелли!
– Мне бы очень хотелось, – сказал Болдуин, – но боюсь, что я не смогу. Я все эти дни очень занят… Только подпишите, пожалуйста, перед уходом вот эту бумажку, и я завтра получу для вас чек. Распишитесь здесь… и здесь.
Мак-Нийл подковылял к столу и нагнулся над бумагами. Болдуин чувствовал, что Нелли пытается подать ему знак. Он сделал вид, что ничего не видит. После их ухода он заметил на краю стола ее кошелек – маленький кожаный кошелек с выжженными на нем цветочками. В стеклянную дверь постучали. Он открыл.
– Почему ты не хотел смотреть на меня? – сказала она, задыхаясь.
– Я не мог при нем.
Он протянул ей кошелек. Она обвила руками его шею и крепко поцеловала его в губы.
– Что мы будем делать? Прийти мне сегодня? Теперь Гэс опять будет напиваться до бесчувствия.
– Нет, не могу, Нелли… Дела, дела… Я ужасно занят.
– Ах ты занят?… Ну как хочешь.
Она хлопнула дверью.
Болдуин сидел за столом и кусал костяшки пальцев, уставившись невидящим взглядом в бумаги.
– С этим надо покончить, – сказал он вслух и встал.
Он ходил взад и вперед по узкой комнате, глядя на полки, заставленные юридическими книгами, на календарь, на телефон, на пыльные квадраты солнечного света у окна. Он посмотрел на часы: пора завтракать. Он провел ладонью по лбу и подошел к телефону.
– Сорок пять – девяносто два… Мистер Сэндборн? Что вы скажете, Фил, если я зайду за вами и мы вместе позавтракаем? Вы свободны?… Конечно… Знаете, Фил, я выиграл дело молочника. Доволен, как черт. По сему поводу угощаю вас завтраком. Пока…
Он, улыбаясь, отошел от телефона, взял шляпу, аккуратно надел’ ее перед зеркалом и поспешно спустился вниз. На нижней площадке он встретил мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери», помещавшейся в первом этаже.
– Ну, как дела, мистер Болдуин? – У мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери» были седые волосы, седые брови, лошадиные челюсти и плоское лицо.
– Прекрасно, прекрасно, сэр!
– Говорят, вы делаете хорошие дела… Я что-то слышал про Нью-йоркскую центральную железную дорогу…
– О, я столковался с Симзбери помимо суда.
– Хм, – сказал мистер Эмери из фирмы «Эмери и Эмери».
Они уже прощались, когда мистер Эмери вдруг сказал:
– Заходите к нам как-нибудь пообедать.
– С удовольствием.
– Я люблю поболтать с младшими коллегами… Я черкну вам накануне несколько слов… Как-нибудь вечерком на той неделе. Посидим, поболтаем.
Болдуин пожал испещренную синими жилками руку и пошел по Мэйден-лейн, бойко расталкивая толпу. На Пэрл-стрит он взобрался наверх по крутым ступенькам черной лестницы, на которой пахло пережаренным кофе, и постучал в матовую стеклянную дверь.
– Войдите! – раздался низкий бас.
Смуглый человек без пиджака вышел ему навстречу.
– Хелло, Джордж! Я думал, что вы никогда не придете. Я адски голоден.
– Фил, я угощу вас лучшим завтраком, который вы когда-либо ели.
– Ну, я только этого и жду.
Фил Сэндборн надел пиджак, выбил пепел из трубки на край чертежного стола и прокричал в темноту задней комнаты:
– Ухожу есть, мистер Спеккер!
– Хорошо, идите! – ответил визгливый, дрожащий голос из задней комнаты.
– Как поживает старик? – спросил Болдуин, когда они вышли.
– Старый Спеккер? У него парализованы ноги. Это давнишняя история. Несчастный старик… Поверите ли, Джордж, я был бы в отчаянии, если бы с бедным старым Спеккером что-нибудь случилось. Он единственный честный человек в Нью-Йорке и, кроме того, у него есть голова на плечах.
– Голова, которая никогда ничего не придумала, – заметил Болдуин.
– Еще придумает… Он может… Вы бы посмотрели на его чертежи зданий, построенных из одной стали. Он утверждает, что в будущем небоскребы будут строиться только из стали и стекла. Мы давно делали опыты со стеклянной черепицей… Честное слово, от некоторых его планов захватывает дух… Он раскопал где-то поговорку про римского императора, который нашел Рим кирпичным, а оставил его мраморным. Так вот он говорит, что родился в кирпичном Нью-Йорке, а умрет в стальном. Сталь и стекло… Я покажу вам его проекты перестройки города. Умопомрачительно!
Они устроились на мягкой скамье в углу ресторана, где пахло мясом, жаренным на решетке. Сэндборн вытянул ноги под столом.
– Какая роскошь! – сказал он.
– Фил, возьмем коктейль, – сказал Болдуин, заглядывая в карточку. – Знаете, Фил, только первые пять лет тяжелы.
– Не беспокойтесь, Джордж, вы из тех, кто пробивается. А вот я – старая калоша.
– Почему? Вы всегда можете достать чертежную работу.
– Нечего сказать, приятная перспектива – провести всю жизнь, лежа брюхом на чертежном столе!.. Эх, дружище…
– «Спеккер и Сэндборн» еще могут стать известной фирмой.
– Люди будут летать в поднебесье к тому времени, а мы с вами будем лежать в земле с вытянутыми ногами.
– Бывает же все-таки удача…
Они выпили мартини и принялись за устрицы.
– Правда, что устрицы делаются кожаными в желудке, если запивать их спиртным?
– Не знаю. Кстати, Фил, как ваши дела с той маленькой стенографисткой?
– Вы себе представить не можете, сколько я на нее трачу денег! Угощение, театр… В конце концов она разорит меня. В сущности, уже разорила. Вы молодец, Джордж, что сторонитесь женщин.
– Пожалуй, – медленно сказал Болдуин и сплюнул в кулак косточку маслины.
Первое, что они услышали, был вибрирующий свисток – свистела вагонетка напротив пристани, где стоял паром. Маленький мальчик отделился от кучки эмигрантов, сбившейся на пристани, и подбежал к вагонетке.
– Она вроде паровика и полна земляных орехов! – орал он, бегом возвращаясь обратно.
– Падраик, стой здесь.
– А это – станция воздушной дороги. Южный паром, – продолжал Тим Халлоран, явившийся встретить их. – А вон там – парк Бэттери, Баулинг-Грин[80], Уолл-стрит[81] и коммерческий квартал… Идем, Падраик, дядя Тимоти повезет тебя по воздушной дороге.
На пристани остались трое: старуха с синим платком на голове, молодая женщина в красной шали, стоявшие около большого, перевязанного веревками сундука с медными ручками, и старик с зеленоватым огрызком бороды и лицом, изборожденным морщинами и сморщенным, как корень мертвого дуба. Глаза старухи слезились, она причитала:
– Dove andiamo, Madonna mia, Madonna mia![82]
Молодая женщина развернула письмо и смотрела на замысловатые буквы. Вдруг она подошла к старику.
– Non posso leggere.[83] – И протянула ему письмо.
Он стиснул пальцы и замотал головой взад и вперед; он говорил без конца – слова, которые она не могла понять. Она пожала плечами, улыбнулась и вернулась к сундуку. Со старухой разговаривал загорелый сицилиец. Он ухватился за веревки и перетащил сундук на ту сторону улицы, к фургону, запряженному белой лошадью. Обе женщины пошли за ним. Сицилиец протянул молодой женщине руку. Старуха, все еще бормоча и причитая, с трудом вскарабкалась на повозку. Сицилиец наклонился, чтобы прочесть письмо, и толкнул молодую женщину плечом. Она выпрямилась.
– Ладно, – сказал он.
Он снял вожжи с крупа лошади, повернулся к старухе и крикнул:
– Cinque le due…[84] Ладно!
IV. Колея
Грохот и рокот ослабели, стихли; вдоль всего поезда лязгнули буфера. Человек соскочил на полотно. Он так закоченел, что не мог пошевелиться. Крутом был смоляной мрак. Он пополз очень медленно, встал на колени, поднялся на ноги и прислонился, задыхаясь, к товарному вагону. Тело казалось чужим, мускулы были древесной массой, кости раскалывались на куски. Фонарь ослепил его.
– Убирайтесь немедленно! Сыщики делают обход.
– Скажи, парень, это Нью-Йорк?
– Он самый, черт его побери. Идите за моим фонарем – вы выйдете на набережную.
Он еле передвигал ноги, он спотыкался о мерцающие римские «V» стрелок и скрещивающиеся рельсы. Он побежал рысью, наткнулся на сигнальную проволоку и упал. Наконец присел на краю верфи, опустив голову на руки. Вода, точно ласковый пес, тихо ворчала, набегая на сваи. Он вынул из кармана сверток, развернул газетную бумагу и достал большой ломоть хлеба с куском жесткого мяса. Он жевал и жевал, пока у него хватало влаги во рту. Потом он неуверенно поднялся, стряхнул крошки с колен и осмотрелся. К югу, над путями, мрачное небо было затоплено оранжевым заревом.
– Веселая дорога! – сказал он хрипло и громко. – Веселая дорога!
В исхлестанное дождем окно Джимми Херф смотрел на пузыри зонтиков, медленно плывшие по течению Бродвея. Кто-то постучал в дверь.
– Войдите, – сказал Джимми и отвернулся к окну, заметив, что лакей чужой, не Пат.
Лакей зажег электричество. Джимми увидел его отражение в оконном стекле: худой, стриженый человек держал в одной руке на весу поднос с серебряными судками, похожими на церковные купола. Лакей, отдуваясь, прошел в глубь комнаты, волоча свободной рукой сложенный столик. Он толчком раскрыл его, поставил на него поднос, а круглый стол накрыл скатертью. От него жирно пахло кухней. Джимми подождал, пока он не ушел, и повернулся. Он обошел стол, приподымая серебряные крышки; суп с маленькими зелеными штучками, жареная баранина, картофельное пюре, тертая брюква, шпинат и никакого десерта.
– Мамочка!
– Да, дорогой? – донесся слабый голос из-за закрытой двери.
– Обед подан, мамочка.
– Кушай, мальчик, я сейчас приду.
– Я не хочу без тебя, мамочка.
Он еще раз обошел стол, привел в порядок ножи и вилки. Он перекинул салфетку через руку. Метрдотель ресторана Дельмонико[85] накрывал стол для слепого богемского короля и принца Генриха Мореплавателя[86]…
– Мама, кем ты хочешь быть – королевой Марией Стюарт или леди Джейн Грей[87]?
– Но им обеим отрубили голову, золото мое. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову.
Мать была одета в розовое платье. Когда она открыла дверь, вялый запах, запах одеколона и лекарств проник из спальни, потянулся за ее длинными, отороченными кружевами, рукавами. Она напудрилась чуточку больше, чем следовало, но ее пышные каштановые волосы были убраны очень красиво. Они уселись друг против друга; она подала ему тарелку супа, держа ее двумя руками с голубыми жилками.
Он ел суп, водянистый и недостаточно горячий.
– Ах, детка, я забыла про гренки!
– Мамочка… мама, почему ты не ешь?
– Мне сегодня что-то не хочется есть. Не знаю, что мне делать. У меня очень болит голова. Впрочем, это неважно.
– А может быть, ты хочешь быть Клеопатрой? У нее был чудный аппетит, и она съедала все, что ей давали. Она была пай-девочка.
– Даже жемчуг… Она опустила жемчужину в уксус и выпила его… – Ее голос дрожал.
Она протянула ему руку через стол; он погладил ее руку, как мужчина, и улыбнулся.
– Только ты и я, Джимми, мой мальчик… Солнышко, ты всегда будешь любить твою маму?
– Что случилось, мамочка, милая?
– О, ничего. Я себя чувствую сегодня как-то странно. Я так устала от этого вечного нездоровья.
– Но после операции…
– Да, после операции… Пожалуйста, дорогой, в ванной на подоконнике есть свежее масло. Я положу немного в пюре, если ты принесешь. Придется опять сделать Замечание насчет стола. Баранина совсем неважная – надеюсь, что мы от нее не заболеем.
Джимми побежал через комнату матери в узенький коридор, где пахло нафталином и шелковыми платьями, разложенными на стуле. Красный резиновый наконечник душа качнулся ему в лицо, когда он открыл дверь ванной. От запаха лекарств у него болезненно сжались ребра. Он открыл окно за ванной. Подоконник был пыльный, и пушистая копоть осела на тарелке, которой было прикрыто масло. Он стоял несколько секунд, глядя во двор, дыша ртом, чтобы не чувствовать запаха угольного газа, поднимавшегося из топки. Под ним горничная, в белой наколке, высунувшись из окна, разговаривала с истопником; истопник смотрел вверх, скрестив на груди голые, сильные руки. Джимми напряг слух, чтобы услышать, о чем они говорят; быть грязным и весь день таскать уголь, и чтобы волосы были жирные и руки грязные до подмышек.
– Джимми!
– Иду, мамочка. – Вспыхнув, он захлопнул окно и пошел в столовую как можно медленнее, чтобы румянец сбежал с лица.
– Опять замечтался, Джимми. Мой маленький мечтатель…
Он поставил масло возле тарелки матери и сел.
– Ешь скорее баранину, пока она горячая. Почему ты не берешь горчицы? Будет гораздо вкуснее.
Горчица обожгла ему язык, из глаз покатились слезы.
– Слишком острая? – смеясь, спросила мать. – Надо привыкать к острым вещам… Он любил все острое.
– Кто, мама?
– Тот, кого я очень любила.
Сидели молча. Слышно было, как работают его челюсти. Изредка сквозь закрытые окна долетал прерывистый грохот экипажей и трамваев. В трубах отопления щелкало и стучало. Во дворе истопник, весь вымазанный маслом, шлепая дряблыми губами, говорил какие-то слова горничной в крахмальной наколке – грязные слова. Горчица такого цвета, как…
– О чем ты думаешь?
– Ни о чем.
– У нас не должно быть тайн друг от друга, дорогой. Помни, ты у меня единственное утешение.
– Как ты думаешь, интересно быть тюленем?
– По-моему, очень холодно.
– Нет, холод не чувствуется… Тюлени защищены слоем жира – им всегда тепло, даже на льдине. Это было бы ужасно смешно… Можно плавать по морю, когда тебе захочется. Тюлени проплывают тысячи миль без остановки.
– Мамочка тоже плыла тысячи миль без остановки, и ты тоже.
– Когда?
– А когда мы ездили за границу и обратно. – Она смеялась, глядя на него сияющими глазами.
– Так ведь мы на пароходе…
– А когда мы плавали на «Марии Стюарт»…
– Мамочка, расскажи.
В дверь постучали.
– Войдите!
Показалась стриженая голова лакея.
– Можно убирать, мадам?
– Да, и принесите компот, но только из свежих фруктов. Сегодня обед был очень невкусный.
Лакей, отдуваясь, собрал тарелки на поднос.
– Очень жаль, мадам.
– Ну ничего, я знаю, что это не ваша вина. Что ты закажешь, Джимми?
– Можно мне безе с сиропом?
– Хорошо, если ты будешь умницей.
– Буду! – взвизгнул Джимми.
– Милый, нельзя так кричать за столом.
– Ну ничего, мамочка. Мы только вдвоем… Ура! Безе с сиропом!
– Джеймс, джентльмен ведет себя одинаково прилично как дома, так и в дебрях Африки.
– Ах, если бы мы были в дебрях Африки!
– Но мне было бы там страшно.
– Я кричал бы, как сейчас, и разогнал бы львов и тигров.
Лакей вернулся с двумя тарелками на подносе.
– К сожалению, мадам, пирожные кончились. Я принес молодому джентльмену шоколадное мороженое.
– Ой, мамочка…
– Не огорчайся, милый. Это тоже вкусно. Кушай, а потом можешь сбегать вниз за конфетами.
– Мамочка, дорогая…
– Только не ешь мороженое так быстро… Ты простудишься.
– Я уже кончил.
– Ты проглотил его, маленький негодяй! Надень калоши, детка.
– Но дождика ведь нет.
– Слушай маму, дорогой, и, пожалуйста, не ходи долго. Дай слово, что ты скоро вернешься. Мама нехорошо себя чувствует сегодня и очень нервничает, когда ты на улице. Там столько опасностей…
Он присел, чтобы надеть калоши. Пока он натягивал их, она подошла к нему и протянула доллар. Рука ее в длинном шелковом рукаве легла на его плечо.
– Дорогой мой… – Она плакала.
– Мамочка, не надо. – Он крепко обнял ее; он чувствовал под рукой пластинки корсета. – Я вернусь через минутку, через самую маленькую минутку.
На лестнице, где медные палки придерживали на ступенях темно-красную дорожку, Джимми снял калоши и засунул их в карманы дождевика. Высоко вскинув голову, он прорвался сквозь паутину молящих взглядов рассыльных мальчишек, сидевших на скамье у конторки. «Гулять идете?» – спросил самый младший, белобрысый мальчик. Джимми сосредоточенно кивнул, шмыгнул мимо сверкающих пуговиц швейцара и вышел на Бродвей, полный звона, топота и лиц; когда лица выходили из полосы света от витрин и дуговых фонарей, на них ложились теневые маски. Он прошел мимо отеля «Ансония»[88]. На пороге стоял чернобровый человек с сигарой во рту, – может быть, похититель детей. Нет, в «Ансонии» живут хорошие люди – такие же, как в нашем отеле. Телеграфная контора, бакалейная лавка, красильня, китайская прачечная, издающая острый, таинственный, влажный запах. Он ускорил шаги. Китайцы – страшные; они крадут детей. Подковы. Человек с керосиновым бидоном прошел мимо него, задев его жирным рукавом. Запах пота и керосина. Вдруг это поджигатель? Мысль о поджигателе заставила его содрогнуться. Пожар. Пожар.
Кондитерская Хьюлера; из дверей – уютный запах никеля и хорошо вымытого мрамора, а из-под решетки, что под окнами, вьется теплый аромат варящегося шоколада. Черные и оранжевые фестоны в окнах. Он уже хочет войти, но вспоминает о «Зеркальной кондитерской» – это два квартала дальше; там вместе со сдачей дают маленький паровоз или автомобиль. Надо торопиться; на роликах было бы гораздо быстрее, можно убежать от бандитов, шпаны, налетчиков; на роликах, стреляя через плечо из большого револьвера. Бах! – один упал; это самый главный. Бах! – по кирпичной стене дома, по крышам, мимо изогнутых труб, на дом Утюг, по стропилам Бруклинского моста…
«Зеркальная кондитерская». Он входит без колебаний. Он стоит у прилавка, ожидая, пока освободится продавщица.
– Пожалуйста, фунт смеси за пятьдесят центов, – барабанит он.
Она блондинка, чуть косит и смотрит на него недружелюбно, не отвечая.
– Пожалуйста, будьте добры – я тороплюсь.
– Ждите очереди! – огрызается она.
Он стоит, мигая, с горящими щеками. Она сует ему завернутую коробку с чеком.
– Платите в кассу.
«Я не буду плакать».
Дама в кассе – маленькая и седая. Она берет доллар через узенькую дверцу. Через такие дверцы входят и выходят зверьки в Отделении мелких млекопитающих. Касса весело трещит, радуясь деньгам. Четвертак, десять, пять и маленькая чашечка – разве это сорок центов? Вот так раз, вместо паровоза или автомобиля – чашечка! Он хватает деньги, оставляет в кассе чашечку и выбегает с коробкой под мышкой. «Мама скажет, что я очень долго ходил». Он идет домой, глядя перед собой, переживая грубое обращение блондинки.
– За конфетами ходили? – спросил белобрысый рассыльный.
– Приходите потом, я вам дам, – шепнул Джимми, проходя.
Медные палки на ступеньках звенели, когда он на ходу задевал их ногами. Перед шоколадно-коричневой дверью, на которой белыми эмалевыми цифрами было написано 503, он вспомнил о своих калошах. Он поставил конфеты на пол и напялил калоши на мокрые ботинки. К счастью, мамочка не ждала его, хотя дверь была открыта. Может быть, она увидела его в окно.
– Мама!
В гостиной ее не было. Он испугался. «Она вышла. Она ушла».
– Мама!
– Иди сюда, дорогой, – долетел ее слабый голос из спальни.
Он бросил кепи, дождевик и быстро вбежал.
– Мамочка, что случилось?
– Ничего, дитя мое… У меня головная боль, страшная головная боль. Намочи платок одеколоном и положи мне его аккуратненько на голову, но только, дорогой, не попади им в глаз, как в прошлый раз.
Она лежала на кровати, в небесно-голубом вышитом капоте. Лицо у нее было лиловато-бледное. Шелковое розовое платье висело на стуле, на полу валялся корсет с розовыми ленточками. Джимми аккуратно положил платок на ее лоб. Острый запах одеколона щекотал ему ноздри, когда он нагибался над ней.
– Как приятно! – раздался ее слабый голос. – Дорогой, вызови тетю Эмили, Риверсайд семьдесят шесть – пятьдесят девять, и спроси ее, не может ли она зайти сегодня. Я хочу с ней поговорить. Ох, у меня лопается голова…
С сильно бьющимся сердцем и затуманенными глазами он пошел к телефону. Голос тети Эмили раздался в трубке неожиданно скоро.
– Тетя Эмили, мама больна, она хочет, чтобы вы приехали… Сейчас придет, мамочка дорогая! – прокричал он. – Как хорошо! Она сейчас придет.
Он вернулся в комнату матери, ступая на цыпочках, поднял с пола корсет и платье и убрал их в шкаф.
– Дорогой, – раздался ее слабый голос, – вынь шпильки из моих волос, мне больно от них. Мальчик милый, у меня такое чувство, будто у меня раскалывается голова. – Он осторожно вынимал шпильки из ее каштановых волос, еще более шелковистых, чем ее платье. – Не надо, мне больно!
– Я нечаянно, мамочка.
Тетя Эмили, тонкая, в синем дождевике, накинутом поверх вечернего платья, быстро вошла в комнату; ее тонкие губы были сложены в сочувственную улыбку. Она увидела на кровати сестру, корчившуюся от боли, а подле сестры – худенького бледного мальчика в коротеньких штанишках. Руки у него были полны шпилек.
– Что случилось, Лили? – спокойно спросила она.
– Мне ужасно плохо, дорогая, – раздался прерывистый голос Лили Херф.
– Джеймс, – резко сказала тетя Эмили, – иди спать! Маме нужен полный покой.
– Спокойной ночи, мамочка, – сказал он. Тетя Эмили похлопала его по плечу.
– Не беспокойся, Джеймс, – я присмотрю за мамой. – Она подошла к телефону и тихим, отчетливым голосом произнесла номер.
Коробка с конфетами стояла на столе в передней; чувствуя себя виноватым, Джимми взял ее. Проходя мимо книжного шкафа, он вынул том энциклопедии и сунул его под мышку. Тетя не заметила, как он ушел. Ворота замка распахнулись. Снаружи ржал арабский скакун, и два верных вассала ждали его, чтоб переправить через границу в свободную страну. Третья дверь вела в его комнату. Комната была набита вязкой молчаливой тьмой. Выключатель щелкнул, и электричество послушно осветило каюту «Марии Стюарт». «Отлично, капитан, поднимите якорь, держите курс на Подветренные острова и не тревожьте меня до зари; мне нужно просмотреть кое-какие важные бумаги». Он сбросил платье, надел пижаму и встал на колени перед кроватью. «Господибоженаш ежесогрешихводнисем словомделомипомышлением якоблагичеловеколюбецпростими миренсонибезмятежендаруйми ангелатвоегохранителяпосли покрывающаисоблюдающамяотвсякогозла».
Он открыл коробку конфет, сложил подушки в ноги кровати под лампой. Его зубы прокусили шоколад и вгрызлись в мягкую сладкую начинку. «Ну-с, посмотрим…»
А – первая из гласных, первая буква всех европейских и большинства прочих алфавитов, за исключением абиссинского, в котором она занимает тринадцатое место, и рунического (десятое место)…
«Ох, какой волосатый!..»
АА…
Аахен – см. Экс-ла-Шапель.
Аардварк…
«Смешной какой!»
Стопоходящее млекопитающее из разряда неполнозубых. Встречается в Африке.
АБД…
Абдельхалим – египетский принц, сын Мехмета-Али и белой рабыни…
Его щеки вспыхнули, когда он прочел:
Повелительница белых рабов.
Абдомен лат. (этимология не установлена) – нижняя часть туловища, расположенная между диафрагмой и тазом…
Абеляр… но между учителем и ученицей не долго сохранялись такие отношения. Чувство более теплое, чем взаимное уважение, пробудилось в их сердцах, и неограниченная возможность встреч, поощряемых каноником, который всецело доверял Абеляру (ему в то время было около сорока лет), оказалась роковой для них обоих… Элоиза была в таком состоянии, что их отношения не могли далее оставаться скрытыми… Тогда Фульбер весь отдался мыслям о жестокой мести… ворвался в жилище Абеляра с кучкой приспешников и утолил свою жажду мести, произведя над Абеляром жестокую операцию оскопления…
Абелитизм – вид половых сношений, именуемый «служением дьяволу».
Абидос…
Абимелех I – сын Гедеона. Абимелех добился царского престола, убив семьдесят братьев своих, за исключением Иофама, и был убит при осаде города Тевец…
Аборт…
«Нет!» Его руки были холодны, как лед, и его слегка тошнило от съеденного шоколада.
Абракадабра…
Он встал и выпил воды перед Абиссинией с изображением пустынных гор и сожжением Магдалы англичанами[89]. У него болели глаза. Он весь одеревенел, и ему хотелось спать. Он посмотрел на часы: одиннадцать часов. Ужас внезапно овладел им. Что, если мама умерла? Он припал лицом к подушке. Она стояла перед ним в белом бальном платье с хрупкими кружевами и шлейфом, ниспадающим шуршащими шелковыми волнами, нежной, душистой рукой ласково гладила его по щеке. Рыдания потрясли его. Он ворочался на кровати, уткнув лицо в измятые подушки, и долго не мог успокоиться.
Когда он проснулся, то увидел, что свет слабо мерцает. В комнате было душно и жарко. Книга валялась на полу, конфеты слиплись под ним в коробке. Часы остановились на 1 ч. 45 мин. Он открыл окно, спрятал шоколад в ящик стола и хотел погасить свет, но вдруг вспомнил… Дрожа от ужаса, он накинул халатик, туфли и на цыпочках прошел в темную переднюю. Он прислушался перед дверью. Там говорили вполголоса. Он тихо постучал и повернул дверную ручку. Кто-то распахнул дверь, и Джимми увидел чисто выбритого человека в золотых очках. Дверь в комнату матери была закрыта; перед ней стояла крахмальная сестра милосердия.
– Милый Джеймс, ложись в постельку и успокойся, – усталым шепотом сказала тетя Эмили. – Мамочка очень больна. Ей нужен полный покой. Ничего опасного.
– Пока ничего опасного, миссис Меривейл, – сказал доктор, протирая очки.
– Милый мальчик! – раздался голос сестры, низкий, чистый, бодрящий. – Он всю ночь волновался и ни разу нас не потревожил.
– Я уложу тебя в постель, – сказала тетя Эмили. – Мой Джеймс это очень любит.
– Можно мне только взглянуть на мамочку? Тогда я буду знать, что все благополучно.
Джимми застенчиво взглянул на толстое лицо в очках. Доктор кивнул.
– Ну хорошо, мне пора уходить. Я забегу в четыре или пять часов посмотреть, как идут дела. Доброй ночи, миссис Меривейл. Доброй ночи, мисс Биллингс. Доброй ночи, мой мальчик.
– Идем, – сказала сестра милосердия, положив руку на плечо Джимми.
Он высвободился и пошел за ней. Свет в маленькой комнате был затемнен приколотым к абажуру полотенцем. С кровати слышалось хриплое дыхание, которого он не узнал. Ее измученное лицо было повернуто к нему. Опущенные фиолетовые веки, сведенный рот. Он минуту смотрел на нее.
– Хорошо, теперь я пойду спать, – шепнул он сестре.
Его кровь стучала оглушительно. Не глядя на тетю и на сестру милосердия он вышел твердой походкой. Тетя говорила что-то. Он побежал по коридору, хлопнул дверью и запер ее на замок. Он долго стоял посреди комнаты, окаменелый, холодный, со сжатыми кулаками.
– Я ненавижу их, я ненавижу их! – закричал он.
Потом, сдерживая сухие рыдания, погасил свет и скользнул в кровать, на холодную, как лед, простыню.
– У вас столько дел и хлопот, мадам, – говорит Эмиль певучим голосом, – что вам необходимо завести помощника в лавке.
– Знаю… Я убиваю себя работой. Я знаю, – вздыхала мадам Риго, сидя за кассой.
Эмиль долго молчал, глядя на большой кусок вестфальской ветчины, лежавший на мраморной доске около его локтя. Потом застенчиво сказал:
– Такая женщина, как вы, такая красивая женщина, как вы, мадам Риго, никогда не останется без друзей.
– Ah ça…[90] Я слишком много пережила… Я больше никому не верю. Все мужчины – грубые животные, а женщины… О, с женщинами я совсем не сближаюсь.
– История и литература… – начал Эмиль.
Задребезжал дверной колокольчик. Мужчина и женщина вошли в лавку. У нее были желтые волосы и шляпа, напоминающая цветочную клумбу.
– Только не будь расточителен, Билли, – говорила она.
– Но, Нора, должны же мы что-нибудь поесть. В субботу у меня будут деньги.
– Ничего у тебя не будет, если ты не бросишь играть.
– Ах, отстань, ради Бога. Возьмем ливерной колбасы. Кажется, холодная индейка хороша.
– Поросенок, – проворковала желтоволосая девица.
– Отстань от меня, я возьму индейку.
– Да, сэр, индейка очень хорошая. Есть прекрасные цыплята, еще совсем горячие. Emile, mon ami, cherchez moi un d ces petits poulets dans la cuisin-e.
Мадам Риго говорила точно оракул, неподвижно восседая на своей табуретке за кассой. Мужчина обмахивался широкополой соломенной шляпой с клетчатой лентой.
– Жарко сегодня, – сказала мадам Риго.
– И как еще!.. Знаешь, Нора, лучше было бы поехать на Кони-Айленд[91], чем задыхаться в городе.
– Билли, ты же знаешь очень хорошо, почему мы не можем поехать.
– Довольно тебе хныкать. Я же тебе говорю: в субботу все будет в порядке!
– История и литература… – продолжал Эмиль, когда покупатели ушли, унося цыпленка и оставив мадам Риго полдоллара серебром (она тут же заперла их в кассу). – История и литература учат нас, что бывает дружба… что иногда встречается любовь, достойная доверия…
– История и литература, – смеясь, пробурчала мадам Риго, – хорошая штука.
– Но разве вы никогда не чувствовали себя одинокой в этом большом, чужом городе? Так все тяжело! Женщины глядят вам в карман, а не в сердце. Я не могу это больше выносить.
Широкие плечи и толстые груди мадам Риго заколыхались от смеха. Ее корсет затрещал, когда она, смеясь, поднялась с табурета.
– Эмиль, вы красивый малый, и притом вы настойчивы. Вы далеко пойдете… Но я никогда не отдам себя снова во власть мужчины. Я слишком много страдала. Никогда – даже если бы вы пришли ко мне с пятью тысячами долларов.
– Вы очень жестокая женщина!
Мадам Риго снова засмеялась.
– Пойдемте, вы мне поможете закрыть магазин.
Тихое, солнечное воскресенье висело над городом. Болдуин сидел в своем бюро без пиджака, читая юридический справочник в кожаном переплете. Изредка он делал на листке заметки твердым, размашистым почерком. В знойной тишине громко прозвонил телефон. Он дочитал параграф и снял трубку.
– Да, я один. Если хотите, зайдите. – Он повесил трубку. – Будь ты проклята! – пробормотал он сквозь зубы.
Нелли вошла не постучавшись. Он шагал взад и вперед перед окном.
– Хелло, Нелли! – сказал он не поднимая глаз.
Она стояла, глядя на него.
– Слушай, Джордж, так не может продолжаться.
– Почему нет?
– Мне тяжело все время притворяться и обманывать.
– Ведь никто же ни о чем не догадывается – так?
– О, конечно, нет.
Она подошла к нему и поправила ему галстук. Он нежно поцеловал ее в губы. На ней было красновато-лиловое платье с воланами и голубой зонтик в руке.
– Как дела, Джордж?
– Чудесно! Знаешь, ты принесла мне счастье. Я получил массу хороших дел и завязал очень ценные знакомства.
– Зато мне это принесло мало счастья. Я не решилась даже пойти на исповедь. Священник подумает, что я стала язычницей.
– Как поживает Гэс?
– Носится со своими планами. Можно подумать, что он заработал эти деньги, – так он ими гордится.
– Послушай, Нелли… а что, если ты бросишь Гэса и станешь жить со мной? Ты могла бы развестись с ним, и мы бы обвенчались. Тогда все было бы в порядке.
– Глупости! Ты об этом всерьез не думаешь.
– Все-таки стоит, Нелли, честное слово.
Он обнял ее и поцеловал в твердые, неподвижные губы. Она оттолкнула его.
– Я не затем пришла сюда. О, я была так счастлива, когда шла по лестнице… хотела увидеть тебя… А теперь вам заплачено, и дело с концом.
Он заметил, что завитки на ее лбу распустились. Прядь волос висела над бровью.
– Нелли, не надо расставаться врагами.
– А почему нет, скажите пожалуйста?
– Потому что мы когда-то любили друг друга.
– Я не собираюсь плакать. – Она утерла нос маленьким платком, свернутым в комочек. – Джордж, я начинаю ненавидеть вас… Прощайте!
Дверь резко захлопнулась.
Болдуин сидел за столом, покусывая кончик карандаша, ощущая летучий запах ее волос. У него першило в горле. Он закашлялся. Карандаш выпал у него изо рта. Он стер с него слюну носовым платком и сел в кресло. Он вырвал исписанный листок из блокнота, прикрепил его к стопке исписанных бумаг. Он начал на новом листе: «Решение Верховного суда штата Нью-Йорк…» Внезапно он выпрямился и опять закусил кончик карандаша. С улицы донесся долгий, мрачный свист поезда.
– Ах, это поезд, – сказал он вслух.
Он опять начал писать размашистым, ровным почерком: «Иск Паттерсона к штату Нью-Йорк… Решение Верховного…»
Бэд сидел у окна в Союзе моряков. Он читал газету медленно и внимательно. Около него два человека со свежевыбритыми, красными, как сырое мясо, лицами, скованные крахмальными воротничками и синими костюмами, шумно играли в шахматы. Один из них курил трубку. Когда он затягивался, она всхлипывала. За окном нескончаемый дождь сек широкий, мерцающий сквер.
«Банзай!» – кричали маленькие серые солдаты четвертого японского саперного батальона, наводя мост через р. Ялу…[92] (Спец. корреспондент «Нью-Йорк геральд».)
– Шах и мат, – сказал человек с трубкой.
– К черту! Пойдем выпьем. В такую ночь невозможно быть трезвым.
– Я обещал моей старухе…
– Знаю я твои обещания! – Огромная, багровая, густо поросшая желтым волосом лапа сгребла шахматы в ящик. – Скажешь старухе, что ты выпил, чтобы не простудиться.
– И я не совру.
Бэд видел, как их тени мелькнули под дождем мимо окна.
– Как вас зовут?
Бэд быстро отвернулся от окна, спугнутый пронзительным, квакающим голосом. Он глядел в яркие, синие глаза маленького желтого человечка: лицо жабы, широкий рот, выпученные глаза и жесткие, курчавые, черные волосы.
Бэд стиснул зубы.
– Мое имя Смис. А в чем дело?
Маленький человек неуклюже протянул ему квадратную, мозолистую ладонь.
– Очень приятно. А я Мэтти.
Бэд невольно протянул ему руку. Тот пожал ее так сильно, что Бэд поморщился.
– А дальше как?
– Просто Мэтти. Лапландец Мэтти… Пойдем, выпьем.
– Я пуст, – сказал Бэд. – Гроша медного нет.
– Ничего. У меня много денег, берите!
Мэтти сунул обе руки в карманы толстой полосатой куртки и показал Бэду две пригоршни ассигнаций.
– Спрячьте ваши деньги… А выпить я с вами выпью.
Пока они дошли до бара на углу Пэрл-стрит, локти и колени Бэда промокли насквозь. Холодная струйка дождя сбегала по его спине. Они подошли к стойке, и Лапландец Мэтти выложил пятидолларовую бумажку.
– Я угощаю всех! Я счастлив сегодня.
Бэд набросился на даровую закуску.
– Сто лет не жрал, – пояснил он, возвращаясь к стойке за выпивкой.
Виски жгло ему горло, сушило мокрое платье. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, идущим играть в бейсбол в субботу вечером.
– Молодец, Лапландец! – крикнул он, похлопывая маленького человечка по широкой спине. – Теперь мы с тобой друзья.
– Завтра мы с тобой садимся на пароход и уезжаем вместе. Что ты на это скажешь?
– Конечно, поедем.
– А теперь идем на Баури-стрит[93], поищем девочек. Я плачу.
– Ни одна девочка с Баури не пойдет с тобой, япошка! – заорал высокий пьяный человек с висячими черными усами; он встал между ними, когда они шатаясь проходили в дверь.
– Не пойдет, говоришь? – сказал Лапландец, откидываясь всем телом назад.
Его кулак, похожий на молот, внезапно вылетел вперед и въехал в нижнюю челюсть черноусого. Черноусый поднялся с земли и поплелся обратно в бар; дверь захлопнулась за ним. Изнутри донесся рев голосов.
– Ах, будь я проклят, Мэтти, будь я проклят! – заорал Бэд и опять хлопнул его по спине.
Они шли рука об руку по Пэрл-стрит под пронизывающим дождем. Бары ярко светились на углах истекающих дождем улиц. Желтый свет зеркал, медных решеток и золотых рам вокруг картин с розовыми голыми женщинами качался и прыгал в стаканах виски, вливался огнем в запрокинутый рот, вспыхивал в крови, пузырился из ушей и глаз, вытекал струйками из кончиков пальцев. Облитые дождем дома нависали с обеих сторон, уличные фонари колыхались, точно факелы. Бэд очутился в набитой лицами комнате. Женщина сидела у него на коленях. Лапландец Мэтти обнимал за шею двух других женщин, расстегнув рубашку, показывая грудь. На груди были вытатуированы зеленым и красным голые мужчина и женщина. Они обнимались, змея туго обвивала их своими кольцами. Мэтти выпятил грудь, ущемил пальцами кожу на груди – мужчина и женщина задвигались, и кругом захохотали.
Финеас Блэкхэд распахнул широкое окно конторы. Он смотрел на гавань, сланцевую и слюдяную, прислушивался к прерывистому грохоту уличного движения, к голосам, к стуку молотов на новой постройке, вздымавшимся с улиц города и клубившимся, точно дым, в порывах жестокого норд-веста, который дул с Гудзона.
– Эй, Шмидт, принесите мне полевой бинокль! – крикнул он через плечо. – Смотрите!
Он навел бинокль на толстобрюхий белый пароход с закопченной желтой трубой, который стоял у Говернор-Айленда.
– Это, кажется, «Анонда»?
Шмидт был толстый, дряблый человек. Кожа на его лице свисала широкими сухими складками. Он глянул в бинокль.
– Да, это «Анонда».
Он закрыл окно. Шум сразу стал глуше; теперь он напоминал морской прибой.
– Однако они быстро справились. Они будут в доках через полчаса. Бегите и поймайте инспектора Малигана. Он все устроил… Не спускайте с него глаз. Старик Матанзас объявил нам открытую войну. Он добивается судебного приказа. Если к завтрашнему вечеру тут останется хоть одна чайная ложечка марганца, я убавлю вам жалование вдвое. Поняли?
Дряблые щеки Шмидта затряслись от смеха.
– Будьте спокойны, сэр. За это время вы могли бы уже узнать меня.
– Я знаю… Вы хороший малый, Шмидт. Я пошутил.
Финеас Блэкхэд был высокий, худой человек с серебристыми волосами и красным ястребиным лицом. Он опустился в кресло красного дерева перед столом и нажал кнопку звонка. В дверях появился белобрысый мальчик.
– Проведи их сюда, Чарли, – сказал он.
Он тяжело поднялся и протянул руку.
– Как поживаете, мистер Сторроу? Здравствуйте, мистер Голд… Присаживайтесь, пожалуйста. Да, так вот… Эта забастовка… Позиция, занятая железной дорогой и доками, интересы которых я представляю, абсолютно искренна и чистосердечна, вы это знаете… Я убежден – могу сказать твердо убежден – в том, что мы сможем уладить все недоразумения самым дружественным и благоприятным образом. Конечно, вы должны пойти навстречу… Я знаю, в душе мы преследуем одни и те же интересы – интересы нашего великого города, нашего великого океанского порта…
Мистер Голд сдвинул шляпу на затылок и шумно откашлялся.
– Джентльмены, перед нами два пути…
На солнечном подоконнике сидела муха и гладила задними лапками крылышки. Она мылась, двигая передними лапками, точно человек, намыливающий руки, и тщательно терла свою большую голову. Джимми занес руку и опустил ее на муху. Муха жужжала и звенела в его кулаке. Он ухватил ее двумя пальцами и медленно растирал, пока она не превратилась в серое желе. Он вытер пальцы снизу о край подоконника. Ему стало жарко и противно. Бедная муха – она так старательно мылась! Он долго стоял, глядя на двор сквозь пыльное стекло, на котором мерцала солнечная пыль. Время от времени по двору пробегал человек без пиджака с тарелками на подносе. С кухонь доносились крики и звон перемываемой посуды.
Он смотрел на двор сквозь тонкое золотое мерцанье пыли. У мамы был удар, и на той неделе опять в школу.
– Послушай, Херфи, ты научился боксировать?
– Херфи и Кид будут драться за звание чемпиона веса мухи.
– Я не хочу.
– А Кид хочет… Вот он идет. Становитесь в кружок, ребята!
– Я не хочу. Ну пожалуйста…
– Дерись, черт тебя возьми, не то мы изобьем вас обоих!
– Фредди, с тебя пятак – ты опять выругался.
– Ах да, я забыл.
– Начинайте… Бей его почем зря!
– Валяй, Херфи, я на тебя поставил.
– Бей его!
Белое, искривленное лицо Кида качается перед ним, как воздушный шар. Он бьет Джимми кулаком по зубам. На рассеченной губе солоноватый вкус крови. Джимми бросается вперед, опрокидывает его на кровать, упирается коленом в его живот. Его оттаскивают, отбрасывают к стене.
– Валяй, Кид!
– Валяй, Херфи!
В носу и в легких вкус крови; он задыхается. Удар ногой опрокидывает его.
– Довольно, Херфи побежден.
– Девчонка! Девчонка!
– Послушай, Фредди, ведь он же повалил Кида.
– Заткнись, не ори ты так… Сейчас прибежит старик Хоппи.
– Ну что ты, Херфи?… Ведь это только так – дружеская потасовка.
– Убирайтесь из моей комнаты, все убирайтесь! – взвизгивает Джимми; он ослеп от слез, машет обеими руками.
– Плакса! Плакса!
Он захлопывает дверь, придвигает к ней стол и, дрожа, заползает под одеяло. Он лежит ничком, корчится от стыда, кусает подушку.
Джимми смотрел на двор сквозь тонкое золотое мерцанье пыли.
«Дорогой мальчик! Твоя бедная мама чувствовала себя очень несчастной, когда она усадила тебя в поезд и вернулась в большие, пустые комнаты гостиницы. Милый мой, я очень одинока без тебя. Ты знаешь, что я сделала? Я достала всех твоих игрушечных солдатиков – помнишь, тех, что брали Порт-Артур, – и расставила их на книжной полке. Правда, глупо? Ну, ничего, дорогой мой, скоро Рождество, и мой мальчик вернется ко мне…»
Распухшее лицо уткнуто в подушку; у мамочки был удар, и на той неделе опять в школу. Под глазами у нее набухает темная, дряблая кожа, седина вползает в ее каштановые волосы. Мама никогда не смеется. Удар.
Он внезапно вернулся в комнату и бросился на кровать с тонкой кожаной книжкой в руках. Прибой с грохотом разбивался о риф. Ему не надо было читать. Джек быстро переплыл тихие, синие воды лагуны. Он вышел на желтый берег и стоял в лучах солнца, стряхивая с себя капли, раздувая ноздри, впитывая запах хлебных плодов, которые пеклись на его одиноком костре. Птицы с ярким опереньем щебетали и пели в широкой листве стройных кокосовых пальм. В комнате стояла сонная духота. Джимми заснул. Пахло земляникой и лимоном, на палубе пахло ананасом, и мама стояла там в белом платье, и смуглый человек стоял там в морской фуражке, и солнце зыбилось в молочно-белых парусах. Нежный мамин смех переходит в пронзительное «о-о-ой». Муха, величиной с паром, плывет к ним по воде, протягивая зубчатые, как у краба, щупальца. «Плыгай, Дзимми, плыгай. Двух плызков довольно будет!» – орет ему смуглый прямо в ухо. «Я не хочу… Ну пожалуйста, я не хочу!» – хнычет Джимми. Смуглый бьет его, раз, раз, раз…
– Да, одну минутку. Кто там?
За дверью тетя Эмили.
– Зачем ты запер дверь на ключ, Джимми? Я никогда не позволяю моему Джеймсу запирать дверь.
– Мне так больше нравится, тетя Эмили.
– Разве можно спать днем?
– Я читал «Коралловый остров»[94] и заснул. – Джимми покраснел.
– Прекрасно. Ну, пойдем. Мисс Биллингс велела не останавливаться у маминой комнаты – мама заснула.
Они спускались в темном лифте, пахнувшем касторкой; негритенок ухмылялся Джимми.
– Что сказал доктор, тетя Эмили?
– Все идет не хуже, чем мы ожидали. Ты не беспокойся. Постарайся сегодня хорошо провести время с твоими кузенами. Ты слишком редко встречаешься с детьми твоего возраста, Джимми.
Они шли по направлению к реке, борясь с жестким ветром, под темным, серебристым небом.
– Я думаю, ты доволен, что возвращаешься в школу, Джимми?
– Да, тетя Эмили.
– Школа для мальчика – лучшая пора в жизни. Обязательно пиши маме, Джеймс, по крайней мере одно письмо в неделю… Кроме тебя, у нее теперь никого нет… Мы с мисс Биллингс будем тебя обо всем извещать.
– Да, тетя Эмили.
– И вот еще что, Джеймс. Я бы хотела, чтобы ты поближе познакомился с моим Джеймсом. Он одного возраста с тобой, – может быть, только чуточку развитее тебя. Но вы подружитесь.
– Да, тетя Эмили.
Внизу, в вестибюле дома тети Эмили, были колонны из розового мрамора. Мальчик у лифта был одет в шоколадную ливрею с медными пуговицами. Лифт был четырехугольный; внутри него висели зеркала. Тетя Эмили остановилась перед широкой, красного дерева дверью на седьмом этаже и достала ключ из сумочки. В конце передней было окно, в которое можно было видеть Гудзон, пароходы и высокие деревья, дома, вздымавшиеся над рекой на фоне желтого заката. Когда тетя Эмили открыла дверь, раздались звуки рояля.
– Это Мэзи упражняется.
Комната, в которой стоял рояль, была устлана толстым, пушистым ковром и оклеена желтыми обоями с серебристыми розами. На стенах между светлыми панелями висели писанные масляными красками картины, изображавшие лес, людей в гондоле и толстого кардинала, пьющего вино. Мэзи взмахнула косичками и спрыгнула с табурета. У нее было круглое, пухлое лицо и вздернутый нос. Метроном продолжал стучать.
– Хелло, Джеймс, – сказала она, подставив матери губы для поцелуя. – Я очень огорчена, что бедная тетя Лили так больна.
– А ты не поцелуешь кузину, Джеймс? – сказала тетя Эмили.
Джимми подошел к Мэзи и ткнулся лицом в ее лицо.
– Вот так поцелуй, – сказала Мэзи.
– Ну, детки, займите друг друга до обеда. – Тетя Эмили прошуршала за синие бархатные портьеры в соседнюю комнату.
– Нам будет очень трудно называть тебя Джеймс. – Мэзи остановила метроном и посмотрела серьезными темными глазами на кузена. – Ведь не может же быть двух Джеймсов.
– Мама зовет меня Джимми.
– Джимми – очень простое имя. Ну что ж, придется называть тебя так, пока мы не придумаем чего-нибудь получше.
– А где Джеймс?
– Он скоро придет. Он на уроке верховой езды.
Сумерки, повисшие между ними, стали свинцово-немыми. Из железнодорожного парка доносились свистки паровозов и лязг сцепляемых вагонов. Джимми побежал к окну.
– Мэзи, ты любишь паровозы? – спросил он.
– По-моему, они противные. Папа сказал, что мы переедем отсюда из-за этого шума и дыма.
Во мраке Джимми мог разглядеть конический обрубок огромного паровоза. Дым вырывался из его трубы громадными бронзово-лиловыми клубами. На пути красный огонь сменился зеленым. Зазвонил колокол – медленно, лениво. Поезд тронулся, громко храпя, грохоча, постепенно набирая скорость, и скользнул в темноту, покачивая красным фонарем заднего вагона.
– Как бы я хотел жить здесь! – сказал Джимми. – У меня есть двести семьдесят две фотографии паровозов. Если хочешь, я тебе их покажу. Я их собираю.
– Какая смешная коллекция! Опусти шторы, Джимми, я зажгу свет.
Когда комната осветилась, они увидели Джеймса Меривейла, стоявшего в дверях. У него были светлые, вьющиеся волосы, веснушчатое лицо и вздернутый, как у Мэзи, нос. Он был в бриджах, темно-коричневых крагах, со стеком в руках.
– Хелло, Джимми! – сказал он. – С приездом.
Из-за синих бархатных портьер показалась тетя Эмили. Он была одета в зеленую шелковую блузу с высоким воротником и кружевами. Ее седые волосы красивыми волнами обрамляли лоб.
– Детки, пора мыть руки, – сказала она, – через пять минут будем обедать. Поторопитесь. Джеймс, иди с кузеном в твою комнату и переоденься.
Все уже сидели за столом, когда Джимми вошел в столовую следом за кузеном. Ножи и вилки сдержанно поблескивали в свете шести свечей в красных и серебряных колпачках. В одном конце стола – тетя Эмили. Рядом с ней – человек с толстой красной шеей без затылка, а на другом конце, в широком кресле – дядя Джефф, с жемчужной булавкой в клетчатом галстуке. За полосой света двигалась горничная-негритянка. Дядя Джефф громко говорил между глотками:
– Говорю вам, Вилкинсон: Нью-Йорк уже не тот, каким он был, когда мы с Эмми приехали сюда. Город переполнен евреями и ирландцами, вот в чем несчастье. Через несколько лет христианину тут негде будет жить… Вот увидите – католики и евреи выгонят нас из нашей собственной страны.
– Обетованная земля! – рассмеялась тетя Эмили.
– В этом нет ничего смешного. Когда человек всю жизнь работает, как вол, и создает свое дело, то ему, естественно, не хочется, чтобы его вытесняла банда проклятых инородцев. Правда, Вилкинсон?
– Джефф, не волнуйся, – сказала тетя Эмили. – Ты ведь знаешь, у тебя от этого бывает несварение.
– Я не буду волноваться, мамочка.
– Дело вот в чем, мистер Меривейл. – Мистер Вилкинсон сосредоточенно нахмурился. – Мы слишком терпимы. Ни одна страна в мире не допустила бы этого. И что же получается? Мы создали эту страну, а теперь позволяем кучке иностранцев, подонкам Европы, отбросам польских гетто вытеснять нас.
– Все дело в том, что честный человек не будет пачкать себе руки политикой – у него нет желания заниматься общественными делами.
– Это верно. В наше время человеку нужно побольше денег. А на общественной работе их честным путем не заработаешь. Естественно, что лучшие люди обращаются к другим источникам.
– Прибавьте еще невежество этих грязных иммигрантов, которым мы даем право голоса, прежде чем они научатся говорить по-английски… – начал дядя Джефф.
Горничная поставила перед тетей Эмили блюдо с жареными цыплятами. Разговор затих, пока обносили гостей.
– Я совсем забыла сказать, Джефф! – воскликнула тетя Эмили. – Мы поедем в воскресенье в Скарсдэйл.[95]
– Мамочка, я терпеть не могу ездить за город по воскресеньям.
– Вот любит сидеть дома!
– Но воскресенье – единственный день, когда я могу отдохнуть дома.
– Так вышло… Я пила чай с барышнями Арленд у Маярда и, представь себе, за соседним столом сидела миссис Беркхард…
– Не супруга ли Джона Беркхарда, вице-президента Национального городского банка?
– Джон – прекрасный малый. Он далеко пойдет…
– Так вот, миссис Беркхард пригласила нас к себе на воскресенье, и я не могла отказать.
– Мой отец, – вставил мистер Вилкинсон, – был домашним врачом у старого Джонаса Беркхарда. Старик был продувная бестия. Он нажил себе состояние на мехах. У него была подагра, и он вечно чертыхался самым невероятным образом. Я помню его – краснощекий старик с длинными белыми волосами и шелковой ермолкой на лысине. У него был попугай, по имени Тобиас, и люди, проходившие мимо его дома, никогда не знали, Тобиас ли это ругается или старик Беркхард.
– Да, времена переменились, – сказала тетя Эмили.
Джимми сидел на своем стуле; по ногам у него бегали мурашки. У мамы был удар, и на той неделе опять в школу. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник…
Он и Скинни шли с пруда – они там играли с лягушками; на них – синие костюмы, потому что сегодня воскресенье. За сараем цвели кусты. Мальчишки мучили малыша Гарриса – кто-то сказал, что он еврей. Он громко и певуче хныкал:
– Оставьте меня, братцы, не трогайте! На мне новый костюм.
– Ай вай! Мистер Соломон Леви надел новый костюмчик! – визжали радостные голоса. – Где вы его купили, Ицка? У старьевщика?
– Должно быть, на распродаже после пожара.
– Тогда надо полить его из кишки.
– Польем Соломона Леви из кишки!
– Заткнитесь! Не орите так громко.
– Они просто шутят. Они ему не сделают больно, – шепнул Скинни.
Гарриса потащили к пруду. Он брыкался и вырывался; его опрокинутое лицо было бледно и мокро от слез.
– Он вовсе не еврей, – сказал Скинни. – А вот Жирный Свенсон – еврей.
– Откуда ты знаешь?
– Мне сказал его товарищ по спальне.
– Смотри, что они делают.
Мальчишки разбегались во все стороны. Маленький Гаррис карабкался на берег; волосы его были полны ила, из рукавов текла вода.
Подали горячий шоколад с мороженым.
– Ирландец и шотландец шли по улице. Ирландец говорит шотландцу: «Сэнди, пойдем выпьем…»
Продолжительный звонок у входной двери отвлек внимание от рассказа дяди Джеффа. Горничная-негритянка поспешно вошла в столовую и что-то зашептала на ухо тете Эмили.
– А шотландец отвечает: «Майк…» Что случилось?
– Мистер Джо, сэр.
– Ах, черт!
– Надеюсь, он ведет себя прилично? – тревожно спросила тетя Эмили.
– Немножко навеселе, сударыня.
– Сарра, на кой черт вы его впустили?
– Я не впускала его, он сам вошел.
Дядя Джефф оттолкнул тарелку и хлопнул салфеткой по столу.
– Черт! Я пойду поговорю с ним.
– Заставь его уйти… – начала тетя Эмили и вдруг остановилась с открытым ртом.
Между портьерами, висевшими в широком проходе, который вел в смежную комнату, просунулась голова с тонким, крючковатым носом и массой прямых черных, точно у индейца, волос. Один глаз с красными веками подмигивал.
– Хелло!.. Как поживаете? Можно войти? – раздался хриплый голос, и высокая, костлявая фигура высунулась из-за портьер вслед за головой.
Губы тети Эмили сложились в ледяную улыбку.
– Эмили, вы должны… гм… э… извинить меня… Я чувствую, что вечер… гм… проведенный за семейным столом… гм… будет… э-э… гм… вы понимаете… иметь… э-э… благотворное влияние… Понимаете – благотворное влияние семьи… – Он стоял, качая головой, за стулом дяди Джеффа. – Ну, Джефферсон, старина, как делишки? – Он хлопнул дядю Джеффа по плечу.
– Ничего. Садитесь, – проворчал он.
– Говорят… если хотите послушаться старого ветерана… э… бывшего маклера… ха-ха… говорят, стоит присмотреться к «Интербороу Рапид Транзит»… Не смотрите на меня так косо, Эмили… Я сейчас уйду… Как поживаете, мистер Вилкинсон?… Дети выглядят хорошо. А это кто? Я не я, если это не мальчишка Лили Херф!.. Джимми, ты не помнишь твоего… гм… кузена Джо Харленда? Помнишь?… Никто не помнит Джо Харленда… кроме вас, Эмили… Но и вы хотите забыть его… ха-ха… Как поживает твоя мать, Джимми?
– Ей немного лучше, спасибо. – Джимми с трудом выговорил эти слова.
– Ну, когда ты пойдешь домой, засвидетельствуй ей мое почтение. Она поймет… Мы с Лили всегда были друзьями, несмотря на то, что я пугало всего семейства… Они не любят меня, они хотят, чтобы я ушел… Вот что я тебе скажу, мальчик: Лили лучше их всех. Верно, Эмили? Она лучше нас всех.
Тетя Эмили кашлянула.
– Конечно, она самая красивая, самая умная, самая настоящая… Джимми, твоя мать – царица. Она была всегда слишком хороша для всего этого… Честное слово, я бы с удовольствием выпил за ее здоровье.
– Джо, умерьте немножко ваш голос. – Тетя Эмили выстучала эту фразу, точно пишущая машинка.
– Вы думаете, что я пьян?… Запомни, Джимми, – он потянулся через стол, обдавая Джимми запахом винного перегара, – не всегда бываешь в этом виноват… Обстоятельства… э-э… гм… обстоятельства… – Вставая, он опрокинул стакан. – Эмили косо смотрит на меня… Я ухожу… Не забудь передать Лили Херф привет от Джо Харленда. Скажи, что он ее будет любить до могилы.
Он нырнул за портьеры.
– Джефф, я боюсь, что он уронит севрские вазы. Последи, чтобы он благополучно вышел, и возьми для него кэб.
Джеймс и Мази хихикали, прикрываясь салфетками. Дядя Джефф побагровел.
– Будь я проклят, если я посажу его в кэб! Он мне не кузен. В тюрьму его следовало бы посадить! Когда ты увидишь его, Эмили, передай ему от моего имени, что если он еще раз придет к нам в таком виде, то я вышвырну его вон.
– Джефферсон, дорогой, не стоит огорчаться, ничего ведь не случилось, он ушел…
– Ничего? Подумай о детях. Предположи, что вместо мистера Вилкинсона здесь был бы чужой человек. Что бы он подумал про наш дом?
– Не беспокойтесь, – проскрипел мистер Вилкинсон, – это случается в приличных домах.
– Бедный Джо… Он такой славный малый, когда он в нормальном состоянии, – сказала тетя Эмили. – И подумать только, что несколько лет тому назад Харленд держал всю фондовую биржу в кулаке. Газеты называли его королем биржи. Помните?
– Это было до истории с Лотти Смизерс…
– Ну, дети, идите к себе, поиграйте, а мы будем пить кофе, – прощебетала тетя Эмили. – Им давно пора уйти.
– Ты умеешь играть в «пятьсот», Джимми? – спросила Мэзи.
– Нет.
– Как тебе нравится, Джеймс? Он не умеет играть в «пятьсот».
– Это игра для девочек, – надменно сказал Джеймс. – Я только ради тебя играю в «пятьсот».
– Подумаешь, какой важный!
– Давайте играть в зверей.
– Но нас всего трое. Втроем скучно.
– А в последний раз ты сам смеялся так, что мама велела нам прекратить игру…
– Мама велела прекратить игру, потому что ты ударила маленького Билла Шмутца и он заплакал.
– А что если мы сойдем вниз и посмотрим на поезда? – предложил Джимми.
– Нам вечером не разрешают сходить вниз, – строго сказала Мэзи.
– Давайте играть в биржу. У меня на миллион долларов бумаг для продажи, Мэзи будет играть на повышение, а Джимми – на понижение.
– Хорошо. А что мы должны делать?
– Бегайте, громче кричите… Ну, я начинаю продавать.
– Прекрасно, господин маклер, я покупаю всю партию по пяти центов за штуку.
– Нет, ты неправильно говоришь… Говори: девяносто шесть с половиной или что-нибудь в этом роде.
– Я даю пять миллионов! – закричала Мэзи, размахивая пресс-папье с письменного стола.
– Сумасшедшая, они стоят только один миллион! – заорал Джимми.
Мэзи остановилась как вкопанная.
– Что ты сказал, Джимми?
Джимми почувствовал, как жгучий стыд пронизал его; он опустил глаза.
– Я сказал, что ты сумасшедшая.
– Разве ты никогда не был в воскресной школе? Разве ты не знаешь, что в Библии сказано: «Если ты назовешь своего ближнего сумасшедшим, то попадешь в геенну огненную»?
Джимми не смел поднять глаза.
– Я больше не буду играть, – сказала Мэзи, выпрямившись.
Джимми каким-то образом очутился в передней. Он схватил шляпу, сбежал вниз по белой мраморной лестнице, мимо шоколадной ливреи и медных пуговиц лифтера, в вестибюль с розовыми колоннами и выскочил на улицу. Было темно и ветрено. Во мраке маячили зыбкие тени и гулко раздавались шаги. Наконец он добежал до гостиницы, взобрался по знакомой красной лестнице. Он шмыгнул мимо маминой двери. Пожалуй, еще спросит, почему он так рано пришел домой. Он вбежал в свою комнату, запер дверь на ключ и прислонился к ней, задыхаясь.

