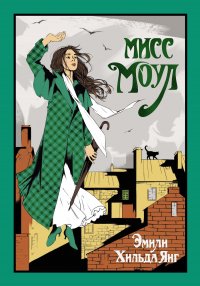
Читать онлайн Мисс Моул бесплатно
- Все книги автора: Эмили Хильда Янг
© М. А. Валеева, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
Глава 1
Голос новой подруги, желающий спокойной ночи, последовал за Ханной Моул по садовой дорожке, и лавровые кусты, которые она задела, проходя мимо, повторяли шепотом, но со странной убежденностью настоятельное приглашение миссис Гибсон навестить ее как можно скорее.
– Да-да, я приду! – торопливо крикнула Ханна и, обернувшись через плечо, увидела, как золотой прямоугольник на дорожке исчез: миссис Гибсон закрыла входную дверь и вернулась к проблемам, которых никогда не должно было возникнуть в ее респектабельном доме. Теперь Ханна, освобожденная от необходимости помогать, выражать сочувствие и давать советы, смогла наконец восхититься собственными умениями, которые проявила в этом деле. Но в первую очередь, будучи от природы человеком благодарным, хотя и высоко себя ценившим, она вознесла горячую благодарность за своевременное оправдание ее веры в непреложную увлекательность жизни. Эта вера была стойкой, но в последнее время приходилось прикладывать усилия, чтобы такой она и оставалась, однако в тот самый момент, когда Ханна больше всего нуждалась в ободрении, поддержка пришла. Мисс Моул, конечно, не собиралась принижать похвальную быстроту, с которой ухватилась за представившуюся возможность; в самом деле: чудеса случаются для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И кому как не Ханне Моул хватило бы ума после столкновения с пышной грудью миссис Гибсон и принесенных извинений слегка задержаться, чтобы дать той прийти в себя, отдышаться и объяснить наконец, почему она стоит за калиткой с непокрытой головой и в расстроенных чувствах.
Теперь Ханна была на том же самом месте, так же слегка запыхавшись от волнения и попытки примирить свою удачу с мелким обманом работодательницы, на который пришлось пойти. Попытка не увенчалась успехом, и мисс Моул еще больше утвердилась в том, что ее жизнь не подчиняется общепринятой людской морали: иначе Ханну наверняка наказали бы, а не вознаградили за ложь, которая побудила миссис Виддоуз отправить компаньонку за покупками в тот час, когда предполагалось, что она будет починять лучшее после парадного черное платье почтенной вдовы. Да уж, Ханна должна была попасть под машину или, что еще хуже, подвергнуться нападению грабителя и лишиться сумки в наказание за то, что спрятала катушку черных шелковых ниток и притворилась, будто не может ее найти.
В тесной маленькой гостиной миссис Виддоуз стояла невыносимая жара. Пылал и потрескивал огонь в камине; канарейка, сморенная духотой, вяло шевелилась в клетке; корсет миссис Виддоуз размеренно скрипел, а ее костлявое левое колено почти касалось правого колена компаньонки, поскольку женщины сидели рядом, деля свет одной лампы, и тут Ханна, у которой мозгов было побольше, чем у канарейки, придумала способ спастись. Умудренная опытом, она не стала прямо предлагать сходить за шелковыми нитками, а лишь с сожалением заметила, что миссис Виддоуз не сможет завтра надеть свое второе приличное платье, после чего та тотчас же с негодованием погнала Ханну в магазин с указанием обернуться немедленно. Однако прошло почти два часа, а нитки по-прежнему оставались в магазине. Впрочем, мисс Моул не волновалась, ведь катушка, которую она тайком извлекла из рабочей корзинки, лежала в кармане ее пальто, так что она обогатилась на два с половиной пенса и целое приключение. Но течение времени – дело серьезное, серьезное настолько, что лишние час или два погоды не сделают. Она посмотрела в один конец улицы, потом в другой и, хотя, по видимости, колебалась между долгом и желанием, свой выбор уже сделала: она отправится прямиком к уличной сутолоке и магазинам. При свете фонаря Ханна взглянула на старомодный хронометр-луковицу, который носила в сумочке. Шесть часов; большинство магазинов наверняка закрылись, но впереди ждут яркие огни и суета, полные пассажиров шумные трамваи, которые рывком срываются с места, как удивительные звери, радующиеся своей силе, и пешеходы, идущие домой из Рэдстоу. И мисс Ханна Моул, у которой нет своего дома, будет смотреть на них с завистью, но и с циничной мыслью, что некоторые из жилищ могут оказаться не менее душными и недобрыми, чем обитель миссис Виддоуз, или в них, как в доме, который она только что покинула, разыгрываются трагедии, приправленные черным юмором. Ханна почти двадцать лет зарабатывала на жизнь трудом компаньонки, гувернантки и помощницы по дому и за это время утратила практически все иллюзии, кроме тех, которые создавала для себя сама; они подчинялись ее воле, и сейчас, взбудораженная недавним приключением, Ханна готова была сотворить очередную иллюзию с приближением каждого встречного. Однако прохожих на Принсес-роуд было немного, да и эти немногие неспешно прогуливались, словно старые особняки с террасами по одной стороне улицы влияли на них сильнее, чем здания более поздней постройки по другой стороне. Именно старинные дома придавали характер улице, и здесь, как и везде в Верхнем Рэдстоу, бережно сохранялась узнаваемая индивидуальность места, не тронутого никакими материальными и духовными сдвигами с тех самых пор, как первые красные кирпичи были надежно уложены в кладку. Район напоминал шедевр портретной живописи, с полотна которого человек минувшего поколения взирает на потомков свысока и властвует над ними через соединение мастерства живописца и собственной неизменности. Даже там, где старые дома исчезли, их призраки, казалось, витали над улицей, и Ханна тоже шла неспешно, стараясь их не потревожить. Ни в одном из мест, с которыми она была знакома, деревья не отбрасывали в свете фонарей таких красивых теней, как в Рэдстоу, и в этот безветренный вечер узорчатые листья отпечатывались на мостовой с необычайной, почти сверхъестественной четкостью. Время от времени Ханна останавливалась, чтобы рассмотреть их тени, озадаченная вопросом, почему отраженный предмет всегда кажется красивее оригинала, и стремясь найти аналогию этому опыту в мыслительном процессе.
– Не сама вещь, а ее тень, – пробормотала она, глядя на свой вытянутый силуэт, шагающий впереди, и кивнула, будто разрешила какую‐то загадку. Мисс Моул судила себя по той тени, которую сама, для своего же удовольствия, выбирала отбрасывать, и делом ее жизни было заставить других поверить в эту проекцию. Однако она потерпела поражение, всецелое и сокрушительное. Никто не хотел смотреть на прекрасную драгоценную Ханну Моул, все видели лишь оригинал и не одобряли его, и Ханна их не винила: она и сама поступила бы точно так же. В тот единственный раз, когда она сосредоточилась на представленной ей прекрасной тени человека, а не на его сущности, ее ждало горькое разочарование.
Отбросив неприятную мысль, мисс Моул ускорила шаг и вышла на широкую магистраль, где со звоном катились трамваи. Тут она остановилась и огляделась. Эта часть города недавней постройки не особо ей нравилась, но осенним вечером даже здесь было прекрасно. Широкое пространство, образованное слиянием нескольких дорог, со всех сторон обрамляли деревья, которые в Рэдстоу росли повсюду, – как и шпили церквей, возносящиеся к небу, они, похоже, были на каждом углу, – а электрические фонари на высоких столбах отбрасывали театральные блики на зеленую, багряную и желтую листву. По левую руку от Ханны в зарослях кустарника пряталось здание в дурном греческом стиле, куда музы время от времени влекли жителей Рэдстоу для не слишком искреннего поклонения. Темнота, в которой оно укрывалось, внезапно взрезанная фарами проезжающего автомобиля, мягко скрадывала недостатки и придавала бледному фасаду с колоннами таинственность, а удаление от дороги обещало некий намек на чувствительность и отчужденность. Когда Ханна проходила мимо этого храма искусств днем, ее длинный нос дергался в насмешке над фальшивой строгостью портика и порыжелыми лавровыми кустами, которые должны были подчеркнуть важность здания в эстетической жизни Рэдстоу (интересно, когда садовник выбирал лавры, его интересовала только их выносливость?), но в полумраке оно привлекало искусственным очарованием; к тому же можно было не обращать внимания на афиши на ограждающих перилах и видеть лишь еще один пример способности города счастливо сочетать несочетаемое. Ханна стояла на тротуаре, худая и потрепанная, такая незначительная в старой шляпе и еще более старом пальто и настолько полно забывшаяся в наслаждении сценой, что вполне могла быть одета в плащ-невидимку; и пока она следила за быстрыми разноцветными трамваями, скользящими подобно картинкам в волшебном фонаре, никто из тех, кто все же заметил ее сквозь волшебный плащ, не заподозрил бы мисс Моул в способности превращать обычное в редкое и таким образом обуздывать беспокойные мысли. Впрочем, сегодня она не могла сдержать тревогу полностью, потому что, хоть и была довольна своим приключением и рассуждениями, в которые оно позволило погрузиться, по-прежнему альтруистически беспокоилась о других участниках драмы, да и саму ее ожидали очевидные последствия. Миссис Виддоуз была не из тех, кого можно растрогать слезливыми признаниями и оправданиями, и Ханне в настоящий момент грозило остаться без места. Знакомый опыт, но в данном случае ее презрение к обстоятельствам было бы напускным. Быстро подсчитав в уме свои сбережения, она пожала плечами и свернула направо. Чашка кофе и булочка должны были придать ей сил перед встречей с хозяйкой, а за трапезой можно было еще раз притвориться, что ее внешность не соответствует содержимому кошелька и она просто одна из тех эксцентричных богатых леди, которым нравится выглядеть бедными. Притворяться Ханна умела и неустанно благодарила Бога, что самоуважение позволяет ей сопротивляться снисходительности и подчеркнутой доброте, ранящим гордые души; коварству, с которым она сталкивалась в юности со стороны мужчин, когда уступчивость и пренебрежение были в равной степени губительны для ее благополучия; издевательствам людей, неуверенных в своей власти, и бессердечию тех, кто видел в ней машину, которая приступает к работе по их приказу и не смеет остановиться без спросу. Независимость мисс Моул пережила все это, и Ханна знала – хоть не сожалела – о том, что твердое убеждение в своем человеческом достоинстве оказывается причиной ее бед чаще, чем любой из недостатков. Однако и от него бывала польза, когда она, к примеру, заказывала кофе с булочкой у молодых женщин, уважающих более нескромные аппетиты, так что она продолжила идти, сохраняя достоинство и наслаждаясь прогулкой. И хотя подобную улицу можно было найти в любом городе, Ханна знала, что́ таится в конце, поэтому уговаривала себя как ребенка, который считает, что его обманули, пообещав сюрприз: уже недалеко, еще немного, до сюрприза рукой подать, – и когда она увидела долгожданную картину, то вознаградила себя долгим вздохом удовлетворения.
Она стояла на вершине крутого холма, с которого сбегали, хаотично теснясь, ряды магазинов и цепочки фонарей, чтобы встретиться внизу и затеряться в голубом тумане. На открытом пространстве, окутанном теперь дымкой, росли деревья; золотые и охристые ветви подсвечивали другие фонари, и хотя на таком расстоянии и в сгущающихся сумерках цвета было трудно различить, память Ханны усиливала зрение, и пейзаж представлялся ей расписной алтарной преградой [1] собора, темная башня которого виднелась вдали на фоне бледного по контрасту неба. Была ли эта перспектива столь же прекрасна для других, как и для нее, Ханна не знала, да это и не имело значения; чудо заключалось в том, что детские воспоминания ее не обманули. Впервые она стояла на этом месте тридцать лет назад, когда после дневного похода по магазинам они с родителями остановились на мгновение перед спуском на станцию, и огни, туман, деревья, глядящие сквозь таинственное море синевы, казались ей тогда не менее сказочными, чем теперь. Есть вещи непреходящие, сказала она себе и улыбнулась, вспомнив, как отец приписывал волшебную голубую дымку влаге, поднимающейся от реки, и как мать вздохнула по поводу предстоящего спуска с горы. Для маленькой Ханны (она рисовалась себе в нелепом платье и деревенских башмаках между кряжистым, как одна из его яблонь, отцом с одной стороны и румяной как яблочко мамой – с другой) это было путешествие, полное наслаждения, которое ничуть не уменьшилось, когда они спустились к самой лазури и, достигнув ее, потеряли, поскольку потом свернули за угол и оказались посреди суматохи, волнующей, как цирковое представление. Огромные разноцветные трамваи, любви к которым Ханна не утратила по сей день, собирались вокруг треугольной площадки, и когда одно из аккуратно управляемых чудовищ скользило прочь под звон колокольчика, рассыпая искры над крышей вагона, другое заступало на его место, а первое, удаляясь, становилось все меньше, набирая скорость и покачиваясь с боку на бок от удовольствия и осознания своей силищи. Казалось, нет конца этим левиафанам с их ярко освещенными – в отличие от чрева кита Ионы, которому такое и не снилось, – внутренностями; и когда, подталкиваемая обоими родителями, девочка втиснулась в один из трамваев, не успев толком ими налюбоваться, то чуть не пропустила мачты и трубы кораблей, вырастающие, как казалось, прямо из улицы; и хотя позже она узна́ет, что река здесь течет по водопропускной системе шлюзов, вливаясь в доки, это знание, которое так многое портит, не лишит ни юную, ни зрелую Ханну повторяющегося как в первый раз изумления при виде чудесного зрелища.
С тех пор в городе многое переменилось. Крутая улица рычала ползущими на подъем и мурлыкала катящимися под гору автомобилями; на тротуарах стало больше людей – откуда все они взялись? – спрашивала себя Ханна, думая о снижении рождаемости, но не возмущалась их присутствием. Толпа будоражила напоминанием о том, что у каждого отдельного человека есть право на существование, что жизнь других требует от них такого же полновластия, как и ее собственная, и что у них так же есть перед жизнью обязательства: мысль, заставляющая спуститься с высот гордыни, но и благотворная. Ханна вовсе не считала, что ее жизнь скупа на удовольствия или что они усиливаются, если наслаждаться ими тайком. Она чуть было не взмахнула рукой посреди улицы, как бы приглашая всех незнакомцев разделить с ней красоту, раскинувшуюся внизу, но голод снова дал о себе знать, и она с сожалением преодолела оставшиеся несколько шагов и вошла в чайную.
Глава 2
В этот час, когда до ужина было еще далеко, а время вечернего чая миновало, заведение оказалось полупустым, и леди, которая сидела напротив входа и вздрогнула при виде вошедшей, сумела подавить первоначальный испуг и смириться с тем, что разыграть неузнавание не получится. Она опустила нож и вилку, пока Ханна, в свою очередь, приближалась с наигранным воодушевлением.
– Лилия! Какое счастье! – громко воскликнула мисс Моул, а затем удовлетворенно хихикнула, пока ее глаза неопределенного цвета – то ли светло-карие, то ли зеленые, а может, и серые – обозревали видимую часть фигуры сидящей за столом дамы. – Ты все такая же! – промурлыкала она, и уголки ее большого рта приподнялись в дружелюбной улыбке. – Если бы я попыталась нарисовать в мыслях, как ты будешь выглядеть, случись нам встретиться, – хотя, по правде говоря, я давно о тебе не вспоминала, – в моем воображении ты выглядела бы именно так. И шляпка у тебя определенно осенняя, но не унылая…
– Ради бога, присядь, Ханна, и говори потише. Что вообще ты здесь делаешь?
Мисс Моул села, а на стул, занятый элегантной сумочкой миссис Спенсер-Смит с личной монограммой, поставила свою, потрепанную, чтобы разница стала очевидна, отчего Лилия раздраженно дернула подбородком; однако, когда Ханна подняла глаза, в их выражении не было ни тени зависти.
– А пальто! – продолжила она. – Ну не чудо ли, как твоему портному удалось скрыть горбик на шее, который с возрастом вырастает у многих. Впрочем, может, у тебя его и нет. В любом случае выглядишь чудесно, и я очень рада тебя видеть.
Миссис Спенсер-Смит моргнула, отметая сомнительный комплимент, и заметила:
– Я считала, что ты обретаешься где‐нибудь в Брэдфорде или таком же затрапезном городишке.
– Уже много лет как нет, – сказала Ханна и заглянула в тарелку Лилии. – Что ты ешь? И почему здесь? Подхватила привычку питаться в ресторанах или у тебя нет кухарки?
– Моя кухарка бессменно служит мне больше десяти лет, – высокомерно ответила миссис Спенсер-Смит.
– Что делает ей честь, – заметила мисс Моул, подзывая официантку и заказывая кофе и булочку. – Спроси при случае, как ей это удается.
– Она удовлетворяет требованиям, – так же высокомерно ответила ее собеседница.
– И, уверена, выполняет их, – вздохнула Ханна. – С другой стороны, не укачало на качелях – стошнит на каруселях, и я предпочту мой опыт ее характеру. В конце концов, что ей с ним делать, кроме как смириться? А ответственность, должно быть, огромная. Золотой характер хуже жемчуга, ведь тот, по крайней мере, можно заложить.
– Напротив… – начала миссис Спенсер-Смит, но мисс Моул остановила ее, выставив ладонь:
– Я знаю. Мне известны все моральные максимы. Говорить легко. И опять же, не все работодатели подобны тебе, Лилия. Кстати, кофе пахнет чудесно, но увы, булочка слишком мала! Да, твои слуги всегда сыты, не сомневаюсь, а уж спальни у них просто безупречны. Ты бы видела ту, что я сейчас занимаю: в полуподвале, среди мокриц. А слуга спит на чердаке, подальше от любвеобильных полисменов. И не нужно встревоженно хмуриться, Лилия. Моей жизни ничто не угрожает. – Она откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. – Зато я слышу корабли. Слышу, как они гудят, поднимаясь вверх по реке. Знаешь, что такое ностальгия? Именно это я испытывала в том, как ты выразилась, заштатном городишке. Поэтому я потратила часть кровно заработанных…
– Не кричи, – взмолилась миссис Спенсер-Смит.
– Да какая разница. С твоей всем известной склонностью к благотворительности меня просто примут за одну из твоих приживалок – и честно предупреждаю, что могу ею стать. Я пожертвовала немало средств на нонконформистские религиозные еженедельники и чуть не подорвала собственную репутацию, демонстративно читая их. Но меня интересовал только раздел объявлений. Я хотела оказаться в Рэдстоу, а жители Рэдстоу извещают о своих нуждах в религиозных еженедельниках. Я уцепилась за первое же предложение с крошечным жалованьем и, к сожалению, не застала цветения сирени и ракитника, зато поспела как раз к золотой осени, ведь так ты называешь эту пору, дорогая Лилия? Но, – печально добавила Ханна, – до следующей весны я не продержусь, а так хотелось ее увидеть. Потому что, боюсь, уже сегодня вечером меня опять уволят.
Миссис Спенсер-Смит снова нахмурилась, незаметно оглядела чайную и, к счастью не увидев никого из знакомых, резко прошипела:
– И ты сидишь здесь и поедаешь пирожные!
Приподняв брови в веселом изумлении, Ханна взглянула на пустую тарелку с крошками от булочки.
– Я всегда была безрассудна, – пробормотала она и, чтобы перевести тему разговора с себя любимой, с преувеличенным энтузиазмом спросила: – А как Эрнест? Как дети? Я была бы рада их повидать.
– Дети в школе, – отрезала миссис Спенсер-Смит, немедленно пресекая надежды собеседницы. – У Эрнеста все хорошо, как обычно. Хотя он работает сверхурочно, – добавила она, разрываясь между гордостью за мужа и привычным неудовольствием. – А теперь, Ханна, давай вернемся к твоему непростому положению. Что случилось? И будь добра, отвечай правдиво, если ты на это способна. С кем ты проживаешь?
– С длинной тощей женщиной с накладными буклями вместо челки. Одевается она во все черное; предполагается, что как раз сейчас я чиню ее лучшее после выходного платье. Даже исподнее у нее наглухо черное, от подмышек до колен. В память о покойном она носит черные бусы, и фотография почившего, увеличенная и раскрашенная, выставлена на мольберте в гостиной. Проживает вдова на Ченнинг-сквер под фамилией Виддоуз [2]. Пророческой, можно сказать. Думаю, лишь поэтому супруг и рискнул жениться.
– Не будь вульгарна, Ханна. Шутки о браке – проявление дурного вкуса. Значит, миссис Виддоуз? Никогда о ней не слышала.
– Возможно, поэтому она так неприятна, – любезно заметила мисс Моул.
Блестящие, как у птички малиновки, карие глаза миссис Спенсер-Смит затуманились неодобрением. Она была неглупа, хоть и позволяла Ханне предполагать обратное, и сурово произнесла:
– Тебя послушать, так каждый твой работодатель вызывает только неприятие.
– Не каждый, – поспешно возразила мисс Моул, – но тех, кого я любила, я лишилась, и, увы, по собственной вине. Они были исключительными людьми! Но вот остальные… Ну естественно, а чего ты ожидала? У меня и должность, которую не знаешь, как назвать, к тому же возможно – маловероятно, но чем черт не шутит, – на свете есть люди, которые находят миссис Виддоуз приятнейшей особой.
– Ты не желаешь приспосабливаться! – возмутилась миссис Спенсер-Смит. – То же самое было и в школе. Ты вечно бунтовала против власти. Но уж к настоящему времени должна была набраться ума! Допустим, уйдешь ты от миссис Виддоуз, и что собираешься делать дальше?
– Не знаю, – сказала мисс Моул, – но я точно собираюсь съесть еще одну булочку. У меня завалялись в кармане лишние пара пенни и полупенсовик. Я их заработала ловкостью рук. Да, будьте любезны, еще одну булочку, они у вас чудесные, со смородиновой начинкой, пожалуйста. Врачи, – поведала она миссис Спенсер-Смит, – утверждают, будто смородина обладает питательными свойствами, а я в них нуждаюсь как никогда. Не знаю, что я буду делать дальше, но не слишком об этом беспокоюсь. У меня впереди целый месяц для построения планов; признаться, обожаю последний месяц перед расчетом. Я испытываю такую радость, такую свободу, и, в конце концов, бывали случаи, когда в итоге меня просили остаться. Счастье, – вздохнула она, и тон ее стал слегка масленым, – величайшая движущая сила, не так ли?
– Цыц! – цыкнула миссис Спенсер-Смит. – Уж на мне‐то не испытывай свои приемчики. Я тебя слишком хорошо знаю.
Мисс Моул фыркнула.
– Допустим, но не в Рэдстоу. Я позаботилась о твоей репутации: ни одной живой душе не сказала, что мы родственницы. И даже не доставила тебе неудобства, сообщив, что нахожусь здесь. Признай, это целиком моя заслуга. Заяви я с порога, что я двоюродная племянница миссис Спенсер-Смит, эта драная черная кошка уж конечно отнеслась бы ко мне по-другому, ведь тебя все знают! Но нет, я ни минуты не думала о себе.
– Тебе пошло бы только на пользу, если бы ты в действительности не имела ни пенни, – отчетливо произнесла Лилия. – Полагаю, дом ты сдаешь внаем?
– Дом? – изумилась Ханна. – А, ты имеешь в виду тот крохотный коттеджик?
– Ты же получаешь за него арендную плату?
– Полагаю, да, – ответила Ханна со странной улыбкой, – вот только деньги у меня имеют обыкновение утекать как вода сквозь пальцы.
– Значит, переселиться туда, когда оставишь место, ты не сможешь. Тебе стоит умерить аппетиты, Ханна, а иначе даже не знаю, что с тобой будет.
– Ну… – протянула мисс Моул, – возможно, я окажусь в твоем милом красно-белом домике, и не далее чем завтра, поскольку меня могут выставить за дверь без предупреждения. Да-да, окажусь в твоем чудесном особнячке с кружевными занавесками, геранями и щебенчатой подъездной дорожкой и буду завтракать в постели, хотя, боюсь, твоя служанка будет скандализована видом моей ситцевой ночной сорочки.
– Я сама сплю в ситцевой сорочке, – кивнула миссис Спенсер-Смит, выражая свое сугубое одобрение.
– Но твоя служанка – вряд ли.
– И вовсе не завтрак в постель тебе нужен, Ханна.
– Что ты об этом знаешь!
– Тебе нужно место, где ты могла бы осесть и быть полезной, – продолжила Лилия. – Возможность приносить пользу – вот что сделает тебя счастливой. Неужели ты не в состоянии передумать и угодить наконец миссис Виддоуз?
– Она не желает, чтобы ей угождали. Она с нетерпением ждала момента, когда сможет меня выдворить и найти себе новую жертву, и вот час настал. И я не боюсь умереть с голода, пока у меня есть такая добрая богатая тетушка – ладно, кузина! – как ты, моя дорогая. К тому же моя старая школьная подруга! Чего я хочу в свои годы (такие же, кстати, как твои), так это какую‐нибудь необременительную работенку в доме вроде твоего. Уж это ты мне можешь предложить. Кто‐то же должен расставлять цветы в вазах и пришивать оторванные пуговки к перчаткам, а если к ужину ожидаются гости, я в столовой и не появлюсь. Ты сможешь не считаться с моими чувствами, поскольку у меня их нет, а если кухарка решит внезапно уволиться, я умею готовить, если же уволится горничная, то смогу расставить блюда на дамасской скатерти.
– Да, не сомневаюсь! И опрокинуть на нее соус. Но так уж вышло, что моя прислуга не предупреждает об увольнении загодя. При первых признаках недовольства я увольняю слуг сама.
– Так с ними и надо! – бодро воскликнула Ханна. – Но прислуга может заболеть, Лилия, – продолжила уговаривать она, наклонившись через стол, – а тут я, просто находка. И ты сама знаешь, что в глубине сердца Эрнест питает ко мне слабость.
– Да уж, – проворчала Лилия, – слабости Эрнеста доставляют массу неудобств. Сегодня, например, когда я хотела взять автомобиль, чтобы вернуться домой после напряженного дня, выяснилось, что муж одолжил его кому‐то еще. Вечером мне нужно быть в молельном доме на собрании литературного общества, но если я дважды за день пересеку Даунс [3] пешком, то выбьюсь из сил еще до начала мероприятия.
– Зато это пойдет на пользу твоей фигуре, – заметила Ханна, – а то ведь в один прекрасный день портной не сможет объять необъятное. Так вот, значит, почему ты обедаешь не дома. Я бы посмотрела на тебя на собрании, и обещаю не зевать во весь рот. И какова тема?
– Чарльз Лэм.
– Ну как всегда, – пробормотала Ханна, наморщив нос.
– Это моя обязанность, – терпеливо, но с оттенком величия объяснила миссис Спенсер-Смит. – С куда бо́льшим удовольствием я провела бы вечер дома с интересной книжкой, но подобные мероприятия нужно поддерживать ради подрастающего поколения.
– О да, вот только молодежь на такие собрания не ходит. Одни престарелые девицы вроде меня, которым больше нечем заняться. Видела я, как они клюют носом, сидя на жестких скамьях, как куры на насесте.
– Сегодня‐то они точно уснут, – заявила Лилия, но тут же добавила, вспомнив, что Ханна все‐таки должна знать свое место: – Хотя не тебе блистать остроумием насчет старых дев. Вечные попытки острить – один из главных твоих недостатков.
Мисс Моул смиренно потупилась.
– Я знаю, что не должна замечать смешного, за исключением тех случаев, конечно, когда вышестоящие изволят пошутить, вот тогда‐то я обязана прямо‐таки лопнуть от смеха. У меня нет права своевольничать или высказывать свое мнение, но, увы, я всегда поступаю наперекор! Поэтому буду смеяться, когда мне смешно, и вовсю демонстрировать собственное скудоумие. Позволь мне пойти сегодня с тобой, Лилия, и, возможно, я выставлю свою кандидатуру, чтобы толкнуть речь на собрании.
– Ты выставишь себя дурой, – возразила миссис Спенсер-Смит, оборачивая горло меховой горжеткой, скромной, но дорогой. – Возвращайся сию же минуту на Ченнинг-сквер и, ради бога, попытайся припомнить, с какой стороны твой бутерброд намазан маслом. В любом случае, лекция мистера Бленкинсопа вряд ли послужит большим развлечением. Он довольно унылый юноша. В чем дело? – спросила она, увидев, что собеседница уронила руку с булочкой, которую не успела надкусить, да так и застыла с открытым ртом.
– Какая занятная фамилия! – пробормотала Ханна. Она откинулась на спинку стула и сложила руки на коленях. – Я люблю сверять свои впечатления о людях – или как это назвать, догадки? – с подлинными фактами. Взять, например, эту фамилию. Я бы так и предположила, что ее обладатель – унылый юноша, похожий на встрепанную сову, с ветхозаветным библейским именем. Я права?
– Его зовут Сэмюэл, – неохотно подтвердила миссис Спенсер-Смит, которую раздражал предмет разговора.
– И он прихожанин вашей общины?
– Не слишком усердный, должна сказать. Он крайне непостоянен.
Ханна, сверкнув глазами, подалась вперед.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что он любитель гульнуть налево?
Веки миссис Спенсер-Смит прикрыли глаза, отсекая мир, в котором существуют любители загулов.
– Он приходит в церковь не каждое воскресенье, – холодно уточнила она.
– Это идет вразрез с одним из моих предположений, но так даже интереснее. Ты уходишь, Лилия? Постарайся отыскать для меня уголок в своем красно-белом доме. Я проходила мимо несколько раз. Мне нравится цветовая гамма. Сочетание желтого щебня и гераней…
– Герани уже отцвели, – перебила Лилия. – И какого еще цвета, по-твоему, должен быть щебень из песчаника? Я спрошу у Эрнеста, не знает ли он подходящей вакансии.
– Ответ Эрнеста будет очевиден. Лучше не спрашивай.
– И потом напишу тебе.
– Не беспокойся, не стоит, – беззаботно отмахнулась мисс Моул. – Я как‐нибудь загляну на чай вечерком. Это, конечно, не лучший мой наряд, – она ехидно улыбнулась, – но почти. Однако туфли, – и Ханна выставила неожиданно элегантно обутую ногу, – выдержат любую инспекцию.
Миссис Спенсер-Смит невольно опустила взгляд.
– Как нелепо! У тебя совершенно отсутствует чувство меры.
– И однако, – мисс Моул указала на правую ногу, – я купила эти туфли без раздумий, за одну лишь красоту. К счастью, правая не получила ни царапины. – Ханна подняла взгляд, и лицо ее приобрело озорное выражение. – Я выбила ею окно, Лилия.
Недоверие боролось в миссис Спенсер-Смит с любопытством, а любопытство – с твердым намерением лишить собеседницу удовольствия почувствовать интерес к своей персоне.
– Пф! – небрежно фыркнула она, но тут ее нетренированное воображение совершило внезапный скачок к неожиданному выводу: – Уж не хочешь ли ты сказать, что та вдова выставила тебя на улицу, а сама заперлась в доме?
– Я ничего не хочу сказать, – любезно ответила мисс Моул и с улыбкой на лице проводила взглядом кузину, чей горделивый уход должен был показать посетителям, число которых в чайной заметно увеличилось, что она вовсе не одного поля ягода с особой, оставшейся за столиком.
Глава 3
Поздней весной тротуары по всему Верхнему Рэдстоу усеяны разноцветными крапинками – как будто в каждом доме состоялась свадьба, – и белые, розовые, фиолетовые и желтые лепестки лежат повсюду, облетая с деревьев, как благословение на пороге лета. А перед этим, побуждаемые теплыми дождями, деревья медленно раскрывают молодые листочки, бережно разворачивая ежегодный подарок, который никогда не устаревает, и цветы, распускающиеся следом, звенят счастливым смехом, подтверждающим успех предприятия. В осыпающихся лепестках есть благородное смирение невысоких цветущих деревьев со своей участью, ведь они остаются лишенными красоты все оставшиеся месяцы: летом их зелень растворяется в буйстве окружающей растительности, а осенью лиственный наряд не отличается роскошью красок. Мисс Моул пропустила весну в Рэдстоу, пропустила цветение миндаля – сочность ярко-розовых соцветий на фоне лазури, выцветающую до бледно-розового, почти белого цвета, на фоне пасмурного неба, – цветение сирени, ракитника и махровой вишни, тюльпаны на длинных стеблях в садах и тайное знание, что за рекой, на поросшем травой берегу, распускаются примулы; лето же Ханна застала и попыталась выжать всё из единственного времени года, которое не слишком жаловала; и вот наступила осень, щедрая на золото и бронзу, и случались моменты, когда мисс Моул почти готова была изменить своей приверженности весне, точнее, развить вместе с нею и любовь к осени, которая отвечает за будущий весенний рост. Весной Ханна знала с уверенностью, что каждый день принесет с собой нечто новое и волнующе-прекрасное, осенью же ее удовольствие было сколь предвкушающим, столь и завершенным. Как человек, пожирающий глазами винные бутылки, которыми собирается наполнить свой погреб, наслаждается многообразием форм сосудов, объемов и оттенков содержимого, но все же с нетерпением ожидает того дня, когда вино созреет, так и Ханна сначала наблюдала за деревьями на пике их расцвета, а теперь с удовлетворением гораздо более глубоким, чем доступно взгляду, созерцала ковер листвы у их корней. Она была дочерью фермера, ее тянуло к земле, вид хорошо удобренной почвы вызывал у нее физическое удовольствие, и хотя мисс Моул обладала не меньшей тягой к красоте (которую считала самодостаточной), дополнительное удовлетворение ей приносило то, что красота питает тот источник, из которого произросла; поэтому когда в октябре Ханна бродила по Верхнему Рэдстоу, неожиданно обнаруживая узенькие улочки и мощеные переулки, извилистые тропинки и каменные ступеньки, ведущие из Верхнего в Нижний Рэдстоу; когда гуляла вдоль длинной Авеню, где с одной стороны, в глубине от дороги, стояли большие дома, отгороженные высаженными в ряд вязами, а с другой, тоже за аллеей вязов, тянулась травянистая пустошь с одиночными деревьями, которая, круто обрываясь, образовывала высокий берег реки; когда пересекала равнину Даунс, утыканную там и сям разросшимися кустами боярышника, теряющимися в бескрайних просторах, где благодаря голосам корабельных гудков, то призывным, то жалобным, не покидало ощущение близости реки, пусть и невидимой, – тогда Ханна чувствовала, что если у нее дела и находятся в плачевном состоянии, то у природы они обстоят превосходным образом.
Пока ей не исполнилось четырнадцать, она видела Рэдстоу лишь урывками, когда родители, отправляясь по делам в город, брали ее с собой; эти редкие поездки были и удовольствием, и пыткой, поскольку отец надолго застревал на скотном рынке, а мать неоправданно много времени проводила в магазинах. Ханну сводила с ума мысль о том, что многие извилистые мили реки остаются неисследованными, как и доки; что за каких‐то полпенни ей досталось бы путешествие на пароме; что ее ждут широкие мосты, перекинутые над рекой, и узкие, без поручней, мостки над шлюзами, огромные корабли с мешками муки, скользящими в трюмы, медленные неповоротливые краны, не спешащие расставаться с захваченным в клешни грузом; было мучительно видеть все это лишь мельком или во время отчаянных вылазок, из которых ее выдергивали тревога матери, гнев отца или собственное преждевременное понимание, что эти двое – сущие дети и потому их нельзя расстраивать. Она всегда испытывала по отношению к родителям смутную жалость: наверное, какое‐то время они являлись для нее источником мудрости и авторитета, но в памяти сохранилась лишь неловкость из-за их медлительности и молчания, изредка прерываемого для изложения того, что они считали фактами. А еще они казались очень старыми – оба были уже в годах, когда родилась Ханна, – тогда как она могла себе позволить на время отложить исследования.
Способность ждать и вера в наступление лучших времен сослужила Ханне хорошую службу на протяжении жизни, которую другие люди сочли бы скучной и полной разочарований. Мисс Моул же отказывалась смотреть на свое существование с такой точки зрения: это было бы предательством по отношению к себе самой. Жизнь была чуть ли не единственным достоянием Ханны, и она обращалась с нею бережно, как мать с неполноценным ребенком: нет сомнений, что ситуация выправится, произойдет большое чудо, ну а пока всегда есть место для чудес поменьше – как, например, возможность вволю нагуляться по Верхнему Рэдстоу, пересечь подвесной мост и углубиться в лес на высоком южном берегу реки или отправиться дальше в поля – миссис Гибсон была бы поражена ее энергией! – и обнаружить там настоящую сельскую местность, где ветер пахнет яблоками и влажным мхом. Ханне впервые представилась возможность исследовать город, ведь, хотя на пятнадцатом году жизни ее отправили в школу в Верхний Рэдстоу, до сего дня экскурсии были весьма ограничены и никогда не проходили в одиночестве. Однако она влюбилась в эти места и сохранила детскую способность удивляться. Ханну не огорчали даже частые дожди, и она была безмерно благодарна отцу за внезапный приступ подражательства, который побудил фермера послать дочь в школу вместе с кузиной Лилией. Подобным поступком отец переступил через свою веру в то, что для дочери простого крестьянина модное образование не ступенька, а камень преткновения на жизненном пути, к тому же ему пришлось изрядно поднапрячься с деньгами, и Ханна часто спрашивала себя, какие скрытые противоречия расцвели в батюшке буйным цветом к ее внезапной выгоде. Это был единственный импульсивный поступок человека, столь же далекого от эксцентричности, как репа с его грядок; впрочем, Ханне случалось видеть, как репа иногда вырастает немыслимо странной формы; вероятно, нечто вроде подобного отклонения настигло и фермера Моула. В школе его дочь оставалась до своего восемнадцатилетия, поскольку не должна была покинуть ее ни днем раньше, чем Лилия; это экстравагантное решение, как подозревала Ханна, приносило отцу мрачное удовлетворение, а матери – бесконечные хлопоты и заботы о гардеробе ученицы. Помимо облачения для танцевального класса, Ханне требовались воскресное платье для церкви и повседневное для времени после уроков, и если бы не мастерство деревенской портнихи, с чьей помощью миссис Моул перешивала собственные наряды, она бы не справилась. К счастью, в то время, когда мать выходила замуж, ткани делали на совесть, поэтому в собранном из чего попало гардеробе Ханны, который она забрала в школу, были и черный муаровый шелк, и тонкое шерстяное сукно черносливового оттенка, и штапель с узором из анютиных глазок. Они прослужили долгое время, и хотя девочка изрядно вытянулась за время учебы, она оставалась худенькой, а приданого у матери было достаточно, чтобы вовремя надставлять длину. Платья переживали удивительные метаморфозы, когда одни и те же полоски ткани то пришивались, то отпарывались, кочуя с места на место в невероятных сочетаниях; и пусть они служили постоянным источником страданий, как терновый шип в боку, Ханна ни разу даже не поморщилась. За нее это делала Лилия, и Ханна испытывала удовлетворение, наблюдая за гримасами кузины; мисс Моул была привязана к Лилии, но ее бесконечно забавляло присущее той даже в юные годы чувство собственной важности и незыблемое представление о приличиях. Яркий сангвинический румянец и блестящие глаза, служившие предметом гордости Лилии, ее наряды, слишком дорогие и модные для школьницы, а также напыщенный вид казались Ханне такими же смешными, какой сама Ханна казалась всем остальным.
Однако обидные насмешки одержимых модой девиц остались лишь в школьных воспоминаниях. Мисс Моул приложила все силы, чтобы окружающие смеялись над ней только в тех случаях, когда она сама это позволит, и сейчас, на пороге сорокалетия, могла оценить плоды предусмотрительности (назвать это смелостью язык не поворачивался), которую проявила в четырнадцать, убедив зубоскалов, что ее ужасная одежда – символ превосходства и отличия от таких, как они.
Ханна часто проходила мимо здания с простым белым фасадом, откуда все так же неслись нестройные звуки игры на фортепиано – какофония, наполняющая ее великолепным чувством свободы. Скоро она вырвется из пут собственных безнадежных усилий! А пока запинающиеся на каждой ноте гаммы и арпеджио, бегущие вверх и вниз, перемежающиеся в паузах «Веселым крестьянином» Шумана или прелюдией Рахманинова, которая самого композитора наводила на мысль о собственной ничтожности, заставляли ее вновь ощутить изысканный вкус ушедшей юности. У здания школы отсутствовали любые отличительные черты. Оно возвышалось четырьмя этажами посреди двора, снабженное одноэтажными крыльями с каждой стороны и окруженное садом и оградой. Напротив главного входа находились кованые ворота для гостей и преподавательниц, а с черного хода – калитка для всех остальных; но и для парадных ворот дни славы миновали: они проржавели и нуждались в покраске, да и само здание знавало лучшие времена. Дома в Верхнем Рэдстоу обладали свойством ветшать, и когда Ханна, стоя перед воротами школы, глядела сквозь решетку, она воображала, что так же, должно быть, и призраки восемнадцатого века наблюдают упадок своих прекрасных особняков, превращенных в многоквартирные дома для новых жильцов, загромождающих детскими колясками и велосипедами некогда величественные вестибюли. Несомненно, духи былого так же черпали полное скорби наслаждение в своих воспоминаниях и беззастенчиво их приукрашивали; вся разница между призраками и Ханной состояла лишь в том, что она обладала настоящим, которое не проигрывало в сравнении с прошлым. Она не тешила себя иллюзиями, что в детстве была беззаботно счастлива или трагически непонята: тогда, как и сейчас, она была живой и полной интереса, и если возможности ее будущего ограничивались утекающим временем, то и в этих ограничениях имелась определенная ценность, поскольку то, чему следовало случиться, теперь было намного ближе, чем раньше. Теперь мисс Моул наверняка находилась в двух шагах от богатого старого джентльмена, который оставит ей в наследство состояние, или не столь богатого, который обеспечит безбедную жизнь. Опять же, если поумерить требования к судьбе, за любым поворотом жизненного пути может встретиться идеальный работодатель, который наконец оценит Ханну Моул по заслугам и оставит жить в доме на правах старого друга семьи, когда нужды в ее услугах больше не будет, а к скупым строкам некролога в «Таймс» добавит несколько сердечных слов. Еще она могла бы стать наперсницей подрастающего поколения, доброй советчицей, обладающей мудростью и юмором.
С трудом Ханна заставила себя вынырнуть из видений, в которые погрузилась, глядя на обшарпанный фасад старой школы. Она собиралась нанести визит Лилии, а для этого стоило хотя бы притвориться практичной, в нужной пропорции смешав искренность и фальшь, чтобы угодить взыскательному вкусу богатой кузины. С момента их встречи в чайной прошла неделя, и всю эту неделю, за исключением нескольких часов, Ханна провела в доме миссис Гибсон, под одной крышей с мистером Сэмюэлом Бленкинсопом. Этому требовалось дать объяснение, а рассказывать правду Ханна не собиралась, не имея такого желания. Тут была замешана частная жизнь других людей, к тому же шанс обмануть и подразнить Лилию всегда обещал особое удовольствие. Более того, высказанная правда покажется кузине невероятной, и она просто посоветует Ханне быть правдоподобнее в своих выдумках. Да и в конце концов, правда – благо лишь относительное; как и лекарство, ее нужно отмерять в индивидуальной дозировке в зависимости от особенностей конкретного человека, поэтому Ханна и не собиралась рассказывать ни о первом, ни о втором визите на Принсес-роуд.
Она отправилась туда после встречи с Лилией, и маленькая служанка в огромном чепце, которая не до конца оправилась от потрясения, испытанного ранее этим вечером, проводила гостью к миссис Гибсон, одно присутствие которой создавало уют. Волнения, испытанные хозяйкой дома, не могли поколебать прочного основания безмятежности характера, замешанной на вялости мыслительных процессов, добродушии и крепком здоровье, так что, хотя миссис Гибсон, безусловно, встряхнуло, она была далека от упадка сил и рада вновь видеть Ханну. Все прошло неплохо, как и ожидалось, но мистера Бленкинсопа сильно расстроило происшествие, и хозяйке не помешала бы дружеская беседа.
– И с чего мистеру Бленкинсопу расстраиваться? – вопрошала Ханна. – Он ведь не пытался покончить с собой и не является женой того несчастного, который пытался, как не является и ребенком неудавшегося самоубийцы! Ему несказанно повезло, в том числе со мной. Если бы не я…
– Верно! – перебила миссис Гибсон. – И вы так быстро сориентировались! Как вам только в голову пришло выбить окно! Но видите ли, мистер Бленкинсоп – мужчина респектабельный. Он сразу был против того, чтобы я сдавала внаем цокольный этаж. Говорил, туда заселятся нежелательные личности. И вот пожалуйста! – Она указала пальцем вниз. – Они такие и есть.
– Если бы не я, – напирала Ханна, – не обошлось бы без расследования. И как мистеру Бленкинсопу понравился бы такой поворот? Я ведь тоже не каждый день имею дело с самоубийствами…
– Ну конечно же нет! – вежливо вставила миссис Гибсон.
– …Но для бедняжки миссис Риддинг попыталась представить дело так, будто ничего необычного не случилось. Это самое меньшее, что можно было сделать, однако мистер Бленкинсоп и этого не сделал.
– Жаль, что он пришел именно в тот момент, – вздохнула миссис Гибсон. – Это правда, я искала его. Пришлось выбирать: либо он, либо полисмен, пока вы не налетели на меня и необходимость в других помощниках не отпала. Я охрипла, пока пыталась докричаться до жильца в замочную скважину, но какой в этом смысл, если человек заперся изнутри? И эта юная бедняжка, его жена! И орущий младенец! Боже, боже! Будем надеяться, для бедного самоубийцы это послужит уроком. Сейчас он лежит в постели, а его супругу я хочу выманить наверх к ужину.
– А что на это скажет мистер Бленкинсоп?
– Надеюсь, он не узнает, – бесхитростно ответила миссис Гибсон. – Обосновавшись здесь после кончины матушки, он выразил надежду, что я откажусь брать других жильцов. Он хорошо платит, но я не стала ничего обещать. Совсем без общества скучно.
– Тогда примете меня в постоялицы завтра? – спросила Ханна. – Платить как мистер Бленкинсоп я не смогу, но обещаю не совать голову в духовку с открытым газом. Пока не знаю, на какой срок мне нужно жилье: на несколько дней или недель, ситуация еще не ясна.
– Неужели? – удивилась миссис Гибсон. – А у меня сложилось впечатление, что вы независимая дама.
– Независимости хоть отбавляй, но карманы ею не набьешь.
– Ну надо же! – воскликнула добропорядочная леди. – В жизни не подумала бы. Понимаете, я обратила внимание на ваши туфли. Я всегда была наблюдательна. И вы действовали так быстро и решительно… и все же, признаюсь, приятно сознавать, что вы такая же, как я.
Глава 4
Такова была история, которую предстояло переделать в угоду Лилии, но Ханна верила, что в нужный момент вдохновение ей не откажет, поэтому решила не тратить ни минуты времени, отведенного на любование чудесным октябрьским деньком. Осеннее солнце светило как‐то по-особенному ярко, словно его лучи, пронзая золотые кроны деревьев, насыщались цветом и раскрашивали груды опавшей листвы с удвоенной силой. Улицы были добела выметены восточным ветром, дымовые трубы и крыши домов рисовались четкими контурами в прозрачном голубом небе, а звуки голосов, шагов, машин и конных повозок далеко разносились звонким эхом. В садах цвели астры и георгины, алели гроздья рябин, как будто весь город вывесил флаги, и когда Ханна переходила через Грин, падение спелого каштана прозвучало глухо, словно украдкой, стыдясь внести диссонанс в общее ликование. Плод лежал поверх опавших листьев, выглядывая глянцевым бочком из треснувшей колючей зеленой кожуры, и Ханна наклонилась, чтобы поднять его, но передумала и оставила лежать, где упал. Когда школьники высыплют на улицу после учебы, кто‐нибудь из них подберет каштан, а ей довольно и памяти об ощущении тяжеленького гладкого шарика в ладони, как будто она его подержала. И действительно, подумала мисс Моул, насколько благословеннее помнить или надеяться на обладание в будущем, чем схватить и зажать желанную вещь в кулачке; наверное, и Бог, чьи планы, предначертанные для его созданий, постоянно расстраиваются из-за своеволия последних, нашел вдохновляющей идею хотя бы такой компенсации.
– И это хорошо, – пробормотала Ханна, бросив взгляд на англиканскую церковь в доках.
Не было времени пойти вокруг холма, чтобы полюбоваться на реку; придется спуститься по Чаттертон-стрит, мимо поворота на Ченнинг-сквер, где Ханна может столкнуться с миссис Виддоуз. Впрочем, риск невелик: бедняжка, должно быть, дремлет у очага в заставленной мебелью гостиной, в то время как женщина, которую вдова уволила с прискорбным пренебрежением – прекрасное слово, хотя Ханна так толком и не научилась его правильно произносить, – участвует в красочном карнавале природы. Мисс Моул сознавала, что ее вклад в праздник скорее духовный: в ее внешности не было ничего, что украсило бы пейзаж, поскольку ее платья всегда отличались практичным оттенком, но она держала голову высоко и шла бодро, наслаждаясь хрустом веток и шуршанием листьев под ногами.
Узкая дорожка, по которой она спускалась, расширялась на перекрестке, встречаясь с другими. Величественная Авеню находилась по левую руку; еще одна дорога, затененная деревьями, вилась вверх от реки; справа широкая тропа огибала край Даунса, куда можно было попасть, поднявшись прямо на пригорок, а концы всех этих путей стягивались в единый узел у питьевого фонтана для людей и животных.
Трудно было поверить, что неподалеку раскинулся большой город. Местность располагала к отдыху и чинным прогулкам, здесь семенили змейкой вереницы старшеклассниц, поскольку пристойное воспитание, помимо прочего, предполагало наслаждение природными красотами, и неспешно прохаживались в тени деревьев благородные леди в маленьких шляпках и платьях с турнюрами. Здесь не было места столкновению нового и старого, ветхости с роскошью, и Ханна, возможно, меньше любила бы эту часть Верхнего Рэдстоу, даже несмотря на деревья, если бы та не выросла на месте более древней и если бы Ханна не знала, что до скромной на первый взгляд, но дикой в своей первозданности земли на том берегу реки, таящей скальное основание под упругим дерном, рукой подать.
Даунс не считался загородом, но очень походил на сельскую местность. Его ровные луга простирались, насколько хватало взгляда, обрамленные с трех сторон домами и дорогами, а с четвертой – обрывистым берегом; на равнине там и сям встречались огромные деревья и старые кусты терна. Вязовая аллея вела прямиком к дому Лилии, и, шагая в пестрой тени листвы, Ханна слышала цокот копыт, скрип кожи и звяканье металла и думала, как все это вписывается в пестрый характер Даунса: и всадники (наверняка на наемных лошадях), и овцы (наверняка с грязными боками), усердно пасущиеся на травке, и пинающие футбольный мяч юноши, в чьих голосах слышался сильный рэдстоуский акцент. И всегда, казалось Ханне, даже если идет дождь, облака над этим местом проплывают выше, чем где‐либо в мире; она слышала, как Лилия хвасталась, что за исключением суббот и воскресений вид из ее окон напоминает частный парк. К сожалению, дом Лилии, который уже мелькал красными и белыми пятнами за деревьями, невозможно было принять за образчик прекраснейших загородных особняков Англии. Его построили по заказу отца Эрнеста под конец жизни старика, и попытка возвести нечто вроде небольшой елизаветинской усадьбы споткнулась о решимость заказчика не допустить сомнений относительно его происхождения, поэтому под плоским фронтоном верхнего этажа нижний выпирал эркерами и парадным крыльцом. Черепица была ярчайшего оттенка алого, какой только можно купить за деньги, а кирпичную кладку скрывал слой белоснежной штукатурки. Сад отделялся от дороги широкой лужайкой, огороженной столбиками с цепями, и откровенный намек на то, что территории сада Спенсер-Смитам и так хватает с лихвой, бессовестно истолковывался мальчишками как приглашение покачаться на цепях. Даже в Лилиной бочке меда есть ложка дегтя, подумала Ханна, и ослепительно улыбнулась напрягшемуся в ожидании нагоняя маленькому хулигану, а потом неожиданно для себя еще и весело подмигнула ему и шагнула в ворота, за которыми ее встретило сияние белизны, красного и желтого.
На ступеньках не было ни пятнышка грязи, дверной молоток сверкал на солнце, хризантемы в горшках, расставленных на крыльце ярусами, так и манили, и Ханна только успела сунуть нос в цветок, наслаждаясь его горьковато-сладким запахом, как дверь открылась. С точки зрения горничной, это было плохое начало, и то ли в наказание, то ли быстро оценив, какое место посетительница занимает в свете, она отвела Ханну в маленькую комнатку нежилого вида. Здесь смиренные просители сидели на краешке стула; здесь же хранились книги, неподходящие для библиотеки Спенсер-Смитов. Мисс Моул подумала, что классики наверняка выставлены на виду, чтобы создать выгодное впечатление о хозяевах, а сюда сослали томики с книжных развалов, детскую литературу и произведения писателей, в чьей известности и благонадежности хозяйка дома сомневалась.
Ханна взяла книгу и приготовилась ждать, но Лилия, видимо, предпочитала не тянуть, если ее ждали дурные вести, и, тактично выразив неудовольствие, что кузину оставили в нетопленой комнате, привела мисс Моул в светлую из-за обитой веселеньким кретоном мебели, разожженного камина и яркого солнца гостиную, жизнерадостно поинтересовавшись, неужели гостье дали полдня выходного.
– В каком‐то смысле у меня действительно выдался свободный денек. И прекрасный, надо сказать! Такие дни помогают пережить зиму, как говорится. Миленькая гостиная, кстати. Как видишь, Лилия, в моем мире все хорошо.
– Рада слышать, – сдержанно ответила миссис Спенсер-Смит. Обладая некоторым опытом, она настороженно относилась к ситуациям, когда у Ханны вдруг возникало приподнятое настроение. – Останешься на чай?
– Раз ты так настаиваешь, дорогая, конечно, останусь. Для меня течение времени остановилось, и о нем напоминает лишь голод, но существует множество способов обмануть желудок. Если проваляться в постели до десяти, то на одной чашке чая можно протянуть до середины дня; а если ты сейчас бесплатно меня накормишь, то я окажусь в кровати с книжкой еще до того, как приступ голода успеет возобновиться.
– Вот только ради бога, – проворчала Лилия, позвонив в колокольчик, – не мели подобной чепухи при Мод, когда она будет подавать чай. А потом тебе придется объяснить, что ты имела в виду.
– Я имела в виду, – продолжила Ханна, когда запрет на разговоры был снят, – что сейчас у меня перерыв между ролями, как мы говорим в театре. Обрати внимание на местоимение «мы», Лилия. Да, однажды я играла на сцене, изображала женщину из толпы. И мне разрешили остаться в своей одежде.
– Тогда на твоем месте я бы не стала упоминать такую деталь, – скривилась Лилия. – Как ты могла! Впрочем, вряд ли это было на самом деле. А если действительно было и ты продолжаешь вести такие речи, только подумай, что с тобой станет?
– Это была толпа добродетельных горожан, – слабо воспротивилась Ханна, – по сюжету пьесы мы освистывали злодея. О большем не спрашивай. Я освистывала неделю, а потом в соседнем городишке дирекция наняла другую оборванку.
– Не желаю ничего об этом слышать, – отрезала миссис Спенсер-Смит. – Ради собственного блага лучше не рассказывай мне о том, чего я не одобряю.
– И в чем же заключается твой хитрый план?
Лилия поджала губы.
– Не уверена, что у меня есть право иметь план.
– Это неважно, дорогая.
– Для меня важно, – возразила кузина и, мгновенно сменив благородные манеры на практичный тон, спросила: – Ты получила месячное жалованье?
Ханна пристыженно кивнула:
– Да. Пришлось лавировать между откровенно дерзким поведением и неприкрытой грубостью, чтобы хозяйка не могла ни оставить, ни выгнать меня без содержания. Это стоило неслабых усилий, скажу я тебе. А так хотелось нахамить, перейти на личные оскорбления, знаешь ли. Впрочем, полагаю, не знаешь: ты слишком благовоспитанна.
Лилия, дернувшись, подсунула подушку под спину, сохраняя бесстрастное выражение лица и вместе с тем давая выход раздражению, которое в любом случае не произвело бы на Ханну ни малейшего впечатления.
– И где ты сейчас остановилась? Ты ведь не ушла в тот же вечер?
– Нет, на следующее утро. Я наняла кэб. – Речь мисс Моул замедлилась, а взгляд застыл в одной точке; было заметно, что она усиленно обдумывает какую‐то мысль. – Конную повозку со стариком-извозчиком, накачанным пивом, с обвисшим носом, который напомнил мне сливу.
– Мне не нужны подробности.
– Подробности – часть рассказа, а старик с сизым носом – странствующий рыцарь. Жаль, что подобный тип людей вымирает. Они знают жизнь, эти старики, и мне они нравятся. Всегда ожидают худшего и никогда не вмешиваются. Он сразу понял, что произошло, и с сожалением должна признаться, что он мне подмигнул. Я не подмигнула ему в ответ, но дала понять, что умею проделывать подобный фокус, а потом сказала, что мне нужно дешевое жилье, а он заявил, что как раз знает подходящее место, и повез меня на Принсес-роуд. Кстати, это недалеко от твоего молельного дома, и, думаю, ты можешь за меня порадоваться, потому что миссис Гибсон – прихожанка общины. Я бы сообщила тебе раньше, но была занята, просматривая в публичной библиотеке объявления о найме на работу.
Лилия помолчала и выдавила:
– Более неудачное стечение обстоятельств и представить трудно.
– Почему? Я считаю, мне повезло. Всего фунт в неделю за жилую комнату; спальня, она же гостиная, шиллинг в щель за газовое отопление, а совместные обеды с миссис Гибсон обходятся мне почти даром. Она слишком щедра, но я стараюсь ей помогать, и она находит беседы со мной весьма поучительными.
– Что за невезение! – повторила Лилия. – И как только этому кэбмену пришло в голову отвезти тебя в один из тех домов, которые я советовала бы обходить стороной, – это выше моего понимания.
– Дом кажется вполне респектабельным, – пробормотала Ханна. – Вот и мистер Бленкинсоп там живет, ты же знаешь.
– Конечно, знаю! Надеюсь, ты нечасто с ним видишься?
– Стараюсь как можно чаще! – весело ответила Ханна. – Но он от природы робок. Если ты беспокоишься о том, что́ я рассказала новым соседям, то можешь быть спокойна: фамилия Спенсер-Смит ни разу не слетела с моих губ. Миссис Гибсон не чувствовала бы себя непринужденно, общаясь со мной, знай она, что я обладаю такими серьезными связями.
Лилия попыталась стереть с лица все эмоции, чтобы противостоять нападкам кузины. Выражение получилось почти бесстрастным, но не совсем. Наградив подушку еще одним тычком, миссис Спенсер-Смит сказала:
– Я тут подумала о твоей манере болтать об игре на театральных подмостках. Это никуда не годится, Ханна. Может, ты и выступила блистательно, – слово прозвучало на редкость ядовито, – но подобные сведения могут обернуться против тебя. Дело в том – заметь, я ничего не гарантирую, лишь призываю тебя к осторожности, – что существует немалая вероятность устроить тебя экономкой к мистеру Кордеру.
– И кто он? О, я знаю. Священник! И он хочет нанять экономку?
– Нет, – отрезала Лилия, снова поджимая губы. – Но, думаю, нуждается в ней.
– Тогда он обречен, – заявила Ханна. – Спасибо, Лилия. Я любезно принимаю предложение. Какова плата?
– Еще ничего не утряслось. Не рассчитывай на место заранее. Мистер Кордер – вдовец и пока лишь обсуждает с дочерью возможность нанять экономку.
– О, так у него есть дочь.
– Две, – уточнила Лилия. – Рут еще школьница, и за ней нужно присматривать. На литературном вечере…
– Доклад мистера Бленкинсопа был занимателен? – перебила Ханна.
– Нет. Создавалось впечатление, что мыслями он пребывает где‐то далеко и вообще не думает, о чем говорит.
– Неудивительно, – пробормотала Ханна. – Но ты продолжай, продолжай! На литературном вечере…
– У Рут на чулке зияла огромная дыра. Выглядело это ужасно. От Этель никакого проку, она вечно в миссии, и я уже некоторое время думала, что дом священника нуждается в женщине, способной взять на себя ответственность. Все хозяйство кое‐как держится на юной служанке; кроме того, с ними живет молодой кузен (сын мистера Кордера учится в Оксфорде – и только между нами, Ханна, это я его туда пристроила), и, по-моему, это не слишком красиво, но я не собиралась ничего предпринимать до тех пор, пока не смогу порекомендовать подходящую кандидатуру экономки. В приходе полно женщин, которые ухватились бы за такой шанс, но мне нравилась миссис Кордер…
– Ни слова больше, дорогая! – воскликнула Ханна. – Я все поняла! Тебе нужен старый добрый мешок с песком, чтобы заткнуть брешь; сторожевая собака, не обладающая ни породой, ни красотой, лишь бы умела грозно лаять. Твоя привязанность к бедной женщине и память о ней оказались сильнее, чем у вдовца, и ты не позволишь ему окончательно забыть супругу. И правильно! – Некрасивое худое лицо Ханны осветилось изнутри, а глаза засияли ярче и стали зеленее. – То, что я подхожу, едва ли мне льстит, но место представляется великолепным, а уж гавкать я буду как фурия. А еще говорят, женщины не умеют быть верными и преданными друг другу! Да я уже чувствую себя родной сестрой миссис… как там ее.
– Не будь смешной, – бросила миссис Спенсер-Смит. – Мне, конечно, нравилась миссис Кордер, однако по сравнению с мужем она была пустым местом, бедняжка, хотя наверняка старалась как могла. И когда я вижу, как Пэтси Уизерс строит преподобному глазки…
– Я запомню это имя, – кивнула Ханна.
– Ты еще не получила место, – резко возразила Лилия, – и на самом деле я не думаю, что ты подходишь. Разве что с большой натяжкой. Сомневаюсь, что ты сможешь настолько войти в роль экономки, чтобы обратить на себя внимание мистера Кордера, и вообще, одному Богу известно, чем ты занималась все эти годы. Но если ты подойдешь, то, надеюсь, не забудешь, что я практически поручилась за тебя. И кстати, о нашем родстве я не упоминала. Подумала, что это будет несправедливо по отношению к вам обоим. Пусть тебя оценивают исключительно по твоим достоинствам. Я советовалась с Эрнестом, и он со мной согласился.
Ханна ехидно улыбнулась и ничего не сказала, но весь ее вид просто кричал о том, что у нее найдется реплика в ответ, поэтому Лилия торопливо продолжила:
– Дам тебе знать, как обстоят дела. Я увижусь с мистером Кордером на неделе на вечерней службе.
– Разве он не захочет со мной встретиться?
– Это необязательно, – сказала миссис Спенсер-Смит в неподражаемой спенсер-смитовской манере.
– Ты имеешь в виду, нежелательно? Осмелюсь предположить, ты права. А какого типа он мужчина? Открытый и энергичный или из тех милых лапочек, что прячут коготки?
– Это не смешно, Ханна, и даже вульгарно; я бы сказала, непочтительно. Постарайся помнить о том, что ты леди.
– Но я не леди. Мы с тобой одного роду-племени, Лилия, и ты знаешь какого. Мы произошли от простых йоменов, и мой отец проглатывал «х» в начале слова, как и твой. Знаю, ты не любишь об этом вспоминать, но факты – вещь упрямая. Так уж вышло, что я получила образование выше соответствующего моему положению (но ты‐то, конечно, нет!), поэтому временами скатываюсь до прежнего уровня, так сказать, возвращаюсь к истокам. Но постараюсь вести себя прилично и глаз не спущу с Пэтси. Спасибо тебе за чай, а я отправлюсь обратно к миссис Гибсон и постараюсь привести в божеский вид свое нижнее белье, хоть и надеюсь, что преподобному Кордеру не будет до него дела.
– Ну вот опять ты! – вздохнула Лилия и подставила прохладную румяную щеку для поцелуя.
– Можем же мы пошутить между нами, девочками! – Ханна коснулась щекой лица кузины и добавила: – Добрая ты душа, Лилия. Ты всегда мне нравилась.
– Ой, иди уже, – добродушно проворчала миссис Спенсер-Смит, настойчиво подталкивая гостью к двери: неизвестно, какую великодушную глупость совершит Эрнест, если застанет кузину, когда вернется домой.
Глава 5
К вечеру поднялся сильный ветер, и когда Ханна шла обратно через Даунс, верхушки деревьев раскачивались, а облетевшие листья закручивались вихрем. Игроки в футбол, всадники и дети попрятались по домам; вдоль дороги тянулся ряд фонарей, но под вязами, где шла Ханна, клубилась грозовая тьма. Ветви гнулись и скрипели, горестно протестуя, а те, на которых еще остались листья, молотили воздух, словно гигантские цепы, сходя с ума от бесплодных усилий, ибо ветер пожинал урожай, обмолачивая с деревьев листья, и гнал их перед собой. Подгонял он и Ханну, легкую, как листок, и захмелевшую от свиста и грохота бури. Яркая и уютная гостиная Лилии сейчас казалась сном, мистер Кордер – досужей выдумкой, а у Ханны Моул не было ни прошлого, ни будущего, лишь перехватывающее дух настоящее, в котором ветер толкал ее на запад, в то время как она прокладывала путь на юг. В течение десяти минут или четверти часа, когда она спускалась с холма под защиту улиц, где ветер хоть и налетал на деревья в садах, но находил их слабое сопротивление скучным, Ханна испытывала свободу от бремени забот, которой всегда вознаграждается чрезмерное физическое усилие; но в относительной тишине Чаттертон-роуд к ней вернулось осознание, что бренное тело нуждается в деньгах на еду и одежду, и, как ни абсурдно, пред ней возникло видение мистера Кордера, протягивающего щедрые дары на блюде для пожертвований. Она встряхнула головой и скривилась, отгоняя видение. У мисс Моул было стойкое предубеждение против нонконформистских священников, и в воображении мистер Кордер рисовался елейно-невежественным и притворно-смиренным, в то время как смирения в нем не было ни на пенни, и на мгновение все существо Ханны взбунтовалось. Она могла посмотреть на себя чужими глазами: невзрачная, приближается к середине жизни, а то уже и перевалила за нее, и производит впечатление женщины, которая всегда прет против течения; в сущности, она была идеальной экономкой для мистера Кордера. Она признавала, что никто другой, сидя в его гостиной и штопая вязаные подштанники за столом, покрытым саржевой зеленой скатертью с порыжелым папоротником в горшке посередине, не смотрелся бы так уместно, как Ханна Моул. Кто бы заподозрил в ней чувство юмора и иронию, пылкую любовь к красоте и умение находить ее в самых неожиданных местах? Кто мог бы вообразить, что мисс Моул в разное время рисует себя в мечтах то первооткрывательницей неведомых земель, то утопающей в роскоши леди в дорогих нарядах, то матерью очаровательно непослушных сорванцов или вечно ускользающей музой, возлюбленной поэта? Она могла воротить свой длинный нос от этих причудливых экскурсов, в то же время не считая их невероятными. Она была полна желаний, энергии и веселья, но над ними царило ироническое представление о себе, которое не страдало непоследовательностью и защищало ее, как доспех, против не желающего проявлять дружелюбие мира. В конце концов, уговаривала себя Ханна, подавляя бесполезный бунт, стоит лишь завладеть тем, о чем так страстно мечтаешь, и оно почти сразу станет ненужным – тут снова пришла на помощь удачная мысль Бога о компенсации, – к тому же она обожала играть в переодевание и примерять на себя чужие роли, а поскольку ее острая наблюдательность не была целиком направлена на выявление слабостей в других, Ханна могла честно признать: раз уж она потерпела неудачу в жизни, назначенной жребием лично для нее, то вряд ли достигнет успеха, выбрав чужую судьбу. Она обладала душой бродяги со всеми преимуществами такого уклада – готовностью в любой момент сорваться с места, пренебрежением к нажитому, – но эти же качества заставляли ее мириться с переездами, к которым она не готовилась, и бедностью за пределами уровня комфорта. И сейчас оба условия сошлись. Мало что, думала мисс Моул в ту минуту, может быть неприятнее, чем покидать дом, где с ней обращались как с другом, где она находила тайное ленивое удовольствие в выслушивании банальностей миссис Гибсон и более острое – когда приводила в замешательство мистера Бленкинсопа, подстерегая его на лестнице и вынуждая вступить в разговор; дом, который она могла покинуть по минутной прихоти, чтобы послоняться по Верхнему Рэдстоу или совершить долгую прогулку на другом берегу реки, и куда могла вернуться с уверенностью, что ей там рады. И вот теперь она должна отказаться от всего этого и штопать чулки дочери мистера Кордера ради того, чтобы иметь пропитание и одежду.
И все же лучше быть Ханной Моул, чем Лилией, единственная личность которой незыблема и зовется миссис Спенсер-Смит, которая никогда не выбивала окно полуподвала, чтобы спасти мужчину от отравления газом, не оттаскивала его от плиты, не бросалась потом утешать плачущего младенца, брошенного в коляске; лучше, чем быть бедняжкой миссис Риддинг с исказившимся лицом. Ханна тогда подумала, что это выражение отчаяния несчастной, уже смирившейся с неизбежностью надвигающейся катастрофы и вдруг с ужасом обнаружившей, что кошмар откладывается. Гримаса мелькнула и тут же исчезла, но сейчас, в темноте, Ханна видела ее как наяву. «И все из-за денег!» – мысленно простонала она, думая вовсе не о себе. Деньги могли бы излечить невротика-мужа, а если нет, то позволили бы молодой вдове вырастить сына, и Ханна пожелала этого всем сердцем. Она слышала, как Лилия отзывалась о деньгах с пренебрежением, но как человек, у которого они всегда были, именно о них кузина позаботилась бы в первую очередь. Деньги – одна из лучших вещей в мире, если ими правильно распорядиться, как распорядилась бы мисс Ханна Моул, и всю дорогу до Принсес-роуд она назначала воображаемую ренту для людей вроде себя, отложив несколько тысяч в пользу миссис Риддинг и рассылая знакомым рождественские открытки и валентинки в виде пятифунтовых билетов.
Подойдя к дому миссис Гибсон, мисс Моул увидела свет в полуподвале. Стекло уже вставили, а из открытого окна кухни доносилось пение миссис Риддинг. У Ханны отвисла челюсть. Она слышала это пение каждое утро перед уходом мистера Риддинга на работу и каждый вечер, когда он возвращался домой, но никогда в другое время суток, и ей стало больно оттого, что столь юная девочка так несчастна, но вынуждена храбриться. Ей стало стыдно за собственное недовольство и зацикленность на себе. Все, что случилось с Ханной, прожившей половину жизни, в которой были и забавные моменты, и даже безумная романтическая интермедия, сейчас не имело значения; огромное эксцентричное сердце мисс Моул болело за юную миссис Риддинг. Но что тут поделаешь? Неистощимый запас советов – которым сама Ханна не следовала, – шуток и ободряющих слов был бесполезен; миссис Риддинг держалась спокойно и холодно с теми, кто стал свидетелем отвратительной сцены в полуподвале, даже с женщиной, которая утешала и купала ее ребенка. Ханна была бы не прочь искупать дитя еще раз. На миссис Гибсон произвело изрядное впечатление ее умелое обращение с младенцем; впрочем, миссис Гибсон восхищало все, что бы ни делала новая подруга, и, возможно, для Ханны будет отрезвляюще благотворно пожить с мужчиной, которого восхищают лишь собственные действия.
Она открыла замок ключом, одолженным ей миссис Гибсон, и в прихожей наткнулась на мистера Бленкинсопа, который как раз вешал шляпу.
– О, добрый вечер, мистер Бленкинсоп, – по-девчоночьи пискнула Ханна. – Вы сегодня припозднились, верно?
Мистер Бленкинсоп сурово взглянул на нее сквозь стекла очков.
– Как и намеревался, – многозначительно произнес он и шагнул в сторону, пропуская соседку вперед по лестнице.
Ханна вяло потащилась наверх. Ей никак не удавалось найти подход к мистеру Бленкинсопу. Она пыталась усилить впечатление, которое ее доблестные действия в полуподвале должны были произвести на него, намекала, что тоже интересуется литературой и Чарльзом Лэмом, задавала глупые женские вопросы о банковском деле, которое являлось профессией мистера Бленкинсопа, но ничто не вызывало в нем отклика. Он оставался серьезен, тверд и односложен – насколько позволяли английский язык и простая вежливость.
– Меня от этого тошнит, – проворчала Ханна себе под нос, выпрямляя спину, поскольку знала, что вид снизу на женщину, поднимающуюся по лестнице, почти всегда выставляет ее в невыгодном свете; но когда она включила свет в комнате и посмотрела на себя в зеркало, то тут же простила соседа. Все равно она с ним еще не закончила. Мистер Бленкинсоп явно не был ни знатоком человеческих характеров, ни любителем оригиналов, поэтому не имел причин поощрять внимание женщины с сатирическим носом, бледным лицом и глазами не пойми какого цвета, и все же Ханна испытывала смутную тревогу, как солдат во враждебной стране, оставивший за спиной непокоренную крепость. Она жалела, что ей не удалось коснуться в разговоре имени мистера Кордера, что могло бы вызвать в соседе интерес, а заодно подсказать ей верную линию поведения с будущим работодателем. Предупрежден – значит вооружен, и советы миссис Гибсон тут не пригодятся. Для нее все священники одинаково хороши, хотя в большинстве своем ужасны; они подобны звездам, которые проливают свет, но остаются при этом недоступными. Однако, хотя содержание речей миссис Гибсон заранее не являлось тайной, их форма могла оказаться забавной, и когда Ханна сняла платье для прогулок и переоделась в старенькое шелковое, которое при искусственном освещении выглядело неплохо, она постучала в дверь гостиной домохозяйки и проскользнула внутрь, не дожидаясь ответа.
– О, это вы, дорогая, – вздохнула миссис Гибсон. – Как всегда, бодры.
– Что случилось? – спросила Ханна, поскольку тон миссис Гибсон был меланхоличен, а тело безвольно осело в кресле, будто ее туда толкнули.
– Он высказал мне всё, – ответила та, – по поводу Риддингов. Вот только что ушел. Или они, или я; так и сказал. А вы что об этом думаете? Мне неприятно так говорить, но Сэмюэл поступает недобро, недобро по отношению и ко мне, и к этим бедняжкам внизу. А что бы вы сделали на моем месте, дорогая мисс Моул? Отказали бы им от дома? Нет, вы бы точно так не сделали. Да, миссис Риддинг держится холодно и отстраненно, учитывая события, если вы понимаете, о чем я, но я чувствую свой долг перед ней. Я могу присматривать за бедняжкой. К тому же есть еще ребенок. У меня никогда не было своих детей, и если вы меня спросите, то из бездетных женщин получаются лучшие матери!
– Ага! – сказала Ханна со значением. Она отвлеклась от проблемы миссис Гибсон и уцепилась за высказанную идею. Она‐то думала, что это ее мысль, и удивилась, что миссис Гибсон додумалась до того же. – Но муж у вас был, – уточнила она.
– Ну конечно, дорогая. И я была ему хорошей женой. Его слова, не мои.
– А вот интересно, – продолжила Ханна, – возможно ли, что и лучшие жены – те, кто никогда не был замужем?
– Ох, милая, я не разделяю этих новомодных взглядов!
– Нет, я имела в виду другое, не то, что вы.
– Я рада, – отметила миссис Гибсон, – а то, говорят, уж слишком много такого развелось в наши дни.
– Ужасно, не правда ли? – поддакнула мисс Моул.
– В любом случае здесь об этом и речи не идет, слава богу, но мистер Бленкинсоп сказал, что проблемы не закончились и что он чувствует, будто атмосфера в доме изменилась. По его словам, после целого дня работы он нуждается в тишине!
Ханна громко и насмешливо фыркнула.
– Работа в банке! Грести деньги лопатой. Это как весь день играть в «блошки» [4]! А что касается тишины, послушайте! – Она приложила руку к уху. – Ни звука!
Миссис Гибсон самодовольно кивнула:
– Дом прочной постройки. Не знаю, где он найдет лучше. И потом, понимаете, я знала его матушку. Мы встречались на швейных вечерах. Теперь‐то я на них не хожу, дорогая. Штопки мне хватает и дома, на мистере Бленкинсопе носки просто горят, но в старые добрые времена ходила вместе с миссис Бленкинсоп и миссис Кордер. А теперь матушка Сэмюэла умерла, и могла ли я подумать, что ее сын станет моим жильцом? Она была унылой женщиной, надо сказать, но тем не менее что было, то было.
– А миссис Кордер?
– Тоже умерла, такие дела, дорогая. Пневмония. Страшная болезнь. Сегодня ты здесь, а завтра там. Она и проболела‐то всего неделю. Бедный муж! Никогда не забуду ее похороны.
Ханна сочувственно хмыкнула.
– Большая потеря для прихода, – закинула она удочку.
– Ну, – протянула миссис Гибсон, которую начало клонить в сон от жарко растопленного камина и воспоминаний, – не знаю, я бы не сказала. Люди вечно сплетничают. По воскресеньям она никогда не бывала у вечерней службы, что выглядит не слишком добродетельно, не так ли?
– Возможно, она уставала круглосуточно слушать своего мужа.
– И такое может быть. – Миссис Гибсон вдруг проявила необычную терпимость. – Отношение жены не такое, как у посторонних. Но на швейных собраниях она время от времени бывала забавна. Из-за своей… рассеянности, – обрадовалась миссис Гибсон, найдя нужное слово.
– Наверное, думала о муже, – подсказала собеседница.
– Ну уж нет: или то, или другое, что‐нибудь одно, – с хитрецой заметила миссис Гибсон.
– Верно, но думать‐то можно уйму всего. – И Ханна сморщила нос, выражая то ли неприязнь, то ли горькое удовлетворение.
Миссис Гибсон проявила мудрость и не заглотила наживку.
– Иногда он заходил и окидывал нашу компанию веселым взглядом.
– Ясно, – кивнула Ханна.
– Любил посмеяться! И за шутками в карман не лез.
– Ясно, – мрачно повторила мисс Моул. Как ей справляться с шуточками проповедника – или в кругу семьи они не так часто идут в ход? Теперь она была убеждена, что жена ненавидела мистера Кордера, и пока миссис Гибсон продолжала говорить, Ханна то переносилась в будущее, полное неприязни к этому любителю веселья, то восстанавливала картину несчастливой семейной жизни его супруги.
– Да я совсем заговорилась! – наконец спохватилась миссис Гибсон. – А вы так и не сказали, как мне быть с мистером Бленкинсопом.
– Скажите, что ему должно быть стыдно за себя, – изрекла Ханна, поднимаясь с коврика у камина, и вышла из гостиной, впервые за время знакомства оставив миссис Гибсон разочарованной в способности мисс Моул найти выход из любого положения.
Глава 6
Бересфорд-роуд и Принсес-роуд сходились в одной точке за Альберт-сквер, и поскольку обе располагались с западной стороны Наннери-роуд, откуда трамваи шли наверх к Даунсу и вниз в город, их жители относили себя к Верхнему Рэдстоу, но за исключением ряда домов с террасами в месте, которое мальчишки-посыльные для краткости называли Принсес, эти улицы могли находиться в любом пригороде средневикторианской постройки. Дома на Бересфорд-роуд только‐только выбрались из эры подвалов. Кухни все еще располагались на пару ступеней ниже уровня гостиных, но, по крайней мере, были подняты из подземелий, откуда слуги, принадлежащие расе прежних времен, более крепкой, а возможно, и более тупой, готовы были подниматься по длинным лестничным пролетам бесчисленное множество раз в день. Некоторые из домов окружали собственные садики; другие выглядели как одно здание, хотя на самом деле их было два, со входами, обманчиво расположенными с торца; эти дома производили, да и хотели произвести впечатление, что в их стенах ничего необычного или неприличного происходить не может, и красный Конгрегационалистский молельный дом на Бересфорд-роуд всем своим видом провозглашал, что нонконформизм принят в лоно респектабельности. Возможно, лучшие дни храма уже миновали. Он строился для тех поднявшихся из низов семей, чьи доходы позволили перебраться в богатую часть Рэдстоу, однако сохранить прежние религиозные убеждения, несмотря на рост состояний; в то время еще чувствовался некий дерзкий вызов в том, что большая, прилично одетая семья шла в молельный дом мимо прихожан англиканской церкви, которые никогда ни на что не осмеливались ради свободы, но даже теперь, когда официальная церковь признала инаковерующих людьми и братьями, нонконформизм по старинке оставлял неприятный привкус принадлежности его сторонников к сомнительной части общества. Большие семьи вышли из моды; многие из тех девочек и мальчиков, кто воспринимал воскресенья наполовину праздником, наполовину наказанием, кто с радостью надевал лучшие наряды и терпел натирающее под ними тело чистое крахмальное белье, а во время скучной службы с интересом разглядывал знакомых, давно переехали в так называемую лучшую часть Верхнего Рэдстоу, родили двух-трех ребятишек и потихоньку отошли от веры отцов. Наиболее смелые духом из тех, кто вообще посещал храм, ходили в Унитарную церковь, но Верхний Рэдстоу не был благодатной почвой для нонконформизма: тот пышно цвел скорее по другую сторону Наннери-роуд. И назначение Роберта Кордера в храм на Бересфорд-роуд пятнадцать лет назад было попыткой удобрить скудную почву химией энергичной личности. Его предшественником был кроткий старый джентльмен, который терпеливо проповедовал сияющим рядам пустых скамей, и никто не ждал, что он заманит молодежь послушать его, в то время как Роберт Кордер был смелым и представительным лидером, и даже его внешний вид и звук голоса свидетельствовали о жизненной силе его веры. Можно было видеть, как он шагает по улицам, запрыгивает на подножки трамваев и соскакивает на ходу, торопясь на заседания церковного комитета и обратно, но при этом мистер Кордер всегда готов был сбавить скорость, чтобы перекинуться парой слов со знакомыми, и всегда эти слова полнились радостью и оптимизмом и произносились громким голосом, если только обстоятельства не требовали тихого сочувствия. Прихожанин мог остановить проповедника посреди дороги, диакон – увести в сторону, и после мистер Кордер шагал еще быстрее, торопясь нагнать время, которое, как он часто шутя говорил этим перехватчикам, не потеряно, а просто незаметно куда‐то утекло.
С такого рода привычками и занятиями мисс Моул пока не была знакома. Из окна ее спальни-гостиной виднелась крыша молельного дома, выделяющаяся теплым красным пятном среди других крыш и деревьев и очень приметная. Ханна была специалистом по крышам: из многих окон последних этажей Верхнего Рэдстоу она наблюдала разнообразие их форм и расцветок. Крыши спускались вниз по крутому склону к Нижнему Рэдстоу – красные, серые, голубые и зеленые, – раскинувшись над городом, как цветочный сад. Старая красная черепица соседствовала с блестящим серым сланцем, мшисто-зеленая кровля теснилась между стен высоких домов, а ведь помимо перепадов высот были еще и деревья, раскинувшие кроны выше печных труб, дым из которых летел в окна чужих домов, но этого из комнаты Ханны увидеть не удавалось. Вид из ее окна на новую часть Верхнего Рэдстоу был ничем не примечателен, и она часто смотрела на крышу храма, пока та не превратилась в знамение. Теперь молельня ей не нравилась, но смотрела на нее Ханна даже чаще: она представляла себя сидящей под этой крышей, тусклым пятнышком на блестящей полировке, и за дни ожидания известий от Лилии совершила несколько вылазок на Бересфорд-роуд, чувствуя себя то ли заговорщицей, то ли частным детективом. Мисс Моул попыталась проникнуть в храм, но обнаружила, как и ожидала, что двери заперты. «Одного этого достаточно, – сказала Ханна, обращаясь к плющу, увившему крыльцо, – чтобы люди переметнулись в римскую веру, я и сама не прочь совершить паломничество в Рим. Наверное, эта молельня настолько уродлива, что ее прячут от людских глаз и открывают только в дни, когда там проходят увеселительные сборища, а тогда прихожанам некогда пялиться по сторонам: надо рассматривать шляпки друг друга. Впрочем, – добавила она, – шляпки там тоже посмотреть не на что».
Ханна впала бы в уныние, если бы не получала удовольствия, находя подтверждение собственным догадкам и наслаждаясь силой своего предвидения. Она была уверена, что с обратной стороны красная крыша выкрашена в голубой, как небесный свод, и усыпана тусклыми золотыми звездами; она видела дом мистера Кордера, номер 14 – расположенный далековато от молельни и на противоположной стороне улицы, – и предчувствия ее не обманули. Им оказалось одно из тех сдвоенных зданий с неприметной дверью. В каждом из двух этажей были эркер и прямоугольное окно, а на фронтоне – маленькое и круглое, как глазок. Ханна, движимая духом авантюризма, направилась к дому: в любой момент из него мог выйти мистер Кордер, и трудно было бы сделать вид, что она имеет право тут находиться. Но жилец ее не интересовал, любопытство вызывал сам дом: если бы только Ханна могла проникнуть внутрь, она бы сразу поняла, будет ли в этом доме счастлива. Однако так далеко она зайти не осмелилась, удовольствовавшись наружным осмотром; впрочем, кружевные занавески и чахлый газончик за железной оградкой, обсаженный лавровыми кустами, не вселяли особых надежд. Архитектор здания не был художником. Дом страдал уродством, но в то же время его брат-близнец по соседству выглядел куда более пригодным для жизни, хотя жалюзи на окне и перекосились. Эркер был занавешен пыльными красными шторами, подхваченными медными цепочками, а клетка с канарейкой болезненно напомнила Ханне о миссис Виддоуз. Внешне дом номер 16 казался таким же непривлекательным, как и 14‐й, но Ханна чувствовала бы себя счастливее, если бы владельцем красных штор оказался мистер Кордер.
На следующее утро она вздрогнула, проходя там же, когда грубый голос пожелал ей доброго дня. Привстав на цыпочки, чтобы заглянуть за разросшуюся изгородь из бирючины, нависающую над железной оградкой дома номер 16, Ханна увидела попугая в клетке посреди зеленого газона. Попугай покосился на нее, а потом отвернулся с оскорбленной миной, делая вид, что тут никого нет, хотя Ханна проговорила положенное «хорошая, красивая птичка».
– Любите птиц? – раздался другой голос, и из-за кустов, чуть ли не лицом к лицу с Ханной, вынырнул его обладатель. – Занимаюсь уборкой, – пояснил он, показывая зажатые в горсть опавшие листья, – а заодно выгуливаю Пола. Одного его не выпустишь из-за кошек. Пусть даже кошки мои. Ревность, я полагаю. Теперь вы скажете, что кошкам все равно, птица есть птица: они бы сожрали Минни, мою канарейку, и не подавились, если бы сумели до нее добраться, нисколько не сомневаюсь, но с Полом другая история. Тут дело не в еде, я изучал вопрос. Кошек раздражает человеческий голос, исходящий из неправильного места, а Пол временами страшно болтлив. Если подумать, с этой точки зрения поведение кошек естественно.
Теперь‐то мисс Моул разгадала тайну, почему дом номер 16 подошел бы ей больше номера 14. Она узнала родственную душу в этом старике, способном разговориться с незнакомым человеком; что‐то присущее ей самой светилось в его потрепанном жизнью лице и плутовато-непочтительном взгляде. Насколько видно было из-за изгороди, одет он был в куртку валяного шинельного сукна, из-под которой выглядывали жесткий воротничок и галстук, заколотый булавкой с бриллиантом и опалом в виде лошадиной головы; у хозяина был вид человека, который не снимает шапку даже в помещении.
– Интересная теория, – заметила мисс Моул, опускаясь на каблуки, а старик подошел вплотную к другой стороне живой изгороди, чтобы лучше рассмотреть собеседницу, и сейчас его лукавые водянистые глаза занимались сравнением Ханны, причем не в ее пользу, с другими прекрасными женщинами, на которых когда‐либо падал его взгляд.
– А я вас вчера видел, – заявил он. – Брился у окна наверху, – он показал большим пальцем себе за спину, – и заметил женщину у входа в молельный дом. «Это что‐то новенькое», – сказал я себе. Мне было плохо видно, что там происходит, поэтому я продолжил за вами наблюдать. Выглядело забавно.
– Было бы забавнее, если бы мне удалось проникнуть внутрь, – фыркнула Ханна.
– У меня другое представление о веселье, но если хотите попасть туда, то смею заметить… – Он указал пальцем вбок и тоном, подразумевающим, каких только чудачеств на свете не бывает, сказал: – Можете взять ключ в соседнем доме. Проповедник живет там. Он усвистал полчаса назад, только фалды пальто развевались. Сделал вид, что не заметил меня, – и старик подмигнул Ханне. – Я бы мог замолвить перед ним за вас словечко, если бы захотел. Но так уж вышло, – он снова исчез за изгородью, и окончание фразы прозвучало глухо, – что я не хочу.
Ханна услышала, как он продолжил сгребать листья.
Прощаться вроде как не требовалось, но и уйти просто так показалось невежливым, поэтому она пробормотала «до свидания», не получив ответа, однако знакомство представило ее будущность в более радужном свете. Мисс Моул рада была обнаружить, что сосед за словом в карман не лезет и способен дать отпор Роберту Кордеру, а его присутствие обещало разбавить тоскливую скуку, которую она себе предрекала, поэтому, получив письмо от Лилии с сообщением, что миссис Спенсер-Смит обо всем договорилась и мисс Моул ожидают на Бересфорд-роуд в следующий вторник, Ханна могла с бо́льшим легкомыслием отнестись к будущему рабству и тому факту, что в кошельке осталось не так уж много фунтов, хоть и скорчила ироническую гримаску, прочитав окончание письма со множеством подчеркиваний, в котором Лилия убеждала ее, что, зарабатывая пятьдесят фунтов в год и при этом не вычитая из них плату за проживание и стол, к тому же получая арендную плату за домик в деревне, Ханна вполне сможет отложить что‐нибудь «на дождливый денек».
– Пф, наконец‐то мне удастся накопить на самый дешевый зонтик! – фыркнула Ханна и швырнула письмо на стол, но затем порвала его в мелкие клочки, чтобы тайна ее родства с миссис Спенсер-Смит осталась нераскрытой.
Для миссис Гибсон следующие несколько дней окрасились благородной печалью. Ей предстояло лишиться общества мисс Моул, но она не могла упрекнуть компаньонку, ибо ту ожидал высокий статус экономки мистера Кордера, а миссис Гибсон будет по-прежнему рада видеть ее в любое время, если ей вздумается заглянуть на чашку чая. Миссис Гибсон с восхищением смотрела на эту женщину, которая появилась из ниоткуда, чтобы спасти жизнь мистера Риддинга и при этом оградить жильцов от вмешательства полиции и расследования, и которая ничуть не волновалась из-за перспективы жить с проповедником, чьи шутки, признавала старая леди, похожи на пену, скрывающую под собой омут неизвестной глубины.
Печаль же самой Ханны окрашивалась привкусом будущего приключения. Она была готова к любого рода скуке и досаде, готова вновь окунуться в водоворот равнодушного к ней мира, ведь ее вера в хорошее, что ждет впереди и становится все ближе, была непоколебима. Кто знает, может, сосед с его кошками, попугаем и канарейкой окажется тем самым дядюшкой, который оставит ей наследство; к тому же забавно будет наблюдать тайное беспокойство и осторожную снисходительность Лилии, а главное – Ханна продолжит жить в любимом месте и при хорошем поведении весной все‐таки доберется до примул на другом берегу реки.
И все‐таки она жалела, что не прожила у миссис Гибсон чуть дольше, поскольку миссис Риддинг по-прежнему проявляла недружелюбие, а мистер Бленкинсоп так и оставался невзятой крепостью. Мисс Моул понимала природу защитного поведения миссис Риддинг и уважала ее позицию, но как же хотелось и дальше донимать мистера Бленкинсопа шутливыми нападками и хоть раз вывести его из равновесия! Каждый божий день ожидая нового ультиматума, миссис Гибсон обращалась с жильцом как с тяжелобольным: говорила шепотом, если встречала Ханну на лестничной площадке у его двери, старательно готовила его любимые блюда и лично относила их наверх, чтобы маленькая служанка не раздражала привереду своей неуклюжестью; Ханну это страшно злило, но она наконец дождалась своего часа.
В последний вечер она пошла на кухню и взяла поднос.
– Ему это не понравится! – ахнула миссис Гибсон.
– Ничего, как‐нибудь проглотит, – грубо ответила Ханна. – И потом, как же ваши «бедные ноженьки»? Пожалейте их.
Наглости мисс Моул не было предела, а миссис Гибсон нечего было ей противопоставить, поэтому она наблюдала за Ханной с беспомощным интересом и ужасом, которые однажды уже испытала, глядя, как дрессировщик входит в клетку со львами.
Мистер Бленкинсоп сидел у огня в большой гостиной, тесно заставленной основательной мебелью красного дерева, принадлежавшей прежде его матери. Перед ним на столике стояла шахматная доска, и рука зависла над одной из фигур. Он не поднял головы, и Ханна почувствовала себя так, будто беспечно ворвалась в церковь в разгар службы. Правильно было бы выскользнуть за дверь и дождаться, когда аппетитный запах жаркого пробьется к органам чувств поглощенного мыслью мистера Бленкинсопа, но вместо этого Ханна громко объявила:
– Ужин подан, сэр! – И, шагнув ближе, добавила: – Так вот чем вы занимаетесь по вечерам! Должно быть, прекрасный способ времяпрепровождения.
Мистер Бленкинсоп пораженно взглянул вверх и нахмурился.
– И требует сосредоточения, – уточнил он многозначительно.
– Именно это я и имела в виду, – притворившись, что не понимает намеков, сообщила Ханна. – Я принесла вам ужин, потому что у миссис Гибсон болят ноги.
– Миссис Гибсон и не обязана подавать мне еду.
– Страх, – заметила Ханна, – одна из сильнейших человеческих эмоций.
– Боюсь, что я потерял нить разговора, – с подчеркнутой вежливостью произнес мистер Бленкинсоп.
– Бедняжка просто боится лишиться вас в качестве постояльца!
– Ей известно, как меня удержать. – Мистер Бленкинсоп пересел за стол и развернул салфетку. – И я действительно не понимаю, – продолжил он, маскируя возмущение вежливостью, – какое ко всему этому отношение имеете вы?
– Да, вы не понимаете, – мягко сказала Ханна, – а я не извиняюсь. Я говорю, как если бы лежала на смертном одре. Moriturus te saluto! [5] Вы будете рады узнать, что завтра я съезжаю. Собираюсь жить с мистером Кордером – в качестве его домохозяйки, господи помилуй! – Заметив слабый проблеск интереса в лице мистера Бленкинсопа, она воспользовалась преимуществом. – Да, только представьте! – воскликнула она. – Уж лучше бы я жила с Риддингами. Почему бы вам не обучить мистера Риддинга игре в шахматы? Это отвлекло бы его от духовки! А представьте, в какие хлопоты для вас выльется поиск другого жилья! И сердце миссис Гибсон будет разбито. Оставайтесь там, где вы есть, мистер Бленкинсоп, и вспомните обо мне завтра в это же время, когда вы по-прежнему будете в своей уютной гостиной, а я окажусь в неведомых землях. Впрочем, возможно, мы будем видеться иногда в молельном доме. Это меня приободряет.
– Маловероятно, – заявил мистер Бленкинсоп, растоптав в зародыше всякую надежду на встречи, и принялся ужинать, тем самым давая понять, что разговор окончен.
Глава 7
Зеленщик миссис Гибсон согласился перевезти вещи мисс Моул на Бересфорд-роуд, и туда она и направлялась в сумерках, следуя пешком за его тележкой и чувствуя себя единственной скорбящей на собственных похоронах. Тележка медленно катилась по дороге, а Ханна нога за ногу шла за ней, и собственный старенький сундук казался ей гробом, а сама она – призраком прежней мисс Моул, плетущимся в похоронной процессии. Слабый ветерок мёл вдоль мостовой, шурша листьями, шелестели кусты в садах, цоканье копыт усталого пони и скрип колес добавляли мрачности атмосфере, и Ханна жалела, что не потратилась на кэб, чтобы явиться хотя бы с видимостью энтузиазма. Это была унылая процессия, одинокий представитель бесчисленной армии женщин, подобных ей самой, переходивших от дома к дому со своими пожитками, женщин с заботливо-приятными лицами, скрывающих свои недуги, занижающих возраст и с благодарностью принимающих меньше, чем заработали. Что с ними всеми стало? Что стало с ней самой? Старость неудержимо надвигалась, а Ханна так ничего и не скопила; скоро ей скажут, что она по возрасту не годится для такой работы, и на мгновение холодная рука страха сжала ей сердце, а шорох мертвых листьев напомнил, что, как и эти листья, она окончит свои дни в придорожной канаве, и никто не спросит, куда она исчезла, и тогда страх сменился жаждой, чтобы на свете нашелся хоть один человек, для кого исчезновение мисс Моул станет катастрофой. «Никто», – зловеще шуршали листья, а ветер донес из-за кустов взрыв смеха, на что Ханна остановилась и бросила уничижительный взгляд в ту сторону. Никто не смеет над ней смеяться! Никто не смеет смеяться над ней и никто ее не запугает! Гордо вздернув подбородок, она зашагала быстрее и поравнялась с тележкой, и рубиновое свечение эркера в доме номер 16 поаплодировало ее боевому настрою. Было приятно сознавать, что сосед сидит у огня за красными шторами со своими попугаем, канарейкой и кошками. То‐то он удивится, увидев недавнюю знакомую с метелочкой для пыли в окне дома номер 14, а удивлять людей Ханна любила. По крайней мере, этого можно было ждать с нетерпением, и она не расстроилась, не увидев приветственной иллюминации в окнах дома мистера Кордера.
Зеленщик взвалил сундук на плечо, а Ханна проследовала за ним по асфальтированной дорожке и позвонила в звонок. В прихожей тускло горел свет, но никакого движения в доме не было слышно.
– Похоже, никого нет, – сказал зеленщик и тихо присвистнул.
Ханна позвонила еще раз, энергичнее, зеленщик склонил голову к плечу, прислушиваясь, и на этот раз они оба различили прогрохотавшие по лестнице шаги.
Спустя полчаса, когда Ханна, стоя на коленях, доставала вещи из сундука, этот грохот все еще раздавался у нее в ушах. Когда она только услышала торопливый топот, он поразил ее странной значительностью, будто сама судьба спешила впустить мисс Моул в дом, но дверь открылась, и на пороге показалась маленькая худенькая девочка, которая не знала ни как поприветствовать незнакомку, ни как извиниться за то, что никого из взрослых нет дома, а служанка, в чьи обязанности входит встреча гостей, ими пренебрегла.
Ханна сделала мысленную заметку насчет этой служанки, и еще одну: что девочка, видимо та самая, с дырками на чулках, вовсе не рада ее видеть, поэтому на настороженность мисс Моул ответила так же сдержанно, но когда зеленщик с трудом втащил сундук по лестнице, а Рут отыскала коробок спичек, чтобы зажечь газ в чердачной комнатке мисс Моул и в порыве угодить пошла к окну, чтобы опустить жалюзи, Ханна забыла, что решила вести себя с достоинством, и крикнула:
– Ой, не надо! Я хочу посмотреть в окно. Оно же выходит почти на юг, да?
Это было то самое слуховое окошко, которое она заприметила с дороги, и мисс Моул почувствовала себя голубкой, выглядывающей из голубятни. Дом был выше, чем казался, и за крышами на другой стороне улицы открывался вид на тысячи мерцающих огней и смутные очертания целого моря новых крыш и печных труб. И этот вид будет так же прекрасен утром, когда шпили и башни бесчисленных церквей Рэдстоу и фабричные трубы с вымпелами дыма будут четко вырисовываться на фоне скопления зданий. Она повернула голову чуть правее и увидела, что ветер дует прямо из тех мест, где среди скромного сада стоит ее розовый коттедж, но в характере Ханны было обращать внимание на удовольствия и отвергать напоминания о боли, которую принес ветер, поэтому она щедро переплатила зеленщику и улыбнулась Рут, сообщив той, что собирается распаковать вещи.
Оставшись одна, мисс Моул весело огляделась и решила, что ей нравится узкая комнатка с покатыми стенами, и только потом, с осмотрительностью старого служаки, проинспектировала одеяла (которые оказались чистыми) и простыни (на ощупь грубоватые) и с критическим видом похлопала по матрасу.
– Комковатый! – нахмурясь, вынесла она вердикт. Но ничего страшного! Зато у нее шикарный вид из окна, и она сможет слушать гудки кораблей, снующих вверх и вниз по реке, а совсем неподалеку раскинулся настоящий Верхний Рэдстоу с его старыми улочками с утопленными вглубь полукруглыми скверами, таинственными узкими переходами и лестницами, и наша героиня открыла сундук, и думать забыв, что недавно он представлялся ей гробом.
Размер сундука заставлял ошибочно предположить, что мисс Моул обладает обширным гардеробом. Однако и шкаф, и комод зияли пробелами пустых вешалок и ящиков, когда она развесила и разложила всю одежду, при этом в сундуке оставалось довольно много предметов, поскольку все сокровища мисс Моул путешествовали вместе с ней, и главным из них была модель парусника, чудесным образом заключенная в бутылку светло-зеленого стекла. Ханна бережно высвободила сосуд из ваты и, любуясь, водрузила на узкую каминную полку. Ей нравилось смотреть, как парусник вечно плывет в полном одиночестве, никуда не продвигаясь и никогда не утрачивая изящества; он навевал воспоминания об очень раннем детстве, когда стоял глубоко на каминной полке в гостиной, чтобы девочка не могла достать его, и сам по себе был загадкой и намекал на другие тайны. Вид парусника вызывал в памяти немногие картины, звуки и запахи, сохранившиеся от тех дней: басовитое жужжание пчел среди розовых кустов в жаркий полдень, поворот садовой дорожки, где за самшитовой изгородью рыскала опасность, хруст накрахмаленного передничка маленькой Ханны, звяканье молочных ведер и скрип отцовых кожаных бриджей на шнуровке.
Мне есть за что быть благодарной, подумала Ханна. Хорошо иметь такие чистые деревенские воспоминания, и поразительно, насколько прочным основанием они послужили в дальнейшей жизни. Сознательно или бессознательно, она всегда могла на них опереться, и какие бы мрачные и грязные периоды ни случались в ее жизни, корни уходили в здоровую почву, и росла она среди сладкого благоухания природы. Никто не любил городские улицы больше Ханны Моул, но втайне она испытывала удовлетворение от знания, откуда берутся вещи, необходимые надменным горожанам, которые все принимают как должное, и это давало ей ощущение постоянства в течении жизни, чего‐то прочного и настоящего в сравнении с ее беспокойным порханием с места на место и переменчивыми взглядами на то, кто она есть и кем могла бы быть.
Она как раз закончила переодеваться для очередной роли, на которую подписалась, когда в дверь постучали и на пороге снова возникла худенькая девочка, которую явно против ее желания отправили звать мисс Моул к ужину. Девочка слегка запыхалась, но было ли то от волнения, возмущения или просто подъема по лестнице, трудно было сказать.
«Малышку нужно откормить», – подумала Ханна, решительно улыбнувшись, и дала себе слово, что в один прекрасный день девочка сама будет искать предлог, чтобы постучаться в ее дверь. Даже сейчас в глазах ребенка блеснул интерес, когда она украдкой скользнула взглядом по паруснику в бутылке, и это Ханна тоже отметила в уме.
Если спальня оказалась приятным сюрпризом, то остальная часть дома была такой, какой Ханна ее и представляла. В холле витали запахи готовки, газовый рожок скрывался под абажуром из красного и синего стекла, и хотя в столовой на столе, накрытом к ужину, не было саржевой зеленой скатерти, порыжелый папоротник был и красовался под трехрожковой свечной люстрой. Один из плафонов переделали в светильник, и раскаленный газ пузырился внутри матового шара; два других рожка не использовались и торчали, как засохшие ветви на дереве; помимо этого столовая – все равно темноватая – дополнительно освещалась двумя обычными газовыми лампами по обеим сторонам камина, и огонь, сгорая, тихо шипел в белом и розовом шарах.
Все эту обстановку мисс Моул оценила наметанным глазом мгновенно и не успела лишь подтвердить подозрение, что видит на столе холодную баранину, как была перехвачена за руку молодой девушкой, которая подскакала к ней гарцующей походкой.
Когда Этель Кордер нервничала или радовалась, ее походка всегда становилась подпрыгивающей, и этим она напоминала Ханне неуклюжую, но норовистую молодую лошадку. Она сверкала зубами и белками глаз, что вместе придавало ей игриво-злобный вид, за который были в ответе особенности ее внешности. Редкие светлые волосы росли слишком высоко надо лбом, бровей почти не было, но при всей некрасивости в старшей хозяйской дочери горел лихорадочный огонь, который притягивал и удерживал внимание.
«Кто‐то лягнул ее в стойле или украл у нее овес, – думала Ханна, пока Этель пространно объясняла, как срочное собрание комитета задержало ее саму и отца. – Мне следует быть осторожной. А младшая выглядит как заморенный ослик. Счастье, что меня наняли на эту ферму». Ей хотелось погладить и успокоить обеих, сказать, что она сделает их пухленькими и счастливыми, если они ей доверятся. Хотелось заткнуть горелки, одна из которых булькала, как индюк, а две другие шипели, как пара рассерженных гусей. Ханна поняла, что для дочери фермера тут работы непочатый край, и хотя для себя мисс Моул никогда не выбрала бы это место, но здесь в ней нуждались, и мысленно она уже превращала холодную баранину в сытное рагу к завтрашнему обеду и избавлялась от пожухлого папоротника, как вдруг услышала желающий ей доброго вечера голос человека, чьи шутки взбодрили не одно швейное собрание.
– Так вы и есть мисс Моул, – сказал он, точно подобрав тон, подходящий для посланника миссис Спенсер-Смит, который не является самой леди, и Ханна, заранее предубежденная против проповедника, подумала, что он бегло оценил ее как пустое место: полезную, но неинтересную личность.
При всем желании, о мистере Кордере нельзя было сказать того же. Его высокий рост, густая шапка каштановых волос, чуть тронутых сединой, бородка клинышком, чуть светлее волос, вид физически здорового и энергичного человека и несомненно доминирующее присутствие заставили Ханну, стоявшую с прямой спиной, но несколько павшую духом, признать, что мистер Кордер тоже оказался своего рода сюрпризом.
Она смиренно села напротив Рут, служанка внесла блюдо с водянистой картошкой, а мистер Кордер взял разделочный нож и вилку. Этель замолчала, а Рут, кажется, и до этого не собиралась ничего говорить. Она сердито зыркнула на баранину и на мисс Моул по другую сторону стола, но усердно склонилась над тарелкой, когда отец начал говорить.
– Это прекрасный старинный город, мисс Моул, – заявил он, – полный исторических ассоциаций, здесь находится одна из красивейших приходских церквей в стране… Если вы, конечно, интересуетесь архитектурой, – добавил он тоном, намекающим, что это маловероятно.
Ханну так и подмывало спросить, какой эффект ее равнодушие может оказать на здание, но мистер Кордер не стал ждать заверений, что архитектурный шедевр в безопасности.
– Рут может как‐нибудь отвести вас полюбоваться ею. Может, в субботу после обеда, Рути?
– В субботу после обеда я играю в хоккей, – проворчала та.
– Ах да, конечно, эти твои игры, – добродушно усмехнулся мистер Кордер. – Ну, думаю, мисс Моул и сама сможет найти дорогу. Кафедральный собор не так хорош. Сам он меня не волнует, а вот зданием капитула мы гордимся. Вас, возможно, удивляет… – Он оборвал сам себя и спросил: – А кстати, где Уилфрид? Уилфрид приходится мне племянником, и предполагается, что он изучает медицину в университете, – пояснил преподобный для Ханны. – Ты не знаешь, где он, Этель?
Этель нервно вытаращила глаза.
– У него какое‐то дело, – выпалила она, и Ханна подозревала, что расчетливая улыбка Рут заставила сестру сердито воскликнуть: – Это правда, Рут! Он сказал мне об этом вчера.
– А я знала еще неделю назад, – холодно возразила девочка, и Ханна поняла: маленькая грубиянка намекает, что ее кузен загодя позаботился о том, чтобы не пересечься с мисс Моул в первый ее вечер.
Роберт Кордер приподнял брови, умудрившись при этом выглядеть вежливым, и сказал:
– Думаю, Рут разделяет мое мнение о подлинности дел Уилфрида. Однако нам не стоит тратить на него время. Я говорил о том, мисс Моул, что вас, возможно, удивляет мой интерес к церковной архитектуре, но, каковы бы ни были наши религиозные различия, эти здания являются общим наследием, и, впервые приехав в Рэдстоу пятнадцать лет назад, я взял на себя труд увидеть все самое важное и интересное, и эти знания оказались очень полезны для меня. Думаю, мне удалось пробудить гражданскую гордость в великом множестве людей, но, увы, – игриво заметил он, – только не в собственных детях. Вы ведь знаете поговорку о пророке? Я лично уверен, что Рут ни разу не заходила под своды Сент-Мери – а, Рути?
Девочка сердито покраснела и заявила, что ненавидит церкви.
– Рут – стойкая нонконформистка, мисс Моул, но мы должны избегать узости взглядов. Кроме того, в Рэдстоу найдутся и другие красоты. «Радость прекрасного вечна» [6]. Рут, Этель, узнаёте, откуда это? Есть и другое, что может тут заинтересовать. Когда‐то Рэдстоу был одним из важнейших портов Англии, но с увеличением тоннажа судов утратил свое значение. Большие корабли не могут подняться вверх по реке. Это приливная река – и очень живописная в своем течении, ее вам тоже непременно надо увидеть, – но русло очень узкое, а на дне скопились отложения ила. – И пространно, но неизвестно, насколько верно (этого Ханна оценить не могла), проповедник объяснил, как сформировались эти отложения. – Работы по углублению дна ведутся постоянно, но приносят мало пользы. Большое несчастье для нашей торговли.
– Да, – сказала Ханна, поскольку решила больше не притворяться тупой, раз уж глухой она не была, – но это того стоит. При отливе ил выглядит великолепно. Переливается всеми цветами радуги и представляет прекрасный променад для морских чаек.
Мистер Кордер казался сбитым с толку, как лошадь, остановленная на полном скаку.
– Так вы видели нашу реку?
– О да, – легко согласилась Ханна. – Я знаю Рэдстоу всю свою жизнь.
– А, в самом деле? – пробормотал мистер Кордер и внезапно потерял всякий интерес к Рэдстоу. – Рут, позвони в колокольчик. Думаю, самое время подавать пудинг.
Глава 8
Согласия и разногласия внутри семьи подобны морским течениям: они смешиваются, выталкивают друг друга, меняют русло и разделяются или объединяются в зависимости от силы встречающихся на пути препятствий; Ханна, которая, подобно кораблику в бутылке, совершала одинокое плавание в этом незнакомом ей океане, вдруг обнаружила, что ее маленькое суденышко, рискующее опрокинуться в любой момент, оказалось достаточно прочным, чтобы влиять на эти течения. Рут, несомненно, было стыдно за поучительный монолог отца, но и стерпеть выходку незнакомки, поставившей его в неловкое положение, она тоже не могла, пусть даже намерения будущей экономки были невинны. До самого конца ужина девочка проявляла чуть большее дружелюбие по отношению к родителю и, если судить по нескольким репликам в адрес Этель, которая вообще не уловила, чем вызвано возмущение сестры, тем самым заявила о своей приверженности клану Кордеров.
Язык Ханны всегда был ее врагом, и склонность к опрометчивым высказываниям грозила однажды ее погубить. Она прекрасно владела лицом, но искушение ввернуть меткое словцо или выдать обескураживающее заявление всегда пересиливало, и мисс Моул была бы сверхчеловеком, если бы на этот раз сумела ему не поддаться; однако она проявила бы преступную безалаберность по отношению к своему будущему, если бы не попыталась рассеять подозрения спокойной и благоразумной манерой поведения, пока Этель проводила ей экскурсию по дому, попутно разъясняя обязанности экономки.
Когда они вернулись в столовую, Рут разложила на зеленой саржевой скатерти, которой снова застелили стол после ужина, свои уроки, а у камина, подсунув плечи под каминную полку, грел спину молодой человек. А он красавчик, подумала Ханна, оценив стройность фигуры и нарочитую небрежность укладки темных волос, но такой, решила она в следующую секунду, которого нужно не забывать вовремя ставить на место, потому что на прямой взгляд юноша ответил вопросительным, приподняв брови в выражении сочувствия, в то время как его лукавая улыбка приглашала разделить веселье из-за неудобного положения, в котором оба они оказались. Этот купидон рассылал стрелы наугад, а если не попал в цель, то никто и не знал, куда он метил, так что он чувствовал себя в безопасности, и сдержанный ответ Ханны на его приветствие нисколько его не огорчил.
– Я пытался расспросить о вас Рут, – весело заявил он, – но она как Дэвид Бальфур [7]: совершенно не обладает даром к описанию.
– Я тебе ни слова не сказала! – воскликнула Рут.
– А вот теперь мне кажется, что эта дама слишком много наобещала! [8]
– Зато я могу рассказать кое-что о тебе! Так и знала, что ты с ходу начнешь рисоваться!
– Нет-нет! – искренне возмутился Уилфрид. – Я просто дал понять мисс Моул, что у нас культурная семья – все как полагается. Среди книг имеются «Знаменитые цитаты», они избавляют от множества хлопот и лишнего труда.
– Если ты намекаешь, что отец не прочитал так много книг, как ты…
– Милое дитя, я ни словом не упомянул дядюшку, – мягко сказал Уилфрид. – Но все равно, – и он отбросил позу ироничного молодого человека и стал обычным юношей своих лет, – я уверен, он и не читал. На что хочешь спорю. Однако я его не осуждаю. Он занятой человек. Как раз тот тип джентльмена, для кого и создавались сборники цитат, и дядя был бы дураком, если бы не воспользовался этим инструментом.
– Да в папином мизинце больше ума… – начала Рут. Вид у нее был такой, словно она сейчас расплачется. – Сам ты дурак! И я не могу делать уроки, когда в комнате толпится столько людей! Придется перейти в спальню. И неважно, что я подхвачу там простуду, – возразила она в ответ на уговоры Этель и уже в дверях покосилась на Ханну: – Не я буду в этом виновата в любом случае.
Этель тоже тревожно посмотрела на экономку.
– Не представляю, что на нее нашло, – попыталась оправдаться она. – И не представляю, что теперь о нас подумает мисс Моул, – добавила она специально для Уилфрида.
– Вряд ли мы когда‐нибудь это узнаем. Что ж, приношу свои извинения за то, что дразнил ребенка. Дядя дома?
– Да, – так же нервно ответила Этель. – Я сказала, что у тебя была назначена встреча.
– Так и есть. Важное заседание Общества трезвости студентов-медиков – на случай, если дядя поинтересуется.
– Ох, Уилфрид! Правда? – Этель судорожно вцепилась в синие бусы и улыбнулась так счастливо, что это вызывало тревогу.
Уилфрид опустил глаза и протянул:
– Но если ему неинтересно… никакого собрания не было! – и грациозно выскользнул из комнаты.
– Очуметь! – воскликнула мисс Моул. Это были первые ее слова, и она жалела, что Уилфрид их не услышал. Таков был единственный возможный комментарий, и Ханна подумала, что юноша понял бы его как раз в том смысле, который она туда вложила.
Этель же интерпретировала ее возглас как удивление и поспешила объяснить, что, хотя Уилфрид обожает всех поддразнивать, намерения его беззлобны. Он просто не понимает, насколько серьезно его кузина относится к борьбе за трезвость. А может, всё он понимает – а вы, мисс Моул, как считаете? – но делает вид, что не способен ничего воспринимать серьезно. Лучше бы он не был студентом-медиком. Эти ребята слишком разнузданны, однако врач – благородная профессия, а лучше всего быть врачом-миссионером. Она и сама хотела посвятить себя миссионерской деятельности, например в Китае, но с тех пор, как умерла мать, ее долг – оставаться дома.
– Ну теперь, когда появилась я, если сложатся благоприятные условия, возможно, вы и сумеете поехать.
Этель прянула, как испуганная лошадь, в то же время не спуская глаз с объекта, который ее напугал.
– Не знаю, – протянула она. – Я так много делаю для отца. И веду в миссии клуб для девушек… Я отказалась от мысли поехать.
– Миссионерство или сцена, – кивнула Ханна. – Девочки-подростки, как правило, бредят либо тем, либо другим, хотя сама я не видела себя ни на одном из этих поприщ. Но весь мир – театр, это вам и «Знаменитые цитаты» подтвердят.
– А значит, в определенной степени – и поле миссионерской деятельности, – радостно подхватила Этель. – Возможно, оставаться дома в каком‐то смысле сложнее.
– Я бы не удивилась, – согласилась Ханна. – Наверное, мне следует заняться штопкой или чем‐то по хозяйству?
– О, но не в первый же вечер, мисс Моул! Корзинка с вещами для штопки стоит в том шкафу; боюсь, вы обнаружите, что в ней полно носков.
– Тем больше причин приступить к делу немедля. Так вы говорите, мистер Кордер предпочитает, чтобы чай ему подавали в десять?
– С печеньем.
– С печеньем, – повторила экономка. – Наверное, оно помогает ему проснуться, – сказала она, шаря в корзинке. – Да, тут есть к чему приложить руки.
Этель снова отшатнулась.
– Я все время так занята, – пробормотала она, теребя бусы, в то время как Ханна перебирала чулки и носки, засовывая в них руку и рассматривая на свет. – Очень рада, что вы согласились на это место, мисс Моул; я знала, что, кого бы ни порекомендовала миссис Спенсер-Смит, она мне обязательно понравится.
– А служанку тоже она для вас выбирала? – между прочим спросила Ханна.
– Нет, что вы! Это одна из моих девочек. Из клуба. Поэтому по средам она всегда отсутствует, мисс Моул. Мы проводим в клубе светские вечеринки. А в молельне вечерние службы на неделе тоже проходят по средам, поэтому и отец, и я, и Дорис уходим, и в этот день у нас пятичасовой чай.
– И бутерброды с сардинами, полагаю?
– Не всегда, – просто ответила Этель, и Ханна, которая была готова предложить разделить кучу штопки, а заодно и занять беспокойные руки Этель, почувствовала, что смягчается по отношению к этой молодой женщине, которая и рада бы пойти на сближение, но любое резкое движение заставляет ее шарахаться. И мисс Моул начала зашивать чулок, продолжая вести себя с девушкой как с нервным жеребенком, делая вид, что не смотрит, давая привыкнуть к себе и подойти ближе, прежде чем самой сделать шаг навстречу, и постепенно уверенность Этель крепла, хотя страх и заставлял ее вздрагивать.
А вслух Ханна с хитрым умыслом сказала:
– Боюсь, я распугала всех домочадцев. Может, вашей сестре не стоит сидеть одной наверху в холоде?
Этель сверкнула белками глаз, но в этот раз не отпрянула.
– Думаю, сейчас лучше оставить ее в покое, мисс Моул. Никто не знает, как с ней справляться. А вот мама знала. – Теперь настала очередь Этель выглядеть так, будто она сейчас заплачет. – Рут прекрасно ладит с моим братом – с ним все ладят, – но, по-моему, она не хочет, чтобы я ее жалела.
– Она не выглядит сильной девочкой.
– Может быть, именно поэтому? – с надеждой спросила Этель, и тут мисс Моул поняла: вот и еще одна, которая чувствует себя несчастной, если все вокруг не восхищаются ею и не ценят ее усилия, а ведь бедняжка не обладает даже минимальными умениями, чтобы вызывать восхищение, которое желает заполучить. Ханна была склонна думать, что это чисто женское стремление, обусловленное личностными особенностями, но ей предстояло узнать, что в доме Кордеров все так или иначе страдают от недостатка внимания. Роберт Кордер – тот да, не прикладывал особых усилий: он обнаружил, что в этом нет необходимости, и принимал как должное своего рода льстивое низкопоклонство, которым щедро одаривали человека его положения, и поражался только, если ему отказывали в восхищении. А уж когда Ханна увидела, как в молельне после службы он одаривает ласковым словом и жестом свою послушную паству, словно домашних питомцев, и получает поглаживания в ответ, легко было понять, почему с экономкой преподобный общается с подчеркнутой холодностью. Она поставила ему подножку в первый же вечер пребывания в доме, и хотя тщеславие мистера Кордера и внешность мисс Моул и смогли убедить его, что то было несчастливое стечение обстоятельств, преподобный старался больше не попадаться ей на пути. Понятно стало и то, почему Лилия захотела нанять сторожевую собаку. Мисс Пэтси Уизерс, пухленькая, увядающая, но все еще миловидная блондинка, могла бы стать нежной и спокойной подругой преподобному Роберту; эта женщина всегда говорила бы лишь то, что имеет в виду, а имела бы в виду (что в высшей степени похвально) лишь то, что доставляет ему наибольшее удовольствие; и когда Ханна метелочкой обметала пыль с увеличенного фотопортрета миссис Кордер, который стоял у проповедника на столе, она задалась вопросом: удавалось ли этой леди когда‐либо поставить в тупик своего мужа? У почившей хозяйки был вид человека, умеющего хранить молчание, но вовсе не из-за недостатка идей, и чем больше Ханна изучала ее лицо, тем больше жена преподобного ей нравилась и тем сильнее она убеждалась в том, что показная верность Лилии памяти покойницы является романтическим способом оставить за собой лидирующее место среди прихожанок общины.
Ханне нравилось наблюдать, как Лилия идет по проходу к именной скамье, или встречаться с ней на крыльце, обмениваясь приличествующими случаю поклонами, а то и рукопожатием, и мисс Моул никогда не упускала возможности, хоть и вела себя предельно осторожно, незаметно для других чуть дольше задержать взгляд, чуть сильнее сжать руку, что вызывало мгновенное подозрение во взгляде Лилии. Труднее было смотреть на Эрнеста, обходящего прихожан с блюдом для подношений, и удержаться от улыбки, а еще труднее – не поощрять его доброту, которой он щедро одаривал Ханну. Его приветствия всегда отличались чрезмерной восторженностью, что хоть и выглядело странновато, поскольку для всех он был мужем ее покровительницы, но на фоне общего воодушевления и сердечности, с которыми общались между собой участники духовного пиршества на крыльце храма, перед тем как разойтись по своим частным и более приземленным пирушкам, его братское отношение не слишком бросалось в глаза.
Каждое воскресное утро Ханна сидела под синим, усыпанным блестками сводом и тщетно высматривала мистера Бленкинсопа. Миссис Гибсон кивала издали, и пару раз им удалось шепотом перекинуться парой слов, но поделиться откровениями получилось лишь после того, как Ханна заглянула на обещанную чашку чая и узнала, что мистер Бленкинсоп по-прежнему живет на Принсес-роуд и никакие новые несчастья не омрачили его покой. Миссис Гибсон призналась, что ей приятно было заметить мисс Моул на скамье проповедника между Рут и красивым молодым человеком. Ей и вовсе нравилось видеть в церкви молодых людей. Когда мать мистера Бленкинсопа была жива, тот тоже регулярно посещал храм, любо-дорого было смотреть, а теперь ходит только на вечерние службы, и то изредка, но, по крайней мере, сейчас он достаточно уравновешен, а она не из тех, кто судит о людях по частоте появления в церкви.
– Ну конечно нет, – серьезно сказала Ханна, – но я получала бы от служб гораздо меньшее удовольствие, если бы не присутствие племянника мистера Кордера. – Она не стала рассказывать миссис Гибсон, как смешно он переделывал слова гимнов и напевал их ей на ухо, или как они толкали друг друга локтями, когда что‐то веселило их в проповеди или импровизированных молитвах. Уилфрид был одной из многих трудностей и немногих радостей Ханны, поскольку в доме Кордеров он один признавал, что она обладает определенными достоинствами (что, конечно, ей льстило), и уделял экономке внимание, которого она всеми силами старалась избежать, поскольку, как Ханна быстро выяснила, быть на хорошем счету у Уилфрида означало злить Этель и вызывать у Рут поток презрения в адрес кузена. Этель была само дружелюбие, когда никто другой не обращал внимания на мисс Моул, но, по мнению и Ханны, и Уилфрида, оказалась не самой интересной собеседницей, а когда Этель расстраивалась, Рут цепляла ее, чтобы разозлить еще сильнее, в то время как Уилфрид дразнил обеих сестер по очереди без разбора. Правда заключалась в том, что Этель открыто, а Рут тайно обожали кузена за красивую внешность, беспечность и пренебрежение ко всему, что их учили почитать священным, и Ханна, обмирая от ужаса и забавляясь в то же самое время, обнаружила себя в том же положении, хотя видела происходящее намного яснее. Несмотря на очевидные недостатки, Уилфрид был привлекательным молодым человеком, а самой привлекательной его чертой в глазах Ханны являлась скорость, с которой он находил ее взгляд, когда преподобный выдавал что‐нибудь особенно проповедчески-напыщенное. Их перепихивания локтями в молельне служили признаком того, что, невзирая на все попытки, Ханне не удалось провести юношу. Она могла притворяться простушкой мисс Моул, экономкой мистера Кордера, усердно выполняющей свою работу, упорно игнорировать неизменную враждебность Рут, спокойно отвечать на порывы дружбы Этель и не замечать ее ревности, позволять Уилфриду обойти себя в остроумии, но, как свидетельствовали взгляды молодого человека и толчки локтями, обмануть его не удалось.
Это воодушевляло Ханну. И облегчало ее задачу, которую можно было решить только в том случае, если она продолжит рассматривать новую должность как игру, в которой признание со стороны Уилфрида и улучшение питания пока служили единственными набранными очками. Она добавит еще очков, когда внесет гармонию в семейные раздоры и убедит Рут, что чужой человек тоже может стать другом, но тут нужно играть с осторожностью, доселе несвойственной мисс Моул, иначе она потерпит поражение.
«Ради чего я взвалила на себя эти заботы?» – иногда спрашивала себя Ханна. Ради самой игры или в силу запоздалого осознания, что ее будущее каким‐то образом должно быть обеспечено, что теперь, когда молодость осталась позади, она не может позволить себе новых провалов? Она не могла ответить на собственные вопросы, но день за днем, смахивая пыль с фотографии миссис Кордер, все чаще представляла, что между ней и этой женщиной заключен некий договор, который не следует нарушать.
Глава 9
Много воды утекло с тех пор, как Ханна последний раз жила в семье. После изнурительного опыта, когда она сражалась с полудюжиной буйных детей и их больными родителями, которые старались хранить в тайне тяготы и разочарования своего брака, она устроилась к одной пожилой леди в расчете на относительный досуг, но, подобно актрисе, которая прославилась в определенной роли и никак не может получить другую, мисс Моул, казалось, теперь была обречена на амплуа помощницы старых больных одиноких леди до конца своей жизни. Естественно, ее стали подозревать в неспособности иметь дело с молодежью после долгого существования в условиях, где она только и делала, что поднимала пропущенные петли, подносила чистые носовые платки и читала вслух, хотя Ханна могла бы красноречиво поведать об утомительной природе такой работы. Она часто с завистью смотрела на уборщицу, мечтая о здоровом труде со шваброй и ведром; и в собственной глупости, вынудившей ее жить у работодателя, вместо того чтобы уходить домой каждый вечер, предпочитала винить непонятное застарелое желание принадлежать к аристократии, которую Ханна якобы презирала. Из мисс Моул вышла бы замечательная уборщица: некоторая вульгарность, которую Лилия справедливо находила предосудительной в кузине, для уборщицы послужила бы отличной рекомендацией, и Ханна представляла, как ходит от дома к дому: энергичная, добродушная, вольная говорить все, что взбредет на ум, – идеальная уборщица из романа, живущая в собственном доме и не имеющая никаких дел с людьми и их запутанными характерами. Что ж, фыркнув, говорила она самой себе, ты еще можешь к этому прийти, но женщинам, избравшим подобное жизненное поприще, не отписывают наследство богатые джентльмены, а Ханна все еще делала вид, что поглядывает в направлении этой приятной перспективы. В молельне пока не встретился ни один кандидат, отвечающий ее требованиям, и хотя она примелькалась с метелкой для пыли в каждом окне, ей так ни разу и не удалось увидеть старого плута из дома номер 16. Сияющий октябрь уступил место сырому ноябрю, и погода, по мнению Ханны, не располагала к выгулу попугаев и садоводству. Иногда она видела, как номер шестнадцатый ковыляет к задней калитке, слышала, как по ночам он зовет кошек, но у нее не хватало времени планировать встречи, поскольку она трудилась не покладая рук, не хуже любой уборщицы, и должна была приноравливаться к новым непростым условиям.
В домах, где она работала прежде, глава семьи обычно уходил утром в определенный час, и можно было рассчитывать, что до вечера он не появится; перемещения мистера Кордера не поддавались никакому четкому расписанию. О том, дома хозяин или вышел, можно было догадаться только по наличию или отсутствию пальто и шляпы на вешалке в холле, и у мисс Моул вошло в привычку, проходя мимо, кидать туда взгляд, и в зависимости от этого у нее улучшалось или портилось настроение – еще одно невольное доказательство, что личность преподобного Роберта отнюдь не была незначительной. Пение Ханны, тихое и невыразительное, совсем не похожее на ее обычный голос, немедленно смолкало, стоило мистеру Кордеру переступить порог дома; он подавлял в дочерях любые проявления характера, и Ханна порой задумывалась, а знает ли он вообще, что у девочек есть личность; он с ходу завладевал разговором, поскольку готов был дать исчерпывающую информацию по любому вопросу, и чужие мнения, отличные от его собственного, либо забавляли, либо злили преподобного; однако ни дня не проходило без визитеров: прихожанин нуждался в помощи или совете, пылкий служка из молельного дома просил решить сложный вопрос, диакон заглядывал с важной миссией. Голос, доносившийся из кабинета, не всегда принадлежал Роберту Кордеру, и хотя хозяин смеялся первым, его смех подхватывали, и люди, выходя от него, выглядели счастливее, чем когда пришли. Тем не менее Ханна не забывала скорчить гримасу, минуя кабинет. Она была уверена, что миссис Кордер с фотографии на столе великого человека серьезно выслушивала его речи и отпускала безмолвные едкие замечания, сопоставляя его советы с тем, что знала о нем при жизни, однако, будучи намного терпимее Ханны, все же отказывалась судить мужа слишком строго.
Мисс Моул сотворила из миссис Кордер личность, похожую на себя, но обладающую бо́льшими мудростью, добротой и терпением. Должно быть, ей самой сильно недостает этих качеств, мрачно думала Ханна, раз уж она, которая всегда гордилась умением принимать в людях и хорошее, и плохое с той же легкостью, с какой принимала любые их физические и умственные особенности, сознательно выбрала враждебное отношение к Роберту Кордеру. Развевающиеся фалды его пальто раздражали Ханну так же сильно, как работодателя, вероятно, раздражали ее колышущиеся юбки; она не верила в похвальбу широтой взглядов от человека, который насмехается над противоположными мнениями или попросту отмахивается от них и чей вечно поджатый маленький рот скрывают большие усы. Как большинство бездетных женщин, мисс Моул преувеличивала радости и преимущества обладания потомством, а Роберт Кордер, казалось, об этом и не задумывался. Он не был недобрым отцом; напротив, казался довольно благожелательным в рамках той привязанности, которую испытывал сам, но в выражении которой ограничивал дочерей; однако Ханна считала, что он воспринимает Этель и Рут как аудиторию, которая должна внимать его мыслям и вести летопись его деяний, и забывает, что у них тоже есть чувства и характер, если только проявления этих качеств вдруг каким‐то образом не досаждали ему.
Ханне его ласковые банальности были против шерсти, и ей нравилось находить подтверждение своей оценке личности преподобного, а тот редко разочаровывал: когда дела у него шли хорошо, он не мог удержаться, чтобы не похвастать, и тогда Уилфрид находил взгляд Ханны и чуть опущенными веками, приподнятой бровью или неестественно серьезной миной подавал знак через стол.
Мисс Моул находила покаянное удовольствие в самоконтроле. Начни она демонстрировать характер до того, как прочно утвердилась в должности, даже покровительство Лилии ее не спасло бы. Следовало убедить Роберта Кордера в своей полезности, прежде чем позволить ему подозревать, что она намного сообразительнее самого хозяина, вот и приходилось скрытничать: ведь у нее было еще и обоюдное соглашение с миссис Кордер, которое требовалось соблюдать. К тому же Ханне хотелось доказать, что и она обладает властью, и хотя мисс Моул высмеяла бы эту идею, но под тонким слоем наносного цинизма в ней кипел дух ярого реформатора. Она мечтала получше откормить Рут и хотя бы изредка видеть проблеск счастья на личике девочки, ослабить тревожность Этель и внести в дом хоть немного красоты. Поменять уродливую мебель – а тут миссис Кордер полностью промахнулась – Ханна не могла, но дружелюбие, юмор и веселье не стоят ни пенни. Ими были набиты пустые карманы мисс Моул, только и дожидаясь того часа, когда домочадцы с их нелегкими характерами протянут руку и возьмут предложенное, поэтому экономка не подгоняла ни себя, ни Кордеров, ни время.
Постепенно выяснилось, что работа Этель в миссии не отличается напряженностью, которую можно было предположить по плачевному состоянию дома. У старшей дочери случались всплески лихорадочной активности, она постоянно посещала клуб для девушек и периодически помогала отцу вести переписку, но потом, кажется, целыми днями не знала, куда себя приткнуть, и тенью следовала за Ханной по дому, как будто перспектива остаться в одиночестве приводила Этель в ужас. Она смотрела, как экономка работает, никогда не предлагая помощи, и проводила вечера, листая книжку, внезапно начиная и обрывая разговоры или занимаясь починкой и переделкой своих довольно безвкусных нарядов. Девушку отличала бесконтрольная страсть к ярким цветам и украшениям, и ее постоянные суетливые движения сопровождались бренчанием бус. Рут, хмурясь над домашними заданиями, умоляла сестру вести себя потише и однажды вечером спросила, почему нельзя разжечь камин в гостиной, чтобы мисс Моул и Этель перешли туда и оставили ее в покое.
– У нас нет средств на обогрев каждой комнаты в доме, – ответила Этель.
– У Дорис своя комната, у отца тоже, так почему мы все должны ютиться в одной? И кстати, деньгами теперь распоряжается мисс Моул, так что не суйся не в свое дело.
Экономка ничего не сказала. Это замечание, скорее всего, имело целью задеть Этель, но, по крайней мере, оно признавало существование самой Ханны, и, наверное, ее губ коснулась легкая улыбка, потому что Уилфрид, вошедший в этот момент, хлопнул в ладоши и воскликнул:
– А я‐то все гадал с того счастливого часа, как увидел вас впервые, кто вы такая, и наконец понял! Добрый вечер, Мона Лиза! И не притворяйтесь, что я не к вам обращаюсь!
Ханна покосилась на него и снова опустила взгляд.
– Все сходство из-за моего длинного носа, – сказала она.
– А вот и нет! Дело в вашей загадочной улыбке. В которой скрывается вся мудрость мира.
Этель растерялась и выглядела расстроенной. Рут на секундочку взглянула с любопытством, а потом ниже склонилась над учебниками и спрятала лицо в ладонях.
– Никак не могу вспомнить, – замялась Этель, – кто такая Мона Лиза.
– Некрасивая женщина.
– Тогда со стороны Уилфрида ужасная грубость, – в голосе Этель послышалось облегчение, – говорить, будто вы на нее похожи.
– Напротив, – возразил Уилфрид. – Может, она и не красавица, но нет на свете женщины очаровательнее.
– О! – обескураженно откликнулась Этель и, поерзав на стуле, метнулась прочь из столовой.
Уилфрид кивнул на дверь:
– Пошла справиться со словарем.
– Нет, – буркнула Рут, – она пошла к себе и будет греметь ящиками, выдвигая и задвигая их и часами перебирая вещи, отчего я не смогу уснуть. – Голос девочки звенел от обиды. – Почему бы тебе не быть чуточку умнее? – воскликнула она. – Если хочется сказать что‐нибудь сомнительное, разве нельзя сделать это в отсутствие Этель?
Впервые за несколько недель Ханна забыла об осторожности. Чувство сильного душевного утомления и физическая усталость навалились одновременно. Работа выскользнула у нее из рук, и экономка откинулась на спинку стула, на минуту прикрыв глаза. Ей казалось ужасным, что Рут так ясно понимает натуру Этель и так горько переживает, что природа этой натуры такова, какова она есть. В возрасте Рут Ханна только пошла в школу в Верхнем Рэдстоу, обладая глубокими сокровенными познаниями о сексуальных процессах, приобретенными благодаря жизни на ферме, и обнаружила, что вопросы, которые отец не стеснялся обсуждать в ее присутствии, в школе служили предметом грязных перешептываний. Потрясение, которое испытала юная Ханна, отличалось от того, на которое ханжески претендовала Лилия, поскольку той были отвратительны физиологические подробности, а у Ханны вызывало отвращение, что кто‐то может считать их нечистыми, и все же ей не пришлось, как Рут, разрываться между умозрительным пониманием предмета и, несомненно бессознательными, потребностями тела.
Грубость этой мысли была неприятна, но от ее правдивости стало совсем гадко. Прекрасно рассуждать о преимуществах прогресса для женщин и заботе об их целомудрии, но что происходит с умами бесчисленных девственниц, которые никогда никем не станут, если будут в первую очередь стремиться, чтобы кто‐нибудь, не дай бог, не счел их недостаточно респектабельными? И хотя Рут, как и Этель, была далека от понимания причин, она так же являлась несчастной жертвой следствий.
Ханна вздохнула и подняла взгляд на девочку, смотревшую почти с испугом, за которым таилось жгучее любопытство, права ли она была, избрав тактику самоуничижения, и принесло ли это нужные ей плоды.
На следующий день в гостиной разожгли камин, и в доме витало ощущение праздника. Роберт Кордер уехал выступать на каком‐то собрании за пределами Рэдстоу и собирался там заночевать, и Ханна приготовила ужин из необычных блюд, которые в рядовые дни они не могли себе позволить, потому что преподобный любил плотно поесть и предпочитал тяжелую, сытную пищу. Семье хватило совести оценить старания экономки: Этель предпринимала попытки – довольно, впрочем, жалкие – сделать вид, что не держит зла на Уилфрида и мисс Моул, Рут откровенно наслаждалась вкусной едой, Уилфрид воздерживался от лести и поддразниваний, и Ханна сказала самой себе, что получилась неплохая имитация временно счастливого семейства.
Когда с ужином было покончено, Рут осталась в столовой делать уроки, как она и мечтала, в тишине и покое, но Ханна задержалась, чтобы поправить огонь в камине и взять вещи, которые собиралась починить, что стало для нее ежевечерним занятием.
– Ну теперь‐то ты всем довольна, правда? – весело спросила она.
Обеспокоенное личико Рут стало еще напряженнее.
– Я не говорила, что хочу остаться одна, – возразила она, и Ханна поняла, что кажущаяся угрюмость девочки вызвана лишь сильной застенчивостью, – я просто хотела тишины. Вы сидите так тихо. Не как Этель. А она будет счастливее наедине с Уилфридом.
– Ну, а я предпочту остаться здесь, – сказала Ханна, и ни одна больше не произнесла ни слова, пока Рут не отодвинула книжки и не сообщила, что идет спать.
– Спокойной ночи, – кивнула ей мисс Моул с прохладной улыбкой.
Рут наклонилась к огню, чтобы погреть руки, и, судорожно вздохнув напоследок, вышла из столовой.
– Я еще завоюю это дитя, – пробормотала Ханна самой себе.
Посреди ночи она вдруг резко проснулась от очередной вариации на тему сна, который посещал ее чаще всего. Сцена всегда была одной и той же: Ханна находилась у себя в коттедже или где‐то поблизости, в одной из комнат с низкими потолками или в саду, и либо испытывала безграничное счастье, либо была сбита с толку, либо переживала огромное горе, и сегодня ночью в сюжете преобладали неприятности. Ханна еще подумала, что ее разбудила испытанная во сне боль или собственный плач, но, лежа и пытаясь успокоиться, она услышала какие‐то шорохи в коридоре и скрип дверной ручки.
– Кто здесь? – спросила Ханна дрожащим голосом, все еще находясь под влиянием сна.
– Это всего лишь я, мисс Моул. Мне показалось, я слышала странный шум.
Ханна пошарила в темноте, ища спички, и зажгла свечу у кровати. Рут стояла в дверях в одной ночной рубашке, босиком, и в зыбком свете казалась маленьким привидением с испуганными глазами.
Ханна стремглав выскочила из постели.
– Быстро сюда! – прикрикнула она, после чего завернула Рут в одеяло, а сама надела халат. – Что там? – живо спросила она. – Грабители?
– Не знаю, – стуча зубами, ответила девочка. – Я спала.
– Вот как! Я тоже.
– Мне что‐то снилось, и… наверное, это глупо, но мне не нравится спать в гардеробной. Там и так не слишком уютно, даже когда папа находится в соседней комнате, но сегодня, когда он в отъезде, гардеробная казалась такой пустой… или, наоборот, казалось, будто там кто‐то есть. А я не могла найти спички, чтобы зажечь газовый рожок, и мне послышалось, будто кто‐то ходит, и тогда я побежала наверх. Простите, мисс Моул.
– Тебе не за что извиняться, – заявила Ханна, состроив смешную гримаску и присаживаясь на кровать. – Если это грабители, предлагаю остаться здесь. Нет смысла вмешиваться, станет только хуже. Давай дадим им несколько минут, пусть закончат свои дела, а когда я решу, что они ушли, то спущусь и проверю.
Рут засмеялась, и Ханна впервые услышала ее искренний смех.
– Вряд ли там грабители, – заметила девочка. – Разве их заинтересует дом вроде нашего? Но я не хочу возвращаться в гардеробную, мисс Моул!
– И не надо: поспишь здесь, а я пойду туда. Ты же не против поспать на моем белье? А я посплю на твоем. Здесь ты почувствуешь себя счастливее, правда же? Будешь рассматривать кораблик на каминной полке и потихоньку заснешь.
Рут кивнула.
– А откуда у вас этот кораблик?
– Он стоял на камине в моем старом доме в деревне. Как‐нибудь я тебе об этом расскажу.
– А где именно в деревне?
– За холмами, недалеко отсюда. – Ханна помолчала минуту или две, глядя в пол. – Что ж, думаю, они уже ушли, – заключила она. – Спокойной ночи. Обещай, что постараешься уснуть.
– А вам разве не будет страшно?
– Нисколько. Как‐то раз я встретила грабителя, и он мне понравился. И об этом я тоже тебе расскажу, но лучше днем. А сейчас мне придется задуть свечу, хорошо?
– Хорошо, я не против. Мисс Моул, – в темноте признание далось девочке легче, – скорее всего, не было никаких грабителей.
– Конечно. Тебе просто приснился плохой сон. И мне тоже. Я рада, что ты меня разбудила. А завтра я куплю ночники. Потому что спичек никогда нет под рукой, когда они нужны.
– И еще они гаснут, когда торопишься. И, мисс Моул, – эта просьба далась куда тяжелее, – вы ведь никому об этом не расскажете, правда?
– Непременно расскажу! – пригрозила Ханна с шутливой серьезностью. – Завтра же первым делом с утра сообщу Дорис, потом твоей сестре и кузену, ну и отцу, конечно, но это уже когда он вернется домой.
Рут снова рассмеялась тихим призрачным смехом, и Ханна, спускаясь по темной лестнице, с триумфом сказала себе: «Теперь‐то я завоевала ее!», но к триумфу примешивалось легкое беспокойство. Уж она‐то знала о сковывающей природе привязанности.
Глава 10
Увидев эту парочку за завтраком на следующее утро, никто бы не догадался, что их отношения изменились. Рут отличалась стеснительностью, а Ханна – хитростью, и обе были чересчур осторожны, чтобы вести себя иначе, чем раньше. Мисс Моул не хотела лишний раз подчеркивать, что победила. Враг скоро капитулирует на ее условиях, так зачем усиливать ревность Этель? По мнению последней, Уилфрид нес откровенную чепуху, когда намекал, будто мисс Моул – самая очаровательная женщина на свете, но в его чепухе обычно оказывалось достаточно правды, которая могла и больно жалить, и утешать, и бедняжка Этель, не умеющая скрывать свои чувства, была обижена и озадачена. Чем эта женщина могла его очаровать? – казалось, безмолвно вопрошает она, переводя взгляд с мисс Моул на Уилфрида. Девушке в ее двадцать три Ханна представлялась почти старухой, давно шагнувшей за черту возраста, когда можно считаться привлекательной. Экономка даже не была хорошенькой, но Уилфрид, находясь рядом, всегда наблюдал за ней. Дочке проповедника нравилась мисс Моул – и нравилась бы еще больше, если бы та совсем не нравилась Уилфриду. Однако же Ханна дарила чувство безопасности: если вдруг коттедж загорится или кто‐то из домочадцев заболеет, мисс Моул сразу подскажет, что делать. С ее появлением жизнь стала намного комфортнее. Этель была благодарна, что экономка освободила ее от утомительного планирования завтраков, обедов и ужинов и попыток заставить Дорис выполнять свои обязанности по дому, но при этом не испортить отношения со служанкой в миссии, чтобы та не жаловалась другим членам девичьего клуба на строгую работодательницу. Существовало множество причин, по которым Этель была отвратительной домохозяйкой, и столько же – почему мисс Моул казалась идеальной в этой роли. В сорок лет все отвлекающие желания, амбиции, надежды и разочарования должны были пройти, оставив ум спокойным и удовлетворенным повседневными делами – состояние, которому Этель иногда завидовала, однако чаще она все же жалела мисс Моул и старалась верить, что комплименты Уилфрида в адрес экономки – его новый способ привлечь к себе внимание самой Этель.