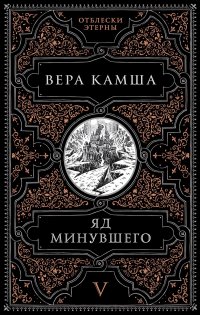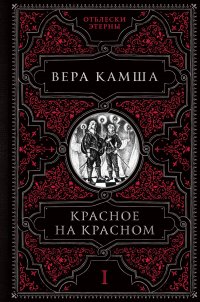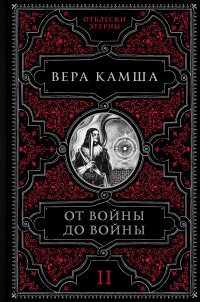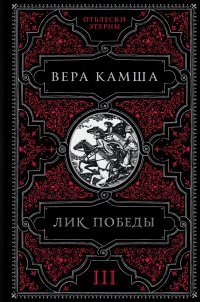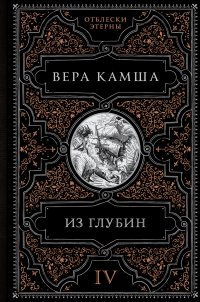Читать онлайн Битва за Лукоморье. Книга 3 бесплатно
- Все книги автора: Вера Камша, Роман Папсуев
© Камша В.В., Папсуев Р.В., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Заветный курган
«Везучая ты, Варвара, – частенько повторяла Румяна. – Не иначе, одарил тебя Белобог удачей, что ни беда – тебе выгода».
Варя в ответ смеялась, вспоминая поговорку: «Кому страсти-напасти, кому смехи-потехи», но сейчас слова подруги-самовилы [1] казались более чем уместными.
Освещая путь факелом, Варвара шла по широкому проходу и рассматривала стены, дивясь умельцам, что смогли в камне выбить столь искусные изображения. Их смысл девушка не понимала, но резчики тут потрудились знатные: ишь какая работа старательная и тонкая! То ли долгие года корпели, то ли волшебство применяли. Письмена возле изображений казались странными – одновременно знакомыми и нет. Некоторые начертания и руны распознавать удавалось, некоторые она видела впервые, но сомнений больше не осталось: Варвара пришла куда нужно. Эту темную, мрачную и при этом красивую гробницу точно строили волхвы-русичи. С чего их занесло аж за Градимирские горы, так далеко на восток от Руси – не совсем понятно. Но ведь занесло, причем они потратили немало сил и времени, возводя в тайге столь причудливое сооружение.
А уж сколько времени ушло у нее самой на поиски этого места! В начале пути только и было известно, что где-то есть гробница, в которой давным-давно похоронили важного волхва по имени Всемысл, а вот где та гробница расположена, не знал никто. Сведений – с гулькин нос, с чего начинать – непонятно. Скольких людей Варвара потревожила, сколько свитков и книг перерыла, все без толку! И надо же такому случиться, что искомое нашлось в ставшем ей вторым домом Вышегорье, когда она навещала чародеек-самовил.
Заметив настроение уставшей от поисков и уже почти отчаявшейся Варвары, Румяна стала настойчиво ее расспрашивать. А узнав о причине, молча повела девушку к старшей жрице самовил. Усохшая, дряхлая и почти слепая старушка-Теменужка сильно отличалась от соплеменниц – статных красавиц с золотыми волосами до пят. Сколько лет она прожила на белом свете, не знал никто, даже она сама. Но прожила много и разум сохранила. Ее замечательная память и подарила Варваре ключ к разгадке.
Теменужка припомнила, что давным-давно знавала она этого самого Всемысла, и в один из последних своих наездов он, пропустив чарку-другую, разоткровенничался, поведал о своей мудреной задумке. Сказал, мол, времена суровые грядут, а я стар стал, силы истратил, срок уж близко, но даже после смерти буду караул нести. Самовила попросила объяснить, он и ответил: наказал, говорит, я братьям заранее гробницу построить, а после смерти похоронить меня вдали от родных земель, за горами, за лесами, далеко на востоке, в Великой Тайге. На вопрос «зачем же?» волхв только рукой махнул: мол, так надо, для кого-то смерть – отдых, а для меня – служба почетная. Что он имел в виду, жрица так и не поняла, но не удивилась: Всемысл чудил и в молодости, а под конец жизни так и вовсе частенько сумасбродничал.
Простившись с самовилами, воодушевленная Варвара времени даром не теряла – одного знакомца спросила, второго, так и разузнала, что в Великой Тайге недалеко от Градимирских гор и Кущанского перевала и впрямь есть некий странного вида холм, по описаниям – несомненно курган. На юге Славии такой никого бы не удивил, чай не редкость, одни волотки чего стоят – достойное и величественное напоминание о павших великанах. А вот таежные племена курганов не насыпают – земля в тех местах твердая, промерзшая, слишком муторно такую ковырять, семь потов сойдет. Откуда же там взяться именно кургану?
Зацепка была, прямо скажем, так себе, да цепляться за соломинку Варя привыкла. Долго ли, коротко ли, но добралась до цели. Путешествие подходило к концу – она нашла что искала.
А ведь поначалу казалось, что все идет не так. Едва Варвара с проводниками благополучно пересекли Кущанские Ворота, как началось! Четверо спутников, такие собранные и спокойные в горах, вдруг принялись бурчать: мол, на север надо идти, в Югрик-городок, зачем тебе в лес? В Югрике крыша над головой и горячее вино, а в тайге – сплошь мороз и ужасные чудовища. Она не спорила, отшучивалась, но твердо добавляла, что работа есть работа – раз плату приняли, не нойте. Поначалу эти слова приводили ворчунов в чувство.
За два дня, что они шли от перевала – сначала пересекли равнину с замерзающей рекой, а потом углубились в Великую Тайгу, – голос проводники стали подавать все чаще. А сегодня поутру, узнав, куда именно собирается чужачка, спутники разом затрясли головами, забормотали что-то о проклятом, запретном месте. Мол, идти туда ни в коем случае нельзя, древнее зло… и прочая чепуха.
Удивляться не приходилось. Варвара много где бывала, много с кем общалась и много древних руин облазила. Она не раз сталкивалась с подобным: местные о своих проклятых местах всегда и все знают. Одно и то же, оскомину набило. Спросишь – ворох преданий вывалят и непременно припомнят, что кто-то в жутком месте совсем недавно сгинул. «Не ходи, не смей, там зло»!
Сама же Варя всегда рассуждала просто: как узнать, проклято ли место, если туда не сходить? С одной стороны, то, чего не знаешь, пугает сильнее, с другой – ты не можешь бояться того, чего не знаешь. Глупым предупреждениям внимать, на слово верить, дрожа вечно, как осиновый лист, – так лучше вообще из дома носа не казать. Да и предусмотрительна Варвара: недаром же таскает с собой всякие полезные зачарованные штуковины! Амулеты, защищающие от происков зла, всегда при ней. И в одежду вшиты, и в доспех, да и в сумочках полно диковинных оберегов, добытых в разных частях Белосветья. Раз с Варей ничего страшного не случалось, значит, выручали. Выручат и на сей раз – от очередного «древнего зла» охранят.
Настораживало, конечно, что не только проводники предупреждали ее о кургане, но и самовилы. Румяна и та была на удивление серьезна.
– Знаю, что не отступишься, – разволновавшись, подруга по своему обыкновению принялась наматывать на пальчик роскошную светлую прядь, – но будь осторожна! Пожалуйста! Волхвы знали, что делают, и если забрались так далеко от Руси, значит, была веская причина. Не шла бы ты туда, Ласочка.
Ласочка… Прикипело к ней это прозвище, настолько, что Варвара часто сама себя так называла. Предупреждение подруженьки она, само собой, выслушала и даже согласно кивнула. Румяна не могла знать, что у Вари имелась веская причина отправляться в путь. Когда на кону жизнь хорошего человека, отступать нельзя, да и не взять Ласку страхами! «Древние проклятия» и «запретные тайны» ее никогда не пугали.
Дело надо делать, несмотря на жуткие слухи. Осторожно, обдуманно – но делать. Только местным этого не объяснить. Наотрез отказались провожать, еще и обзываться вздумали. Ишь, разговорились после перевала, один даже пару глупых шуток отпустил по поводу коротких волос, сложения и ума. Эх, дала бы она по морде шутнику, да так, чтобы надолго запомнил, как его, здоровенного силача, «девка стриженая, мелкая да безмозглая» отметелила. Но ссориться с проводниками Ласке не хотелось: они ей еще пригодятся, когда придет время обратно на Русь путь держать. Да и Ойка, старший над ними, был хоть и непреклонен, но достаточно разумен. Указал нужное направление и сказал: мол, хочешь идти на смерть – иди. Мы тебе не указ. Но и с собой не зови, не пойдем, никакое золото жизни не стоит. Будем ждать здесь, на опушке, ровно два дня. Потом отправимся к Югрику.
Варя задерживаться и не собиралась: вышла со стоянки затемно, в надежде управиться до полудня. Всю дорогу до кургана она злилась на суеверных проводников и переживала… но не из-за проклятия. По своему обыкновению девушка предпочитала думать о насущном, и волновало ее совсем другое – то, о чем рассказывали стражники-русичи, когда она гостила на заставе возле входа в Кущанские Ворота.
То ли волхвы так нарочно задумали, то ли все случайно так вышло, но курган был возведен на меже, рядом с землями чуди белоглазой. Таежные жители боятся этих свирепых диких людей не просто так. Договоров с ними никто не заключал, а потому рубежи, отделяющие людскую вотчину от чудинской, оставались очень размыты. Где заканчивалась одна земля, а начиналась другая – того даже китежанские землемеры сказать бы не смогли. Чем чудь и пользовалась, совершая набеги на межевые поселения. Недаром Югрик так мощно укреплен – отродья злобных великанов-асилаков людей ненавидели и убивали при любой возможности. И земли свои они стерегли пуще глаза, и, бывало, нападали на неразумных смельчаков, решивших добыть пушнину рядом с межой. Поэтому Варе тревожно и было – лучше внимания к себе не привлекать и с чудинами не встречаться. Они-то есть на самом деле, а потому куда опасней призрачных угроз, исходящих от какого-то там зла.
Расположение Всемыслова кургана смущало еще и по другой причине. Слава о «дурном месте», похоже, гремит далеко по округе. А в Великую Тайгу со всего Белосветья идут люди суровые, готовые на все, а порой – и отчаянные. Промышляют не только пушниной, ежедневно рискуя жизнями, и многих из них суевериями не испугать. Те, кому сам худ не брат, навроде ее самой, могли решить быстренько разбогатеть, покопавшись в кургане, благо стоит он не очень далеко от Югрика. Вожделенная гробница запросто может оказаться пустой… и что тогда делать? Да и неизвестно еще, сумеет ли Варвара найти вход… Если здешний курган похож на волотки в Славии, будет он глухим, и попасть внутрь без помощи волшбы или десятка крепких землекопов не удастся.
Вот такие, очень простые мысли о том, что она, возможно, проделала весь огромный путь впустую, сильно тревожили Варю-Ласку, когда она шла к кургану. Как оказалось, не напрасно.
* * *
Варвара оказалась права в своих опасениях, почти во всех. Гробница в самом деле была погребена под здоровенным курганом, оплывшие склоны которого заросли деревьями. И сюда и впрямь наведывались охотники за сокровищами – потому что один из склонов оказался разрыт, обнажая каменную стену усыпальницы. С краю раскопа Варя обнаружила полуобвалившийся проход: стяжатели рыли наобум, но им повезло, нашли вход быстро, все основание кургана сносить не пришлось. Судя по всему, случилось это довольно давно, ишь как зарасти успело. Несколько десятков лет назад – точно.
В расстроенных чувствах Варя достала из малого заплечного мешка надежную и крепкую лопатку и принялась расчищать заваленный вход, обрубая сплетенные мерзлые корни и отбрасывая в сторону стылую землю вперемешку с камнями древней кладки. Много времени потратила, но справилась. Убедившись, что расширила лаз достаточно, она пропихнула в отверстие мешок с вещами, а потом полезла и сама, извиваясь и костеря зимнюю одежку, из-за которой обычно ловкая Ласка сейчас напоминала самой себе неуклюжий капустный кочан. Протиснувшись внутрь, она неловко упала боком на каменный блок внизу и поневоле отметила, что только что мешавшая зимняя одежда на этот раз уберегла от сломанных ребер. Что ж, как говорят – нет зла без добра.
Поднявшись, Варвара огляделась. Впереди тянулся длинный и темный проход, узкий и невысокий. Дальше без света не обойтись. Достав из мешка один из заготовленных заранее факелов, девушка запалила его и, закинув мешок за плечо, осторожно двинулась вперед.
Возле лаза было сыро и холодно, но чем дальше шла Варя, тем теплее и суше становилось, а под ногами в толстом слое пыли все четче проступали человеческие следы. Предшественники. Судя по всему, их было трое, шли они друг за другом и торопились. Варя же не спешила, двигалась осторожно, время от времени останавливаясь, чтобы получше рассмотреть стены прохода. Кто его знает, что тут волхвы оставили, могли ведь и ловушки установить.
Непонятные картинки и надписи, оставленные на стенах мастерами-резчиками, завораживали, и она с сожалением подумала, что недостаточно знает и о волхвах, и о древнем языке Первых людей. Вот что здесь написано? Вдруг ответы на все загадки мира? Советы юным девам, как жизнь свою счастливо обустроить? Наставления юным мужам, как славу мировую добыть? Или – что важнее – как охотнице за сокровищами до клада быстрее добраться?
Впереди что-то зашуршало, по проходу эхом пролетел знакомый звук – камень ударил о камень, покатился и затих. Что это? Кто-то затаился в темноте древней гробницы или просто щебень с просевшего потолка посыпался? Сооружение-то старое, если не повезет – может и обрушиться.
От таежной свежести не осталось и следа, воздух стал спертым, сухим и пыльным, и Варе было жарко и душно. Она ослабила шерстяной платок у горла и расстегнула застежки тяжелой парки, сшитой на заказ в Велигоре. Так чуть полегче…
Дрожащий свет факела высветил глухую стену впереди. Неужели тупик? Нет, поворот направо, который можно заметить, лишь подойдя совсем близко. Варя осторожно выглянула из-за угла и обнаружила перед собой здоровенную дыру в полу от стены до стены. Факел высветил на дне нанизанный на заточенные железные колья скелет в истлевшей зимней одежде.
Так-так. Один из кладоискателей окончил свой путь в волчьей яме. И не только он – внизу девушка разглядела еще и кости каких-то зверьков. Падальщики проникли внутрь гробницы через разрытый вход, нашли мертвое тело и прыгнули вниз, полакомиться. Труп-то они обглодали, но сами выбраться наружу не смогли, так и остались лежать навеки рядом со своей трапезой. Возле останков валялись еще и осколки плоского камня, давая понять, как именно горемыка угодил в ловушку – наступил на «морочную» плитку, та раскололась и обрушила еще несколько вокруг. Похоже, стяжатели в самом деле торопились. Может, пока искали вход в гробницу, устали от раскопок и потеряли осторожность. Или просто новички, мозгов не хватило подумать о том, что здесь могут быть ловушки.
Справедливости ради стоило признать, что предшественнику просто не повезло, в такую волчью яму мог угодить любой. Место выбрано удачно – сразу за поворотом, – да еще и хитроумная «морочная» плитка в пол вмурована, что от веса ломается: по всему видно, ставившие западню дело свое знали. А сравнительно опытной Варваре свинью подложил бы именно ее опыт, ведь обычно руины – они и есть руины, все там запущенное, сломанное, негодное, и никаких ловушек нет. По крайней мере, ей не встречались. Но ведь недаром издревле известно, что мертвые не любят, когда их беспокоят. А уж богатые и наделенные властью умирающие запросто могли наказать могильщикам обеспечить им вечный покой после смерти. Если верить словам нанимательницы и старой Теменужки, Всемысл был волхвом очень важным, одним из старших, и явно не хотел, чтоб по его гробнице шастали чужие.
Надо глядеть в оба. Одно дело ловушки навроде волчьей ямы, а вдруг и волшебные имеются? Волхвы ведь строили, не абы кто! Наверняка что-то эдакое соорудили… Если знаний не хватит, а нужных зачарованных предметов при ней не окажется – придется сдаться и уйти ни с чем…
Решительно отбросив в сторону мысли о возможной неудаче, Варя подняла факел повыше, вглядываясь во тьму. По ту сторону дыры на полу виднелись смазанные следы – двое более везучих кладоискателей явно перепрыгнули через провал, оставив тело спутника в ловушке. Да и что им еще было делать?
Варя примерилась. Яма хоть и внушительная, но перескочить ее можно без особых трудов. Правда, места для разбега совсем не оставалось, угол же. И в тяжелой одежде особо не посигаешь. Придется разоблачаться.
Первым делом она сняла широкий большой пояс, на котором было навешано ее снаряжение, а затем стянула через голову тяжелое оплечье с капюшоном и треугольным плащиком с меховой опушкой. Сбросив с плеч парку и размотав длинный шейный платок, Варя зябко поежилась. Ничего, шерстяной серо-черной верховицы [2] с высоким воротом хватит. Сейчас нужно двигаться легко и ловко, а когда на тебе столько всего намотано, и не повернуться толком. Она бережно сложила снятую одежду на пол – пусть пока тут полежит, подождет, на обратном пути забрать можно. Высокие, выше середины бедра, унты снимать не стала – морока с ними возиться, отстегивая от малого пояса, да и не сильно они мешали: легкие, прочные, мягкие… Осталось только снова надеть пояс с кошелем и ножом – и вперед!
Эхнув, девушка закинула на ту сторону ямы заплечный мешок и без разбега с факелом в руках прыгнула следом, легко преодолев ловушку.
* * *
Она и раньше не торопилась, а теперь пошла еще медленнее, осторожнее, хотя умом понимала, что следы предшественников – вот же – перед глазами, а значит, путь впереди безопасен. Все верно. «Кому страсти-напасти, кому смехи-потехи». Страсти-напасти в виде раскопок входа и волчьей ямы свалились на горе-стяжателей, а ей, идущей на все готовенькое, остались только смехи-потехи. Хорошо бы так и было, но Варю терзали скверные предчувствия, и она вдруг сообразила почему. Следы вели в глубь гробницы, но не обратно.
Либо здесь имелся второй выход, а это очень сомнительно, ведь усыпальницы так обычно не строят, либо – что куда вероятней – ее предшественники так назад и не выбрались. Скорее всего, разделили судьбу своего товарища, навеки оставшись во Всемысловом кургане, а значит, впереди – смертельная опасность. Правда, в этой пригоршне горестей затесалась и крупинка радости: сокровища наверняка еще на месте, а значит, она недаром проехала тысячи верст.
Возможно, ей и в самом деле везет. Как и говорила Румяна.
Казавшийся бесконечным проход закончился стенкой, столь же красивой и резной, как и остальные. Снова какие-то картинки, надписи, символы, и пусть Варя их не понимала, общий – и очень знакомый – посыл она уловить смогла: поворачивай, впереди тебя ждет смерть, дальше хода нет, место не для смертных, и прочая… ерунда.
Это наверняка вход в сокровищницу, в сердце усыпальницы – огромная дверь из цельной плиты. Как же ее открыть? Варя занялась осмотром, искренне надеясь, что это не «заглушка» – так охотники за сокровищами называют выезжающие из стен плиты, навсегда отрезающие вход в гробницу. Тогда без волшбы точно не обойтись. Придется разрушать стену, чтобы проникнуть внутрь, благо у нее имелось нужное средство, но за ним нужно было возвращаться на стоянку. Впрочем, Варя почему-то не сомневалась, что эта причудливая стена – именно дверь, нужно лишь найти рычаг, чтобы ее отворить.
Пламя начало мигать. Варя торопливо присела возле мешка, доставая новый факел – оказаться в полной темноте, пусть всего на минуту, ей совсем не хотелось… однако пришлось. Мигающий огонек погас, и Варя отбросила ставшую ненужной палку в сторону. Достала кресало, быстро высекла огонь, зажгла факел… и прямо перед собой увидела справа в стене неприметную изогнутую рукоять, расположенную на уровне ее щиколоток. Надо же, проглядела, увлеченная стеной-дверью!
Неужели все так просто?
– Ну нет, так просто не бывает, – пробормотала Варвара, отвечая самой себе.
Натренированные чувства кричали о западне, а она привыкла своему чутью доверять. Девушка внимательно осмотрела и прощупала все вокруг, пытаясь понять, цельные ли стены, пол и потолок, нет ли потаенных ловушек – вдруг на нее что-нибудь рухнет, когда она нажмет на рычаг? Или пол провалится, открывая очередную волчью яму. Или из стен колья отравленные полезут.
Ничего подозрительного не обнаружив, Варя решила, что можно рискнуть. Отошла от стены-двери подальше, отложила в сторону мешок и вставила факел между плитами пола, освобождая руки. Минуту попрыгав на месте, потянулась, чтобы как следует размять мышцы, и отцепила от пояса свернутый длинный и толстый кнут. Точнее, за кнут это можно было принять со стороны, на самом же деле это была обрезанная когда-то давным-давно, в прежней жизни, Варина коса. Около трех локтей в длину, толстая у кнутовища, она постепенно сужалась, заканчиваясь тупым золотым наконечником-узлом. И это были уже не просто срезанные волосы, а «коса-вите́ня [3]», чудо-оружие, которое не раз выручало свою хозяйку в самых разных переделках.
Чародеи, с которыми Варвара имела дело, недаром называли ее «предметницей [4]» – зачарованные предметы она использовала часто и с удовольствием, особенно – любимую «витеню». Нажатие на голубой камень в основании рукояти пробудило оружие, и девушка мысленно велела косе распрямиться. Та, будто живая, гибко и со щелчком вытянулась и затвердела, став своеобразным древком. Новый мысленный приказ – и коса укоротилась до двух локтей, а ее золотистый наконечник превратился в багор с острием и крюком. Зачарованное самовилами железо никогда не подводило, изменяясь и обретая ровно тот вид, что был нужен хозяйке. Сейчас ей требовался именно багор – цеплять и, при необходимости, бить…
Ухватив крюком рукоять в стене, Варя вздохнула и дернула, готовая ко всему: отпрыгнуть, броситься назад, увернуться, ткнуть зачарованным острием багра в какого-нибудь волшебного врага… но заскрежетали механизмы, скрытые внутри стен, зазвенели цепи, посыпалась с потолка мелкая пыль – и стена-дверь начала лениво подниматься. Никаких ловушек…
Взяв в руки факел, Варвара вернула косе прежний вид, скатала и повесила на пояс, после чего медленно подошла к открывшемуся проему. Темнота не позволяла ничего разобрать, было ясно лишь то, что впереди какое-то большое, даже огромное помещение. Постояв несколько минут, Варя убедилась, что падать дверь не собирается, но тревога не отпускала. Девушка достала из мешка лопатку и кинула через порог, готовая в любой момент отскочить. И опять ничего: дверь не шелохнулась, ловушки не сработали, только весело зазвенела упавшая на каменные плиты лопатка.
Обрадованная и при этом слегка разочарованная добытчица закинула мешок за спину, одновременно дивясь: неужели все и вправду так просто? Ну, не отведав, вкуса не узнаешь – не поворачивать же? Отринув сомнения, Варвара решительно шагнула в темноту.
* * *
Новый зал оказался и впрямь большим – чтобы оценить размеры, света факела не хватало. К счастью, трепещущий огонь хорошо освещал широкие ступени под ногами. Мягко ступая унтами по древнему камню, Варвара осторожно спускалась по лестнице, пытаясь разглядеть хоть что-то.
Она не успела пройти и десятка шагов, как вдруг справа и слева что-то клацнуло, потом щелкнуло и за спиной, а затем раздался раскатистый грохот и гулкий удар – дверь-стена рухнула вниз. Варвара бросилась назад сквозь облако поднятой пыли, отказываясь верить, что все пропало… но пришлось смириться со случившимся. Девушка уперлась лбом в гладкий камень стены и от бессилия застонала. Дверь опустилась, и никаких рычагов-рукоятей поблизости не видно.
Ты же чуяла, что не все так просто, да? Ожидала подвоха? Знала, что ждет западня? Что ж, умна. Получи, чего ждала. Ловушкой была сама дверь. Заходить – заходи, но выйти уже не сможешь!
Варвара отступила от стены, пытаясь взять себя в руки, приказывая себе не реветь и не сокрушаться. Должен быть либо другой выход, либо дверь как-то можно поднять. Волхвы определенно собирались сюда вернуться, иначе зачем строили такое сложное сооружение, с проходами, дверьми и механизмами? Закопали бы Всемысла в земле, и дело с концом. Значит, есть способ выбраться, надо только как следует осмотреться.
Пыли здесь было намного меньше, а глаза уже привыкли к полумраку, благо темноту рассеивал свет факела. Круглое помещение, стены которого, как и все здесь, покрывали изображения и письмена, оказалось не сокровищницей, а своего рода сенями – залом меж двумя ходами. Напротив лестницы виднелась вторая каменная дверь – большая, круглая и тоже вся изрезанная картинками. Зал, впрочем, не был совсем уж пустым: по кругу возле стен стояли высокие светильники на кованых витых ножках, справа девушка приметила два небольших сундука, слева – полдюжины хорошо сохранившихся бочонков, а в самом центре темнело погасшее кострище, возле которого валялись два пустых бурдюка, разгрызенные кости, щепки от расколотых бочек и брошенная ею лопатка. А еще – обтянутые кожей скелеты.
Двое стяжателей, по следам которых она шла, встретили свой конец здесь, в этих «сенцах», так и не сумев найти выход. Один, одетый в парку и штаны из оленьей кожи, скрючился возле круглой двери, рядом с ним поблескивал большой охотничий нож. В сухом воздухе гробницы плоть мертвеца обтянула кости, но не обратилась в прах, и можно было различить даже черты бородатого лица, искаженного в предсмертной муке.
Второй кладоискатель лежал с другой стороны зала, возле ступеней. Этот был раздет: его обувь, парка и прочая одежка валялись неподалеку. А еще он был безногим. Подойдя поближе и склонившись, Варя осветила факелом останки и отшатнулась, сообразив, что здесь произошло.
На сухом торсе «неполного» мертвеца отчетливо виднелись следы ножа. Горло ему перерезали так, что едва не отделили голову от туловища, а из тела вырезали куски – аккуратно, неспешно, ломтями, когда человек был уже мертв. Проверять Варя не стала, и так было ясно, что обглоданные кости возле кострища – человечьи…
Тот, что скрючился у двери, убил и съел своего товарища, когда они оба, не в силах найти выход из темницы, умирали с голоду.
Никогда не отличавшаяся буйным воображением Варвара похолодела, давя поднимающийся к горлу ужас, отказываясь представить, каково было этим замурованным в гробнице искателям наживы. Хотя чего представлять? Она сейчас точно в такой же передряге, разве что спутника нет, и, если не найдется выход из этой мрачной усыпальницы, ждет несчастную Ласочку голодная смерть. А был бы спутник – решилась бы она?.. Смогла бы?..
Варвару аж передернуло. Займи себя, сосредоточься на деле, приказала она себе. Мысленный окрик подействовал, и девушка, сжав зубы, занялась подробным осмотром зала-ловушки. Сундуки, крепкие, с ручками по бокам, оказались пустыми: видать, стяжатели притащили их с собой, чтобы загрузить сокровищами, да не довелось. А вот в одном из бочонков Варя с радостью обнаружила вполне пригодное масло.
Не теряя времени, она быстро заправила и зажгла все светильники – сразу стало светло, и Варвара вновь пошла по кругу, внимательно рассматривая резные стены. Вскоре она убедилась, что открывающего рычага здесь и в самом деле нет. Оставалась вторая дверь, возле которой лежал скелет людоеда. Это ключ к спасению, в этом нет сомнений… Нужный рычаг расположен в следующем помещении – и никак иначе!
Варя подошла к спасительному выходу и принялась его изучать. В центре основной круглой двери располагался блок поменьше – он был оправлен широкой рамой, внутри которой отдельным слоем выпирали плитки с изображениями и знаками. Располагались они как-то беспорядочно, к тому же обращали на себя внимание странные желобки и один пустой прямоугольник в углу, словно там плитки не хватило. Это что, игра какая-то? Головоломка? Определенно создавалось впечатление, что плитки можно двигать туда-сюда – возможно, нужно их как-то правильно составить, и замок откроется.
Со странной дверью ее предшественники не справились, значит, отворить ее непросто, но в себя Варя верила, да и что ей оставалось делать? Ничего, разберемся! Что тут у нас? Картинки изображают людей, занятых всевозможными делами… Нет, так подробностей не разобрать. Подтащив к двери тяжелый светильник, чтоб получше рассмотреть плитки, девушка подошла поближе, протянула руку…
– Приветствую! – прямо из двери возникло полупрозрачное и зеленоватое бородатое лицо с горящими глазами.
От неожиданности Варя вскрикнула и отшатнулась. Попятившись, она споткнулась о собственный заплечный мешок и упала, больно приземлившись на зад, но тут же вскочила, потирая ушибленное место и ойкая. А прозрачное лицо выплыло в зал, и стало ясно, что это призрак кого-то кудлатого в темных одеждах.
Непритомников Варя раньше встречала, и они ее не пугали, но внезапное появление перед глазами светящейся морды да глухой голос ошарашат кого угодно. Источающий запах плесени и тлена призрак завис между невольной пленницей и дверью, не касаясь ступнями пола. Да и были ли они у него? От колен и вниз ноги чернели и растворялись в плотном тумане, что медленно клубился вокруг непритомника.
Обитатель подземелья вообще выглядел неопрятно и даже отталкивающе. Его грязная, спутанная борода и длинные патлы казались обмазанными смолой и налипали на темную робу мокрыми прядями, да так, что поди пойми – где заканчиваются волосы, а где начинается одежда. Полупрозрачная голова мерцала изнутри тусклой зеленью, напоминающей свет гнилушек в темноте, делая кожу настолько прозрачной, что были видны и череп, и хрящи носа, и даже паутинки вен. В темных глазницах горели маленькие бесстрастные глаза.
Привидение некоторое время рассматривало Варю, а затем участливо спросило:
– Испугал?
– Маленько, – призналась Ласка, отряхиваясь. – Грешным делом подумала, что ты вот этот, – она кивнула на покойника у двери.
Непритомник возмущенно фыркнул.
– Ну вот еще! Этот елдыга [5] меня обижал, ругался. Кричал: «Открывай двери, а то хуже будет!» Ну и кому теперь хуже? Мне-то спешить некуда – я к себе ушел, а он так тут и подох, и приятель не помог, даже не доел его. В общем, плохой был человек, нехороший. Отребье.
Зелененькие глазки скользнули по Варе, будто оценивая.
– А ты вроде не такая, – решил призрак. – Не боишься, не голосишь, не оскорбляешь. Ты какими судьбами здесь, да еще одна?
Лукавить Варя не стала, честно объяснив: так, мол, и так, пришла за вещицей, которая в сокровищнице Всемысла спрятана. Очень эта вещица нужна, судьба хорошего человека от нее зависит.
– Ты, часом, не Всемысл? – закончила она свои объяснения вопросом.
– Всемысл? – переспросил призрак и вроде как задумался. – Не знаю такого имени. Не мое оно точно, но своего не помню, так что какой с меня спрос… А внутрь тебе нельзя.
– Почему?
– Не поняла еще? Западни тут понаставлены неспроста же! Только не покой мертвых они оберегают, а хранят сокровищницу. Потому нельзя тебе туда, никак нельзя. Беда будет.
Варя недоверчиво прищурилась и с вызовом вскинула подбородок:
– И откуда ты все это знаешь?
Непритомник указал вокруг:
– Так написано же тут все на стенах, ты разве не читала?
– Язык Первых людей, – насупилась Варвара. – Я его не разумею.
– Неуч ты. Я вот даже имени своего не помню, а языки-то не позабыл, изучал, наверное… Ну, для таких, как ты, картинки вот нарисованы. Коли языка не понимаешь, догадаться же можно.
Варя не взбрыкнула чудом. Ну не для того же она за тридевять земель ехала, чтобы картинки всякие рассматривать! Но спор был не ко времени, и девушка со вздохом признала:
– Прав ты, не такая уж я и умная, что есть, то есть. Далеко мне до тебя, но, может, поможешь? Поделишься знанием, как в сокровищницу попасть, а потом наружу выйти?
– Нельзя, – отрезал бесплотный незнакомец. – Нечего тебе там делать. Мою сокровищницу тревожить нельзя.
«Мою сокровищницу»? Но при этом он не Всемысл… В голове у Варвары будто щелкнуло – да это же не просто непритомник! Это копша!
Знатоком потусторонних сущностей Варя себя никогда не мнила, но что призраки бывают разные, слыхала. Одни обращаются в болотные огоньки, другие привязываются к родному дому, третьи могут в живое вселяться – и в людей, и в животных, и даже в деревья! Всех их объединяет одно – не законченное при жизни дело, мешающее душе упокоиться с миром. Этот патлатый умник сначала показался обычным духом, застрявшим между дольним миром и Той-Стороной, но есть и особые сущности, охраняющие клады. Если тут засел копша, то за дверью и впрямь сокровищница, причем богатая. И большая удача, что при ней обретается такой вот страж.
Копши совершенно безвредны и по-своему несчастны. Зато могут помочь, если с ними обходительно обращаться. Уже ясно, что с наскока заручиться подмогой ученого призрака не выйдет, значит, надо с ним поласковей. Варя вздохнула, уселась на пол, поджав под себя ноги, и грустно сказала:
– Что ж, выходит, не видать мне больше света белого. Расскажи о себе, раз такое дело. Хоть время скоротаем, раз уж я тут застряла.
– Не ты одна тут застряла, – буркнуло привидение. – Я тоже пленник этой гробницы.
* * *
Копша помнил точно, что жил он на Руси, в Велигорской долине по ту сторону от Градимирских гор. Скрягой с младых ногтей был, жадничал, бедным не помогал, все себе греб. Думал в деньгах счастье найти, копил-копил, почти собрал вожделенное число золотых монет, но судьба по-другому распорядилась – хватил его удар, когда до желаемого оставалась сущая малость. А после смерти притянуло жадину сюда, во Всемыслов курган, к самому богатому кладу во всей округе.
– Поначалу я обрадовался, – грустно рассказывал копша, – мол, богатств сколько, всего ничего скопить осталось, чтобы дело неоконченное справить и мирно на Ту-Сторону уйти. Вот и связал себя с этим местом, начал из кургана выходить, людей искать, хотел им сделку предложить: вы мне монетки, а я вам – клад. Да только тут тайга и никого вокруг. А те, что есть, как меня видели – сразу голосить да наутек. А потом вовсе приходить перестали…
Варя кивнула. Понятное дело, ведь когда слухи о проклятом холме по округе поползли, местные начали обходить его стороной.
– Вот и сижу я тут прикованный к сокровищам. Уже почти век кукую, – призрак покосился на стяжателя у двери. – Несколько лет назад забрались сюда трое… Я в дреме был, упустил, когда они в гробницу пролезли. Пока дремал – один под пол провалился, а второй с третьим сюда дошли и застряли, дураки такие. Я им показываться-то не спешу, думаю, дай присмотрюсь. Лучше б не смотрел! Один, здоровый такой, у второго бурдюк с водой отнял, тот возмутился да драться полез, так бугай его ножом как пырнет, как по горлу полоснет! А потом и вовсе кушать стал. Противно и страшно, аж жуть…
И правда жуть, хоть и говорит это самый настоящий непритомник – нечисть, что и сама может такой ужас навести, что поседеешь.
– Ну, обессилел людоед, вода у него кончалась, – продолжал копша, – я и решился показаться, думал, он на пороге смерти сговорчивей будет. Я к нему – он от меня. Орет чего-то, руками машет. Дурной совсем стал, недаром же людоедствовать нельзя, заболеешь – и умом, и телом, и душой. В общем, обидел он меня, прогнал, да и сгинул сам без толку.
Призрак вдруг как-то поник и скуксился, словно в два раза меньше стал.
– И я скоро сгину. Выйдет отведенный мне срок, и уйду в небытие. Ты и представить себе не можешь, что это за мука – быть в шаге от покоя и его не получить…
Варя поджала губы. Ну, пришло время. Тут главное не спешить…
– Не пойму я никак, – произнесла она, поглаживая короткие волосы на затылке, – что сделать-то надо, чтоб ты на Ту-Сторону спокойно ушел?
– Говорю же, – терпеливо пояснил копша неразумной девчонке, – еще ценностей надо. Чтобы сокровищницу пополнить и набрать нужное число золотых монет. Тогда душа моя успокоится. Опять не поняла? Еще раз объясню. Не повезло мне – нас притягивает к самым богатым кладам, а меня закинуло к кладу запретному. Сюда никто не ходит, а если и ходят, то нахалы и грубияны. А так бы я сделку заключил: золотишко бы обменял на выход из гробницы. Я ж тут все знаю, как и что устроено. За долгие года весь курган излазил, все стены осмотрел, все прочел, все механизмы изучил – тут же все написано…
– И много тебе золота надо?
– В том-то и беда, что всего-навсего две золотые монетки. В этом-то и весь ужас моего несчастного положения.
Два золотых! Да, права Румяна, везучая ты, Ласочка, аж не верится. Ведь в кошеле лежат три златника, припасенные для оплаты обратного прохода через Кущанские Ворота, на Русь. Два отдашь, за оставшийся золотой да за серебряную и медную мелочь проводники через перевал не поведут… Но раздумывать было нечего, Варвара уже поняла, что монетами придется пожертвовать – иначе отсюда не выбраться. То есть, может, и выбраться, но сколько времени на это уйдет? Как там Ойка говорил? Жизнь важнее золота. К тому же, доброе дело можно справить, несчастному непритомнику помочь. А дальше? Дальше разберемся.
– Ну, – произнесла она, поднимаясь, – за чем дело стало? Сказочно тебе повезло, дружище. Отворяй дверь, добавим к кладу монетки, у меня есть!
Копша недоверчиво повертелся на месте и даже тумана вокруг себя напустил побольше, словно пытался в нем спрятаться.
– Правда поможешь? – в глухом голосе прозвучала такая отчаянная надежда, что Варваре стало даже как-то неловко. А копша тем временем горячо затараторил: – Если ты мне поможешь да не обманешь – я и правда ведь тебя выведу! Обещаю, честное слово даю! А про деньги я никогда не шучу, сама понимаешь!
Варя развязала завязки кошеля на поясе, порылась в монетках и, достав два великоградских златника, гордо предъявила их ахнувшему от радости призраку. И все вроде хорошо, но кое-что Варвару смущало, тяготило. Конечно, она могла промолчать, но раз уж решила играть по-честному, надо уточнить правила.
– Послушай, – зашла она издалека, – ну вот положу я монетки в клад – и что дальше?
– Надо сказать: «Пусть лежат тут эти монеты веки вечные, преумножая клад», – торопливо объяснил копша, – и дело будет сделано.
– Нет, погоди. Я же тебе сразу сказала, что сюда не просто так пришла. Мне нужно забрать из сокровищницы одну вещь. Наверняка ценную, и без нее я отсюда не уйду. Так вот, если я возьму часть клада, получается, снижу тем самым его стоимость, разве нет? Это тебя не вернет ли назад, не прикует ли снова к неполному сокровищу?
Копша замер, уставившись на Варвару, будто не верил свои ушам…
– Ты, – наконец произнес он, – и вправду обо мне печешься?..
Варвара пожала плечами в ответ:
– Хочу, чтобы все было по-честному, а в делах ваших призрачных не разбираюсь.
Непритомник качнулся из стороны в сторону, исходящее из него сияние усилилось, на полупрозрачной коже явственно проступили все венки да жилки, казалось, приглядись – и увидишь, как по ним кровь течет. Хотя какая кровь у призрака? Да и вены у него откуда? Странные все-таки создания. Вроде бы бесплотные, а плоть видна. И запах от них исходит…
Додумать Варваре захватившую ее мысль не дали.
– Как только ты положишь монеты и скажешь заветные слова, – обрадовал копша, – клад будет считаться полным, собранным, завершенным. Душенька моя успокоится – и я смогу уйти на Ту-Сторону. А что ты дальше с кладом будешь делать – мне уже неважно, хоть целиком его забирай. Хорошая сделка, правда ведь?
– Правда. А если я нужную мне вещицу заберу до того, как монетки положу и слова скажу?..
Копша поник.
– Тогда обманешь меня, лишишь доброго посмертия, потому что никогда уже не соберу я нужного мне числа монет и ждет меня небытие…
– Ну-ну, не собираюсь я тебя обманывать, и в мыслях не было! – живо успокоила его Варвара, даже шагнула вперед, подняв руку, будто хотела похлопать по плечу, но вовремя вспомнила, что перед ней бестелесная сущность. – Сделаю все честь по чести, обещаю!
Непритомник висел, покачиваясь, рассматривал ее и молчал. Что у него в головушке светящейся сейчас творилось – неведомо, мысли сквозь кожу не просвечивают. Но явно зародились в нем сомнения в честности Варвары, несмотря на ее горячие слова.
– Ты лучше вот что скажи – как наружу-то мне выйти? – напомнила Варя. – А то ведь уйдешь на Ту-Сторону, а я тут куковать останусь, одна, со всем этим золотом… замурованная навеки.
– Покажу, – уклончиво отвечал копша и, повернувшись к ней спиной, заскользил к круглой двери.
Варя двинулась следом. В ней тоже зародились сомнения в честности собеседника. Может, покойный скряга и в самом деле хотел свою спасительницу тут навеки оставить, а она своим вопросом его замысел раскрыла?..
– Смотри сюда, – деловито сказал призрак, зависая возле каменной двери. – Видишь картинки на плитках? Их двигать надо по желобкам. В сторону отодвигай ненужные, а нужные я тебе укажу. Вот эту сдвинь вправо, на пустое место, эту – вверх, а эту – вниз. Ну да, туго двигаются, так их давно не трогали! Теперь вот эту сюда двигай, ближе к середке. Да, вот так.
Копша говорил и говорил, а Варя двигала плитки то туда, то сюда, поначалу бездумно, слепо выполняя указания, но вскоре девушка стала видеть разумность в этом, казалось бы, беспорядочном перемещении резных плиток – здесь был смысл и очевидная цель.
– Так-так, – наконец догадалась она. – Надо собрать четыре плитки в центре, но не просто так, а чтобы сложилось изображение.
– Молодец, сообразила, голова-то у тебя, оказывается, варит. И без моей помощи справилась бы… но со мной быстрее. Тут же не просто картинки, тут история гробницы рассказана. Присмотрись: вот волхвы сооружают гробницу, вот несут почившего друга в тайгу, вот кладут его и сокровища, вот творят волшбу и запечатывают, а теперь смотри – видишь, плитки с картинками сложились в одну, а в центре – дерево оказалось? Не простое дерево, Мировое!..
– Ничего не происходит, – расстроенно заметила Варя.
– Ну погоди уж минуту-то! Здешним непростым устройствам, почитай, много больше века!
Словно в ответ, что-то лязгнуло, зашумело и дверь пришла в движение, тяжело поползла в сторону, обильно осыпая Варю вездесущей мелкой пылью.
* * *
Затащив по совету копши в сокровищницу масляный светильник, Варя невольно хмыкнула, увидев ряды доверху набитых золотом и серебром раскрытых сундуков да старательно сложенные в нишах украшения и горсти самоцветов. Посреди немалой комнаты красовалось возвышение с окруженным всевозможной утварью каменным гробом, на бронзовой крышке которого покоился длинный витой посох с причудливым навершием.
Сокровищница вызывала уважение. Варя, правда, видала и побогаче, но собранных здесь драгоценностей хватило бы на десять беспечных жизней в любом уголке Белосветья. Интересно, для чего тут эдакое богатство? Это сокровища Всемысла, который не пожелал расставаться с ними и после смерти? Или часть какого-то обряда? А может, волхвы просто спрятали свои сбережения на черный день, думая вернуться, когда заставит нужда? Только вот не вернулись. Не понадобятся им, давно ушедшим на Ту-Сторону, все эти роскошества.
От раздумий девушку отвлек нетерпеливо заерзавший копша. Он смотрел выжидающе и с надеждой, и Варвара вспомнила о своем обещании.
Подняв руку с зажатыми в ней златниками над одним из сундуков, она торжественно произнесла:
– Пускай эти монеты лежат тут веки вечные…
– Стой!
Варя с недоумением подняла взгляд на разволновавшегося призрака, который ее так резко оборвал.
– Ух, душа-девица, – произнес копша, качая кудлатой головой, – ну и простецкая же ты! Совсем забылась, о себе думать перестала. Вот сказала бы слова, исчез бы я – и как бы ты отсюда выбралась? Ведь сама же только что про это говорила!
Девушка растерянно заморгала, будто очнувшись от сна. И в самом деле, как можно было так сглупить? Отвлеклась на мысли о богатствах, потом думала лишь о том, чтобы обещание исполнить, а о себе и вправду позабыла!
– Раз желаешь сделать все по-честному, так и будет, – продолжал копша, медленно скользя по воздуху к постаменту с гробом. – Сначала я тебе выход открою, а потом уже ты монетки добавишь. Рискую, конечно, да вижу, добрая ты. Иди сюда и делай, как скажу.
Варя послушно подошла к каменному постаменту.
– Трижды усопшему поклонись и нажми на три неприметных серых камушка, что в край встроены… да, вот эти. По очереди нажимай, слева направо. Они дверь внешнюю и откроют.
Варвара сделала все, как велел копша, и за спиной натужно заскрежетало – дверь-стена, открывающая проход наружу, честно поползла вверх. Призрак замолчал, снова замер в ожидании.
– Спасибо тебе, безымянная добрая душа, – искренне произнесла девушка. – Не знаю, каков ты был при жизни, тому Белобог будет судья, но после смерти ты меня уважил – спас. Будь счастлив на Той-Стороне!
Поклонившись ему в пол, Варя быстро подошла к сундукам и, сказав нужные слова, бросила златники на гору других монет. Копша счастливо улыбнулся, вздохнул и растаял, успев прошептать: «Спасибо тебе, душа-девица».
* * *
Теперь оставалось найти то, за чем пришла – некое ожерелье. Но вот какое именно, о том нанимательница не знала. А ожерелий тут много: и на отдельных постаментах, и в нишах, и в сундуках. И разные все. Какое же взять? Подумав, Варя решила забрать все, что можно было посчитать ожерельем, разумно рассудив, что Василиса сама разберет, какое именно – нужное.
Достав сумку, девушка принялась копаться в сокровищах, потратив на это занятие немало времени.
Кажется, собрала все… Выпрямившись, она утерла вспотевший лоб и бросила взгляд на постамент с гробом Всемысла. Что там говорила про него Теменужка? Что он и после смерти службу нести будет? Любопытно…
Варвара залезла на постамент, сняла странный, видать чародейский, посох и осторожно прислонила к стене. Затем, слегка поколебавшись, поднапряглась и сдвинула бронзовую крышку – к счастью, та оказалась не такой уж и неподъемной.
Лежавший в гробу скрестив руки на груди волхв Всемысл сохранился лучше, чем скелеты в «сенях», и выглядел умиротворенно… и даже торжественно. Одет он был в просторные белые одежды, тщательно расчесанная грива седых волос обрамляла узкое волевое лицо, а длинная белоснежная борода оказалась заботливо обвязана золотыми лентами. Обтянутые желтой кожей тонкие пальцы украшали перстни с самоцветами, а на груди, под ладонями волхва, лежало… что-то.
Поначалу Варя не могла сообразить, что именно она видит. То ли сложенная и широкая пластинчатая цепь, украшенная изумрудами и адамантами, то ли узкое оплечье. Но почему волхв это странное украшение держит в руках? Почему не надел на шею? Может, это именно то, что она ищет, та самая реликвия, которая поможет Василисе?
Что ж, будь это цепь или оплечье – и то и другое можно счесть ожерельем, а значит…
– Прости, пожалуйста, волхв Всемысл, – тихо произнесла Варя, вынимая из рук покойника загадочную диковину. – Поверь, не для себя беру, а для дела доброго.
Вернув крышку гроба на место, добытчица спрыгнула вниз и сунула увесистую сумку с ожерельями в заплечный мешок. Ну что ж, дело сделано. Посмотрев на окружающие ее со всех сторон богатства, девушка задумалась и по привычке провела рукой по коротким темно-русым волосам.
Походи Варвара хоть чуточку на давешнего копшу, она бы непременно пожалела об оставляемых ценностях. Но Ласочка отличалась от большинства искателей кладов тем, что не была жадной, и ей не раз доводилось покидать найденные сокровища. Такой уж склад ума – всегда думать лишь о насущном. Насущное же заключалось в том, что впереди долгий переход через горы на Русь. Волочь на себе груз, от которого пуп трещит? Нет уж, спасибо, и так набрала достаточно тяжести. Взять немного, на оплату проводников и возможные дорожные расходы? Это можно. Золото, конечно, оттянет поясной кошель, но это не сундуки по горам таскать.
Да и не за тем разыскивала она Всемыслов курган.
Собирая старинные монеты, Варя вдруг подумала: а, собственно, зачем ты, Ласочка, сюда шла? Ну не для того же, чтобы разбогатеть, верно? И так богатая – могла бы жить припеваючи и горя не знать до конца своих дней. Нет, отправилась ты в дальние земли не за золотом.
Конечно, обещанная Василисой награда – более чем достойная. Хорошая оплата всегда в радость, приятно, когда твой труд ценят, но… важнее было само дело, что нанимательница поручила. Сейчас она спасает человеческую жизнь, а что может быть важнее? Прошли времена, когда Варвара бралась за все подряд. Нынче она выбирает задачи сложные, чтоб вызов был, чтоб головой рисковать да опыта необычного набираться. К примеру, самой себе доказать, что не лыком шита. Что хватит ей и сил, и ума решить такую заковыристую загадку – найти гробницу, о которой на Руси все позабыли. И смогла же!
Так и зачем ей золото?
Что ж, можно уходить… но сначала – оставить свой след. Достав топорик с коротким шипом на обухе, Варя подошла к стене и решительно начертала шипом на голом камне сначала рогатую галочку, затем – перечеркивающую ее лунницу, а сверху выбила точку. Отошла, полюбовалась. Ну да, не резчица-мастер, но дело ведь не в красоте изображения, а во вложенном смысле. «Здесь была Ласка». Это ее знак. Знак первооткрывательницы, клеймо победителя.
Удовлетворенно хмыкнув и закинув на плечо тяжелый мешок, Варя направилась к выходу.
Ночь кромешная
Нет ничего бессмысленней заочного спора. Алеша это понимал и все равно спорил сразу и с Несмеяной – и ведь не дура же, если о делах ратных говорить, но в главном-то глупей глупого! – и с собой прежним, а всего сильней с кем-то незримым, что словно бы рядом пристроился, мешая наслаждаться последним осенним теплом да упругим конским бегом. Грядущей драки за Лукоморье китежанин не боялся, а вот зло на готовящего набег непонятного колдуна брало, и кабы только на него!
Умники великие яроместо от своих стерегли – мудрили, хитрили, скрытничали и доигрались до того, что всё на паре Охотников повисло, старом да молодом. А могло бы и вовсе на одном Стояне, который тревогу и поднял. Мало того, бывалый Охотник про затею гада-Огнегора узнал не в Китеже и не от княжьих людей, а от подавшейся в яги зазнобы. А если б не стала Марфа жутковатых чужачек слушать? Дождалась бы своего Стояна и зажили б они рядком да ладком? Совет да любовь – дело хорошее, особенно на склоне лет, но с Лукоморьем-то что бы сталось? С Лукоморьем, с Русью, со всем Белосветьем?
Негоже, когда младшие дальше старших видят.
Эх, не затем богатырь Алеша отказался от обузы воеводства, не затем броню на китежанский распашень сменял, чтобы опять сомневаться. Драться он шел, и чтоб ясно все было – вот зло, вот ты, обученный это самое зло бить, и дело твое пусть и не слишком приметное, зато нужное. Чтобы не было на Руси никакой дряни, ну а «то, не знаю что» пусть кто поумнее ищет. У них и мозги, и опыт, и от книг да свитков архив ломится! Старшие сотнями глаз смотрят, сотнями ушей слышат, а с Алеши взятки гладки. В Охотниках он без году неделя, ему бы не думать, а исполнять… Ну так и Несмеяна такая же. Чего ж от нее смелых мыслей да быстрых решений ждать, если сам разнылся? Прежде чем с других спрашивать, на себя оборотись!
Мир сложнее, чем кажется, простоты не найти. Нечисть выслеживать да супостатов иноземных рубить – еще не значит защитить Русь и Белосветье. Одним булатом, пусть и звездным, по нынешним временам не отбиться, хоть всех худов со змеевичами повыведи, не в них дело…
«Ноги в сапогах, – доложил не забывавший следить за дорогой Буланыш. – Сидят, отдыхают. Объедем, противно».
– Далеко? – уточнил, с радостью отбросив не самые простые думы, богатырь.
«С версту. Не хочу туда».
– Потерпишь, – отрезал Алеша. – Нюхать не будешь, обойдем, встанешь по ветру.
«Ты нюхай, а я пастись пойду. Противно».
– Я уже понял.
Прекращая перепалку, китежанин недвусмысленно шевельнул поводом. Буланыш недовольно мотнул гривой, но артачиться не стал: выказал свое мнение, и ладно. Нюхом даже обычные кони не всякой собаке уступят, а богатырские сильнее во всем. Впрочем, унюхать княжьего гонца смог бы и Алеша, пусть и не за версту. Запах был сильным и, прямо скажем, странноватым, но Охотник чего только не нюхивал, а тут всего лишь зачарованные сапоги, пусть и не снимаемые неделями. Иначе-то не выходит: боязно гонцам такую ценность из рук, то есть с ног выпускать. Украдут, не ровен час, век с казной не расплатишься, да и не всё меряется деньгами. У княжеских скороходов, а было их в Великограде куда меньше, чем Охотников в Китеже, есть и своя гордость, и свои правила, и своя волшба, и даже штаны особенные, чтоб ноги друг о дружку не слишком терлись.
Стать таким бегуном мог не всякий, требовалось для того врожденное чутье, и все равно приходилось годами учиться и самому бегу, и тому, как дорогу выбирать и препятствия обходить. Гору миновать еще полбеды, а ты попробуй на полном разгоне в человека или зверя не впечататься, но и это еще не предел. Случались среди гонцов искусники, что могли по верхушкам деревьев бегать: этих считали получародеями и слегка опасались.
В стародавние же времена от скороходов с их сапогами по понятным причинам и вовсе шарахались. Само собой, прежде чем допускать пред светлые княжеские очи, гонцов гнали в баню; вроде бы не такая уж и большая задержка, но однажды именно этого часа не хватило, чтоб отвести большую беду. После этого великий князь строго-настрого наказал вести скороходов к нему, как есть, а княгиня после первого же раза собрала чародеев и посулила награду тому, кто сумеет одолеть дорожно-сапожную вонь. Такой искусник сыскался, и с тех пор от скороходов, сколько бы дней они ни были в пути, пахло чем-то вроде распаренного банного листа, только не березового, а похожего сразу и на перечную мяту, и на таволгу. Людям это не мешало, а коней никто не спрашивал.
«Нечестно, – не желал униматься Буланко. – Я родился конем, я бегу. С подковами легче, но я и без подков – я. А этот надел сапоги и стал быстрее коня. И еще пахнет!»
– Тупой не пахнет, – напомнил про Стоянова коня Алеша, – он тебе что, больше нравится?
Буланыш не ответил, задумался, но ненадолго; вернуться к своим мыслям Алеша, по крайней мере, не успел.
«Тупой хуже, – торжественно объявил жеребец. – Он весь поддельный, а тут только сапоги нечестные. Близко уже. Спешишься?»
– Посмотрим, – вывернулся относившийся к скороходам со всем уважением богатырь. – Ты не злись, гонцы великоградские свой хлеб не зря едят. Сапоги волшебные, они не для всех, и управиться с ними немногим легче, если легче, чем с… Тупым. Тут и навыки нужны, и сила, и разум быстрый, и все равно погибнуть можно запросто. Случалось, и не раз.
Буланко смолчал, но на горку взобрался безропотно, даже не пытаясь увильнуть. Охотник усмехнулся и вдруг загадал, знакомый будет гонец или нет. Всего Владимир держал девять скороходов, по двое на каждую из сторон света и еще одного на всякий случай, Алеша в бытность свою в Великограде знал в лицо четверых, так что получалось четыре против пяти, почти как монетку бросить. Если выйдет знакомый, ущучат они Огнегора еще до зимы, ну а нет… Не последний день живем.
Зловредному колдуну не повезло – гонец оказался знакомым, Охотник даже имя вспомнил – Закат Полуденович. Крепкий, крутой, уже в годах, Закат всегда был настороже. Алешу признал сразу, правда, радости особой не выказал, спасибо хоть поздоровался.
– И тебе по здорову, Полуденович, – откликнулся, спешиваясь, китежанин. – Куда путь держишь, не в столицу часом?
– На юга, – буркнул гонец, убирая вынутый на всякий случай кинжал.
Подумывавший, не подать ли в Великоград весточку, Алеша чуток расстроился, но виду не показал, лишь подбородок вскинул:
– Новостями не побалуешь?
Ответ был ожидаемым:
– «Побалуешь», ишь. Не до баловства нам, – набычился Закат. – Что сказали донести, то и доносим. А что до самих дел – так они не нашего ума.
– Так и не моего, – отмахнулся Алеша, вдыхая столь противный Буланышу запах. – Княжьи дела мне теперь без надобности. Скажи лучше, не приметил ли чего по нашей части. Худов там или еще каких упырей.
– Худов не было, – сменивший гнев на милость Закат оказался не прочь поболтать, – но вообще-то беспокойно. Люди на дорогах всякое болтают. На побережье о чудах-юдах снова заговорили. Мол, топят лодки рыбацкие, житья нет. Люди лихие по лесам да горам расселись, куда ж без них. Сколько в той болтовне правды, не наше дело, но ваш брат вон разъездился, не на пустом же месте!
– Наш брат, говоришь? Охотник, что ли?
– Лясы я с ним не точил, и знака он мне не показывал, – вновь насупился гонец, но в подробностях объяснил, что обогнал караван, в голове которого ехали двое, и один, на гнедой белоногой лошади, был в китежанском распашне. Останавливаться Закату было недосуг, но запомнилось – тем более что и караван какой-то странный. На купцов с товарами не похоже, на переселенцев или воинский обоз тем паче, а лицедеи со скоморохами караванами не ходят и охранников не нанимают. Странно, короче, только зачем гонцу княжьему всякие странности? Он куда пошлют, туда и бежит, главное – вести в срок доставить.
– И то, – согласился китежанин, гадая, кто из братьев или сестер мог отправиться на юг. – Ну а для меня странности – милое дело. Спасибо тебе, поеду гляну, может, помощь требуется.
– Это вряд ли, – усомнился Закат, – спокойно ехали, не таясь, да и тихо тут. Или нет?
– Разбойники были, но не здесь, да и те кончились, а так да, тихо.
– Куда ж без них, – повторил, поднимаясь, скороход. – Ладно, бывай, Охотник, пора мне.
– И тебе доброй дороги без оврагов да буераков, – от души пожелал китежанин, но Закат уже сорвался с места, одним махом одолев золотой от солнца спуск. Алеша хмыкнул и приставил ладонь ко лбу, провожая взглядом негаданного собеседника.
А на что посмотреть было – скороходы ходят огромными скачками, часами двигаясь, будто таежные лыжники, потому и штаны у них такие – изнутри на бедрах толстенная кожа нашита для защиты. Без нее, будь ты хоть сто раз умелый, собственную шкуру там даже не сотрешь, стешешь.
Подошел Буланко, молча ткнулся мордой в плечо, дескать, чего здесь торчать, воды нет, а трава сухая да пыльная. Торчать и впрямь было нечего.
– Слыхал? – деловито осведомился Охотник, разбирая поводья. – Брат наш поблизости объявился, должно быть, из поиска летнего возвращается. Перехватим, и будет нас уже трое.
* * *
Примеченный скороходом караван полз небыстро, и Алеша, прикинув скорости и расстояния, рванул на перехват по полям да лесным тропам. Расчет оказался верным: на тракт они с Буланышем выскочили возле немалого села, где скучавшие на завалинке деды наперебой объяснили, что ничего похожего здесь не появлялось. Ну и отлично – Охотник, как и собирался, неспешно двинулся навстречу вряд ли сулящей неприятности загадке.
По всему, странный караван должен был уже появиться, но Буланыш пробегал версту за верстой, а тракт, тянувшийся сквозь густой – не свернуть, тем паче со здоровенными возами – лес, оставался пустым. Одинокие пешеходы и пара мужиков на телеге в счет не шли, да и двигались они в ту же сторону, что и Алеша. Впору было забеспокоиться, но китежанин, доверяя и своему чутью, и своим расчетам, упорно ехал вперед и оказался прав. Лес словно бы прогнулся, уступив место обширной, испятнанной валунами поляне, опоясанной не то слишком полноводным ручьем, не то речушкой. Тракт, повторяя ее изгиб, забирал налево, а направо, у самой кромки леса, весело пестрел лагерь. Непонятные караванщики предпочли устроиться на ночлег в чистом поле и сделали это основательно.
– Ну, – окликнул Алеша примолкшего к вечеру жеребца, – что скажешь?
«Зверинщики, – уверенно определил, принюхиваясь, Буланко. – Как на ярмарке, только всего больше. Медведей не чую, волков, лис тоже. На кабанов похожее есть, но не кабаны… Сильный запах, всех забить норовит. Люди есть, волы, коней много… Простых… И еще что-то… Непонятное, но не злое, нет. И ровно травой сладкой вешней тянет… Откуда? Осень ведь».
– Волшбы не чуешь?
«Чуял бы, сказал. Посмотреть бы…»
– Лады. Прятаться нечего – Русь вокруг, тракт наезженный…
Подъезжали медленно, не скрываясь. Буланко деловито принюхивался, то и дело норовя ускорить шаг, Алеша не давал, хотя любопытство и разбирало.
Уставшее солнце светило в спину, и по-ярмарочному пестрые шатры у опушки видно было отлично. Как и сгрудившиеся слева от них крытые повозки, из-за которых почти сразу выехала пара всадников, судя по легкой броне, из числа опекающих караваны охранников. С лошадьми, на первый взгляд очень приличными, пара управлялась неплохо, что до наездников, то передний, похоже, когда-то ходил не меньше чем в десятниках, да годы свое взяли. Второй, круглолицый и румяный, был с ног до головы обвешан оружием, отчего казался вовсе юнцом. Зато глядел, ну или пытался глядеть, матерым зверем. Съехались возле странного, словно сросшегося из двух камней, валуна, на который умудрился взгромоздиться растрепанный, почти высохший репейник. Буланыш, не дожидаясь приказа, встал, для порядка фыркнув и топнув ногой.
«Не боятся, – подсказал он. – Не злятся, не тревожатся. Довольны, встречей довольны… Любопытно им».
– А тебе нет, что ли? – шепнул Алеша, спокойно откидывая капюшон. – Здравствуйте, люди добрые.
– И ты здрав будь, Охотник, – степенно откликнулся ничуть не удивленный «десятник». – Ищешь чего?
– Человек всегда ищет, а наш брат и подавно, – начинать с расспросов про собрата-китежанина Алеша все же не стал. – Скажи, все ли у вас ладно-хорошо, не встречали ли нечисть какую, а не встречали, так, может, слышали?
– Пока ладно все, не жалуемся, – на словно бы рубленом лице старого вояки проступило нечто вроде колебаний. – Ты, вижу, не шибко торопишься, раз с дороги свернул?
– Спешить буду, когда дело найду.
– А коли не спешишь, то дело найдется, – старший обернулся к юнцу. – А ну, Зринко, дуй к хозяину. Скажи, Охотник китежский объявился.
– Да, дядько Боро, – брякнул железяками круглолицый, но свою кобылу заворотил ловко, – я мигом!
– Строго у вас, – хмыкнул Алеша, – ровно казну везете.
– Казну не казну, а ценности немалые. До Великограда чужих глаз стережемся, а дальше как выйдет.
– Чего же тогда меня не спровадил? Сказал бы, что не видели ничего, я б своей дорогой и отправился.
– С того и не спровадил, что к месту ты. Надо ярмарку эту, – для вящей убедительности вояка ткнул пальцем в сторону лагеря, – до Великограда дотащить. Нет, от лихих людей мы отобьемся, только нам скоро через лес, что за Гвоздеевым, ехать, а там, говорят, башня, и в ней колдунья-отшельница живет. Места страшные, дикие, да и сама Мирава, так ее кличут, дурная нравом, а то и вовсе ведьма. Местные ее десятой дорогой обходят.
– Ну так и вы обойдите, – посоветовал Алеша, прикидывая, не заглянуть ли ему в этот самый лес, который на картах вообще-то значился Сивым. С ведьмой всяко следовало разобраться, ну а если эта Мирава – волшебница, то хорошо бы ее на помощь высвистать. Люди незнающие склонны всякого чародея ведьмой или колдуном обозвать, им неважно. Знающим – важно.
– Нельзя обойти, – с явным сожалением вздохнул Боро, – то есть нам нельзя.
– Чем же вы так провинились?
– Да не мы… Лучше пусть хозяин обскажет, а то как бы я чего не того… Темнить не люблю, а без спросу говорить не велено.
– Тогда про зверье расскажи, – не сдержал любопытства Алеша. Нечисти и чудищ молодой Охотник навидаться успел, а вот диковины, от которых вреда никакого, а детишкам и не только – радость, богатыря влекли, как когда-то карусели с расписными деревянными конями.
– Непростые вы люди, китежане. Вроде и мимо ехал, а про наше зверье тебе уже ведомо. Откель?
– Ветром принесло, – не стал вдаваться в подробности Охотник, усмехаясь. На такие отговорки вояки не обижаются. Так и вышло.
– Ну ты и шутник! – хмыкнул «десятник». – Ветер… Ветрила… Мне ваши тайны нужны, как собаке пятая нога, только что тебе говорить, коли ты и так все знаешь?
– Не все. Кого везете-то?
– Да много всякого. Я в названиях ихних звериных не силен, но знаю, что верблюды горбатые есть, свиньи водяные, злющие. Еще змеи толстые, неядовитые, черепахи всякие, козы винторогие, кошка вроде нашей рыси, только прыгучая страсть… Птиц заморских до дури, мелочи носохвостой целый выводок, а всего ценней… как их… гирихтун порченый да безьян с единорожицей.
«Единорожица?! – до того скучавший Буланко аж гривой затряс. – Белая и рог хрустальный? Желаю видеть!»
– Надо же, какие чудеса везете, – богатырь тронул разволновавшегося жеребца коленом, мол, успокойся. – А прячетесь-то с чего?
– Мне не докладывали. Может, того… опасаются? Сдается мне, гирихтуна хозяин беззаконно добыл, с того на Русь и подался. У вас-то правил для зверинщиков нету, потому как мало их у вас. Скоморохи с медведями да козлами не в счет.
– Ну да, единорогов у нас днем с огнем не сыскать.
– И хорошо! Уж больно тварь норовистая, но уж лучше она, чем Огнегор!
– Огнегор?! – не поверил своим ушам Алеша, но быстро нашелся. – То есть… ну и имечко.
– Так здоровый он. Гора горой, и рыжий, с того и Огнегор. Жуткая зверюга, да еще и с придурью.
– Так он… зверь?
– Безьян лесной. Его Слобо, хозяин наш, у корабельщиков заморских сосунком откупил и растил как родного, вместе со Зденкой, младшенькой своей дочкой. Только безьян и есть безьян. Как в года вошел… ну того, сила-то бычья, а умом по-нашему, по-человечьи, дите дитем, все играть хочет да ласкаться. Других-то безьян, бедолага, в жизни не видал, так он хозяев за свою родню признал. Решил, стал быть, что это они самые и есть, безьяны-то. Сперва смеялись, потом не до смеху стало. Он же не только угукает, он же лапы тянет. Как разойдется, его только Филимон, обаянник наш, унять и может. Зденке, было дело, руку вывихнул. Ох, Слобо и разозлился! Не будь Огнегорка редким таким, нет, прибить бы не прибил, уж больно хозяин зверье любит, но с рук бы точно сбыл, а так велел дочке десятой дорогой обходить. Оно и верно, не дело девке с тварями дикими возиться. И так озорничает дни напролет. Замуж бы ее…
– Что, хороша?
– Костлява только, ну да ничего, как детки пойдут, так и раздобреет.
– Не всем лебедушками быть, – назидательно произнес китежанин, – журавушки тоже неплохи. Этот, на пегом, часом не хозяин ваш?
– Он, Слобо. Слышь, Охотник, я тебе про гирихтуна по дружбе сказал, ты того… не выдавай.
– Так ты и не сказал ничего.
– А и верно!
* * *
Слобо-зверинщик, моложавый, но седоусый, походил сразу и на торгового гостя с юго-запада, и на удалившегося от дел воина из тех же краев. Звали его Слободан, а если по-простому, то дядька Слобо, и был он говорлив и обходителен. Чистый трактирщик, сейчас меду поднесет, а потом за одну чарку сдерет, как за две. Впрочем, и средь воевод случаются болтуны, и харчевники порой сквозь зубы цедят, только о воронье не по белым воронам судят.
Начал дядька Слобо с того, что отчитал своих охранников. Нехорошо, дескать, дорогого гостя за порогом держать.
– Ну какой же я гость? – возразил Алеша. – Не жури стражу. Мимо ехал, любопытство одолело, они и приветили.
– Любопытство чужое меня и кормит, – подмигнул зверинщик, – сейчас все расскажу, покажу, а потом, глядишь, и ужин поспеет, а там и до дела дойдем.
«Про единорожицу скажи, – завел свое Буланко, – пусть покажет».
– Посмотреть не откажусь, – напрямую отвечать коню при чужих Алеша избегал, да и не ждал Буланко ответа. Вот напомнить о чем-то мог или совет дать, чаще всего толковый. – Говоришь, дело?
– После ужина. Коня можно у крайних возов оставить, там до ручья два шага и трава еще свежая, или овсом угостить?
– Он не откажется. Если заночуем.
– Еще бы не заночевать, солнышко вон как низко. Что тебе сказали уже? Повторяться не хочу.
– Да мы все больше про зверье говорили. Любопытство берет, что это за носохвосты такие.
«И единорожица!»
– Еще, говорят, единорожица у вас есть.
– Да много чего есть, проще показать. За тем и еду, надоело скитаться, а про Русь хорошо говорят. Спокойно здесь у вас да справно. И денежки у людей водятся, и любопытства хватает – самое то, чтобы нашему брату осесть, домом обзавестись, сыновей женить, дочку пристроить. Зверинец мой и сейчас неплох, а если дела пойдут, еще краше будет. Птиц-зверей заморских со всего света соберу, дай только срок…
Зверинщик болтал вроде и весело, и складно, но время от времени замолкал, точно ждал какого-то вопроса и дивился, что его нет. Когда добрались до первых возов, за которыми вперемешку паслись верховые и тяжеловозы, Алеша в этом уверился окончательно.
– Лошадок своих мы тут оставляем. Развьючивать твоего? – Слобо очередной раз значительно замолк. – Люди у меня знающие, надежные.
– Я сам, – отрезал, спешиваясь, Алеша. Подпускать кого-нибудь к своей поклаже он не собирался.
– Ну как знаешь… – протянул тоже слезший со своего пегаша зверинщик, следя за Охотником сразу с нетерпением и легкой обидой. – Собрат твой нам доверяет, не жалуется. Вон его Гнедко, у красного воза.
«Мерин, – немедленно доложил Буланко. – С того и жирный. Плохо быть мерином».
Лоснящийся гнедой с белыми бабками, на вкус Алеши и впрямь перекормленный, почуяв взгляд, поднял голову и добродушно фыркнул. Задираться он и не думал, обычные лошади редко задирают богатырских коней, разве уж вовсе дикие и гордые собой жеребцы, да и то до первой трепки.
– Хорош, – со значением произнес Слобо, – да твой лучше.
«Зачем сравнивает? – немедленно обиделся Буланыш. – Еще б тебя с каким увальнем сравнил!»
– Да, мой лучше, – согласился богатырь, со всем вниманием разглядывая злополучного мерина. При всей своей ухоженности Гнедко казался слишком уж заурядным, хотя братья на ком только не ездят. Хороший Охотник отнюдь не всегда хороший наездник, пусть это и приветствуется.
– Жди тут, – тихонько велел Алеша коню. – Гляди, с чужими конями не задирайся.
«Много чести, а травка хороша. Про единорожицу спроси».
– А звери-то ваши где? – словно бы ненароком полюбопытствовал богатырь. – Погода хорошая, неужто в повозках держите?
– Дальше, на опушке у ручья. И с дороги не видать, и лошадки не волнуются, – объяснил уже на ходу Слободан и внезапно насупился. – Хитро у вас, у китежан, все устроено. Плащи эти, знаки тайные… Я-то человек простой, привык людей по имени звать, особенно, если в пути, а с вами и того нельзя. Брат да брат…
– Отчего ж нельзя? Алешей зови. Мне скрывать нечего, это ты что-то крутишь.
– Да не кручу я! Просто с вами говорить, как меж яиц выплясывать да еще с завязанными глазами! То не поминай, туда не гляди, там не ходи… Голова кругом, а деваться некуда, сам я не справлюсь.
– Ну и с чем ты не справишься?
– Да все с тем же! Собрат твой, когда на помощь звал, не сказал разве, зачем?
– Собрат собратом, – выкрутился все меньше понимавший китежанин, – да голова себе я сам. Если помощь нужна, так прямо и скажи.
Зверинщик свел черные с проседью брови, походя рыкнул на кого-то с ведрами и принялся обстоятельно, с вывертами, объяснять то, на что у «десятника» Боро ушло с дюжину слов. Нужно было протащить караван сперва мимо засевшей в башне не то чаровницы, не то ведьмы, а затем мимо гиблых пустошей, в которых якобы гнездились какие-то «нети». Люди мимо ходить могли и ходили, потому что имели душу, а вот в зверей, особенно больших и диких, эти самые «нети» так и норовили вселиться, после чего в новом теле начинали людоедствовать. Все это очень походило на бабьи сказки и почти наверняка ими и являлось, однако зверинщик верил в гвоздеевские страхи твердо.
Про колдунью-отшельницу и опасные для зверья пустоши Слободан услыхал в Ольше, когда задумал податься на Русь и выяснял, как бы это половчее сделать. Добрые люди объяснили, что лучше всего найти Охотника и уговорить, чтобы проводил до самого Великограда. Слобо пригорюнился, и тут ему сказочно повезло – в пригороде Ольши по каким-то своим делам объявился китежанин. Сторговались, и сразу же в дорогу, только чем ближе был Гвоздеев, тем больше Охотник хмурился и наконец признался, что не рассчитал своих сил. И если за ведьму он ручается, то есть не за саму ведьму, а за то, что с ней управится, то протащить столько зверья через пустоши в одиночку сможет вряд ли, нужна помощь. Слобо тут же согласился, и китежанин послал весточку собрату.
Думали, ждать придется не меньше, чем с четверть месяца, а и дня не прошло, зато теперь все в порядке будет. Только и осталось, что с платой решить. Будет справедливо, если Алеша получит одну треть, а его собрат две, ведь он как-никак от самой Ольши караван охраняет, уже два дурных места миновали, никто и не заметил. Охотнику, правда, после того худо становилось, ну да дело его такое, сам выбрал.
– Ну, Алеша, – от волнения зверинщик аж остановился, – что скажешь? Возьмешься? Раз уж все равно здесь…
– Поглядим, – как мог спокойно бросил подобравшийся китежанин. – Для начала с братом побеседую.
– Оно конечно… Только я… ну… поиздержался. Нет, скажи мне Охотник сразу, что один не сдюжит, я б выкрутился. Может, продал бы кого… И работы меньше, и деньги б водились, а так, сам понимаешь…
Алеша понимал, но отнюдь не то, что суетящийся хозяин, которого впору было не то изругать последними словами, не то утешить, но все-таки больше – изругать.
– Хватит, я понял, – прервал затянувшиеся объяснения богатырь. – До Великограда вы если не так, то эдак доберетесь, но через голову брата ни о чем с тобой договариваться я не буду. Где он?
– Должно, с Филимоном, обаянником моим. Дела у них какие-то чародейские.
– Пошли к ним.
– Ну и суров же ты, парень.
– Каков есть, – отрезал Алеша, и Слобо послушно двинулся мимо повозок, больше похожих на расписные летние сторожки.
Возле одной на разрисованной ягодами и листьями подножке грызла орешки юная смуглянка в замызганном переднике поверх ярко вышитых одежек. Темные с бронзовым отливом кудри стягивала малиновая лента, на шейке поблескивали простенькие бусы из стеклянных шариков, а к обутым в видавшие виды сапожки ногам жалось нечто несусветное. Головой оно напоминало пресловутых шен-га, как их рисуют в китежских книгах, только поушастей, а телом – длинноногого кабана, но было безволосым и к тому же ярко-розовым.
– Зденка, – с явной гордостью представил девицу зверинщик, – дочка моя и помощница. Никто лучше нее с мелочью не управляется. Нет, сыны у меня тоже молодцы, увидишь их еще, но Зденка, она прямо чует…
Застигнутая врасплох помощница при виде батюшки с гостем выронила свои орешки и торопливо вскочила, явно огорчив розовое существо, бестолково затоптавшееся на месте и затрясшее ушами. В левом болталась дешевенькая серьга с малиновым стёклышком, похоже, хозяйкина.
– Кто это? – не сдержал улыбки Алеша, но девица поняла по-своему.
– Мальчик, – коротко бросила она, хмуро глядя на отца. – Зовут его так.
– А сам-то он кто?
– Слониша со Среднемо́рских островов. Батюшка, нам что, одного дармоеда мало было?
– Помолчи, – в голосе Слобо слышалась откровенная досада. – Не твоего ума дело. Не слушай ее. Взъелась она на вас, китежан, а с чего – не понять.
– Не понимаешь, потому что не хочешь, – отрезала девушка, а розовый слониша поднял нос-хобот и скрипуче протрубил. Видимо, согласился.
– Вот ведь крапива ходячая! – поморщился счастливый родитель. – Дождешься, выдеру, не посмотрю, что невеста уже.
Зденка не то пожала, не то передернула плечами, ярко блеснули бусы. Она в самом деле была крапивой, и красивой она тоже была, но сейчас о своей красе не думала.
– Постой, Слободан, – Алеша сам не понял, как ухватил закипающего зверинщика за плечо. – Пусть скажет, что с нами, Охотниками, не так. Страсть как узнать хочу.
– А ты головой подумай, – Зденка повернулась, явно собираясь уйти, – авось догадаешься.
– Куда?! – Слобо ухватил непослушную дочь за плечо. – С нами пойдешь! Ишь, расфыркалась тут…
Зденка неожиданно потупилась, потрясла головой, будто очнувшись. Раздражение с ее лица как стерли.
– Прости, батюшка, – негромко произнесла она. – И ты, гость, прости. Может, птиц моих посмотришь? А то солнышко сядет, уснут они, а с братом ты потом переговоришь. Как раз и ужин поспеет.
Может, Алеша бы и согласился, будь они вдвоем, а верней всего и нет. Уж больно хотелось побыстрей с собратом встретиться.
– Прости, Зденка, птиц я утром посмотрю, – Охотник тоже опустил глаза и увидел, как розовый слониша обнял хоботом ручку хозяйки. – А сейчас – дело.
– Была бы честь предложена, – вновь сверкнула карими с прозеленью глазами зверинщица. – Грозился петух утром кукарекнуть, да лиса ночью пришла.
– Примолкни, – прикрикнул отец, не выпуская дочкиного плеча. – Язва! Накличешь еще… И впрямь пошли, пока сговоримся, как раз чорба [6] поспеет.
Осеннее солнышко, словно прощаясь, ласкало все, до чего могло дотянуться, и отвергать эти ласки не хотелось. При таких погодах ничуть не удивляло, что обаянник с гостем устроились на открытой телеге, доверху заваленной тюками с каким-то особо душистым сеном, как тут же объяснил Слобо, для винторогих газелей, бывших большими привередами.
Обаянник, внушительный дядька в подбитой мехом ольшанской серой безрукавке, сидел к подошедшим спиной и что-то рассказывал, для пущей выразительности размахивая руками. Слушателя из-за него разглядеть толком не удавалось, Алеша мог оценить разве что ширину обтянутых распашнем плеч предполагаемого собрата и кусок ухоженной бороды.
Обойти воз китежанин не успел, не отстававший от хозяйки слониша вновь громко и совершенно не к месту протрубил. Прервавший на полуслове рассказ обаянник обернулся, явив гостю красный, говорящий о многом нос, и открыв собеседника, рослого парня, нет, пожалуй, пусть и молодого, но уже мужа. Русая борода и длинные усы прибавляли детинушке солидности, как и видневшаяся из-под распашня добротная одежда. На широком поясе богатырь углядел дорогущий кинжал западной работы, но всего занятнее оказались полезшие от удивления мало что не на лоб глаза.
– Вечер добрый, Охотник, – с достоинством произнес Слобо, – вот и товарищ твой подоспел, сейчас все и обсудим. А ты, Филимон, уж не обессудь, погуляй пока.
– Ну, привет, братец, – руку в китежском приветствии Алеша поднял для порядка, по привычке, хотя уже не сомневался, что перед ним самозванец – и распашень не в Китеже шит, и руны на капюшоне неправильные, и, главное – смотрит, ни худа не понимая.
Нет, понял! Не жест, не слова: то, что его раскрыли. Прибрюшистый обаянник и сморгнуть не успел, а лже-Охотник уже перекатился к дальнему краю воза, молодецким прыжком слетел наземь и в следующий миг исчез в густых кустах – те только и смогли, что затрещать под воистину лосиным напором. Не сплоховал и Алеша: под двойное оханье чародея и зверинщика сбросил распашень и метнулся через воз следом за беглецом. Давать обманщику время на то, чтобы затеряться в зарослях, китежанин не собирался – бегай потом по чащобам, вылавливай. Ничего зловредного ни они с Буланышем, ни вязь китежанская не чуяли уже давненько, но разобраться с самозванством было нужно.
В заросли Алеша нырнул, отстав совсем ненамного, лишь на мгновение задержался, чтобы по шуму определить, куда движется лже-собрат. Тут же выяснилось, что ходить по лесу хитреца не учили, ну или он был очень скверным учеником. Слышал его богатырь просто отлично и вначале, когда тот сохатым ломился прочь от лагеря, и дальше, когда свернул в сторону и попробовал красться тихо. То есть это ему самому казалось, что тихо, но шум дыхания и шорох то и дело цеплявшейся за ветки одежды выдавали голубчика с головой. Китежанин лишь хмыкал про себя, легко скользя сквозь заросли: подобные «хитрости» могли сработать разве что с неумехой-горожанином, к тому же обалдевшим, как глухарь на токовище. Обманщик, похоже, и обалдел; его перемещения, по крайней мере, Алеша отслеживал легко, незаметно приближаясь к пыхтящей добыче.
Особого азарта игра не вызывала: ни тебе усилий, ни хотя бы любопытства, разве что легкая злость, и все же расспросить самозванца требовалось, и с пристрастием. Верней всего нечистый на руку наглец решил заработать на незнакомом ни с русскими порядками, ни с китежанскими обычаями иноземце, но могло быть и что-то еще. Слегка прибавив шагу, богатырь обошел «дичь» по широкой дуге, чтобы появиться перед беглецом откуда тот не ждал – со стороны чащи. И появился, как из воздуха соткался, изрядно удивив выскочившего прямо на него умника. После пробежки лжесобрат выглядел уже не столь бодро – покрасневшее лицо расцарапано, борода растрепана, сам то и дело крутит головой, оглядываясь, в глазах опаска, движения суетливые. Не лось, а удирающий от лисы суслик.
– Ну и куда бежим, «охотничек»? – Алеша широко ухмыльнулся. – Не дело на полуслове разговор обрывать. Вежеству тебя не учили, что ль?
Схватить запыхавшегося хитреца за грудки и от души приложить о ближайшее дерево китежанину хотелось, но он как-то сдержался, да и самозванец, поначалу окаменевший от неожиданности, опомнился. В драку, надо отдать ему должное, не полез и за кинжалище свой хвататься не стал, а то быть бы ему без руки. Взгляд метнулся влево-вправо, и обманщик сорвался с места, надеясь вновь скрыться в зарослях. Не вышло – Алеша взмыл в рысьем прыжке и всем телом обрушился на спину беглеца, сбивая того с ног. Крепкий детина и тут не растерялся, крутанулся на земле, пытаясь вырваться, сбросить Охотника, только куда там! Правая рука как в капкан попала, выламывающееся из сустава плечо ударило непереносимой болью, и парень, взвыв, прохрипел:
– Всё… Всё… Хватит!
– А вот сразу так надо было, – с некоторым сожалением буркнул Алеша, стягивая локти самозванца его же поясом. – Ну, давай поговорим… Вопросы у меня к тебе, братец, есть, и ответить на них придется. Звать-то тебя как?
«Братца» звали Любодаром, и отвечал на вопросы он охотно, заливаясь прямо-таки соловьем. Оказалось, что был голубчик поиздержавшимся боярином из Алыра. Как его в Ольшу занесло, Алеша так толком и не понял, да оно и не нужно было. Вроде бы у любодаровой родни не сложилось с новым алырским царем, и мать, судя по всему, женщина пугливая, отправила единственное чадо от греха подальше. Чадо не возражало и, вырвавшись на свободу, пустилось во все тяжкие.
Все было прекрасно, пока не кончились деньги. Добыть их в Ольше не получалось, родня на слезные письма не отвечала, а возвращаться в Алыр было боязно. Любодар, успевший еще и зазнобой обзавестись, крутился ужом, и тут ему кто-то сказал, что наладившийся в Великоград богатый зверинщик ищет в проводники Охотника-китежанина. Промотавшийся умник счел это подарком судьбы и решил поправить свои дела. То, что на Руси иноземцев, если они явились по делу или по дружбе, не обижают, он знал, да и Охотников пару раз видеть доводилось. Люди как люди, только в распашнях. Пока ничего не случится, подмены не обнаружить, ну так на Руси ничего и не случается: на трактах спокойно, а задурить зверинщику голову, чтобы тот всю дорогу чужих сторонился, не штука.
Сказано – сделано. На последние монеты алырец добыл себе распашень, самолично расписал тем, что могло сойти за руны, и отправился наниматься. Все вышло донельзя просто, и караван тронулся на северо-восток.
Поначалу Любодар упивался своей хитростью, но потом забеспокоился, что продешевил и можно было взять подороже. Что Охотники единожды данное слово держат, самозванец знал, но почему бы не получить свое, якобы позвав на помощь? Дней через пять умник собирался объявить, что собратья заняты, да и он больше ждать не может, и «честно» вернуть задаток. Слобо, и к бабке не ходи, заметался бы и, в конце концов, приплатил бы хитрецу за риск, еще и уговаривал бы, только не вышло – худ Алешу принес…
– Не принес, а унес, – хмыкнул китежанин, сдерживаясь уже из последних сил, – совесть твою. Ну да то ваше с ним дело. Кто «нетей» этих выдумал? Ты?
– Э-э-э…
– Ты или нет?
– Сказку нянька-горянка сказывала, вспомнилось, а Слободан уши и развесил…
– А лесную колдунью?
– Она взаправду есть, про нее аж в Ольше сказывают. Слободан провожатого из-за нее искал… Отпустил бы ты меня, а? Вроде будто не догнал… Ну ведь не сделал я ничего такого… не навредил никому. А я тебе за это кинжал дедов отдам, он ведь ценный. Его даже не купил никто, мол, не доказать, что не краденый. И письмо к матушке дам, она отблагодарит, только ее найти надо.
– Дел у меня других нет, матушку твою искать! Вставай, пошли!
– К-куда?
– На кудыкину гору!
По закону обманщика следовало более или менее целым дотащить до ближайшего города и сдать с рук на руки тамошнему посаднику, но возиться с поганцем Алеше не хотелось. Хотелось отлупить смертным боем, а то и вовсе прибить. И даже не потому, что каждый дурак, что подлости творит, Тьму ими кормит. Мерзко наживаться на чужом доверии и беспомощности, а уж за то, что на Руси все задарма имеют, деньги драть…
– Слышь, Охотник, – похоже, алырец расценил Алешино молчанье как почти согласие и теперь «дожимал». – Ты только отпусти, а за мной не заржавеет. Отблагодарю. Чистым серебром. В охранники наймусь, что ли… Так отпустишь?
От богатырской затрещины Любодара избавил шум в кустах, не слишком громкий, но отчетливый. Кто-то умело пробирался по следу, вот и ладно. Алеша поморщился и сразу же глубоко вздохнул, унимая злость.
– Что с тобой делать, пусть Слобо решает. Ты его морочил, ему с тебя и спрашивать.
– Уж он спросит, – посулил, выбираясь из зарослей лещины, Боро. – А ловко ты заразу этого раскусил!
– Ты бы тоже раскусил, если б при тебе какой увалень мечником назвался.
– Оно так, – согласился охранник и вдруг засмеялся. – Увальни, они такие, только помяни…
На сей раз треск в лещине стоял такой, что хоть за кабанью рогатину хватайся.
– Зринко? – усмехнулся Охотник.
– Кто ж еще?
Не валяйся поблизости связанный проходимец, «десятник» наверняка б добавил еще что-нибудь, но над своими при чужих не смеются. Особенно при таких поганых.
Круглолицый Зринко вывалился из кустов, брякая плохо притороченным железом и шумно, по-собачьи, дыша, сейчас язык вывалит и хвостом завиляет. На переносице парня красовалась свежая царапина, глаза возбужденно блестели. Злоумышленника он бы изловил обязательно, да вот беда – старшие помешали.
– Берем, – Боро кивком указал помощнику на притихшего Любодара, – и к хозяину.
* * *
Китежанин опасался, что зверинщик пошумит, поохает да и простит обманщика, но добрякам порой тоже обидно становится. Слобо разозлился не на шутку, причем дело было даже не в деньгах, хотя и они при таком ремесле даются непросто – зверье-то еще добыть надо, а потом поить-кормить-обихаживать.
– До Вилова в клетке доедешь, – отбушевав и отбранившись, объявил самозванцу зверинщик. – Там властям отдам. И еще спасибо скажи, что с Огнегором не запру!
– Ну, «спасибо» ты от него вряд ли дождешься, – усомнился Алеша, глядя, как изрядно помятого и словно бы съежившегося самозванца уводит грозный Зринко.
Дрянью алырец был редкостной, такие жалеют не о том, что натворили, а о том, что попались. Когда вместо совести страх, хоть перед тумаком, хоть перед законом, это паршиво, пусть со стороны бессовестный трус и кажется приличным человеком. До поры до времени. Потом страх отступает, осмелевший трус грабит, насилует, убивает, а вокруг только руками разводят. Дескать, ничто же не предвещало…
– Раз уж я на Русь подался, пусть его по вашим законам и судят, – Слобо шумно втянул воздух. – Эх, моя бы воля, отметелил бы, живого места не оставил!
– А ты строг, как я погляжу, – не удержался Алеша, хоть и сам недавно раздумывал о том же.
– Так я же из-за этого пакостника чуть без Зденки не остался, – Слобо приобнял раскрасневшуюся от ярости дочку. – Нипочем прощелыгу этого терпеть не хотела, ровно чуяла, умница моя! Чуть в Ольше не осталась, из-за слониш своих только с нами и поехала.
– Надо же, – Охотник покосился на все еще сжимавшую кулачки смуглянку. – А не из-за батюшки с братьями?
– Какое там! Вдребезги разругались. Мы, зверинщики, ведь сумасшедшие – хоть огнем вокруг всё гори, хоть сами помирай, а любимцев холь да лелей. Вот и Зденка такая же. Ни за что не поверит, что другой не хуже ее сделает, так ведь и не сделает! Мальчика ее розового видел? Это он со Зденкой такой, с другими и не признать будет. Заморышем родился, чудом выходили! Тебе-то, небось, смешно…
– С чего бы? Мне мой Буланко тоже, считай, родной.
– Ой, не то это, – покачал головой Слободан. – Прости великодушно, только конь тебе для дела нужен, как меч там или сапоги. Случись с твоим красавцем, тьфу-тьфу, что дурное, ругнешься, да нового купишь. Сядешь, поедешь, через месяц про старого коня и не вспомнишь, а для нас каждая зверушка – дите родимое. Сами недоедим, накормим… Зденка, мы ж с этой беготней кормежку птичью предвечернюю прозевали!
– Не прозевали, – мотнула головой зверинщица, змейкой выскальзывая из родительских объятий, – но и впрямь пора…
Не проводить ее взглядом было трудно, Охотник и проводил. Слободан заметил и довольно усмехнулся.
– Ты уж прости мою крапиву, что о вас, китежанах, по прохиндею этому судила. Что, кстати, ему за обман причитается?
– Откуда мне знать, – отмахнулся Алеша, – я все больше по нечисти, а с ней разговор короток.
– Вот! – непонятно чему обрадовался зверинщик и ухватил гостя за руку. – Врун-то он врун, только мимо ведьмы нам все одно ехать! Вдруг она до зверья охоча? Век себе не прощу, если с красавцами моими что дурное приключится… Проводи нас, яви милость, а уж я отблагодарю! Все, что этому… обещал, твое будет.
– Ты разве не понял еще? – удивился богатырь. – Не берут плату Охотники.
– Как же так? – растерялся Слобо.
– Да вот так! Следующий раз как работников искать станешь, разведай прежде, с кем связываешься. Наше дело и есть наша плата, потому я Любодара этого, даже не видев, и заподозрил.
– А живете-то вы на что? – захлопал глазами зверинщик. – Да и снасть ваша не из дешевых.
– Все, что нужно, Китеж дает, а коли чего не хватает, берем и пишем расписку. По ней в любом городе посадник заплатит, а уж князь с Китежем всегда сочтутся.
– Как же мне тебя умолить тогда? Ну, хочешь, на колени встану?
– Я тебе что, злонрав какой? – прикрикнул Алеша. – Это они любят, когда перед ними на колени падают да на брюхе ползают… Мимо ведьмы я вас провожу, а дальше уже сами.
– Спасибо тебе! – Слобо расплылся в улыбке и тут же вновь насупился. – Только стыдно мне задарма на чужой шее ездить. Денег тебе не надо, может, другим возьмешь? Слушай, ну давай я тебе своих питомцев, пока не вовсе стемнело, покажу. Будешь знать, кого спасаешь, а там и за ужин.
– Лады, только ведьма, может, и не ведьма еще.
– А чего она тогда в лесу сидит да людей пугает?
– Откуда мне знать? Может, надоели ей все.
– Надоели? Ну ты, ха-ха, и скажешь…
Слобо смеялся долго, с удовольствием, так смеется человек, сбросивший с плеч непосильную тяжесть. Смеялся – и вел богатыря мимо повозок, у которых возились младшие зверинщики. Кто-то перекрикивался, что-то стрекотало, один раз вроде бы протрубил Мальчик, звякнуло оброненное ведро. Солнце еще не зашло, но начинало холодать, от близкого ручья тянуло сыростью, скоро и туман поползет, но пока была видна каждая травинка.
– Буланыш, – улучив мгновенье, тихонько, в кулак, окликнул Охотник, – давай вдоль бережка ко мне! Единорожицу смотреть будем.
«Понял. Бегу. Найду».
– Что-что? – некстати просмеявшийся Слобо слышал не хуже кота. – Прости, не разобрал.
– Кашлянул я, – выкрутился Алеша, – в горло что-то попало. Давно спросить хотел…
От необходимости врать Охотника избавил какой-то не то стук, не то скрежет. Китежанин обернулся на звук и увидел пару здоровенных черепах. В южных степях хватает похожих тварей, но мелких, эти же вымахали по мужское колено. Два живых черных с желтым казана замерли, упершись друг в друга, будто бараны на мосту, только бараны упираются лбами, а черепахи головы предпочли спрятать. Потом опять скрежетнуло, и один «казан» подался назад. Другой последовал его примеру, но пятились драчуны недолго. Отступивший первым стремительно выбросил вперед змеиную башку с приоткрытой пастью, но достать так и не высунувшего голову врага не смог, а тот вслепую рванул вперед, разгоняясь на кривых, но сильных лапах и явно собираясь наподдать вражине как следует. И наподдал, только башка противника успела втянуться, так что обошлось очередным стуком и оседанием на задние ноги.
– Здоровые какие, – с уважением заметил богатырь. – Чего это они?
– Соперники. Из-за самки, видать, сцепились… – Слобо нахмурился и уставился в траву. – Точно, вот она! Опять попастись не в очередь выпустили… Всё вверх дном, за всем глаз да глаз нужен!
– Не покалечатся хоть?
– Да нет, разве что опрокинет кто кого, а то и оба сразу кувыркнутся. Были бы сами по себе, тут бы им и смерть лютая приключилась, а так перевернем, и порядок.
– Помочь-то не надо? – без особого желания предложил китежанин, оценивая как нарочно высунувшуюся из травы третью тварь. Черепашья красотка ничем не отличалась от оспаривавших ее любовь драчунов, разве что была чуть поменьше. – И как ты их различаешь… В смысле, кто у них парень, кто девка?
– Да запросто! У парней и хвост толще, и когти длиннее, и вмятина в пластроне… в панцире брюшном, чтоб с девкой управляться удобней было. Не ошибешься. Еще посмотришь или дальше пойдем?
– Если разнимать не надо, давай дальше.
– Без нас разнимут, но шею я кому-нибудь намылю! Ведь говорил же… Ну, куда сейчас? Зденкиных птиц лучше на восходе глядеть, Мальчика ты видал… Давай-ка я тебе главное наше диво покажу. Такое если где и есть еще, так у самого царя Салтана, и то вряд ли. Гирифтен! Слыхивал?
А, так вот кого несведущий в названиях Боро обозвал «гирихтуном». Вояке простительно.
– Про гирифтенов читывал. Вроде золото любят, хотят его себе для гнезда заполучить, потому и пещеры золотые вместе с фригалами, всадниками своими, охраняют.
– Есть такое, но нашего мы от золота отучили.
– А разве так можно?
– Можно, если сам такой. Филимону-обаяннику до золота дела нет, он живое любит, вот и сумел. Если б он еще поменьше в кружку глядел!.. В дороге-то особо не разгуляешься, а в городах харчевни с винищем на каждом углу. Хотя нет худа без добра… Будь с Филимоном все в порядке, не пошел бы он с таким даром к простому зверинщику, а другой с Малышом бы не управился.
– Надо же! – совершенно искренне подивился Алеша, – а в книгах пишут, что гирифтены без пары не живут, двое их всегда: всадник-фригал и гирифтен, птицезмей когтистый. Один гибнет, и второму тоже конец.
– Оно и так, и не так, – Слобо самодовольно погладил усы, точно и не собирался только что на колени бухаться. – Бывает, хоть и редко, что добытчики привозят гирифтеновы яйца, еще реже из них птенец вылупляется, а вот вырастить его, почитай, никому не удается. А Филимон сумел! Сейчас сам увидишь.
Драгоценный гирифтен путешествовал в крытой повозке, но на привалах его выводили подышать и размяться, вывели и сейчас. Здоровенная, с хорошего тяжеловоза, страшная и при этом потрясающе красивая тварь смирно сидела на траве возле корыта с водой и таращилась на оседлавшего пустой бочонок красноносого обаянника.
Из всех виденных Алешей чуд и чудищ гирифтен по прозвищу Малыш больше всего напоминал пещерного василиска, но при этом был крупнее и не казался ни отвратительным, ни смертоносным, хотя подходить к такому близко богатырь бы не посоветовал никому. Конники шутят, что у лошадей перед кусается, а зад лягается; гирифтен был опасен еще и с боков, поскольку обладал крыльями. В том, что они могут поднять эдакую тушу, Алеша был отнюдь не уверен, а вот перебить хребет какому-нибудь раззяве запросто. Впрочем, сзади было еще хуже – мощный, постепенно сужающийся хвост ближе к концу украшали костяные лезвия, больше всего похожие на брюшные рыбьи плавники. Рубанет такими со всей силы – руку-ногу точно посечет, а то и пополам перерубит.
– Фригалы-наездники на шею садятся? – определил единственное подходящее место китежанин. – У самого основания?
– Куда ж еще? – удивился Слобо. – Филимон, разверни-ка Малыша к нам передом. И чтоб встопорщился.
Красноносый обаянник кивнул, снял с шеи одну из многочисленных висящих там свистулек и поднес к губам, однако никаких звуков не раздалось. Зато гирифтен словно бы приосанился, взмахнул оказавшимися разной длины крыльями и начал неспешно, как ладья на большой воде, разворачиваться на мощных лапах. Показалось брюхо, покрытое мелкой мерцающей чешуей, на боках переходящей в золотистые, словно львиная шерсть, перышки. Длинная, хоть и не чрезмерно, шея вытянулась, большой со светлым кончиком не птичий и не черепаший клюв приоткрылся, позволяя видеть прихотливо изрезанную костяную полосу. Казалось, в пасти бесценного зверя зубцами друг к другу вставлено два королевских венца.
– Ушки! Ушки-то каковы! – горячо шептал зверинщик, указывая на украшавшие голову зверя длинные изумрудные перья, как раз вставшие торчмя. Такие же, только покороче, росли и на шее, образуя нечто вроде короткой, постепенно сходящей на нет гривы.
– Ушки знатные, – согласился Алеша. – Любой филин обзавидуется, а с крылом-то у него что? Сломано?
– Родился таким. Может, яйцо порченое было, потому из гнезда и выкинули, а добытчики подобрали. Ничего. Если что с самого рождения не так, то оно уже так. В детстве кошка у меня была, трехлапка, видел бы ты, как она мышей ловила!
– Тут мышами не обойдешься, – китежанин попробовал поймать изумрудный, под стать «ушкам», взгляд калеки – не вышло, гирифтен глядел куда-то ввысь, – тут овец с козами подавай.
– Да все он ест, хоть траву, хоть рыбу. Курочку-другую при случае проглотит, молочко любит, яблочки. Кашу варим, репу парим… Главное не перекормить, двигаться вволю-то он не может.
– Из-за крыла?
– Сейчас из-за крыла, только, будь все в порядке, пришлось бы либо крылья подрезать, либо на привязи держать, а это и собаке вредно. Разве что Филимон что-нибудь придумал бы. Эй, друже, что бы ты делал, если б у Малыша оба крыла в порядке были?
– Не знаю, – обаянник вернул свою свистульку на место и взял другую. – Да и зачем об этом думать? Он живет с одним плохим крылом, но не понимает этого. Он счастлив, только хочет свежей рыбы, а ее нет. Я попросил подождать и обещал молока.
Человеческую речь гирифтен вряд ли понимал, так что калечное крыло он расправил по чистой случайности. Медью блеснули поймавшие отблески заходящего солнца перья, легонько прошелестело…
«Тут я, на берегу за дальними возами, – малость не ко времени напомнил о себе Буланко. – На опушке три больших урода пасутся, в ручье мелкие плещутся. ЕЕ нет. Куда бежать?»
За излишнюю торопливость Алеша себя ругал частенько. Ругал, давал зарок впредь быть умнее и опять спешил. Ну вот зачем было звать Буланко прежде времени?! Теперь размечтавшийся жеребец, чего доброго, отправится искать единорожицу в одиночку, а волшебные кобылицы с чужаками ладят редко.
– Жди, сейчас подойдем, – шепнул в кулак Алеша, сдавленно, для прикрытия кашлянул и окликнул зверинщика. – Стемнеет скоро, а мне на единорожицу глянуть охота.
– На лугу она, – зверинщик все еще любовался своим гирифтеном, – никуда не денется. Сейчас мы с Филимоном тебе Огнегора нашего покажем, обезьяна лесного.
– Так и он никуда не денется, – отшутился Охотник, – на обратном пути и посмотрим.
– Не получится, – Филимон аж свистульку от губ отнял. – Спать я его после вечерней кормежки уложу, а то всю ночь колобродить будет.
– Ну, значит, до завтра отложим. Обезьян-то я в Великограде видал. У скоморохов.
– Мелких, поди?
– С кошку.
– А мой здоровенный, – Слобо никак не мог оторваться от своего гирифтена. – Ну скажи, красавец?
«Где вы там? Я жду, но тут плохо. Это отсюда свиньями пахло, я тебе говорил!»
– Конечно, красавец, – поспешно согласился со зверинщиком китежанин, – только мне жуть как охота единорожку поглядеть.
– Охота так охота, – Слобо казался слегка удивленным. – Пошли.
Солнце уже наполовину сползло за лесную кромку, но света еще хватало. Первым, кого увидел Алеша, был Буланко, замерший возле выбежавшей на середину луговины одинокой березы. Дальше темными стогами высились длинноногие горбатые верблюды, еще кто-то, явно не мелкий, развалился в траве, а возле ручья на валуне сидел парень в лохматом пастушьем плаще и возились не слишком большие, зато толстенные животины с огромными головами.
– Водяные свиньи, – немедленно объяснил Слобо. – Гляди, конь твой! Отвязался, что ли?
– Я его не привязываю никогда.
– У вас так заведено, что ли?
– У нас много чего заведено, – не стал вдаваться в подробности китежанин. – Эти свиньи, они где водятся?
– На Среднеморских островах, как и слониши. Дальше на юг, за морем, такие же живут, только большие. С ними ни один зверинщик не свяжется, уж больно злы и без болота своего долго не протянут, да и дорога… Вот слона я, Белобог поможет, добуду, это те же слониши, только каждый на дюжину коней потянет. Слон, если его обучить, сам пойдет, его даже нагрузить можно, а свиней водяных только везти, а где под эдакие туши повозку взять?..
«Спроси, где ОНА. Я к НЕЙ побегу, а ты свиней своих смотри, сколько хочешь».
– У тебя, Слобо, и так всего много, – говорить сразу с двоими, причем с одним еще и украдкой, то еще удовольствие! – Да и зачем большие, если есть мелкие такие же. На опушке, это ведь верблюды?
– Они самые. Чем хороши, так это тем, что почти без пригляда пасутся. Вот за свиньями водяными глаз да глаз нужен, а уж за гирифтеном…
«Спроси! В нетерпении я!»
– Хорошо, что верблюды умные, – перебил очередной рассказ о зверинщиковом любимце Алеша, – а как с этим у единорогов? И где твоя красотка, в лес ушла?
– Красотка?! – расплылся в улыбке Слобо. – Так ее и зовем, но ты-то как узнал? Или Боро разболтал?
– Сам угадал. В ученых книгах их так и описывают.
– Ох уж книги эти ученые! – фыркнул зверинщик. – Имя-то ты угадал, а саму что, не признаешь? Вон же она, не доходя верблюдов разлеглась. Грязь там, а она любит в грязи валяться…
«Эта?! Вот эта?!»
Иногда лучше не просить, не знать и не видеть. Иногда лучше не мечтать. Забравшаяся в грязь серая толстоногая тварь с полусвинячей мордой, обвислой верхней губой, коротким тупым рогом и могучими глубокими складками на шкуре Алешу и то расстроила, а уж Буланко разве только в голос не взвыл.
– В тайге похожие водятся, только шерстистые и больше раза в три, – Охотник с сочувствием глянул на поникшего коня, но утешать его при Слободане все же не стал. – Только этих тварей носорогами называют, чудь белоглазая на них верхом ездит. Я-то думал, у тебя настоящий единорог…
– В смысле волшебный конь с рогом, который лишь девиц слушается? Это не по нашей части… хотя, попадись мне такой жеребенок, я б не отказался! Филимон, конечно, не девица, но, чем худ не шутит, вдруг бы да справился? С гирифтеном же получилось, ты сам видел! Ты извини, я отойду, сыну кое-что сказать надо, пока он спать не ушел.
– Лады, – пробормотал Охотник, запоздало коря себя за болтливость.
И вольно же ему было во время странствий со скуки расписывать Буланко всяких книжных тварей! Конь эти рассказы в одно ухо впускал, а в другое выпускал, пока богатырь не добрался до единорогов. Чистые, прекрасные, непорочные создания, Белобоговы любимцы, да к тому же почти кони, жеребца впечатлили необычайно, но на Руси единороги пропали даже прежде Первозверей. Узнав про это, Буланыш взгрустнул и вроде бы выкинул недостижимую мечту из головы, и тут худы подсунули Слобо с его Красоткой.
Рог у серой губошлепины, впрочем, имелся, причем единственный, так что обмана никакого не было, вернее, наслушавшийся о чудесных зверях Буланко обманул себя сам. Размечтался о белой кобылице с хрустальным рогом и нарвался на развалившуюся в грязи не то свинью, не то слониху.
«Единорожица… Лучше б ее вовсе не было, – страдал жеребец. – Вот не было бы и все… Это она пахла. Свиньей».
– А ее и нет, – утешил Алеша, косясь на что-то втолковывавшего сыну Слобо. – Забудь, дружище. Попасись. Водички попей.
* * *
Вкуса знаменитой слободановой чорбы Алеша так и не распробовал, проглотил наспех сколько влезло, и помчался унимать негодующего Буланко. Оскорбленный в лучших чувствах конь то сетовал на обман, то рвался скакать, очертя голову, куда глаза глядят, то желал втоптать в грязь злополучную единорожицу, то принимался жалеть себя.
– Ее бы кто пожалел, – не выдержал в конце концов Охотник, – мало того, что страшная и в зверинец угодила, так еще и ты взъелся.
«Она себя не нюхает. Она себя не видит. Легла в грязь и лежит. Ей хорошо, а мне плохо. Зачем смотрел? Зачем ты меня к ней звал?»
– Ты сам ее повидать рвался, чуть дыру мне в голове не сделал.
«Все обман… Не хочу. Ничего не хочу. Совсем».
– Слушай, я пойду, – решил наконец богатырь, – хоть высплюсь, что ли.
«Иди куда хочешь, – дозволил гривастый страдалец, – не держу».
У лагерных костров было пусто, только на сваленных возле крайнего шатра вьюках развалилась пара караульщиков, да за повозками кто-то не то бубнил, не то порывался петь. Всего умней сейчас было забраться в шатер и хорошенько выспаться, но не хотелось, да и ночь выдалась знатная, особенно небо. Глядел бы на звезды и глядел. И думал… Обо всем и ни о чем. Еще лучше было бы вытащить гусли, душа просила, но свои вьюки Алеша отволок в слободанов шатер, не будить же добрых людей… А добрые люди сами пришли. Раздалось сопенье, и из-за темных кустов выкатилось нечто светлое, оказавшееся слонишей.
– Доброй ночи, китежанин, – выбравшаяся из темноты вслед за своим любимцем Зденка несла в руках что-то вроде подушки. – Вижу, не спишь.
– Да, не спится.
– Хорошо, что не спится. При батюшке трудно мне с тобой говорить… Я вино принесла, хорошее, старое. Много чего в Ольше оставили, а его взяли. Будешь?
– Спасибо, – так вот что у нее в руках, мех с вином. – Не хочется.
– Может, потом?
– Может.
– Я прощенья попросить, – молодая зверинщица легко опустилась наземь. Близко, но не рядом. – Зря я на тебя накинулась.
– Пустое. Слобо… Твой отец говорит, ты зверье чуешь, может, и не только зверье. С Любодаром было что-то не в порядке, и ты это поняла. Чуяла ложь, а думала, что дело в нас, китежанах. Так бывает.
– Так бывает, – тонкая рука оттолкнула сунувшегося поближе слонишу, в словно бы атласном ухе зверенка светлячком блеснула серьга. – Если тебя, маленького, укусит пес, ты, уже большой, станешь сторониться собак. В каждом из нас своя собака… Почему ты не убил лжеца?
– Тебе бы этого хотелось?
– Уже не знаю. Ты не будешь пить?
– Нет, – и впрямь не хотелось, зато потянуло объясниться. – Зденка, не поняв, убивают только в большой опасности. Мне ничего не грозило, ведь я намного сильнее.
– Ты – чародей, все китежане – чародеи. Я попросила прощения, ты простил?
– Как я могу простить, ведь я не обижался. Зачем ему серьга?
– Чтоб не потерялся. У нас семеро слониш, но особенный только Мальчик. Он тебе нравится?
– Еще бы.
– Тогда и ты ему понравишься. Мальчик, это друг. Поздоровайся.
Слониша мотнул ушами и медленно протянул хобот. Свет костра делал розовое нежно-золотистым, такого цвета плоды на исходе лета привозят в Великоград с юга. Утром залюбовавшийся Зденкой богатырь слонишу особо не разглядывал, а был он занятным и наверняка сильным, всяко посильней большой собаки. Мощное, покрытое морщинистой, почти голой кожей тело опиралось на четыре толстые ноги без копыт, хвост напоминал крысиный, а шеи не было, туловище сразу переходило в большую ушастую, украшенную носом-хоботом голову. Глазки большие, влажные, умные… Красотой создание не блистало, но было забавным, куда лучше злополучной единорожицы и пузатых водяных свиней.
– Здравствуй, Мальчик, – Охотник позволил обхватить свою руку. – Сколько ему?
– Девять, он еще маленький, – девушка легко поднялась. – Нам пора, доброй тебе ночи.
– Давай вино донесу, негоже такую ценность бросать.
– Донеси.
Шли молча, светили звезды, пахло то осенью, то зверьем, то снова осенью. Зденка остановилась возле небольшой расписной повозки, почти домика. Протянула руку забрать оказавшийся ненужным мех. Иногда пальцы встречаются случайно. Иногда это ничего не значит.
– Зачем ты стал Охотником, Алеша?
– Так получилось. Ты – зверинщица, я – Охотник.
– Я такой родилась, ты стал. Прощай.
– Доброй ночи.
Слобо за ужином предлагал заночевать в его шатре, и Алеша с удовольствием согласился, однако отчего-то вернулся к прогорающему костру. Почему он Охотник? Да потому что, как оказалось, не может быть никем иным! Большое счастье – найти свою дорогу, и он нашел. Мелочей на выбранном пути нет, ведь в любом пустяке может зло проклюнуться. Черный цыпленок – и тот способен подбить дурака-хозяина отдать свою душу и тем добавить сил нечисти покрупнее, что за один раз губит уже по полсотни душ. А каждая загубленная душа падает на весы на Той-Стороне, и через то Чернобог со Тьмой набирают силу. Если наберут, всем придется жить во зле, но это уж дудки! Не обломится им ничегошеньки, пока стоит Китеж и разъезжают по Руси Охотники. Братья и сестры.
* * *
Под такими звездами о демонах думается плохо, жаль, самим демонам живые звезды не помеха, хоть и не помощники. Красоты Чернобогу с его Тьмой никогда не понять и нипочем не создать, потому, видать, упыри с вештицами, спутавшись со злом, и становятся мало-помалу уродами. Иначе просто не выходит.
Мысль была странной, но в последнее время Алеше чего только в голову не лезло, правда, требовались для этого свободное время, одиночество и малая толика не пойми чего, которое то появлялось, то исчезало. Сегодня оно нахлынуло, вот Охотник и просидел возле почти погасшего костра, пока прямо на него не выскочил непонятный зверь, которого богатырь незамысловато сгреб за шкирку. Похожая сразу на лисицу и обезьяну животина с полосатым хвостом, как ни извивалась, вырваться из богатырских рук не могла. В здешних лесах такое водиться не могло, значит, удрало.
– Сюда, сюда побежал!
Вылетевший из-за шатров Зринко не врезался в Алешу лишь потому, что китежанин успел отшагнуть. Схваченная животина недовольно заверещала, парень, кое-как погасив разбег, захлопал глазами.
– Куда его? – для вящей убедительности китежанин сунул добычу охраннику чуть ли ни в нос.
– Вот сюды… – Зринко затряс большой торбой с завязками. – Ахти, беда-то какая!
– Да ладно, беда, не гирифтен же удрал, – утешил китежанин. – Да и поймали уже! Раскрывай свой мешок. И держи! Крепко.
– Этого-то словили, – запричитал под крепнущий шум парень, что не мешало ему выполнять приказы Охотника, – а других?!
Зринко был тем еще треплом, а Боро, чтобы заткнуть подопечного, рядом не оказалось. Алеша в два счета вызнал, что красноносый Филимон напился так, что лыка не вяжет. И ладно бы, не впервой, но малое зверье, что в клетках в крайних повозках сидело, как нарочно именно сейчас вырвалось на волю – и ну носиться по лагерю! Старый Слобо с сынами всех подняли, мечутся, ловят, но куда там, в темнотище такой.
– Сперва самых шустрых отловить надо, – посоветовал, затягивая ремни на мешке, китежанин, – чтоб далеко не забрались. Идем, помогу.
– Так темнотища ж хоть глаз коли!
– Я в темноте неплохо вижу, – распространяться о свойствах китежанской вязи Алеша не стал.
– Ух ты, – восхитился Зринко.
Алеша через мгновенье тоже восхитился – поднявшейся суматохой. Зверье, казалось, было повсюду. Выскакивало из-за возов и под них же пряталось, цеплялось за шатры, откуда-то спрыгивало, шуршало под ногами, путалось в траве. Растерялось, видать, столько взаперти просидев. Или боялось леса. Большой дикобраз, забившийся подальше в угол настежь открытой клетки, явно боялся.
С грохотом рухнул какой-то чан. Свалившего его здоровенного, с гончака, зайца Алеша ухватил за уши и всучил оказавшемуся на пути Боро. «Десятник» с добычей исчез за покосившимся шатром, и тут потеха пошла всерьез. Шум, гам, писк, взлаивания… Из-под телеги торчит чей-то хвост… Кто-то с кем-то сцепился… Кто-то запутался в упряжи, кто-то бросился закапываться, да так, что комья во все стороны полетели…
– Не этого, этот не уйдет. Вот того, того хватай!
– Лады…
Китежанин носился по взбудораженному лагерю и по указке пристроившегося к нему сына зверинщика по имени Давор хватал улепетывающие сокровища кого за шкирку, кого за лапы. За одной птицей дурной, здоровенной, с хвостом цепким, змеиным, пришлось аж на березу лезть.
Ничего, залез выше по стволу и накинул змеехвостке мешок на голову, один хвост снаружи и остался. Обвила та с перепугу ветку своим хвостом намертво, толку-то от того. Алеша ту ветку переломил да так, с веткой, дуру пернатую вниз и спустил.
– Да худ с ней, с мелочью! – на подбежавшем Слобо, как говорится, не было лица. – Охотник, помоги ради Белобога… Гирифтен сбежал! И Огнегорку унять надо, пока к Зденке не вломился! Ведь убить же придется!..
– Так, – Алеша пихнул мешок со змеехвосткой в чьи-то руки, – по порядку давай. Зденка где?
– В повозку ее загнал, запереться велел. Ну, Филимон, ну бражник худов, пусть только проспится!..
– Худ с ним, с Филимоном, кого первым ловим? Гирифтена?
– Огнегорку…
Из охов и причитаний много не выудишь, но китежанин все же понял, что причиной ночных бед стал сбежавший обезьян, для начала разломавший клетки с мелочью, а затем добравшийся до гирифтена. Хуже же всего было то, что разбушевавшийся Огнегор носился по лагерю, очень похоже, что в поисках «сестренки» Зденки. Этого еще не хватало!
Бежать за вьюками и в них рыться было некогда, ну да ладно, нож так и так за голенищем, палок тут на каждом шагу, но помощь всяко не помешает. Буланко богатырь позвал, почти не скрываясь – не до того, даже если расслышат и поймут, что к чему.
«Хозяин?»
– А ну дуй сюда! Помочь надо.
«Бегу! – лошадиные печали как рукой сняло. – Ты только… осторожно! Подожди. Меня подожди».
– Гирифтен… Филимон… – зверинщики продолжали бубнить на два голоса, но широко шагавший Алеша почти не вслушивался. – Зденка… Огнегорка…
– Сети порвал, – мало не взвизгнул кто-то плюгавый, – почитай, все!
– Ой, лихо!
– Тоже мне лихо, – Охотник взял Слобо за плечо. – Сейчас успокоим.
Каким уродился нацелившийся на Лукоморье колдун, Алеша знать не мог, но обезьян свое имечко получил по праву. Здоровенная, плосколицая, покрытая медного цвета лохмами тварь, похожая и непохожая сразу и на человека, и на ополоумевшего лешака, с дикими воплями носилась меж шатров и повозок. То выскакивала к кострам, враз становясь огненно-рыжей, то отлетала в полумрак, крутясь как детский волчок. Неслась, опираясь на пальцы длиннющих «рук», пинала косматыми «ногами» попадавшийся под них скарб, колотила себя по достойной молотобойца груди и не забывала при этом ухать, хрюкать и визгливо орать. Зверинщики с охранниками от разгулявшегося обезьяна шарахались, как куры от волка, и понять их было можно.
– Ты ведь сможешь? – стонал над ухом Слобо. – Охотники, они ведь и не такое видывали?
– Убить смогу, – быстрым шепотом откликнулся Алеша, прикидывая, как это чудо сподручнее свалить да скрутить, чтоб никого не зашибло, – но тебе ведь не того нужно, так что обожди малость, дай подумать.
– Не того, – подтвердил зверинщик. – Только если иначе никак… Нельзя так оставлять, из-за Зденки нельзя, а гирифтен – дороже. Второго такого мне нипочем не найти, а Огнегорка… куда денешься… Сам я кругом виноват!
– Погоди, говорю, не все так плохо.
Буланыш уже бежал, вдвоем они бы точно управились, но представление закончилось само собой. Не успел верный конь ворваться в проход меж повозками, как обезьян как-то по-особенному загугукал, плюхнулся на задницу, махнул напоследок лапой, словно муху ловил, и повалился на бок. Стало тихо, если, конечно, можно считать тишиной трески, скрипы, вопли взбудораженной живности и близящийся конский топот. Потом кто-то испуганно промолвил:
– Ой, никак сдох!
– Стойте здесь, – велел Алеша, – все стойте. Гляну сейчас.
Охотник к неожиданностям готов всегда, но в этот раз ничего не произошло, разве что молодецкий храп раздался. Зверюга была вполне себе жива, она просто уснула. Отчего и почему – китежанин решил себе голову не забивать, но ответ нашелся сам собой, от храпящего Огнегорки вовсю несло брагой.
– Жив, – успокоил китежанин честно стоявшего, где стоял, Слобо, – только пьян. Похоже, на пару с обаянником веселились.
Дальше было просто. С помощью Боро и Зринко выволокли храпящую тушу из лагеря и оттащили все к той же одинокой березе, вокруг ствола которой и замкнули найденную Давором медвежью цепь. Цепь была с ошейником, так что пришлось Огнегорку сажать как пса на дворе. Две обезьяньи цепи, ручная и ножная, как назло куда-то запропастились, как ни искали, не нашли.
– И куда он их только упрятал, разбойник, – причитал Слобо, наскоро проверяя каждое звено. – Наверное, в кусты забросил. Ведь всё… Всё понимает! Хоть бы Филимон, зараза, прежде него очнулся…
– Цепь выдержит? Не сорвется, если что?
За цепь Слобо ручался: слона, если что, сдержит, а сломать толстое дерево, да еще березу, чья древесина славна своей неломкостью, сил у Огнегорки не достанет. На всякий случай Алеша откатил подальше пару валунов, чтоб проснувшийся обезьян не дотянулся, а то как бы не запустил в кого.
«Ну вот… – расстроился подоспевший Буланко. – Опять без меня? Зачем тогда звал? Зачем от беды моей отвлекал?»
– Тоже мне беда, – отмахнулся богатырь.
Буланко смолчал, зато Слобо принял это на свой счет.
– Это для тебя не беда, – зверинщик, подавая пример сыновьям, таки бухнулся на колени, – а для меня… для нас жизнь рушится! Верни гирифтена, нельзя ему без пригляда и без кормежки правильной, да по холодам вашим, сгинет…
– Лады, – Алеша с раздраженьем оглядел стоящую на коленях троицу. – А ну вставайте, надоели чуть что на колени падать! А это еще откуда?!
Выкатившееся откуда-то «это» прошмыгнуло меж растерянно глядящими то на отца, то на богатыря Слободановичами, встало над валявшимся Огнегоркой и горделиво протрубило. Алеша огляделся, Зденки видно не было, зато чуть поодаль топталось еще трое слониш.
– И эти разбеглись! – всплеснул руками Зринко. – Ну дела!
– Так делайте, – непонятно с чего разозлился Охотник.
– Алеша, – у Слобо на уме был лишь гирифтен, – время дорого! Всех бери, только поймай!
– На кой мне все? У тебя тут работы по горло, вот и займись. Мне десятка загонщиков за глаза хватит, а уж выйдет ли, нет ли, не скажу.
Рассвета, спасибо китежанской вязи, ждать не требовалось. Без возглавившего поход Алеши зверинщикам не только пришлось бы ждать утра, но и вооружаться всерьез, и идти целой толпой, а так обошлись охранниками во главе с Боро и Давором. Беглеца надо было брать живым, по возможности ничем ему не навредив, так что основной снастью у ловцов стали любимый Алешин аркан, мотки веревок да чудом не порванная пьяным Огнегоркой сеть.
– Буланыш, ты постереги пока этого… Огнегора, – шепнул напоследок коню китежанин, пока Слобо отбирал загонщиков. – Если что, копытом приголубь. Только чтоб не насмерть.
«Постерегу», – в подтверждение обещаний жеребец клацнул зубами, заставив попятиться плюгавого зверинщика с сетью. – Пригляжу, будь спокоен. Делай дело».
Гирифтен, хоть и юный, и увечный, весил уже изрядно, как хороший тяжеловоз, так что следы его когтистых лап да полоса от хвоста на покрытой росой траве читались просто отлично, не промахнешься. Судя по следам, крылатый здоровяк от лагеря удалялся длинными прыжками, видать, в испуге. Потом, отбежав подальше, успокоился, с прыжков перешел на шаг и уже этим шагом добрался до опушки на дальнем конце луговины, но вот полез ли вглубь?
Алеша присмотрелся к темневшим впереди деревьям – не так уж и высоки, зато стоят густо, да и низкие ветви должны мешать. Был бы зверь испуган, ломился бы в чащу, оставляя за собой целую просеку, но коль малость подуспокоился… Да и не лесные твари эти самые гирифтены, с их-то крыльями! На открытом пространстве им привычней, а если и прятаться, то в горных пещерах, ну или, если таковых поблизости нет, в густом и высоком кустарнике. Наподобие того еще не до конца облетевшего орешника, куда и ведут следы.
Самим лезть в заросли показалось Алеше неправильным. Мощные когтистые лапы, хвост с костяными лезвиями и крепкий клюв, когда ими орудует испуганный «малыш» размерами с боевого коня, – весомый повод для осторожности. Не всякий захочет столкнуться с этаким дивом нос к носу.
– Алеша, – торопливо напомнил Давор, – не убивать идем, а ловить…
– Помню, не забыл, – успокоил зверинщика богатырь. – Он ведь в самую чащу не должен рвануть?
– Ну… Нет, не должен.
– Тогда нечего мудрить. Выгоним на открытое место, а дальше мое дело.
– Все, братцы, – вмешался до того молчавший Боро, – расходимся по краям этого малинника и шумим.
– Как на свадьбе! – задорно выкликнул круглолицый Зринко, похоже, получавший от охоты немалое удовольствие.
– Не малинник то, – вмешался заморыш с сетью, – а орешник. Им тут все заросло.
– Малинник, орешник… Невелика разница. Главное, орем.
– И палками его… палками.
– Сами ноги не поломайте. Не видно ж ни рожна! Ночь кромешная.
– А ты не смотри, ты горлань.
Загонщики со смешками, но споро рассыпались по краям зарослей. Первым подал голос Давор, и тут же во всю мочь завопили остальные, от души хлеща по горемычным зарослям. Вопли, разбойничий посвист, треск ломающихся под ударами веток. Первыми не выдержали какие-то птицы, взлетели шумно, заметались над головой, усугубляя поднятую суматоху, потом наискосок по луговине рванул отъевшийся на обильных осенних харчах русак.
Помощники орали, Алеша, сбросив плащ на траву, ждал с арканом наготове. Видать, гирифтен не слишком уютно чувствовал себя в своем случайном убежище, так как появился быстро. Первая сотня ударов сердца не отстучала, как треск кустов стал гораздо громче и что-то крупное и темное ломанулось из глубины орешника на опушку. Есть!
Здоровенная крылатая зверюга вымахнула на открытое место и на мгновение замерла, оглядываясь и смешно топорща совиные «уши». Клювастая голова несколько раз повернулась, изумрудами сверкнули глаза, и гирифтен длинным скачком сорвался с места. Второго прыжка не получилось – петля аркана послушно легла куда положено, и узел затянулся на длинной мускулистой шее. Богатырю осталось, как следует уперевшись, напрячь спину и дернуть способный удержать великана аркан на себя.
Пойманный прямо в воздухе зверь грузно кувыркнулся на бок. Упал – еще не значит сдался, и гирифтен тут же попробовал вскочить на лапы, однако новый богатырский рывок – веревка, к счастью, выдержала! – повалил его на траву. Клацнул бессильно клюв; чуть-чуть не добравшись до натянувшейся веревки, Малыш еще сильнее изогнул шею, чтобы достать-таки вредную гадость, но Алеша уже сам взвился в воздух, в три скачка покрыв разделявшее их с добычей расстояние. Глазомер не подвел. Успешно миновав бестолково бьющие крылья и хлещущий направо и налево хвост, Охотник, подобно загадочному фригалу, оказался на шее чудо-зверя, прямо-таки сел верхом. Ну и грохнул кулаком беднягу по макушке.
Голова и шея у подобных созданий крепкие от природы, их так просто не разбить и не сломать, так что за жизнь слободанового сокровища Алеша не волновался. И все же бить со всей силы счел излишним, мало ли, животинка и без того калечная. Одного богатырского удара гирифтену, однако, хватило с избытком – мышцы зверя расслабились, лапы подогнулись, и он начал заваливаться вперед. Ну и отлично.
Спрыгнув с падающей добычи, китежанин откатился в сторону прежде, чем гирифтен ткнулся клювом в траву. Дело было сделано, ну, почти. Стремительно вскочив, китежанин махнул рукой благоразумно державшимся поодаль помощникам.
«Хозяин!.. Хозяин!»
Буланко и прежде чуял, когда богатырь в одиночку ввязывался в передряги, и переживал, как там Алеша без него управится. А ну как оплошает и беда приключится?
– Порядок, Буланыш, – успокоил друга богатырь. – Поймали, не волнуйся ты так! Не дело было, безделица… У тебя-то что? Погоди… Парни, лапы ему спутайте, пока в беспамятстве, и хвост не забудьте. Пусть отдохнет, чудо такое.
– Осторожней! – Подскочивший Давор оттолкнул слишком ретивого помощника. – С крыльями осторожней, не поломайте! Спасибо тебе, Алеша, век не забудем… Что хочешь… Когда хочешь…
– Сочтемся, – отмахнулся уставший объясняться Алеша. – Как по мне, лучше его здесь оставить. Пускай полежит, покуда бражник ваш звероумный не оклемается.
– Да, так лучше всего, – сын зверинщика со знанием дела оглядел недвижную груду. – Сперва – клюв. Палку давайте… Нет, эта длинная слишком, другую ищите.
– А эта как?
– Годится.
Негаданные звероловы, поглядывая на бесчувственную добычу с настороженностью, на Алешу – с восхищением, а на Давора с намеком – такая работа дополнительной платы стоит, – принялись опутывать драгоценного зверя всеми прихваченными веревками, как паук муху, а то мало ли что… Лапы-то вон какие, да и хвост со штуками этими, еще саданет чего доброго! Богатырь незамеченным отошел в сторонку и с чувством выполненного долга вернулся к прерванному разговору.
– Буланыш, – окликнул он, – прости, дела были. Ты-то как?
«Пасся», – словно бы нехотя сообщил не то все же обидевшийся, не то вспомнивший об уже вчерашнем разочаровании друг. – «Сейчас сплю. У тебя обошлось, и ты спи».
– Куда я денусь? – зевнул китежанин, поднимая с травы верный распашень. – Только до лагеря доберемся… Ладно, друже, отдыхай. Сон, он все лечит, утром свидимся, раньше вечера-то эта ярмарка с места точно не тронется.
* * *
Проснулся Охотник от того, что в лицо ему словно бы теплым ветерком дунуло, да не простым, а пахнущим сухой степной травой. Приоткрыв один глаз, богатырь обнаружил возле самых глаз серую толстую змеюку. Та изогнулась, снова подуло, и окончательно проснувшийся Алеша, не выдержав, расхохотался. Слониша словно бы чихнул и попятился. В здоровенном ухе – сережка, как у Мальчика, только в отличие от питомца Зденки было это чудо не розовым, а серым. Братишка, видать, из тех, разбежавшихся…
– И чего? – осведомился богатырь, переворачиваясь на бок и подперев голову рукой. – Потерялся и оголодал?
Слониша еще разок чихнул, а может, это и не чих был вовсе, богатырь по-слонишьему не понимал.
– Нечего тебе тут делать, – сев, Алеша пригладил волосы на макушке пятерней. – И уж прости, чем тебя кормить, я не знаю.
В ответ раздалось уже знакомое чиханье и хлопанье ушами. Веселый розовый цвет превратил бы слонишу в ходячую охапку кипрея, но такие, как Мальчик, рождаются нечасто. Серых, видать, больше.
– Эх, ты, – богатырь с непонятным сочувствием трепанул жесткую холку, – чудушко! Ладно, идем, что ли…
Чудушко задрало хобот, словно принюхиваясь к веселым белым облакам, и безропотно потопало за богатырем. С толстокожей мелочью возилась Зденка, стало быть, вернуть беглеца надлежало ей, и Алеша был этому только рад. Ночной разговор с девицей выдался странным и каким-то оборванным, потому, видать, его и хотелось продолжить.
Единожды пройдя любой дорогой, китежанин запоминает ее навсегда. Алеша с так и норовящим прислониться к его ноге носатиком уверенно шел суетящимся лагерем. Зверинщики как могли изничтожали последствия ночного разгрома, но, посулив Буланышу отъезд к вечеру, Охотник явно погорячился. Хорошо, если за пару дней разгребутся. Это если ждать, но их-то с Буланко к разбитым клеткам никто не привязывал, да и с загадочной колдуньей проще объясняться без каравана со зверьем на плечах.
– Утро доброе, Охотник, – «десятник» Боро самолично и очень умело возился с раскуроченной повозкой. – Где ты Мальчонку-то подобрал?
– Кого? – не сразу сообразив в чем дело, богатырь завертел головой, но вояка глядел на слонишу. – А… Какой же это Мальчик, он же серый!
– Серьга у него приметная, не ошибешься, а посерел бедняга со страху, что потерялся, а то и замерз. Ночка-то не из теплых выдалась. Ничего, хозяйку увидит, разрумянится. Занятно у него это выходит. Сперва уши розовеют, потом тело пятнами идет, словно у коровы какой, и напоследок носяра с хвостом. Такова уж ихняя природа. Смех, короче.
– Да уж, – Алеша покосился на серого спутника. – Обаянник-то как, оклемался?
– Как водой отлили, так и очухался, обормотище… Свезло ему, что гирихтуна воротили, а то, друзья не друзья, век бы с хозяином не рассчитался. И ведь всю дорогу, почитай, держался, и вдруг на ровном месте!
– Бывает, – припомнил собственные великоградские загулы Охотник и тут же заработал ощутимый тычок под колено. Мальчик рвался к хозяйке. – Ладно, пойду, пропажу доставлю.
Зденкину повозку богатырь отыскал сразу, хоть перед ней теперь высилась куча каких-то обломков, а возле расписной лесенки в явной растерянности торчал Слободан.
При виде хозяйкиного родителя Мальчик уже знакомо чихнул, но Алешу не покинул, так и мялся возле ноги.
– Утро доброе, Алеша, – оглянувшийся на чих зверинщик удивленно поднял брови. – Откуда он у тебя?
– Приблудился. Вернуть хочу.
– И то, – кивнул Слобо и проорал: – Зденка, вставай уже! Тут Алеша пропажу твою нашел!
– Прости, батюшка, – раздалось из повозки, – мочи нет, головушка болит. Дай поспать-полежать хоть до полудня.
– Эк заладила! А ну, вставай, кому говорят! Ишь, затейница, головушка у нее болит. Да у кого она не болит после эдакого?
Девушка отмолчалась. Зверинщик недоуменно сопел, слониша пару раз чихнул и, обхватив носом Алешину ногу, попытался подтащить богатыря к повозке.
– Потерпи, – велел китежанин и принялся объяснять. – Зденка, я Мальчика привел, он ко мне прибился. Посерел с горя, бедолага.
– Прости, батюшка, мочи нет. Головушка болит… Дай поспать-полежать…
– Зденка, – вылупил глаза зверинщик, – да ты что, с Филимоном на пару браги перебрала?! Это ж гость наш…
– Прости, батюшка. Головушка…
– Зденка!
– Нет тут ее, – уже все понявший Алеша отцепил от себя Мальчика и, одним прыжком вскочив в повозку, пнул расписанную птицами дверку. Та безропотно слетела с петель. Богатырь был прав: внутри было пусто и очень опрятно.
Чернокудрая зверинщица, уходя, не только ничего не разбросала, но и прибралась. Спальная лавка была застелена пестрым ковриком, вымытые миски выстроились на посудном ларе, рядом притулился знакомый мех с вином, а столик украшала крынка с яркой осенней веточкой. Чистота и порядок, только по полу раскатились стеклянные бусины, словно ожерелье лопнуло, а собрать было недосуг.
– Что за… – Поднявшийся вслед за Алешей зверинщик обалдело оглядывался. – Как это… Куда она?
– Русь велика, – с какой-то злой горечью откликнулся китежанин, – а мир еще больше. Ты дочкины вещи должен знать, глянь, что пропало.
– В приданом ее я не копался!
– Ну котомки да побрякушки знать-то должен.
– Это да… Постой, а говорил-то с нами кто?
– Они, – китежанин наклонился и поднял с пола бурый стеклянный шарик. – Эта уже свое сказала, а вон та, у окна, еще нет. Старый способ и простенький. Не для всех, вестимо. Я сейчас выйду и Зденку по имени окликну, а ты стой здесь да смотри.
В таких делах Охотники ошибаются редко, и Алеша не ошибся. Оторопевший зверинщик отчего-то шепотом поведал вернувшемуся богатырю, как одна из бусинок полыхнула алым и с того места раздался Зденкин голос, повторивший все то же про головушку и батюшку.
– Где она, Алеша? – простонал как-то враз постаревший Слобо. – Где?!
– В дороге, – нехотя объяснил китежанин, – и вряд ли одна. Коней проверить надо.
Коней проверили и не досчитались зденкиной любимицы, рыжей кобылки с белой звездочкой во лбу. Перекормленный любодаров мерин тоже исчез, подтвердив и так напрашивавшуюся догадку. Деревья качаются не сами по себе, их качает ветер. И звери сами по себе из клеток тоже не вырываются, их выпускают. А ловить-то некому, обаянник пьян. «Всю дорогу, почитай, держался, и вдруг на ровном месте…» Не такое уж ровное место, видать, было. Вина у Зденки хватило и на обаянника, и на обезьяна, и на Охотника, только Охотник пить не стал.
Для очистки совести и из нежелания говорить богатырь потащил не перестающего причитать Слобо к возу с клеткой, в которую сунули алырского красавчика. Разумеется, его там не оказалось, зато нашлись пропавшие обезьяньи цепи и зденкины ключи, аж две связки.
– Это что же… – зверинщик поднял цепь, поднес к глазам и вдруг отшвырнул, будто она стала змеей, – что же такое… Выходит, это Зденка?! Подстроила, чтоб с полюбовником сбежать? Филимона подпоила, Огнегорку выпустила… А мне с самой Ольши голову морочила?! Это же ее… Зденкина подружка про страхи дорожные первой разговор завела! А врала-то как, придурялась! Дескать, не верю я Охотнику, дурной он человек, гнать его надо… Он-то дурной! А сама-то какова?! И я хорош! Всех на ловлю погнал, а ей запереться велел. Чтоб Огнегорку не распалять… Дурень старый! Будало! Зрно грахово… У свему што йе имала, што йе имала майка ляжна коприва…
Языка, на котором то орал, то причитал оглушенный случившимся Слобо, Алеша не знал, но понимал почти всё. Получалось, что крапива Зденка удалась в мать, тоже сбежавшую с полюбовником и бросившую на мужа двоих сынов и совсем еще крохотную дочку. Та выросла и тоже предала, причем Алеше посеревшего слонишу было чуть ли не жальче, чем Слобо. У зверинщика оставались Давор с Никшей, любимое дело и драгоценный гирифтен, а у не отходившего от хозяйки Мальчика?
Да и сама Зденка…
Может, все было именно так, как решил Слободан, и странная смуглянка еще в Ольше сговорилась с дружком, как половчее обобрать отца, а может, все вышло еще хуже. Юная зверинщица влюбилась в ражего «охотника» и прятала свою любовь в показной ненависти, а когда оказавшийся самозванцем Любодар угодил в клетку, бросилась его спасать. Если так, то ничего хорошего ее не ждет, такие, как алырец, добра не помнят и долгов не отдают.
«Я такой родилась, ты стал. Прощай…» Какой «такой», Зденка? Чующей зверье или невластной над своим сердцем? А может, наоборот, готовой на все, только ради кого или чего? А если ты не хотела уходить, если поняла, с кем связалась, но не смогла бросить алырского дурака на произвол судьбы? Особенно, если и впрямь все сама затеяла? Мог же лже-Охотник в конце пути броситься в ноги Слободану, дескать, полюбил всей душой твою дочь, не нужен мне больше распашень, и Китеж никакой не нужен, с вами остаюсь! И обернулся бы обман правдой.
Только дорогу мошеннику настоящий китежанин перешел, а Любодар показал себя не соколом, а мокрой курицей. И все равно – не бросать же его в клетке в чужом краю… Не бросила. И как ведь рассчитала! Поняла, что по-тихому ни милого из клетки не вызволить, ни коней не свести, да и батюшка в погоню кинется, а от разбежавшегося зверинца он точно никуда, вот и устроила тарарам. И знала ведь, что кто-то из питомцев в нем и пропасть может, да из мелочи, наверняка, и пропал. Хорошо еще, Мальчик с гирифтеном уцелели…
– Успокойся! – Алеша ухватил с хрустом раздавившего злополучную бусину Слобо за плечо. – Все уже случилось, не исправишь. Вон вино стоит, выпей, полегчает. Только полегче с ним, кто знает, что она туда намешала…
– Нецу пити! – замотал головой зверинщик и вспомнил, что говорит с русичем. – Хочу, но не стану. Поймай их, Охотник! Знаю теперь, денег не возьмешь, но ведь ведьма же! Сейчас с бусами наколдовала, дальше хуже будет! А уж я отблагодарю…
– Дядька Слобо! Я же тебе говорил…
– Да не тебя отблагодарю, Китеж твой. Половину выручки отдавать стану… Да что там половину! Все отдам, только зверью на прокорм оставлять буду. Найдешь?
– Нет.
– Ты же сам про зло говоришь, ну так вот тебе оно! Отца с братьями предала, это ладно еще… Девки, они такие, ради милого хоть в огонь, хоть в полымя! Только кто младенчиков да зверье бессловесное обманет, обидит да без помощи бросит, от того любой беды жди. А Зденка еще и кровей непростых…
– Жена тебя обидела, понимаю, но ведь она больше ничего не натворила. Почему вдруг дочка натворит?
– Не в жене дело, во мне. Бабка моя знающей была, а Зденка исхитрилась с бусами наворожить. Да и Филимон говорит, она такое может, чему не враз выучишься…
«Прости, батюшка…» Россыпь стеклянных ягодок, в каждую по волосинке продето и кровью капнуто. Девичья волшба, простенькая, глупая, да не у всех выходит, это точно. У Зденки вышло.
– Так поможешь?
Простого «нет» недостаточно, объяснить следует. Хотелось поначалу прямо заявить, мол, не дело Охотника за влюбленными беглянками гоняться, но горевавшего Слобо лучше попробовать утешить.
– Лучше сам ее сыщи, как в Великограде обустроишься, глядишь, и помиритесь. Может, и сама Зденка, если не по дому, так по слонишам своим затоскует, особенно, если… милый опостылеет. – А такой может, ведь тупой, как Буланыш говорит. Если чем и взял, так статью да русыми кудрями. – Ладно, пойду коня обихожу, а там поглядим.
Буланко стоял, опустив голову у ручья, но не пил. И то, встретив вместо дивной кобылицы с хрустальным рогом подслеповатое страшилище, затоскуешь.
– Ну что, друже, – тихонько окликнул богатырь, – не застоялся? Пробежимся?
«Нет».
– Да ладно тебе. На cкаку любая тоска развеется, а как в Китеж вернемся, архивщиков расспрошу. Должны же где-то и настоящие единорожицы быть, те, о которых в книгах написано.
«Должны, только не видать мне их. И с тобой не скакать. Ослеп я».
– Ты… что?! – не понял Алеша. – Как? Когда?!
«Ночью. Ты далеко был… гирифтена ловил».
Да, ловил и поймал. Он как раз стоял над упавшим птицезмеем, когда Буланыш внезапно закричал. Потом подбежали загонщики и стало не до коня. Подумалось, друг прыжок на гирифтена почуял, хотя что там чуять-то было?!
– Ты ведь меня звал! Что ж правды-то не сказал?
«Ты дело делал. Обо мне бы стал думать, ошибся бы. Нельзя Охотникам ошибаться».
– А потом, потом-то зачем врать начал?!
Буланко едва заметно шевельнул хвостом, ну хоть что-то!
«Подумать надо было. Ты, как в Китеж вернешься, серого не бери. Глупый, хоть и нашей породы. Добро не помнит, обиды жует. Не такой тебе нужен».
– Ты мне нужен, – отрезал Алеша. – Не для того мы с тобой встретились, чтоб я всяких… тупых брал.
«Не для того, – конь поднял голову, обернулся, сморгнул. Глаза у него были обычными – большими, темными, в коротких густых ресницах. – На мне теперь только воду возить, а ты – Охотник. Тебе нужен…»
– Хватит чушь молоть, не с таким справлялись! – прикрикнул этот самый Охотник, привычно ероша теплую гриву. То, что никакой воды другу не возить, богатырь решил сразу же. – Давай, рассказывай, что с тобой стряслось, а там поглядим.
«По голове прилетело. Тяжелым. Сперва вроде ничего, а потом – темно. Совсем. Думал, ночь кромешной стала, только люди вокруг этого совсем не замечали. Тут и понял, что не с ночью худо, а со мной. Сам виноват, накликал. Не хотел ЕЕ такую видеть, теперь ничего не вижу. Нельзя глупого просить, услышат».
– Кто тебя ударил?
«Рыжий. Вначале валялся, храпел, потом очнулся. Злился, башкой мотал, с цепи рвался. Только не ударил, цепь коротка была. Бросил и попал».
– Вот же худовщина! Это я ослеп, не ты! Ведь поклясться же мог, что все валуны от него убрал, не было там камней рядом никаких, одна трава!
«Не было камней, ничего не было. Черепаха приползла… Сам накликал, теперь всё, теперь на мне только воду возить… а я не хочу. Навозился… И дружбой вязать тебя не хочу. Отведи меня к обрыву, только чтоб повыше. Отведи и оставь».
– А ты б меня отвел, умник?!
«Отвел бы, – соврал, сам веря в свои слова, конь. – Без пользы – жизнь не в жизнь, не хочу таким жить, овес на навоз переводить…»
– А ну хватит про смерть, найду решение! – рявкнул Алеша, чуть ли не впервые жалея, что не родился чародеем.
Китежанские зелья во вьюках у него, само собой, имелись, но от ран да ядов, не от слепоты. От бессильной ярости у богатыря в глазах тоже словно бы потемнело, и вдруг в этой тьме словно звезда путеводная сверкнула! Во всем нагороженном Зденкой с ее самозванцем вранье была одна правда: неподалеку жила сильная колдунья. Ради Буланко Алеша к любой ведьме бы сунулся, любой яге бы поклонился, но загадочная отшельница никому вроде бы особо не навредила, значит…
– Значит так, – как мог спокойно объявил китежанин. – Я тебя сейчас оседлаю и потихоньку поедем в Сивый лес к Мираве-отшельнице. Она поможет.
«Никто не поможет, сам я накликал!»
– Не поможет, если глупость эту твердить станешь! Ты мне живой и зрячий нужен, и не только мне. Нам еще Лукоморье выручать и Огнегору… настоящему Огнегору шею сворачивать. Накликал, говоришь? Ну так изволь откликать!
Нежданное знакомство
Не обнаружив в условленном месте своих провожатых, Варвара не удивилась – не может же везти вечно! Однако все равно досадно, двух дней, о которых договаривались, еще не прошло, а казавшийся честным Ойка обещал ждать… И на тебе!
Заснеженная поляна, где она рано утром рассталась со спутниками, была пуста. Лишь над потухшим кострищем вился слабый дымок. Спасибо хоть, мешок, который она оставила в лагере, чтоб не тащить к кургану лишнюю тяжесть, не тронули, а ведь могли и его унести. Хотя зачем? Ну да, имелась там пара-тройка важных оберегов, но на вид совсем непримечательных – несведущий их ценность бы не понял. А так, на первый взгляд, наживы в мешке никакой: старый котелок, почти пустой бурдюк, вяленое мясо, обычный походный набор мелочей, снегоступы да сменная одежда, вплоть до пары старых рубашек, которые Варя использовала как тряпки – чтобы обмотать факелы, к примеру. Эко богатство! Понятно, что зариться не на что, вот и лежал рамочный заплечный мешок с притороченными к нему плетеными снегоступами, где его и оставили, а над ним из сугроба торчала верная «рогатина».
Но вот рядом…
Внутри все стянуло от тревоги, когда она признала брошенную суму одного из проводников… как бишь его? Варя не могла вспомнить имени, оно было причудливое, северное, но лицо владельца сумы девушка хорошо помнила – широкое, обветренное, с неровным шрамом через сплюснутый нос. Чтобы опытный и бережливый путешественник так запросто оставил необходимое в дороге имущество? Чужое – еще ладно, не вор, но свое?! Немыслимо. Что-то не так.
Варвара быстро укрылась за стволом сосны, цепким взглядом разглядывая покинутую стоянку. Выходить на поляну не хотелось, но с этого места ничего толком не разобрать, а надо изучить следы, понять, что произошло. А что-то ведь точно произошло! Скинув капюшон, чтоб лучше слышать, девушка опустила ниже подбородка шерстяной платок и осторожно двинулась вперед, стараясь ступать как можно тише. Жаль, на ней обычные унты, а не меховые, охотничьи, но снег скрипит не слишком громко, уже хорошо. Шуметь в здешних местах не стоит.
Ну, Ласочка, что тут у нас? Первым бросается в глаза затоптанный костер. И затоптан он не людьми. Здесь опустилась чья-то огромная и, похоже, круглая нога, расплющив и вдавив в угли большой походный котелок Ойки.
Разобравшись, что к чему, Варя почувствовала острый стыд за то, как плохо подумала о своих проводниках. Нет, они ее не бросали. Бедолаги спасались от большой опасности, причем в прямом смысле «большой». Потому что на поляне потоптался великан – и совсем недавно, раз дымок от расслоившихся в труху и пепел поленьев еще вьется. Бежали спутники быстро и разом. Времени на сборы им не дали вышедшие к стоянке чудины и их шен-га.
Про свирепую чудь белоглазую и их верных слоноголовых великанов Варвара, конечно же, слышала. «Не ходи в тайгу, нарвешься на шен-гу!» Первая страшилка, которой пугают всех, кто идет за Градимирские горы и дальше на север, в тундру. Мол, бродят там чудины с глазами-бельмами, а страшней их только жуткие огроменные твари – твердолобые полулюди-полуслоны, сплошь поросшие шерстью, с клыкастыми длинными носами-руками и огромными кривыми бивнями. Сказки? Если бы!
Вот они, следы. Самые что ни на есть настоящие, и в снегу читаются отчетливо. Рядом виднеются отпечатки поменьше, но все равно раз в пять больше человеческих. Здоровенные ступни в обуви с плоской кожаной подошвой. Сколько же диких людей тут было? Пять… Семь… Похоже, восемь… Восемь чудинов и спутник-великан!
Да уж, не повезло проводникам! Так ведь не угадаешь, когда белоглазые в дозор выйдут: говорят, их отряды и днем, и ночью по меже шатаются. Тут либо пронесет, либо…
Варя тряхнула головой, собираясь с мыслями. Оставалось надеяться, что бывшие спутники окажутся достаточно прыткими и ловкими, чтобы спастись. Лес тут редкий, приближение чудинов, а тем более великана опытные таежники наверняка заметили, значит, вполне могли уцелеть, бросившись к спасительному Югрик-граду. С поляны-то убежали точно живыми и здоровыми. Кровь бы Варя приметила, на снегу она хорошо видна, а тут и следов борьбы не видать. Если кривая вывезет, успеют оторваться от преследователей. В глубь людских земель чудь не пойдет, заробеет.
А если не смогут уйти… Двинуться следом, попытаться помочь? А чем? Что она сможет сделать? Да ничего. Разве что разделит судьбу несчастных, угодив в брюхо таежным людоедам.
Похоже, тут, на этой поляне, их с проводниками дорожки расходятся, придется идти к Кущанским Воротам в одиночку. Неприятно, но ладно. Справимся! Один раз перевал преодолела – пройдешь и второй. Главное, времени не терять и отправляться сей же час, пока солнце еще высоко.
Чутье заставило девушку посмотреть в ту сторону, где скрылись проводники, и Варвара ошалело замерла. К ней торопились чудины и шен-га.
Те самые, следы которых она так внимательно только что рассматривала. Шли тихо, как настоящие охотники – не повернись она в их сторону, могла бы до последнего не увидеть! Даже великан высотой под пять саженей бочком и осторожно обходил деревья, ступая словно кошка, мягко и осторожно. И как ему подобное удавалось, с таким-то весом! Чудины, огромные, темные, обросшие, будто ходячие меховые холмы, со здоровенными топорами и толстыми копьями в мощных ручищах, крались, не сводя с нее белесых глаз. А когда поняли, что добыча их заметила, один что-то гортанно прокричал – и они рванули вперед, уже не скрываясь.
Сколько до них? Еще далеко, можно успеть! Варя стремительно сунула внутрь большого заплечного мешка кошель, набитый золотом, и малый мешок, с которым ходила ко Всемыслову кургану. Быстро застегнула вспомогательные лямки на животе, чтобы ноша не сильно болталась – и рванула в противоположную от чуди сторону, с толикой сожаления оставив на поляне любимую «рогатину».
* * *
«Клуша неповоротливая! Давай, вставай! Нечего отдыхать!»
Хотя чего себя ругать? Бегать по сугробам укутанной в многослойные одежки, да еще и со здоровенным заплечным мешком, задача не из простых. Споткнулась о спрятанный под снегом корень и растянулась, зарывшись лицом в колючий холод. Но не разлеживалась, мигом вскочила, продолжив бег.
Изо рта густыми облаками валил пар. В руке – свернутая верная коса-витеня. Правда, что с нее толку? Повеситься разве что. С чудью ей не справиться, какое там! Уродов много, они громадные, опытные воины, мало чем уступающие силой русским богатырям, да еще и на своей земле, где каждый кустик им знаком. Что уж говорить про жуткого шен-га? От него и на дереве не укрыться. Остается только бежать, пока хватит сил, а вот что делать дальше – совершенно не ясно!
Одно понятно, что дикие таежные жители не сумели догнать прытких проводников. Вернулись чудины по своим же следам на стоянку, в надежде чем-то разжиться, а на подходе заметили ее.
Что ж, проводникам повезло. А Ласке на этот раз – нет!
Девушка обернулась только единожды и увидела, что шен-га вырвался вперед, обогнав чудь. Страшилки не врали: он в самом деле напоминал человека со слоновьей головой, только был весь бурый и мохнатый, с космами в колтунах. Меж двух огромных, искривленных желтоватых бивней извивался толстый шерстистый хобот, и даже с такого расстояния Варя разглядела, что заканчивается он тремя жуткими когтистыми хватами. В маленьких для такой башки ушах поблескивали золотые серьги, на груди болтался странного вида доспех, похожий на скрепленные меж собой бревна, а из-под широкой лоскутной кожаной юбки виднелись толстые ножищи с круглыми ступнями. В руках шен-га держал дубину из цельного громадного ствола.
Темнокожие чудины по сравнению с ним казались карликами. Они тоже продолжали погоню, что-то угрожающе выкрикивая и рыча, но заметно отстали – ширина шага, видимо, сказывалась… Шен-га, позабыв о прежней кошачьей ловкости, неутомимо пёр напролом, снося встречающиеся на пути деревья, как тростинки, и, вторя чуди, время от времени издавал страшный трубный вой.
Больше Варя не оборачивалась.
Великан был медлителен, но и из девушки сейчас была та еще бегунья: в тяжелой одежде, да по снегу, пусть и не особо глубокому! Выходила эдакая полусонная погоня, будто улитка от улиток спасается. Для тихоходов все происходит невероятно быстро, усилия прилагают, стараются, а со стороны – животики надорвешь. В другое время Варя бы тоже посмеялась.
Но сейчас было не до смеха. Девушка понимала, что долго так бежать не сможет, не хватит сил, вес добытых в кургане сокровищ уже давал о себе знать. А вот чуди и сил, и выносливости не занимать – настигнут. И зачем им только такая добыча? Еды-то на зубок, не пожируешь… хотя из-за своих одежек она наверняка выглядит упитанной. Может, поэтому людоеды пустились за ней в погоню? Если догонят – в лучшем случае прибьют на месте. В худшем… о худшем не хотелось думать. Слухи о таежных дикарях ходили самые лютые.
Как назло, схорониться от чудищ было негде: земля тут плоская, как стол. Таежная осень – что зима, снег лег надолго, а тут еще и ясно, ни тебе метели, ни бурана. Редкий лес, пусть и спас от внезапного нападения, теперь играл против беглянки: только куцые кусты и спрятанные под снегом треклятые корни. Ни овражка, ни холма… холма!..
Курган! Эх, оказаться б сейчас у Всемысловой усыпальницы да спрятаться внутри! Чудь туда бы не пролезла, заскучала бы и рано или поздно ушла. Какая замечательная мысль, так и надо сделать!
Одна беда, Варя не представляла, где находится. Рванула с поляны наобум, виляя, как заяц, бездумно, поддавшись нахлынувшему страху. Страх-то прошел, а она по-прежнему несется, не разбирая дороги, не представляя, что впереди. «Невнимательность, нельзя таких промашек допускать», – решила Варвара, да только не время сейчас себя корить – выжить бы.
Опять вопли и крики за спиной… и ведь дыхания им не жалко! Что там она думала про неведомое? Мол, не увидев – как поймешь, что оно страшное? Ну вот, увидела… Сожрет ее это неведомое и не подавится! До чего обидно! Столько тягот пережить, дело справить, и вот так, по-глупому…
Крики сзади вдруг изменились. Из азартных они сначала стали удивленными, потом тревожными, затем злыми и наконец превратились в вопли боли. Показалось или в самом деле? Нет, все наяву, даже топот великана-слона становится тише.
Продолжая бег, Варвара все же позволила себе обернуться и невольно вскрикнула от удивления. Еще недавно нагонявший ее шен-га сейчас почему-то несся прочь, позабыв о выдыхающейся добыче. Рядом с ним драла пятки чудь… а меж деревьев мелькало что-то большое, бесцветное и какое-то… смазанное. Размытое. Глаз не поспевал, на бегу толком было не разобрать… но двигалось оно стремительно, от одного чудина к другому… И к кому метнется, тот падает – и больше не поднимается.
Хвала Белобогу, нежданная подмога, новый подарок судьбы. Ну и ладно, ну и хорошо! Пускай таежные обитатели промеж собой отношения выясняют, надо бежать дальше.
Все-таки везучая ты, Ласочка!
* * *
Вопли чудинов и вой великана давно затихли где-то далеко позади, а девушка все бежала – долго, пока несли ноги и хватало воздуха в груди. Лишь вконец обессилев, распаренная Варя почти рухнула в сугроб возле старой сосны, с трудом сняла заплечный мешок и, доставая флягу, едва не расхохоталась. И в этот раз спаслась!
Только все еще не представляет, где находится, и, главное, куда теперь, в какую сторону? Снова довериться чутью и понадеяться на везение? Уж на что Варя презирала всякие суеверия, но события последних дней волей-неволей заставляли поверить в удачу, впрочем, как говорят, на нее надейся, а сам не плошай. Головой думай да по сторонам смотри – справишься. Солнышко-то вон оно, по нему и пойдем на запад.
Утолив жажду, девушка запрокинула голову и, прижавшись взмокшим затылком к холодной коре, уставилась на скудную сосновую крону, сквозь которую просвечивала ясная синева. Тяжело дыша, прищурилась, всматриваясь… и снова улыбнулась. Так интересно: смотришь на ствол, вот так, прижавшись затылком, и словно наблюдаешь перевернутую дорогу в небеса. Пройтись бы по этой дорожке, ввысь, к облачкам… А что, отличная мысль! Поискать дерево повыше! С помощью верной витени можно вскарабкаться к самой кроне, а там осмотреться. Горы-то Градимирские в двух днях пути, их заснеженные пики всяко увидишь. К ним и надо идти. Только сперва малость отдохнуть, дух перевести, беготня всех сил лишила, во рту опять пересохло.
Продолжая пялиться в небо и выравнивая дыхание, Варя вновь подняла флягу и вдруг краем глаза заметила какое-то движение. Едва слышно скрипнул снег. Опустив сначала взгляд, а потом и голову, девушка растерянно замерла, не успев донести флягу до губ.
Прямо перед ней замер огромный – с лошадь – зверь. Подобные волки ей прежде не встречались. Вроде похож на обычного серого разбойника, но где вы видали эдаких громадин? С такой густой гривой на шее и холке, что южным львам-зверям завидно бы стало. С такой необъятной грудью. С такими мощными лапами. Смотри-ка, а космы за ушами в косички заплетены, спускаются с двух сторон от широкой головы да еще и поблескивают золотыми зажимами на кончиках. И шерсть серо-белая, блестящая, без буро-рыжих волчьих подпалин.
Из огня да в полымя. Спрашивается: где рогатина, когда она нужна? Нет, не брошенный на стоянке «рогалик» – обычный дорожный посох с обожженной вилкой на конце – а настоящая рогатина, охотничья…
Волк принюхивался и смотрел на девушку не мигая, опустив лобастую голову почти к земле, на уровень Вариных глаз. Морду и грудь зверя покрывала уже студенеющая на холоде ярко-красная кровь. Вид у хищника был, конечно, страшным… но отчего-то не слишком угрожающим, видать, потому что уши торчком стояли и он не скалился. И даже, похоже… улыбался? Что за диво такое?
– Доброго здоровия, – внезапно сказал волк и улегся напротив, скрестив перед собой широкие лапы и не спуская с Варвары глаз.
Он разговаривает! Губами не шевелит, просто пасть приоткрывает, а голос льется – приятный, глубокий, бархатистый… И слова произносит правильно, немного «окая», как раньше говаривали в новеградских землях… Да это же Первозверь! Из тех волшебных созданий, что жили в Белосветье со дня сотворения. Варина нянька утверждала, что все разумные говорящие звери повымирали, да выходит – не все!
– И… и тебе, – осипшим голосом проскрипела Варвара и покашляла, прочищая горло, – доброго здравия.
– Какими судьбами, красна девица, в такой глуши, так далеко от дому? – волк облизнулся.
Стараясь не показывать опаски, девушка медленно опустила флягу, мысленно оценивая случившееся. Окровавленное чудище не только умеет разговаривать, но и соображает отменно: несмотря на то, что Варвара одета, как богатая жительница севера, волк мигом определил в ней чужачку. Врать умному зверю смысла нет, уличит во лжи – будет только хуже. Пусть Первозверь и выглядит вполне благодушно, но он все же хищник и определенно мастак на раз головы откусывать. Теперь ясно, кто был той самой смазанной тенью, что давеча гонялась за чудью… И, судя по залитому кровью светло-серому меху, настиг он многих…
Варя ответила прямо:
– Да вот, с отрядом пришла, вещицу одну добыть в старом кургане. Тут неподалеку, знаешь?
Острые серые уши встали торчком, волк слегка склонил голову набок и снова облизнулся. В его левом ухе блеснула сквозь шерсть крупная золотая серьга.
– Ишь ты, храбрая. Курган тот все стороной обоходят. Даже я держусь подальше. Волхвы его возвели. Слыхала про таких?
– Да.
– Мудрецы были великие. Раз вход запечатали, на то была причина, и недобрая. Волхвы хорошими были, а место вот построили тревожное. Ужо и не знаю, зачем они так.
Высказавшись, волк вдруг уперся носом в сугроб и пополз в сторону, зарывая морду в снег, мотая головой и фыркая. Похоже, решил умыться.
– Давай помогу, волчок? – неожиданно для самой себя предложила Варя.
Зверь замер и поднял голову. Ставший розовым снег налип на длинные ресницы и на шерсть на морде – волк, моргая и облизываясь, уставился на Варю, и вид у него был до того потешным, что девушка невольно заулыбалась. Покопавшись в мешке, она достала одну из старых рубашек. Вот и снова тряпочка пригодится!
Набрав в ветошь снега, Варя медленно подошла к огромному собеседнику и принялась осторожно тереть окровавленный мех. Волк послушно сидел и терпел, только косился.
– Ты откуда родом? Здешний?
– Нет, – с явной неохотой ответил зверь, – раньше я по ту сторону гор жил.
– Так ты с Руси, – утвердилась в своих догадках Варя. – А сюда-то зачем, в глухомань стылую?
Волк вдруг отвернулся и ответил уклончиво:
– Были на то причины.
Варвара требовательно развернула его голову обратно, продолжая отчищать кровь. Расспросы она прекратила. Затянувшееся молчание прервал приунывший отчего-то волк.
– С давних пор тут живу. Пользу приношу. Русь стерегу на дальних подступах, не даю чуди шалить.
– А зачем тут сторожить? – искренне удивилась девушка. – Югрик отстроили – большой, крепкий. Да и Волотов Щит [7] есть, там покой Руси витязи хранят на перевалах. День и ночь стены охраняют, мышь не проскочит.
– Это смотря какая мышь, – невесело усмехнулся волк. – Коли тайга на Русь пойдет, поздно будет перевалы сторожить, не справятся витязи с таежной мощью. Надо здесь чудь покусывать, отгонять, не давать к рубежам приближаться. Югрик – крепкий-то крепкий, только один на много верст; случись что, не выстоит. Да и местных, живущих у гор, охоранять тоже надо. Детишки асилаковы человечину и сами жрут, и своим шеньга скармливают. Фу, фу, одним словом, нечисть немытая, чтоб им пусто было!
Варя повозила пропитавшуюся кровью рубашку в снегу, стараясь хоть чуть-чуть очистить ткань.
– Выходит, ты вот давешних, того… покусал? Их кровь с тебя смываю?
Волк снова фыркнул, а потом еще и громко чихнул.
– Фу, фу. Ну да, шестерых серорожих задрал. Двое сбежали. А лохматому нос его клыкастый прикусил, долго помнить будет. Ничего, угомонятся скоро, спокойная пора на меже близко. Зимой они редко из леса выходят.
– Тебя-то не ранили?
– Еще чего. Медленные они.
– Силен ты и отважен. В одиночку, да на таких опасных врагов, – задумчиво сказала Варя. – И ловок, раз ни один из них тебя ударить не успел…
Волку похвала пришлась по нраву – улыбнулся, обнажая здоровенные клыки и резцы, которые с такого близкого расстояния показались Варе и вовсе гигантскими. Стараясь не дрожать, она спросила:
– Слушай, а может, знаешь, мои-то как, сбежали?
– Ты про тех, что костер жгли? – с некоторым пренебрежением уточнил Первозверь и шевельнул лапой. – Да все с ними хорошо, успели удрать к Югрику. Я, по счастию, неподалеку обретался, услыхал вопли да великаний рев, вот и прибежал.
– Слава Белобогу, – тихо выдохнула Варя. – Опусти-ка голову, макушку протру как следует.
Волк послушно уронил голову в снег, прижал уши и снова замолчал, думая о чем-то своем, а Варя еще долго оттирала ему мех на лбу и затылке. Теперь было видно, что зверь отличался от обычных сородичей не только размерами и цветом шерсти, но и статью: тело у него оказалось намного длиннее… Вот ведь, нашла на что внимание обращать! Он разговаривать умеет и украшения дорогие носит, как его вообще можно с обычными волками сравнивать?..
– Ты один тут такой? Или в стае?
Волк недовольно дернул ухом.
– Не один, есть еще наши, помогают. У нас тут с чудью свои счеты… Но мы в стаи не сбиваемся, каждый сам по себе. Заведено так. Принято.
– Тяжко, наверное… Одиноко…
– Справляемся.
Он снова замолчал, часто задышал, вывалив розоватый язык и обдавая Варю клубами пара.
– Так-так. Кажись, готово, – девушка отошла и поджала губы, придирчиво рассматривая, что получилось.
Оттереть до конца не вышло – шерсть так и осталась розоватой, но по крайней мере сосульками не застынет, мешать не будет, да и волк теперь выглядит не так устрашающе.
– Спасибо, красна девица. Каково имя-то твое?
– Варварой называют. Можно просто Варей. Или Лаской.
– А я – Серый Волк. Можно просто – Серый. Или Волк.
Зверь потер морду лапой и опять уставился на собеседницу большими желто-карими глазами.
– Может, помочь тебе? – вдруг предложил он. – До Югрика довести? А то посинеешь скоро на морозе, вы же хлипкие такие, люди-то.
Варя улыбнулась и покачала головой, поднимая из снега заплечный мешок.
– Нет, спасибо, я к горам отправлюсь, к перевалу, а потом сразу – в Велигор. Проводников-то своих я уже не сыщу, так что времени терять не стану, рискну, одна пойду.
– Экая ты торопыга, – поднял темные брови Серый Волк.
– За мной водится, – согласилась Варя и в порыве откровенности добавила: – Опаздываю я, дружок. И так затянула, срок выходит. Людей подведу, если надолго задержусь. Судьба хорошего человека от меня зависит.
– Судьба, говоришь? – тихо переспросил Первозверь, задумавшись о чем-то своем.
Варя, крякнув, закинула мешок за плечи, оправила и затянула лямки, накинула на голову капюшон. Можно идти… если, конечно, Волк отпустит.
– А вот если объяснишь, как к горам выйти, – сказала она примолкшему зверю, – очень благодарна тебе буду, потому как на дерево лезть не придется.
В ответ Серый уселся, нависнув над девушкой, и решительно объявил:
– Вот что. Давай-ка я тебя до гор довезу. А там посмотрим.
– Да нет, что ты, я сама…
– Да вижу, что сама. Все сама, – заулыбался Волк, обнажая клыки, но не десны. – Сердечная ты, чую в тебе добро. И храбрая, пусть и обычный человек. Таким помогать – не в тягость. Садись на меня да держись крепче. Жаль, седла нет, да не беда. Если хорошенько загривок ухватишь, не упадешь.
– Седло? – растерянно спросила Варя.
– Да, – неохотно буркнул Волк, ложась на землю и вытягиваясь. – Было у меня снаряжение… когда-то… Давай, полезай.
Предложение оказалось неожиданным, но, признаться, своевременным. Варя устала, и неспешная поездка верхом казалась желанным отдыхом. Она на многих животных ездила, даже на южных, диковинных. Дело-то нехитрое – знай садись да держись покрепче, но прокатиться на спине Первозверя ей еще не доводилось. Вызовы она любила, потому и колебалась недолго.
– Спасибо тебе, Серый Волк.
– Рукавицы лучше сними, без них держаться удобней, – деловито посоветовал Первозверь. – И плат повыше подыми, а то все лицо обветришь.
И то верно. Затолкав рукавицы за пояс, Варвара схватилась за невероятно густую шерсть на загривке, залезла на крутой бок и устроилась на холке, крепко прижавшись коленями к волчьим плечам. Без варежек в самом деле было удобнее, а тепло, исходящее от зверя, грело руки. Тяжелый заплечный мешок тянул назад, но Варя быстро обрела равновесие и устроилась поудобней, склонившись к шее Первозверя.
– Уселась? – повернул к ней уши Волк, поднимаясь. – Крепко держишься, хорошо?
– Держусь.
И он побежал.
* * *
Неспешная поездка? Отдых? Какое там!
Только и знай, что прижимайся к загривку и до онемения цепляйся за густой мех. Все тело сковало судорогой, а перед глазами будто картинки замелькали: только что они были рядом с громадной сосной, но вот Варя моргнула – и они уже совсем в другом месте, средь пушистых елей. Еще раз моргнула – и лес вокруг уже опять совсем другой. Серый Волк мчался с такой скоростью, что, казалось, пожирал и расстояние, и время. В ушах свистел ветер, а под Варей двигалось, бугрилось и ходило ходуном мощное мускулистое тело Первозверя.
Скачка на Волке не шла ни в какое сравнение с размеренной поездкой на индейском слоне, не походила она ни на подергивающуюся качку верхом на верблюде, ни на галоп богатырского коня. Варя не могла понять, как у Серого это получается: он совершал прыжок, а спустя мгновение оказывался далеко впереди. При этом шел ровно и плавно, летел что птица: никакой тебе безумной тряски, только мерные рывки и плавные убаюкивающие движения вверх-вниз. И все равно платок сбился, навстречу бил упругий холодный ветер, пряча от него лицо, Варя прижалась к загривку… и снова удивилась! От Волка, гигантского дикого зверя, живущего в лесу, и не пахнет почти – лишь едва различимый запах мокрой шерсти чуешь. Какое же удивительное создание!
С каждым прыжком тайга вокруг редела, глянь – уже и край леса! Мелькнула внизу река, и вот они уже мчатся по открытой равнине прямо к предгорьям. Скачка заняла всего ничего, но они покрыли расстояние, что Варин отряд шел своим ходом два дня!
А впереди уже заснеженные холмы возле перевала! Серый Волк остановился и лег на снег, его бока мерно вздымались, из пасти вырывался белый пар.
– Ничего себе, – только и смогла выдохнуть Варвара. – Вот это поездочка!
– Дело нехитрое, – кивнул Волк, – привычное.
С ответом Варя замешкалась; в голове после удивительной скачки все спуталось, и она не знала, как благодарить зверя за помощь, как с ним прощаться, что напоследок говорить. Девушка дернулась, чтобы слезать, но Волк вдруг произнес:
– Слушай, раз уже сюда добежали, давай я и через перевал тебя перенесу? Силы есть. Мне не в тягость.
От такой щедрости у Вари перехватило дыхание, но обременять благородного зверя не хотелось.
– А как же твоя охрана рубежей? Дозор твой?
– То мой обет и мое решение, – фыркнул Волк. – Говорю же, спокойная пора близко. А за рубежи не переживай, и без меня охоронят, есть кому. И Югрик сторожат, и малые поселки, что люди на меже основали. Да и обернемся мигом, уж поверь.
– Верю, конечно… Спасибо тебе, Волчок, от души! – шепнула Варвара и не удержалась, погладила его между ушами.
Почувствовав прикосновение к макушке, Волк чуть заметно вздрогнул.
– Держись покрепче! – напомнил он и рванул вперед.
Только она успела натянуть платок под глаза, а вот уже вершина холма, еще один прыжок – и легко перемахнули сходившиеся вершинами валуны. Внизу и сбоку черной змеей завилась замерзающая речка – они помчались по едва приметной тропке на берегу, направляясь в глубь ущелья.
Варя едва не визжала от восторга. Она уже приноровилась к движениям волчьего тела и даже отваживалась смотреть вперед, меж ушей Первозверя. Стремительно сходились, расступались, а затем исчезали позади высоченные стены ущелья, проносились мимо заснеженные глыбы да валуны. Лоб жгло морозом, глаза слезились, но девушку настолько захватила скачка, что она не обращала на это никакого внимания.
Сколько они мчались? Да кто ж поймет? Солнце едва пошло на закат, окрашивая небо желтоватыми оттенками, а они уже остановились на нахоженной дороге неподалеку от каменной стены, из которой выпирала скала – в ее центре располагались высоченные железные двери, давшие название перевалу. Они добрались до Кущанских Ворот! Пройди сквозь них – и окажешься в Велигорской долине, в восточных землях Руси.
Из-за темнеющих в светлых стенах бойниц нависающая над дорогой скала походила на слегка скошенную гигантскую надвратную башню. Она считалась частью восточных укреплений Волотова Щита, и Варвара знала, что таких «башен» в Градимирских горах с десяток. Ворота же были саженей десять в высоту, а то и больше. Они закрывали проход через гору, и всякий человек, оказавшийся перед ними, чувствовал себя никчемной букашкой. Холодный небесный свет тускло блестел на древнем железе, темнил потеки ржавчины, отражался в великоградском солнце, вычеканенном на створках.
Стражники, с которыми Варя познакомилась накануне похода в тайгу, рассказывали, что Кущанские Ворота строили волоты, а когда пришло время ставить двери, то великаны и для простых людей вход предусмотрели, сделали в гигантских створках проход поменьше. Говорят, большие створки уже лет сто не открывали, только нижние, для путников, идущих через перевал. Такие же есть и со стороны Велигорской долины, в них упирается узкий, но крепкий мост, перекинутый над Волотовым Рвом от крепости русичей.
Варя хорошо помнила, как впервые увидела горные защитные сооружения Руси, как ахнула при виде врат. Помнила девушка и как шла по едва освещенному проходу внутри скалы-башни, крутя головой, стараясь получше рассмотреть обтесанные каменные стены и нависшие прямо под арочным высоким потолком галереи-заборолы [8], с которых стражники могли при случае расстрелять или угостить кипящим маслом незваных гостей.
Нет, Волку туда определенно нельзя, хорошо, что он остановился на почтительном от ворот расстоянии – караулившие подходы стражники не заметят. Варя поежилась и решительно сказала:
– Ну, все! Спасибо тебе, дружище! Службу ты мне сослужил немалую, даже не знаю, как тебя отблагодарить. Дальше-то мы с тобой не проедем, тут только через ворота, а русичи, охраняющие проход, тебя могут поранить. Уж не обижайся, но ты – волк.
Серый в ответ лишь хмыкнул и дернул ухом с серьгой.
– Эх, невеликого ты обо мне мнения, Варвара. Много есть способов пройти, уж поверь. Да и что мне эти ворота да стены? Как, думаешь, я с Руси-то сюда пришел? Через ворота? Разрешения у кого-то спрашивал? Держись!
Девушка едва успела снова ухватиться за волчьи космы, как Первозверь вдруг прыгнул куда-то налево, в сторону крутых слоистых утесов, что возвышались над дорогой и далеко впереди примыкали к оборонительной каменной стене. В это сложно было поверить, но Серый мчался почти отвесно ввысь, ловко, словно горный козел, прыгая с уступа на уступ, забираясь все выше и выше. Варвара еле сдерживала крик – и от восторга, и от ужаса, потому что несколько раз казалось, что Волк вот-вот оступится и сорвется. Но тот знал, что делает.
Внизу мелькнули припорошенные снегом покатые крыши обламов [9], встроенных прямо в горную породу. Раз-два – и они уже на широкой зубчатой стене, тянувшейся от одной сторожевой скалы к другой. К счастью, никого из стражи здесь не оказалось, а то крику было бы!..
После такого подъема передохнуть бы, прийти в себя, но у Первозверя были свои соображения, и он немедля ринулся вперед. Прыжком преодолел расстояние до противоположной стороны стены, оттолкнулся… и, не раздумывая, сиганул дальше. Варя не успела даже пискнуть: у нее засосало под ложечкой, а спустя мгновение перед глазами раскинулись просторы хвойной Велигорской долины, широкий и бездонный Волотов ров и стремительно приближающаяся земля.
Высота – с полверсты, не иначе. Волосы под капюшоном встали дыбом. Вот и все, им конец! И мокрого места от них не останется! Варя закрыла глаза и прижалась к спине Волка, слушая оглушающий вой ветра.
Тело Первозверя под ней будто бы вздрогнуло, потом девушка почувствовала упругий толчок, и шум затих, а ее саму обдало снегом. Варвара открыла глаза, подняла голову и недоверчиво огляделась. Волк, фыркая, стоял в глубоком снегу, а за ним в сугробах протянулась короткая колея от места, где они приземлились.
Зверь, как ни в чем не бывало, невозмутимо и ровно сопел, будто не летели они только что с огромной высоты навстречу погибели. А потом подергал ушами и опустился на землю, чтоб Варе было удобней спускаться. С трудом разжав закаменевшие пальцы, наездница начала слезать, позабыв о тяжелом заплечном мешке – потеряла равновесие, не удержалась и плюхнулась в снег, очумело вертя головой.
– Как?.. – спросила она усевшегося рядом Волка. – Как?..
– Мне высота нипочем, – невозмутимо пояснил Первозверь, – коли вижу, куда прыгать, вестимо. Прости, что такой долгой дорога вышла – чудью насытился, брюхо набил, неповоротлив слегка…
Не зная, что сказать, Варвара, открыв рот, таращилась в красивые волчьи глаза, что в свете уже заходящего солнца отливали цветом расплавленного золота. Видимо, Волк счел ошеломленное молчание особой похвалой, потому как вдруг засмущался, принялся переступать огромными лапами и оглядываться.
– Слушай, – наконец произнес он, – солнце заходит уже. Куда ты своим ходом, на ночь глядя? Раз уж я тебя сюда довез, давай, может, и до Велигора доброшу?.. Мне не в тягость.
Иной мир
– Да чтоб тебя, – раздраженно пробормотал Добрыня.
Бряхимов остался неведомо где – по ту сторону непроглядно густого, слабо светящегося тумана, колыхавшегося за спинами у троих русичей и алырской царицы. Прогалину, на краю которой они застыли с конями в поводу, тесно обступали дремучие заросли.
Лилово-синяя листва негромко шепталась с ветром, гулявшим в вершинах. Перекрикивались чужими голосами в чащобе птицы – то есть, на то, что это именно птицы, Добрыня очень надеялся. Пылали изумрудными огоньками меж метелок красной травы пышные головки незнакомых цветов, а над прогалиной и над лесом опрокинутой чашей нависало то, что заменяло этому миру небо.
Полукруглый, круто уходивший ввысь каменный свод, затянутый сизой дымкой.
В самой середине высоченного свода-купола сиял рыжий огненный шар – маленький, неподвижный. Жарил он вовсю. Воздух над поляной колебался, как знойным летом в полдень, а трава, разомлевшая под лучами этого странного, точно приклеенного к каменному небу солнца, пахла духмяно-терпко и тоже насквозь незнакомо. Бурушко потянулся к траве, чтобы ее обнюхать, и тут же из-под фыркнувших конских ноздрей, сверкая бирюзовыми надкрыльями, так и брызнули какие-то мелкие прыгуны-трескуны – здешние кузнечики, видать.
Всё вокруг сильно смахивало не то на сон, не то на причудливый растрепанно-пестрый морок. Казалось, потряси головой – и он рассеется без следа. Да только не бывает такого, чтобы один и тот же сон снился сразу четверым.
Вот, значит, какую вторую свою тайну берегли от всего Алырского царства Пров и Николай. И заодно с ними – царица Мадина, худы бы побрали ее бабьи хитрости!
Воевода знал, что при дворе князя Владимира поговаривают: мол, у Добрыни Никитича в жилах не кровь течет, а студеная вода, да еще зимним ледком прихваченная. Пока ее заставишь закипеть, с тебя семь потов сойдет. Но теперь великоградец с большим трудом пригасил в себе жарко вспыхнувшее желание припечатать супругу царя Прова парой-тройкой соленых богатырских словечек. Добрыня еще раз обернулся на золотистое марево, клубящееся, будто в распахнутых воротах, меж двух деревьев, из-под крон которых они вышли на прогалину. Перевел взгляд на товарищей.
У Терёшки вид был такой, словно под ноги парню громовая стрела ударила, а вот Василий Казимирович уже совладал с первой оторопью. Похлопывал, утихомиривая, всхрапывающего Серка по крутой шее и сверлил алырскую государыню тяжелым взглядом – похоже, тоже догадался, куда их занесло.
Алырка же, увидев, как на нее глядят богатыри, осталась на диво невозмутимой – такой выдержкой было впору восхититься. Разве что ресницы дрогнули да скулы слегка порозовели.
– Так. Ты в какие же игры с нами играть вздумала, Мадина Милонеговна? – взял быка за рога Добрыня. – Попросила, значит, мужу помочь – и словечком не обмолвилась, что его из подземного царства вызволять нужно?
У Терёшки, услыхавшего это, аж глаза расширились. Подземное царство! Чего-чего, но такого мальчишка из Мохового леса не ждал точно.
– Мы б тогда хоть изготовились к походу толком! – поддержал воеводу Казимирович. Вырвалось у него это запальчиво и резко. – Не ведая броду, в воду не лезут, а в драку дурняком – тем паче… А ты нам, государыня, знатную свинью подложила – не объяснила ничего да затащила в Иномирье, ровно слепых щенят!
Мадина вздернула подбородок. Как перед боем. Защищаться она настроилась до конца и достоинства царского ронять перед русичами не собиралась.
– Прости за обман, Добрыня Никитич, – ни единой капли раскаяния в негромком, но твердом и звонком голосе не было. – Но и меня пойми. Сам признайся: ты бы согласился Прову помочь, расскажи я всю правду?
– Слов своих я назад не беру, – отрубил, как мечом, воевода. – И на попятный бы не пошел, тут ты, государыня, сама себя перехитрила. Ну а врать тем, у кого помощи ищешь, совсем негоже. Обвела нас вокруг пальца и хочешь теперь, чтоб мы тебе доверяли?
– Я о муже своем пекусь да об Алыре! – красивое тонкое лицо вспыхнуло. – Вернуть Прова поскорее на трон вам с князем Владимиром не меньше моего надобно. Не так разве, господин посол?
– О долге своем я хорошо помню, – кое-как сдержал закипающее внутри бешенство Добрыня, – но так нам, Мадина Милонеговна, не поладить. Поворачиваем назад. Не будет у нас с тобой разговора дельного, пока не выложишь все начистоту. Ясно тебе?..
Ответить не на шутку разгневанному богатырю Мадина не успела. Громко заржал Бурушко, за ним – Серко, а русичи, все трое, так и замерли, где стояли.
Золотисто-янтарная завеса, мерцавшая меж двух сплетенных раскидистыми сучковатыми вершинами стволов, пошла крупной рябью. Точь-в-точь гладь омута на вечерней зорьке, куда с размаха швырнули камень. Побледнела. Задрожала, разбиваясь на искрящиеся осколки, – и разом погасла. Только ветер пригнул к земле траву и раскачал ветки деревьев-великанов, из-под корней которых выбегала на поляну стежка, плотно натоптанная конскими копытами.
Добрыня опомнился первым, и, сжав губы, развернулся к алырке. А ведь ушлая баба знала с самого начала, что сейчас случится, хорошо знала! Потому все и затеяла.
– Поздно, Добрыня Никитич, – подтвердила его догадку Мадина. Взгляд воеводы она встретила не сморгнув. – Врата волшебные всего дважды в сутки открываются, заклятие на них такое.
Глядя в дерзкие глаза царицы, богатырь внезапно понял, что, примирившись с неизбежным, начинает мало-помалу остывать, и сам себе удивился. Казалось бы, должен был, наоборот, еще сильнее распалиться, а вот поди ж ты… Деваться-то некуда, они союзники, а дело, ради которого великий князь отправил посольство в Бряхимов, важней всего. О нем и думать надобно.
– Хитро рассчитала, государыня, – сдвинул воевода густые брови. – А я-то гадал, почему ты нас точно в полночь в запретный сад потащила… Значит, пока в Алыре полдень не настанет, обратно не пройти?
– Нам – да. Свободно ходить через врата один только Николай может, с теми, кого с собой прихватит, – алырка уловила, что голос Добрыни стал помягче, и поняла: гроза если не вовсе миновала, то отдалилась. – У него талисман особый есть. Видели на нем браслет? С лиловыми камнями?
Добрыня кивнул. Широкое обручье белого золота, украшенное самоцветами, он заметил у деверя Мадины еще в тронном зале, когда тот куражился пред великоградскими послами. Воевода тогда еще немало подивился: ишь ты, как царь Гопон броские побрякушки любит…
– Такую красоту трудно не приметить. Не витязю впору, а купчихе-щеголихе, – с усмешкой отозвался русич. – Одного в толк не возьму: каким ветром Николая в Иномирье закинуло? Скрывался, что ли, от кого, а брат ему схорониться помог? Или разбойничью шайку сколотил да атаманствует?
– Бери выше, Добрыня Никитич, – невесело усмехнулась в ответ алырка. – Он тут царем сидит.
Побратимы переглянулись, а Казимирович опять тихо присвистнул.
Царь Пров и царь Николай, значит. Высоконько же взлетели бесшабашные близнецы-богатыри из села Большие Вилы.
Зря Добрыня давал себе зарок ничему в Алыре больше не удивляться. Открытия дивные, которые одно за другим обрушивались на великоградцев после приезда в Бряхимов, заканчиваться ни в какую не желали.
– Все чудней и чудней. Объясняй-ка всё по порядку, государыня, – решительно потребовал Никитич. – Да без утайки, хватит уверток.
Мадина прикусила губу – Добрыня уже подметил эту ее привычку. Сорвала и размяла травяной колосок, досадливо отерла испачканные буро-красным соком пальцы о полу плаща, подергала серебряную застежку, скреплявшую его у горла. Рядом с могучими и плечистыми богатырями она сейчас выглядела совсем девчонкой.
– Всё за полгода до смерти отца началось, – царица не то вздрогнула, не то поежилась. – Пров коня в саду проминал, проехал меж двумя дубами – и оказался на этой вот поляне… Про рощу, на месте которой наш царский сад насадили, старики много всякого рассказывают. Дескать, еще до войны с Кощеем Поганым в ней люди пропадали. Меня, маленькую, нянька этими байками часто стращала, чтоб не бегала я в сад за яблоками без спроса. Над рассказчиками смеялись, а вышло, что никакие это не выдумки… Мой муженек-сорвиголова и начни сюда тайком наведываться.
– В одиночку? – только и смог переспросить Добрыня. – То ли дурень, то ли храбрец отчаянный он у тебя, Мадина Милонеговна… а может, и то и другое. А ты сама-то отчего батюшку не упредила, что в саду у вас вход в Иномирье? Это ведь не шутки, мало ли что отсюда вылезти могло.
– Отец хворал уже, – глухо отозвалась Мадина. – Сердцем сильно мучился, с постели не вставал… Лекари мне признались, что до Зимнего Солнцеворота не доживет, побоялась я его добить этаким-то подарком. А уж сколько умоляла Прова: не суйся в эти врата, не буди Лихо, пока спит тихо… Не послушался. Ну, и угодил в беду… в плен к одной ведьме. Она здешним царством крутила как хотела, народ вконец запугала, а тех, кто вызов ей бросал, в камень обращала.
– Так тут люди живут? Не нечисть? – вырвалось у Терёшки, жадно ловившего каждое Мадинино слово.
– Пров как-то помянул, что здесь всего четыре больших города, а сама держава – чуть поменьше Алыра. И да, жители здешние – люди. Говорят по-нашему, да и имена те же, что у нас в Славии, – припомнила Мадина и продолжила, опустив глаза: – Ну, словом, прознал Николай, что с братом беда. У них ведь с Провом сабли не простые, заговоренные. Если один из братьев тяжко ранен окажется или околдован, у другого на клинке тотчас ржавчина проступит. А если на Ту-Сторону уйдет – кровь… Вот и примчался Николай в Бряхимов… Его за Прова приняли, он спорить не стал, сперва не до того было, потом понял, что так проще… Нахальство, не зря говорят – второе счастье, никому во дворце и в разум не пришло, что это не государев зять. И мне тоже…
Скулы у алырки снова залились жарким румянцем.
– Значит, выдал себя Николай за Прова, – сжалился над рассказчицей Добрыня, – и выведал у тебя про Иномирье. Ведьму одолел, брата спас, а местные его на престол усадили.
– Подданные души в паршивце не чают, – криво улыбнулась Мадина. – Как же – храбрец-богатырь, освободитель! Царский род-то незадолго до того прервался, наследников не осталось… К слову, моего деверька тут тоже не Николаем, а Гопоном кличут, вы уж про то не забудьте. И что чужак он, местным неведомо. Единственный, кто обормота раскусил, – дворцовый чародей, Остромиром его звать. Николай у него вызнал, что путь в Белосветье закрылся сто с лишним лет назад, а про врата здесь лишь царской семье известно было. Да еще придворным волшебникам и самым ближним государевым боярам.
– Как же тогда Пров этим путем пройти сумел? – подозрительно сощурился Василий. – Темнишь ты опять чего-то, Мадина Милонеговна.
– Деду последнего здешнего царя предсказали, что придет, мол, срок – и врата сами со стороны Белосветья заново отворятся. Но не перед кем попало, а лишь перед витязем отважным с богатырской кровью, – в голосе царицы колко звякнули льдинки. – Там еще про канун испытаний великих чего-то говорилось, про бурю какую-то… в общем, хватало тумана да красивых словес, как ведуны любят. Остромир и решил, что богатырь из предсказания – Николай. Братцы даже от него скрыть умудрились, что их двое.
Что ж, о том, что было дальше, можно пока не расспрашивать, главное понятно: начали новоявленные цари развлекаться. Выдавать себя перед подданными друг за дружку да головы честному люду морочить.
Великоградец окинул цепким взглядом сине-лиловую чащу, темнеющую на другом краю луговины. Место для засады – лучше не придумаешь. Деревья теснятся друг к другу сплошным частоколом, густой подлесок – из высокого, в человеческий рост, кустарника, видно оттуда прогалину, ровно на ладони. Проще простого расставить между стволами дозорных с луками, чтобы брать на прицел всякого, кто вывалится из золотистого ниоткуда… но теперь понятно, почему нет охраны. Прову Николай верит как себе, пусть нынче братья и рассорились, а о том, что врата ожили, в этом мире никто, получается, не знает, кроме придворного чародея. Так ли уж он силен в волшбе – вилами по воде писано, и с ведьмой вон не справился, и братья его на кривых объехали. Но, по всему судя, чародей этот – человек неболтливый да своему царю-богатырю преданный.
– Выходит, и нам лучше помалкивать, что мы из Белосветья явились, – воевода потер лоб, уже успевший взмокнуть под околышем шапки. – Хоть об этом ты нас упредила, государыня… и то хлеб.
– Пров меня сюда никогда не брал, говорила ведь я, – отбила выпад Мадина. – Какие здесь порядки да обычаи, мне эти два ветрогона тоже не шибко рассказывали, а что дело нас ждет опасное, разве я утаила? Прова нелегко освободить, может и до боя дойти. Ну а что до прочих опасностей… Муженек мой с Николаем без малого семь лет друг к дружке шастают, как через дыру в плетне – и до сих пор целехоньки!
«Злится, – Бурушко согнал ударом хвоста у себя с крупа сразу двух жирных багрянокрылых слепней и дернул ушами, косясь на алырку. – Копытом бьет. Но плохого тебе не хочет».
– Мы тоже не робкого десятка, твое величество, – колючек в Мадининых словах воевода решил не замечать. Настроение людей опытные дивокони читают превосходно, так что царица не лукавила. – Где твоего мужа братец его любимый держит, тебе ведомо? У себя в стольном городе, в детинце?
– Он же сказал: «Пров у меня сидит», – напомнила алырка. – От врат до Кремнева – столицы здешней – вроде бы рукой подать, но дороги я не знаю. Только и слышала от них обоих, что как пройдешь сквозь завесу, в заповедном лесу окажешься. А лес тот – царское владение, для всех прочих доступ в него строго-настрого запрещен.
– Они что, караулы вкруг леса выставили? – усмехнулся Василий, но в голосе побратима слышалась тревога.
– Не знаю, – честно ответила царица.
– Добро. Тогда мешкать не будем. Если столица недалече, то к ней тракт наезженный должен вести. Выберемся из чащи, там и разберемся, куда дальше, – решил Никитич. – А как само-то это подземное царство называется? Чтобы нам впросак не попасть?
– Синекряжье, – негромко отозвалась Мадина, снова вскидывая голову и всматриваясь в очертания далеких лазоревых холмов, горбящихся над неоглядным лесным морем.
* * *
Когда выдаются у воинов передышки меж ратными трудами да походами, заполняет их всяк по-своему. Кто-то охотой тешится, кто-то – веселыми пирами. Добрыня нелюдимом никогда не был и не чурался ни того, ни другого. Но товарищи по дружине знали, что больше всего Никитичу по сердцу проводить досуг или на борбище, где он оттачивает рукопашные ухватки, или за книгой. Читать богатырь любил запойно: и о диковинах чужедальних земель, и о свычаях и обычаях народов, там живущих, и, само собой, о битвах, что гремели в Белосветье в стародавние времена. А однажды ему в руки попала растрепанная толстая книжища, написанная каким-то чародеем еще при князе Радогоре. Рассказывалось там про чудеса Иномирья.
Проглотил ее воевода влет, за ночь, засидевшись над пухлым томом аж до предрассветных петухов. Тогда-то и появилась у Добрыни тайная мечта, в которой он даже лучшим друзьям не признавался: эх, вот бы самому заглянуть за грань, отделяющую родной мир от других миров Карколиста! Шагнуть на их тропы, прикоснуться к их тайнам, увидеть небеса, где сияют разноцветной алмазной обнизью нездешние звезды…
Лет с тех пор пролетело уже изрядно. Никитич немало постранствовал и по Славии, и по дорогам Рубежных государств, диковинного повидал – на десятерых бы хватило, но в Иномирье его не забрасывало ни разу. И всё же, несмотря на то что с годами эту мечту заслонили совсем иные думы, беспокойства да заботы, где-то в дальнем уголке богатырского сердца упрямо теплился ее огонек.
Однако ведуны и прорицатели недаром остерегают: поосторожней с тем заветным, о чем втайне мечтается. Оно ведь ненароком да совсем не ко времени может и сбыться!
Всю правоту этих слов Добрыня Никитич понял до конца, лишь когда они потеряли проложенную Николаем и Провом через лес тропу. А ведь сперва казалось, что с узкой, но наезженной дорожки не сбиться даже с завязанными глазами. Однако чем дальше набитая в пышном синем мху подковами богатырских коней стежка уводила отряд, тем больше она выписывала петель. То почти пропадала в зарослях, то перекрещивалась с выбегающими из кустарника звериными тропами, то ныряла в топкие низинки, то снова карабкалась в гору.
Далеко ли до опушки, Мадина не знала, но на всем пути русичам ни разу не попалось на глаза примет того, что в эту глухомань наведывается кто-то, кроме близнецов. Ни следов старых порубок, ни проплешин охотничьих кострищ под деревьями, ни затесей на стволах, какие оставляет топор бортника [10] или смолокура [11].
Дважды приходилось поворачивать и искать дорогу в чаще заново. А перебравшись через темноводный ручей, берега которого густо поросли голубой осокой, все четверо скоро поняли, что где-то на развилке, за бродом, с тропы сошли. Ровно кто взял и смотал стежку в клубок, из-под самых ног ее выдернув.
Воеводу ничуть не удивило бы, окажись, что так оно и есть. Доверенный придворный волшебник Николая и правда мог зачаровать путь к поляне с вратами. Нарочно для того, чтобы дорога выкидывала подобные шутки с незваными гостями, которым в эту заповедную глушь соваться не положено.
– А говорят, в таких местах сама Тьма правит, – вдруг подал голос непривычно молчаливый Терёшка, – и Чернобоговы твари кишмя кишат…
Отчаянный мальчишка уже доказал великоградцам, что храбрости ему не занимать, но воевода понимал, почему у парня душа не на месте. Байки о подземных царствах ходят на Руси одна другой страшней. Баснословнее разве лишь слухи о Проклятых Землях, огражденных от всего остального Белосветья Калеными горами и огненными реками.
– В корневых мирах Карколиста так и есть, парень, но от нас они далеко. Ты с подземными царствами их не путай, – объяснил сыну Охотника Добрыня, припомнив читанное когда-то. – В Иномирье немало мест, куда из Белосветья волшебными тропами попасть можно. Есть и такие вот, как это, вроде пещер каменных огромных. Оттого их подземными царствами и прозвали. В одних люди живут, в других – диволюды, но худов и бедаков в них не чаще встретишь, чем у нас. Хотя чудес всяких хватает.
– А я еще слыхал, будто все подземные царства отчего-то мелкие, – вставил Казимирович. – Иные даже, если не врут, гонец в сапогах-скороходах за час вокруг обежит.
– Коли с пути не собьется, – буркнул Добрыня. – Ладно, едем напрямик. Где-нибудь в опушку да упремся.
Выход был не из лучших. Близнецы, нечего и сомневаться, проторили самый короткий и надежный путь до Кремнева, а они, кружа наугад по лесу, невесть сколько времени потеряют. Да вот выбирать уже не приходилось. Оставалось запоминать подвернувшиеся по дороге приметы, чтобы хоть как-то держать направление, – и положиться на удачу.
Охотниками побратимы считали себя опытными. Тропить запутанный звериный след и ночевать у костра на подстилке из елового лапника обоим приходилось не раз и не два. Терёшка – тот и вовсе вырос в глухом лесном селе, а тесную дружбу с чащобными духами водил с малолетства. Будь этот лес обычным лесом да знай русичи хоть примерно, в какой стороне ближний край опушки, дорогу они сыскали бы без труда. По мху на стволах, по муравьиным кучам, южные скаты у которых пологие, по пятнам на березовой коре, ведь их с северной стороны ствола больше, по гущине веток на деревьях, а главное – по солнцу. Оно, если день стоит ясный, для заплутавшего в чащобе человека самый надежный проводник.
Но здесь, в странном и чужом мире, где светило висело в каменном небе недвижно, точно гвоздями приколоченное, сторон света не было. Ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, обитатели Синекряжья наверняка и слов-то таких не знали. Как и слов «закат» и «восход». Да и здешний лес не походил ни на что хотя бы мало-мальски Добрыне знакомое.
Залитые солнцем поляны и прогалины просто ошарашивали диким буйством красок – оно без жалости било по глазам, непривычным к такому кричащему пестроцветью. Отдыхал взгляд лишь там, где лес густел, смыкаясь над головой ветвями, и где лучи, пробивавшиеся золотыми копьями сквозь чащобный полог, синеватого сумрака почти не рассеивали. Воеводе в какой уже раз вспомнилась Черная пуща, по которой его отряд вот так же недавно плутал. Только здесь к небу тянулись не обомшелые вековые ели, а неведомые русичам деревья высотой с добрую колокольню и толщиной в четыре-пять обхватов. Бугристая кора одних отливала на солнце темной малахитовой зеленью, других – кованым серебром.
Опирались лесные исполины на узловатые корни, по могучим стволам, покрытым наплывами кроваво-алого и бурого лишайника, карабкались цепкие плети чего-то похожего на дикий виноград с кружевными иссиня-черными листьями. А листва самих этих деревьев была бирюзовой и пурпурно-лиловой.
– Небылица, а не лес, – пробормотал Василий, когда, объехав очередной овражек-водомоину, заросший елочками белесо-розового хвоща, они остановились поправить вьюки. – Никитич, ты глянь: это мухоморы, что ли? Я такие только во сне один раз с похмелья видел, после жбана медовухи.
Грибов с изумрудными шляпками, усеянными белым крапом, которые Казимирович недолго думая обозвал мухоморами, во мху пестрели целые хороводы. С древесных стволов и пней свисали гроздья крупных багровых трутовиков, в ложбинах темнели заросли перистого папоротника – высокого, по стремена, раскидистого и, разумеется, разноцветного. Колючий спутанный подлесок сетями оплетала паутина, а кое-где меж корней и кочек жирно поблескивали лужицы стоячей воды.
– Может, мне на дерево залезть? – раздался сзади голос Терёшки. – Авось опушку увижу.
– Не вздумай! – прикрикнул воевода. – Глянь, сучья покрепче вон аж где начинаются. Сорвешься – костей не соберешь.
Резко заклекотав и шумно захлопав крыльями, тяжело взлетела из папоротников почти перед самой мордой Бурушки птица, похожая на тетерева, с круто выгнутым хвостом и грудью в светлых пестринах. В листве стайками перепархивали, пересвистывались и переругивались мелкие пичуги. Сновали по стволам и в гуще веток какие-то шустрые любопытные зверушки вроде белок – людей они не очень-то боялись, но и разглядеть себя до поры не давали. Пока одна не спрыгнула на сучок пониже – и не уронила, зазевавшись, в мох прямо к ногам Терёшки пупырчатый зеленый орех. Отряд аж остановился, уставившись в четыре пары человечьих глаз на иномирное диво.
Ушки с кисточками, потешная лобастенькая мордашка, выгнутая горбиком спина, задорно задранный хвост-щетка – будто бы и впрямь белка. Только вот не шерстка покрывала тельце невиданного зверька, а колючие иголки. Сплошь. Солнце падало сквозь прорехи в листве отвесно, целым пучком лучей, и было хорошо видно, что на спине, лапках и пузе иглы дымчато-голубые, коротенькие, а на хвосте и кончиках настороженных ушей – темно-синие, тонкие да длинные, с Добрынин палец.
Терёшка подобрал орех с земли, протянул на ладони зверушке и не удержался, негромко и ласково засвистел, ее подманивая. Та испуганно цокнула, пискнула, встопорщила дыбом иголки на загривке и мигом взлетела по стволу. А потом долго с возмущением что-то лопотала-тараторила вслед отряду, поблескивая с ветки глазами-пуговками.
– Сердитый какой белкоёж, – засмеялся Терёшка. – Ну, успокойся, будет тебе браниться! Не съел я твой орешек, вон, на пень положил!
– Как ты сказал? – фыркнул Василий. – «Белкоёж»? А ведь в точку!
– Так он и есть. В колючках весь, да еще в синих… Ох, Миленку бы сюда, – озорная улыбка на лице сына Охотника при воспоминании об оставленной в Бряхимове подружке враз потеплела. – То-то бы на это чудо подивилась!
Хватало в здешних дебрях и непуганого зверья куда как крупнее. Дважды на пути попались ямки свежих, но уже наполнившихся водой следов – по виду не то турьих, не то зубриных. Один раз – заплывшая смолой метка на стволе от чьей-то внушительной когтистой лапы, содравшей с дерева широкие полосы коры. А когда спускались с конями в поводу с неведомо какого по счету косогора, в кустах мелькнули ветвистые рога, широкие как лопаты, и пятнистый черно-белый бок.
Запахи в этом причудливом лесу тоже были диковинными. Под пологом чащи висела давящая влажная духота, но в нос било вовсе не древесной гнилью и не острой грибной прелью. Воздух хотелось смаковать, словно старое хмельное вино.
– До чего дивно-то пахнет, – не выдержала первой изумленная Мадина. – Только чем, не пойму.
Разобрать, что за незнакомый, нежно-сладкий и чуть терпковато-пряный аромат исходит от земли, мха и лесной подстилки, у Добрыни тоже не получалось. На губах и в горле ощущался тонкий привкус сразу и меда, и каких-то неведомых не то цветов, не то душистых смол, и чего-то напоминающего драгоценное розовое масло, которое в Великоград привозят торговцы из южных краев… Дышишь всей грудью – и не надышишься.
– Дух, ровно в богатой лавке с благовониями заморскими, – соглашаясь с царицей, хмыкнул Василий.
Но чудеса чудесами, а путь через лес легче не делался. Всё чаще попадались овраги и болотца, которые приходилось огибать, к разгоряченным потным лицам тучами липла надсадно зудящая мошкара. Кони богатырей едва успевали охлестывать себя хвостами по искусанным крупам.
– Это не комары, это упыри какие-то, – шипел Казимирович, размазывая ладонью у себя по лбу насосавшихся кровопийц.
Плащи Добрыня и его спутники давно сняли и сложили в седельные сумки. Терёшка не утерпел – послал к худам комарье, пробормотав: «Нате, ешьте!», и расстегнул домотканый полукафтан. Тяжелее всех приходилось Мадине, но держалась она на удивление стойко. На жару, духоту и гнус не жаловалась, а когда Добрыня спрашивал, не подсадить ли ее в седло, заверяла: «Невмоготу станет – скажу».
– Здесь, видать, сейчас лето – вон как солнце печет, – предположил Терёшка. Парнишка шел рядом с Василием у левого стремени Серка, впереди вела Гнедка под уздцы Мадина, а возглавлял отряд Добрыня. – А у нас дома через четыре дня Осенний Солнцеворот праздновать будут…
– Николай рассказывал, ни осени, ни зимы со снегом и морозами тут не бывает, – отозвалась алырка. – Облетят деревья, зарядят на пару месяцев дожди без перерыва – вот и вся зима.
– Живут же люди, – присвистнул Василий. Не понять – одобрительно или совсем наоборот. – А откуда дожди берутся, если небо каменное?
– Это как в бане, – бросил Добрыня через плечо. – Чем жарче пару поддашь, тем сильнее с потолка закапает.
– Эх, в баню я бы сейчас сходить не отказался. А потом – на боковую, – мечтательно протянул Казимирович. – Худ его знает, что со мной творится такое. И прошли-то всего ничего, а на мне как будто неделю без передыху дрова возили да кнутом погоняли.
Побратим, как всегда, балагурил, но воевода шутки не поддержал – нахмурился. С ним творилось ровно то же самое, и Добрыню эти странности начинали беспокоить.
Хоть дорога через чащу и оказалась трудной, им с Василием к походным трудностям было не привыкать. Оттого Добрыня и не мог взять в толк, почему на него с каждой верстой всё ощутимее наваливается усталость. Откуда она вдруг взялась? Мышцы как-то разом вязко налились свинцом, стальная кольчуга начала давить на плечи, а богатырь ее вес и за тяжесть-то никогда не считал. Тело под броней, кожаным подкольчужником и льняной сорочкой противно взмокло, по лбу ползли капли пота. Чувствовал воевода себя так, точно из боя вышел, намахавшись мечом до красных кругов в глазах.
Хворь какая неведомая на зуб чужаков пробует? Может, укусы местного комарья ядовитые? Навряд ли, Мадина бы несомненно об этом знала. Да и пили по дороге лишь из своих баклажек, наполненных колодезной водой еще в Бряхимове. К тому же не ощущал себя Добрыня занедужившим. Вымотавшимся крепко невесть с чего – и только. Ни озноб воеводу не тряс, ни кости не ломило, как бывает при лихоманке. Или это так им обоим до сих пор аукается переход через врата меж мирами?
«Я тоже устал, – передернув ушами, отозвался Бурушко. – Будто давно не пил и долго скакал».
– Тоже? – теперь воевода забеспокоился уже всерьез. Для идущего шагом и налегке дивоконя путь сквозь чащобу был и вовсе сущим пустяком, а на дорогу богатыри лошадей напоили. – Сильно устал, дружок?
«Не очень. Ты – больше, – конь с тревогой скосил на хозяина темный, навыкате, глаз. – Но это плохо. Непонятно».
Воевода был полностью согласен. Вот только такой пакости им в придачу и не хватало.
– Терёшка, ты как? – окликнул Добрыня. – Передохнуть, часом, не хочешь?
– Да нет покуда, – прихлопнув у себя на шее комара, удивленно заверил сын Охотника. – Я по лесу ходить привычный.
Нет, он не врал и не хорохорился. Ничего в голосе легконогого парнишки не выдавало, что тот устал сверх меры. А ведь и у Терёшки, отлично помнил воевода, лицо перекосилось от неожиданного приступа головокружения и дурноты, когда они шагнули в золотой туман.
Никитич нахмурился, протягивая руку, чтобы потрепать Бурушку по блестящей от пота холке. Худ побери, а не в том ли дело, что Синекряжье – мир, насквозь чужой и для богатырей из Белосветья, и для дивоконей? Не зря в песнях поется, что силу богатырям сама Мать – сыра земля дает. Помогает в трудный час своим детям и оберегает своих защитников. А сейчас они с Василием от родного дома далеко, и пуповина эта оборвалась, вот силы у обоих сразу и убыло, и у богатырских коней тоже… Значит, тут и в серьезном бою, где роздыха не дают и не просят, им с Казимировичем наверняка придется несладко… и раны дольше затягиваться будут, коли на шальную стрелу или на вражеский клинок нарвешься.
Препогано выходит, если он угадал. Придется себя беречь, осмотрительнее быть и под удар зря не подставляться. Помирать им с побратимом не просто рановато – никак нельзя. А еще надо бы потом спросить у Мадины, не сетовали ли на усталость муж с деверем. Подозревал Добрыня, что про Синекряжье алырка знает больше, чем рассказала. Не из того теста слеплены Пров да Николай, чтобы перед такой красоткой ну совсем уж не хвастаться местными диковинами и подарков ей отсюда не таскать.
Но коли влез в драку, шишки считать поздно. Остановить войну с Баканским царством можно, лишь вытащив Прова из Иномирья. И управиться надо поскорее, покуда Николай в Бряхимове не сообразил, куда подевались его невестка и посол князя Владимира.
Упорно не давало Добрыне покоя и еще одно. Окружала отряд дикая глушь, а между тем по пути совсем не встречалось ни упавших деревьев, подточенных старостью, гнилью и короедами, ни завалов бурелома. Правда, пни, торчавшие на месте сломанных когда-то ветром стволов, то и дело попадались. Густо поросшие грибами и синим войлоком мха, странные какие-то, оплывшие, будто свечные огарки.
Не выворотни и не поваленные стволы. Именно пни.
В Черной пуще было так же. А вдруг, неровен час, у этого заповедного леса тоже есть свой хранитель, такой же грозный, как пущевик, с которым русичи едва-едва разошлись миром?
Добрыня с чувством пожелал себе мысленно типуна на язык. Свести близкое знакомство еще и со здешними чащобными страхами, накликав ненароком с ними встречу, воеводе точно не хотелось.
– Никитич, а вдруг это духи лесные с нами, чужаками, шуточки шутят? – опять вступил в разговор Василий. Побратим, не иначе, тоже Черную пущу вспомнил. – И с пути сбили, и усталость вон напустили… Может, леший местный чудит?
Терёшка остановился. Повел плечами, поправляя за спиной ремни котомки. Рыжие брови над темно-голубыми, с раскосинкой глазами нахмурились.
– Да не похоже. Пуганые они какие-то, лесожители здешние, – серьезно сказал парень. – Не надивлюсь, почему так. Лес-то ими и правда кишит – и кущаниками, и ягодниками, и моховиками… Не такие они, как у нас, конечно, но сутью схожи да норовом. Чую я их, а на глаза бедолаги не показываются, прячутся. То ли нас боятся, то ли кого-то еще.
* * *
Наконец, ведя цепочкой под уздцы лошадей, отряд выбрался из зарослей, и деревья впереди малость поредели. Между кронами снова появились просветы. Ковер мха сменился стелющимся по земле серебристым кустарничком, похожим на вереск, и купами лиловатой травы. Кое-где начали попадаться россыпи гранитных валунов и торчащие между ними, как столбы, невысокие скалы-останцы.
– Никитич, ты посмотри! – выдохнул Василий, задрав голову.
Пробираясь под пестрым пологом леса, они и не заметили, как сиявший в каменном небе шар изменил цвет. Из рыжего стал тускло-желтым и на глазах продолжал бледнеть. Потускнела и матовая дымка, затягивавшая небесный купол, – над чащей сгущался вечер.
– Оно что, и солнце, и луна сразу? – охнул Терёшка, не сводя глаз с висящего у них над головами светила.
Всю дорогу от прогалины с вратами парень выглядел так, будто в ожившую сказку угодил и немалую цену дал бы, лишь бы она подольше не кончалась. Вот и сейчас ошеломление и восторг на веснушчатом лице сияли так неприкрыто, что Добрыня с трудом спрятал улыбку в бороде.
Воевода, будь его воля, и сам бы, как мальчишка, радовался каждому новому чуду, встречающемуся по дороге. Чистосердечно и без оглядки. Терёшка жалел, что они с собой Миленку не взяли, а великоградец то и дело ловил себя на мысли: вот бы тут, в этом сказочном разноцветном лесу, хоть на минутку вместе с ними оказалась Настя… Ахнула бы ведь, глазищи любимые синие так бы и загорелись, и тоже прошептала бы, сжав его руку в своей: «Ровно сплю, Добрынюшка, и мне всё это снится…» Почему он такой невезучий, а? Сбылось то, что раз в жизни случается, да и то с одним человеком на тысячу, попал нежданно-негаданно в подземное царство, но времени нет, чтоб на здешние диковины всласть надивиться. Добраться бы до Кремнева, прочее – побоку.
А чудеса вокруг продолжались. Шар солнца-луны сделался совсем уж бледно-пепельным. Посвежело, заблестела в траве и на листьях роса, из чащи потянуло сырым холодком. Завозился беспокойно ветер в вершинах, плотнее сгустились тени под деревьями. Смолкли дневные птицы, в чащобе пробудились ночные. Изменились запахи, которыми дышали заросли, – стали еще слаще, крепче и гуще. Лес накрыли зыбкие серебряно-жемчужные сумерки, но темнота прийти им на смену почему-то всё не спешила.
– На белую ночь похоже, какие летом в Поморских землях стоят, – подивился Казимирович. – Настоящей-то ночи тут не бывает, что ли?
– Хорошо бы, – Добрыня отвел с дороги шипастую ветку, норовящую хлестнуть по лицу. – Привал до утра разбивать – оно нам никак не с руки.
Непривычная усталость, навалившаяся на воеводу, не проходила, словно богатырь осушил ненароком пару полных ковшей чар-воды, которая силы отнимает. Василий перестал подбадривать спутников шуточками, Терёшка тоже всё чаще утирал рукавом лицо, Мадина начала через два шага на третий спотыкаться на корнях и кочках. И вот тут впереди, в зарослях, блеснул очередной ручей. Вытекал он из узкой балочки, над которой копился белесый туман. Берега, усеянные скальными обломками, поросли буйнотравьем и кое-где высокими кустами с темно-синими листьями. Сам ручей оказался говорливым и быстрым, прозрачная вода звонко шумела на галечных перекатах.
– Про водицу местную ты, государыня, ничего плохого не слыхала? – повернулся к Мадине воевода. – Пить ее без опаски можно?
– Пров говорил, вода здесь хорошая, – устало кивнула та.
– Добро. Напоим коней и баклаги в дорогу наполним, – решил великоградец.
Лошади, которых они с Василием осторожно свели к ручью по склону, припали к воде охотно и жадно. Добрыня тоже наклонился – и, набрав полные пригоршни, с наслаждением ополоснул лицо. На вкус вода, свежая, прохладная и чистая, чуть заметно отдавала сладостью.
Терёшка с Мадиной, прихватив оплетенные берестой дорожные баклажки, прошли чуть вверх по берегу. Заросли там подступали к самому ручью, нависая над перекатом.
– Смотрите!
На громкий вскрик алырки, в котором звучало совершенно девчоночье изумление, побратимы обернулись разом, уже готовые схватиться за оружие. И оба так и застыли на месте.
Зрелище того стоило. Околдовывающее – иначе не назовешь.
Они раскрывались на кустах в темной гуще листьев, один за другим – крупные цветки со светящимися лепестками. Каждый окруженный перламутрово-радужным сиянием венчик, похожий на резную чашу водяной лилии, был величиной почти с ладонь. Упругие плотные лепестки расправлялись медленно, как бы нехотя, а когда туго скрученный удлиненный бутон, точно с усилием выдохнув, распахивался, из него вылетало легкое облачко серебряной пыльцы – тоже слабо светящейся.
Цветков-огоньков на кустах зажигалось всё больше, а над берегом ручья поплыл сильный, почти осязаемый дурманящий аромат. Не то ландышем-молодильником отзывающийся, не то чубушником, приправленный еще чем-то травянистым, чуть вяжущим. От этого запаха замирало и щемило в груди, сладко кружилась голова.
– Ну и ну… – восхищенно цокнул языком Василий.
Богатыри не выдержали – подошли, чтобы разглядеть диковинные цветы поближе. Алырская царица стояла рядом с кустом, который окутывало дрожащее радужное мерцание, и лицо у нее было счастливо-завороженным. Точь-в-точь как у деревенской девчушки, прилипшей к ярмарочному лотку с расписными свистульками и тряпичными куклами-лелешками.
– И мой муженек про такую красоту молчал… – пробормотала Мадина.
Царица подалась к кусту, чтобы притянуть к себе ветку и понюхать светящийся цветок, и воевода ее остановить не успел. Не успел этого сделать и Василий. Терёшка, стоявший к алырке ближе, опередил их – первым перехватил и резко оттолкнул в сторону Мадинину руку, занесенную над цветком. Парнем двигало чутье… оно не подвело.
Тонкая и острая зазубренная игла, покрытая липким соком, выметнулась из середины венчика молниеносно. Терёшка ойкнул. Тут же, следом, со свистом вылетел из ножен меч Добрыни – сверкнул булат, и отсеченная ветка, на которой огоньком пылал хищный цветок, упала в траву. По лепесткам пробежала дрожь, точно они были живыми и страх как не хотели умирать. Их сияние померкло, сделалось из нежно-перламутрового тусклым, а потом и вовсе угасло.
– Ты как, парень? – Добрыне было не до царицы, отшатнувшейся от куста, как от клацнувшего ядовитыми клыками упыря. – Ужалило?
– Да ничего… будто шершень тяпнул, – мальчишка, морщась от боли, вытащил из ранки шип и вымученно улыбнулся.
На коже чуть выше правого запястья выступило всего несколько капель крови, но вокруг уже вздувалась опухоль.
– Ну-ка сядь, – увиденное Добрыне очень не понравилось, однако говорил воевода спокойно и уверенно. – Василий, живо поищи в седельных сумках тряпицу какую-нибудь.
– У меня есть, – Мадина протянула богатырю, склонившемуся над Терёшкой, вышитый платок.
Руки у нее тряслись.
Добрыня в виноватые женские глаза даже не взглянул и с треском разорвал платок пополам. Сноровисто перетянул парнишке руку, наложив выше ранки тугую давящую повязку. Второй кусок ткани намочил в ручье и прижал к распухающему запястью, всей душой надеясь, что холод снимет отек. И что одним отеком дело и кончится.
– Я же не знала… Я не нарочно… – губы у Мадины тоже дрожали. – Больно, парень?
– Пустое… Совсем… малость, – сидевший на траве Терёшка поднял голову. Он отчего-то щурился, часто моргал, глядя словно сквозь алырку, и это воеводе не понравилось еще больше. – А почему… темно так… разом стало?..
Добрыня осторожно развернул лицо парня ладонями к себе. Зрачки у того резко сузились – увидев это, великоградец испугался уже не на шутку. На лбу и висках Терёшки проступила испарина, губы заметно посинели. Говорил он с трудом, отрывисто и задышливо.
– Вася, пособи-ка. Вот так, пусть он спиной на тебя обопрется, – велел воевода, торопливо расстегивая на мальчишке ворот рубахи. – Дать попить, парень?
– Нет. Мутит… что-то, – выдохнул сын Охотника и вдруг сухо, рвано закашлялся. А когда прошел приступ, прошептал, жадно глотая воздух ртом: – Дышать… тяжко… В груди давит…
* * *
Яд действовал стремительно. К тяжелой одышке, мучительному кашлю и тошноте прибавились судороги, волнами пробегавшие по телу. Дышал бледный, как снятое молоко, Терёшка надсадно, со свистом и клекотом, в углах синих губ пузырилась пена, раненое запястье распухло. Сперва парень еще был в полусознании и даже, когда чуть отпускало, пытался храбриться, шепча, что вот сейчас встанет. Потом начался бред. Сын Охотника бормотал что-то бессвязное еле шевелящимися губами, хрипел, тянулся здоровой рукой к ножу на поясе.
Помочь богатыри ему не могли ничем. Ну, поддержать под плечи, чтобы хоть как-то облегчить дыхание, когда скручивал кашель. Ну, лицо обмыть… Из Великограда Добрыня захватил с собой в дорогу снадобья, что помогают от укусов ядовитой нечисти, но подчистую извел их на Яромира, когда тому досталось в Моховом лесу от зубов болотников. Да и неведомо еще, насколько полегчало бы от этих зелий Терёшке – яд-то иномирный.
Во дворце у Гопона Первого, то бишь Прова, может статься, разобрались бы, как поднять парня, но путь в Бряхимов был сейчас для отряда закрыт. А Терёшка мог даже здешнего утра не дождаться. Бедолага, впавший в забытье, и глаз-то уже не открывал. Тут нужен был местный лекарь, знающий толк в отравах и противоядиях… или чародей.
Добрыня не раз видел, что такое вздутые, почерневшие раны от отравленных стрел змеевичей. Багровые от жара скулы и искусанные губы Баламута у воеводы тоже до сих пор стояли перед глазами. Но о таких ядах, как тот, что свалил Терёшку, побратимы не слыхали никогда.
– Чем мне вам пособить? – уже раз в пятый негромко спросила Мадина, наклоняясь над неподвижным Терёшкой, чья голова лежала у Василия на коленях.
– Да чем ты тут поможешь, государыня… – отмахнулся от нее Казимирович, обтирая парню лоб и подбородок мокрой тряпкой.
Добрыня вновь вгляделся в синюшно-бледное, пугающе заострившееся мальчишечье лицо. Разогнулся, бросил взгляд на мерцавший над верхушками деревьев шар луны-солнца и поблагодарил про себя Белобога за то, что ночи в этих краях такие светлые.
– Сами мы ему не пособим. Надо из леса выбираться и у местных помощи искать. А ты, Мадина Милонеговна, не тяни руки больше без спросу никуда, – прозвучало это у воеводы жестко, как приказ. Вроде бы не к месту прозвучало, но непутевую дуреху стоило вразумить сразу, и желательно накрепко. – Своими очами теперь видишь: по Иномирью шляться – не в садочке прогуливаться… Не прибавляй нам хлопот.
Мадина в ответ только поджала губы, и воеводу это устроило: не спорит – и то ладно.
Терёшка даже не шелохнулся, лишь сдавленно застонал, когда Добрыня поднял его на руки и бережно устроил в седле Серка впереди Казимировича. Так устраивают в седлах раненых, если нельзя или не из чего сладить в походе конные носилки. В себя парень не приходил, дышал по-прежнему часто и неровно, с тяжелыми хрипами, и сердце билось слабо… Но главное – билось.
Двигаться решили берегом ручья, вниз по течению. Лес дальше вроде бы выглядел чуть посветлее, и побратимы приободрились: может, опушка уже близко? Там больше надежды кого-нибудь встретить. Да и вода текучая рано или поздно к людям выведет.
Ехали молча и сосредоточенно, на разговоры не отвлекаясь. По сторонам глядели в оба еще зорче, стараясь подальше объезжать заросли, в ветвях которых призрачно мерцали коварные цветки-огоньки.
Ручей стал шире, а за излучиной навстречу попалась звериная тропа, сбегающая к водопою по усыпанному пестрыми валунами береговому откосу. Развилку, где с ней пересекалась еще одна выбитая в подлеске стежка, первым углядел в папоротнике остроглазый Василий.
– Тропка-то эта, левая, кажись, плотнее утоптана, – окликнул он побратима. – Проверь-ка, Никитич.
Соскочив с седла и осмотрев развилку, Добрыня с первого взгляда увидал, что Казимирович не ошибся. Стежку, по всему, протоптали не олени с кабанами. Вскоре из чащи, куда она убегала, потянуло запахом печного дыма, перебившим сырые и сладкие запахи леса. Первыми дым почуяли заржавшие и забеспокоившиеся кони. Потом – люди. А большую круглую поляну, на которую выехал по тропинке отряд, трава покрывала, еще не виданная Добрыней и его спутниками. Черноватая, низенькая, редкая, с проплешинами и словно изрядно вытоптанная.
Дым поднимался над кровлей избы, стоявшей посреди поляны. Высокий подклет, резное крылечко, приветливо светившиеся оконца, переплеты которых затягивали вставки из слюды, – такую легко представить во дворе боярской усадьбы, но никак не в дикой лесной глухомани. Над крыльцом возвышалась островерхая шатровая крыша. Оконные наличники, ставни и причелины [12] тесаной кровли пестро раскрашены, охлупень [13] увенчан причудливым коньком-башенкой. Деревянные полотенца кровельных подзоров [14] тоже богато украшала резьба – тонкая, кружевная, узорчатая. Только вот всю эту красоту неведомые хозяева давненько не подновляли. То, как обветшала снаружи избушка, кидалось в глаза уже издали. Крыльцо и высокая труба у конька покосились, ставни покривились, краска и на них, и на крыше потускнела и местами облезла. По нижним венцам густо пополз лишайник, испятнав разводами потемневшие бревна. Деревянные чешуйки-лемехи, устилавшие крышу, кое-где почернели, тронутые гнилью.
– Уж не лесовик ли тут живет? – без тени обычной усмешки предположил Василий.
– Или колдун какой, – подалась вперед в седле Мадина, с подозрением разглядывая лесные хоромы.
Удивляло, что рядом с избой не виднелось никаких построек. Ни коровника, ни конюшни, ни амбара, ни сенного сарая. Даже собака, когда они выехали на поляну, из-под крыльца не забрехала.
Серко нерешительно переступил с ноги на ногу и опять коротко и тревожно заржал. Бурушко чутко повел ушами и прижал их к голове. Воевода огладил напряженную потную шею коня и ощутил, как по ней пробежала дрожь.
«Мне тут не нравится, – великоградец едва ли не кожей чувствовал, как не доверяет Бурушко этому месту. Как хочется коню объехать, будь его воля, поляну с избой десятой дорогой. – Тут совсем странно. Душно. Плохо».
– Опасность чуешь? – быстро уточнил Добрыня. – В избе? Или поблизости?
«Не знаю. Не пойму, – конь мотнул гривой и зазвенел уздечкой. – Само место плохое. Давит».
Снова с хрипом застонал Терёшка, которого поддерживал в седле, прижимая к себе, Казимирович. И воевода разом отбросил сомнения. Багника бояться – на болото не ходить. Несмотря на беспокойство дивоконей, избушка не выглядела зловещей, а парень того и гляди умрет у них с Василием прямо на руках. Вон, весь уже снеговой, смотреть страшно.
– Ничего. Нас тоже просто так с кашей не съешь, – Добрыня послал коленом Бурушку вперед и коротко бросил побратиму: – Будь наготове, Вася.
Конь седоку подчинился, пусть и нехотя. Захрустела под стальными подковами чахлая черная травка, неожиданно оказавшаяся ломкой, как тонкое стекло. Бурушко, дернув ноздрями, с отвращением захрапел, а у Добрыни вдруг промелькнуло в голове: что-то про такие поляны с такой травой, будто обугленной и в стекло спекшейся, он когда-то от кого-то слышал. Или читал где-то… в той самой книге о диковинах Иномирья, что ли?.. Но тут заскрипела дверь избы, и воевода эту мысль из головы выбросил, так и не додумав.
Молодке, показавшейся на крыльце, на вид было примерно столько же лет, сколько и Мадине – не больше двадцати пяти. Казимирович про таких любил говорить: «Есть за что подержаться». Статная, ладно сбитая, волосы убраны под нарядно вышитую бисером кичку, какие носят замужние женщины.
При виде суровых незнакомцев в кольчугах, при оружии и верхом на громадных богатырских конях, молодка ахнула и застыла в дверях, прижав руки к пышной груди.
– Здрава будь, красавица, – приветливо обратился к ней Добрыня. – Прости, коли напугали. Мы в столицу едем, по государеву делу, да заплутали в вашем лесу и с пути сбились. А с парнем нашим вон беда стряслась, лекарь ему нужен или знахарь.
Незнакомка и сама уже поняла, что с мальчишкой неладно. Лицо ее вмиг смягчилось, стало участливо-обеспокоенным, и она торопливо сбежала с крыльца.
Одета хозяйка избы была не затрапезно и с достатком. А еще Добрыне бросилось в глаза, что тяжелые серьги и височные кольца на незнакомке – серебряные. Ну, хоть не нечисть, не оборотень, уже радость.
– Ох ты, горюшко какое! – голос у молодки был грудным, глубоким, теплым и сразу располагающим к себе, как и звучавшее в нем сочувствие. – Что с ним? Ранило или хворь какая приключилась?
– Цветок его ужалил, – хмуро пояснил Василий. – Светящийся, с иглой ядовитой внутри.
– Вот оно что, – молодка снова изменилась в лице. – Вы, видать, издалече, раз про кусты эти поганые не знаете? Мы их так и зовем – жа́льцами. Сходите скорей с коней да заносите его в избу, добры молодцы. И ты, красна девица, – поправила она сама себя, обращаясь к Мадине, которую, видать, сначала сочла юношей, – не стесняйся, будь как дома.
Бурушко недовольно заржал и даже попытался прихватить Добрыню зубами за голенище сапога, когда тот спешивался, но воевода, успевший быстро переглянуться с Василием, решение уже принял. Даже если изба – разбойничье логово, а внутри поджидает с десяток головорезов, на кону стоит жизнь Терёшки. Вдвоем с побратимом, коли что, они с любыми лиходеями справятся. Да и не походит молодая хозяйка ни на пособницу татей, ни на лесную ведьму. Колдунья, балующаяся черной волшбой, серебро вряд ли наденет.
Добрыня осторожно принял у Василия с рук на руки лежавшего в тяжелом забытьи Терёшку и понес в дом. Рассохшиеся и щелястые ступени крыльца жалобно заскрипели и заходили ходуном под сапогами, когда богатырь поднимался вслед за хозяйкой. Перебрать крыльцо у избы давно уже не мешало.
Лошадей путники оставили под окнами. Коновязи нигде рядом с домом побратимы не заметили, да и надежнее так.
Запах сдобных пирогов и горячих наваристых щей встретил их еще с порога, в опрятных и чистеньких полутемных сенях. Жилая горница, отделенная от сеней второй дверью, которую молодка поспешно распахнула перед Добрыней, была большой, заботливо прибранной и уютной. Хоть и обветшала изба, в неряшестве хозяева не жили. Доски пола выскоблены дочиста и отливают янтарем. У входа – свежевыбеленная, расписанная малиновыми и синими розанами печь, устье которой обращено в сторону от двери, к дальней стене. Длинный стол, скамьи и лавки вдоль стен – все в резных узорах, наводящих на мысли о печатных пряниках. На столе – нарядная скатерть с кистями, в углу у двери – два ярко разрисованных тяжелых сундука, в другом углу – прялка.
В кованом светце горела лучина. Добрыня заметил посреди горницы крышку лаза в подпол с тяжелым железным кольцом, а у печи – лесенку-всход, что вела то ли в верхние горенки, то ли на чердак.
– Сюда, – молодка откинула с широкой лавки рядом с окном цветастое покрывало, поправила под ним набитый шерстью тюфяк и взбила в изголовье подушку.
Она всё делала ловко и споро. Богатыри с Мадиной и опомниться не успели, а незнакомка, отстранив в сторону попытавшегося ей помочь Василия, осторожно расстегнула на Терёшке пояс с отцовским ножом и топориком, стянула с уложенного на лавку мальчишки полукафтан и отнесла всё это в угол, на сундук. Отвела со лба парня потемневшую от пота прядь рыжих волос, жалостливо покачала головой и через мгновение уже гремела у печи ухватом, вытаскивая чугунок с кипятком.
– Как тебя величать, хозяйка? – спросил Добрыня.
– Премилой, – отозвалась молодка.
Казимирович, даром что места себе не находил от беспокойства за Терёшку, невольно чуть улыбнулся в усы, услышав ответ, – и задержал взгляд на пышном стане и крутых бедрах орудовавшей у печи хозяйки. Имя ей и в самом деле очень шло. Курносая, синеглазая и румяная, Премила была какой-то удивительно уютно-домашней. Лицо округлое, приятно полноватое, губы пухлые и сочные, будто спелая малина, на щеках – ямочки. Ярко-голубой сарафан, белоснежная вышитая рубаха и сине-красная короткая душегрейка с оборками тоже ее красили. От смуглой тонкостанной алырки, кареглазой и с косами цвета воронова крыла, молодка из лесной избы отличалась, точно светлое, согретое ласковым солнышком летнее утро от тревожных осенних сумерек.
А сама Премила как будто нарочно обернулась к Мадине:
– Будь ласкова, девица, – принеси мне еще и холодной воды. Кадушка в сенях, а кувшин рядом.
На просьбу алырка откликнулась мигом и без возражений, но соболиные брови насупила. Ну еще бы! Лесная отшельница, сама того не зная, царицей помыкает – нахмуришься тут; к тому же Добрыня видел: на Премилу Мадина посматривает с недоверием.
Великоградец и сам остерегался безоговорочно хозяйке доверять. Обжегшись на кипящем молоке, приучишься дуть и на воду, а он в бытность безбородым дурнем-юнцом однажды поддался чарам вот таких же невинных с виду очей-озер. Что из того вышло, до сих пор вспоминать гадко и тошно. Однако никаких примет того, что попал отряд в разбойничий притон или в гости к ведьме, углядеть русич не мог, как ни старался. Правда, под потолком и у печи висели пучки сухих трав и кореньев – от них, примешиваясь к наполнявшему горницу вкусному духу, исходил острый резковатый запах. Но над притолокой, над окнами и по углам были начертаны красной краской обережные руны, и это воеводу немного успокоило. Хотя то, что их повсюду столько, выглядело странновато. Может, в дом к знахарке попали? Хорошо бы…
– Жа́льцы эти, будь они неладны, в лесу у нас расплодились так, что добрым людям от них прохода не стало, – посетовала Премила. – Муж мой с утра как раз пошел со здешним лешим договариваться, чтобы тот мерзость эту приструнил. Да задерживается что-то, беспокоюсь за него уже…
Она успела накрошить в глиняную крынку два пучка сушившихся под матицей [15] трав, залить кипятком, укутать крынку полотенцем, поставить настаиваться и теперь накладывала Терёшке на распухшую руку какую-то черную и жирную, как деготь, мазь из обливного зеленого горшочка. Его, завязанный тряпицей, Премила попросила Казимировича снять с полки над печью.
– А кто у тебя муж, хозяйка? – не удержался Василий.
– Царский лесничий. Лес-то этот, знаете, небось, – царево владение. Три года назад царь Гопон мужа моего на эту должность поставил, с тех пор тут и живем. Вдвоем. Женаты уже четвертый год, а вот деток все нет и нет… Да вы сядьте, витязи, устали, чай, в дороге.
Молодка кивнула Добрыне на скамейку у стола – тяжелую, сколоченную из светлого дерева, похожего на дуб.
– Видать, нелегко в лесу приходится? – спросил великоградец, следя за тем, как лесничиха перевязывает Терёшке руку куском чистого холста. – У вас, смотрю, в хозяйстве даже скотины нет?
– Лошадь у мужа есть, да он ее у соседей на хуторе держит. Там же мы и молоко берем, и яйца. Огород у нас – на вырубке, за ручьем, – охотно объяснила Премила. – А скотину тут не заведешь. У вас кони ведь беспокоились, когда вы к избе подъехали?
– Было дело, – настороженно кивнул воевода.
– И недаром. Про ведьму-лису слыхивали чай?
– А кто ж не слыхивал?
Премила явно говорила о колдунье, обратившей семь лет назад Прова в камень. Что ж, сойти за уроженцев Синекряжья, где про эту Чернобогову прислужницу ведомо всем от мала до велика, у богатырей с царицей, похоже, получилось.
– Вот она, злыдня, хозяйкой этой избы и была, – огорошила меж тем гостей лесничиха. – Частенько сюда наведывалась, ворожбу здесь творила втайне от чужих глаз. Остатки чар и посейчас в округе держатся, не выветрятся никак. Для людей оно не опасно, но скот, лошади да собаки чуют и тревожатся. А после того, как царь Гопон ведьму одолел, дом этот долго пустым стоял. Пока государь нам с мужем его не пожаловал…
– Отчаянные вы, коли не боитесь в таком недобром месте жить, – сдвинул брови Василий.
– Эх, милок, так против царской воли не попрешь… Ну да ничего, живем… Вон, у нас и руны везде нанесены охранные. А изба еще хорошая, чего ей зря пустовать? – Премила принялась раскутывать горшок, где заваривались травы. – Только всё никак у мужа руки не дойдут ее снаружи подновить. Уж больно дел у него по лесной части много.
Подозрения насчет приветливой да разговорчивой молодой лесничихи у воеводы наконец улеглись, а вот жгучая тревога за Терёшку становилась всё крепче. Грудь у неподвижно вытянувшегося на лавке мальчишки еле вздымалась, и воевода боялся: еще чуть-чуть, и дышать сын Охотника перестанет совсем. Живчик на шее едва прощупывался. А когда Премила попросила Добрыню запалить еще одну лучину, поднесла к лицу парня и оттянула ему сначала одно, а потом второе веко, у Терёшки даже не дрогнули зрачки, сузившиеся, как черные точки.
– Давно ужалило-то его? – спросила лесничиха, процеживая в расписную глиняную кружку травяной настой из крынки.
– С час назад, – прикинул воевода. – Чуть больше даже.
Кружка в руках Премилы дрогнула. Молодка, озадаченно нахмурившись, так и уставилась на Терёшку.
– И он еще жив?.. – удивленно пробормотала хозяйка.
* * *
Товарищи по дружине считали Василия Казимировича зубоскалом и балагуром, сам же богатырь твердо верил: беды да напасти шарахаются от тех, кто их встречает широкой усмешкой, а не кислой рожей. Но сейчас великоградцу хотелось до хруста сжимать кулаки, когда он глядел на Терёшку. Степняцкие скулы, доставшиеся мальчишке от матери-южанки, проступили на истаявшем лице еще резче, виски запали, под закрытыми глазами – чернота… Эх, Вася, чего они стоят, твоя силища да острый меч, если не можешь ты хорошего парня от смерти заслонить?
Знал бы, даже не подпустил Мадину к тому подлому кусту! Оттащил бы за шкирку, не посмотрев, что царица. Визгу наверняка было бы на весь лес, зато не лежал бы смельчак и умница Терёшка без памяти пластом, и не тянула костлявая к нему стылые лапы…
Напоить сына Охотника зельем, приготовленным Премилой, кое-как удалось. Казимирович разжал Терёшке стиснутые зубы ножом, а лесничиха сумела влить мальчишке в горло несколько ложек теплого, горько пахнущего бурого настоя. Хоть и с немалым трудом. Когда молодка склонилась над парнем и начала над ним хлопотать, Терёшка вдруг захрипел и дернулся, опять выгнувшись в судороге. Голова запрокинулась и заметалась из стороны в сторону на промокшей от пота подушке. Едва у Премилы ложку из рук не выбил, а половина зелья выплеснулась у парня вместе с кашлем изо рта.
– Всё, что могла, я сделала, витязи. Парнишка ваш крепкий, первый раз вижу, чтобы яд жальцев так долго с человеком совладать не мог. Но сама я не справлюсь, – словно бы извинилась лесничиха. – Я ведь не лекарка. Так, от матушки переняла кое-что… Кому-то из вас надобно к нашим соседям на хутор съездить. Дед у них – умелый знахарь, многим помог, кого эта напасть едва не сгубила. А не случится старика дома, снадобья нужные его сноха даст, она в них разбирается…
Василий так и взвился со скамьи, чуть ее не опрокинув. Но, встретившись взглядом с жестким прищуром зеленых глаз побратима, стоявшего у Терёшки в изголовье, тут же понял: этого права Добрыня никому не уступит.
– Поеду я, – воевода тряхнул головой, отбрасывая со лба прядь темно-русых волос. – Только дорогу укажи, хозяйка.
Хмурая складка, залегшая над его переносицей, стала резче. Верный признак того, что переспорить не выйдет, проще гору каменную голыми руками своротить в одиночку. Горы, правда, поблизости не имелось, а тропка к хутору начиналась на другом краю поляны, прямо за домом.
– Смотри, никуда с нее не сворачивай, витязь. Заплутать у нас легче легкого. Там, дальше, овраг будет, тропа как раз вдоль него ведет. Потом выедешь на старую просеку, а за ней и хутор, – объяснила лесничиха.
– Добро, – отозвался воевода, поправляя на себе пояс с мечом. И уже с порога, нагибаясь в дверях, чтобы не задеть головой притолоку, коротко кивнул Василию с Мадиной: – Обернусь быстро. Даст Белобог, и самого знахаря привезу.
– Дай Белобог… – тихо повторила Мадина, когда за Добрыней и вышедшей его проводить Премилой затворилась дверь в сени. Покосилась вслед лесничихе и прибавила еще тише: – Не нравится она мне.
– Кто? Хозяйка? – удивился Казимирович. – Отчего же? Баба добрая, душевная.
– Такая душевная, что, того и гляди, на мед изойдет. А вы, два дурня с глазами маслеными, перед этой растетёхой [16] и растаяли, – слова алырки прозвучали неожиданно зло. – И травами этими вонючими несет у нее на всю избу так, что у меня аж виски разболелись…
Василий с недоумением пожал плечами. Запах трав, сушившихся в горнице, вонючим богатырю вовсе не казался. Горьковатый, слегка терпкий, примерно так растертая в ладонях степная полынь пахнет. И чего это царица взъелась?.. Может, ревнует? Мужа-то своего непутевого она крепко любит, но такая своенравная гордячка наверняка привыкла, что ее краса да высокий род должны всем встречным-поперечным головы кружить…
В сенях послышались шаги, и на пороге появилась Премила. Подошла к постели Терёшки, опять вздохнула и покачала головой.
– Не убивайся так, витязь, – участливо и тепло произнесла она. – Вон как извелся, даже с лица почернел. И старшой ваш весь за парнишку сердцем изболелся, хоть виду и не подает… Я же говорю: малец крепкий, есть надежда, что выдюжит. Давай-ка пока на стол соберу. Беду куском пирога не зажуешь, но вам силы надобны. Благо я к приходу мужа настряпала разного, все свеженькое да горячее еще, с пылу с жару.
Духом из печи, откуда принялась хозяйка вытаскивать наготовленное, потянуло таким, что Казимирович не выдержал, громко сглотнул набежавшую слюну. Хоть и стало великоградцу нестерпимо стыдно за себя, обжору. Что греха таить: поесть богатырь любил. Да что там, все вояки не прочь как следует брюхо себе набить, но Василий обычно ел за троих, за что еще юнцом получил от товарищей прозвище Обжирало. Кличка, правда, не прижилась, но про страсть Василия к еде в дружине знали все.
На столе тем временем появились и румяный пирог, накрытый вышитым рушником, и томленая в расписной глиняной плошке пшенная каша, залитая скворчащей сметаной с яйцами, и дымящийся горшок щей.
– Ты особо на ее стряпню не налегай, – шепнула Василию Мадина. – Осторожней будь.
Сама она за стол так и не села, отговорилась тем, что есть, мол, не хочется.
Богатырь лишь хмыкнул. Ясное дело, Мадина никак не может себя простить за то, что случилось с Терёшкой, с того и к хозяйке, ни в чем не виноватой, на пустом месте цепляется… Но заподозрить в добросердечной и радушной лесничихе отравительницу – это уж ни в какие ворота!
Обижать Премилу отказом Василию было неловко – от всей души ведь угощает, так что долго чиниться он не стал. Устроившись за столом, пододвинул к себе наполненную до краев миску. Зачерпнул первую ложку горячих, подернутых золотым жирком мясных щей с капустой, подул, отправил в рот… и убедился: готовит лесничиха так, что язык, гляди, невзначай проглотишь. Первая же ложка разбудила в нем лютый волчий голод, такой, словно Казимирович три дня не едал. А когда Василий откромсал себе поджаристый ломоть пышного, сочащегося маслом сдобного пирога-рыбника, то со стыдом понял, что от стола его уже за уши не оттащить. Пока не сметет хотя бы половину того, что выставлено.
– Уму помрачение, какая ты стряпуха знатная, хозяюшка, – пробормотал русич с набитым ртом. – Повезло твоему мужу.
На Мадину, украдкой делающую ему предупреждающие знаки, богатырь уже внимания не обращал. Совладать с собой он не мог, уплетая за обе щеки наготовленные лесничихой разносолы. Миску после щей чуть не вылизал, пирог мигом уполовинил, а когда перешел к рассыпчатой подрумяненной каше, Премила дважды накладывала гостю с горкой добавки. Да еще из сеней, куда ненадолго выходила, пока великоградец расправлялся с пирогом, принесла свежего творога и туесок с медом. Этим заедкам Казимирович тоже воздал должное.
– Молочка налить? – спросила Василия довольная хозяйка, когда тот наконец отвалился от стола. – Топленого?
– Можно, – крякнул Казимирович, тряхнув русыми кудрями и подкрутив усы.
Богатырь и сам не заметил, как его разморило. Бывает такое после сытной еды, в сон клонит. Или виновата во всем непонятная усталость, что навалилась еще в лесу? Поданную Премилой кружку великоградец осилил уже с трудом, то и дело зевая. Веки прямо склеивались.
– Глаза что-то слипаются, мочи нет… – еле выговорил он, растягиваясь на лавке и подкладывая под голову локоть. – Если что, сразу разбудите, красавицы…
Одолел сон Василия мгновенно. Свинцово-тяжелый и крепкий, точно провалился богатырь в бездонную черную яму.
* * *
«Почему не веришь? – в мыслях коня отчетливо сквозила обида пополам с неутихающей тревогой. Не за себя, за хозяина, который непрошибаемо почитает себя из них двоих самым умным. – Этой, в доме, веришь, а мне – нет?»
– Мне тоже не по себе, дружок, – Добрыня чуть пригнулся в седле, проезжая под протянутым над тропой суком, обросшим косматой бородой лишайника.
Чащоба за поляной, где стояла изба лесничего, снова стала глухой и темной, но тропка, что вилась краем глубокого и широкого, заросшего папоротником оврага, по которой ехал богатырь, была натоптанной. Ходили по ней часто.
– Мир этот – не наш, иной, – кому он это говорит, коню или себе? – А тут, в округе, еще и остатки темной волшбы воздух да землю пропитали, ведь в той избе когда-то ведьма сильная жила. Их ты и чуешь. Вот и тревожишься.
Бурушко принялся твердить, что вокруг нехорошие места, от которых жди беды, едва поляна с избой скрылась за деревьями, но упрямиться все же не стал. Лишь осуждающе всхрапнул: мол, если что, то я сказал, а ты услышал.
Воевода спорить тоже не желал, у него голова была занята другим.
Пробираясь по тропе, Добрыня запретил себе сомневаться в том, что знахарь с хутора Терёшке помочь сумеет. Судьба на узкой стежке людей зря не сводит, в этом богатырь убеждался не единожды. Не раз уже успел Никитич поблагодарить удачу и за встречу с парнем из села Горелые Ельники. И не в том даже дело, что мальчишка, смущенно признавшийся богатырям в дружбе с берегиней, умеет видеть нечисть и чащобных духов. Терёшка весь был как жаркий огонек, рядом с которым и на стылом осеннем ветру другим тепло, и на трескучем морозе.
Такие ребята золотые жить да жить должны. А не умирать по-глупому на чужой стороне в пятнадцать лет.
Деревья, тесно сомкнувшиеся над тропинкой, слегка расступились, воевода перевел коня на рысь… и тут же натянул повод. Овраг дальше круто изгибался вправо и делал петлю. Повторяя его изгиб, тропа тоже поворачивала направо, ныряя в гущу леса. Судя по всему, кругаля в объезд надо было дать изрядного.
Добрыня подъехал к краю оврага. Глинистые склоны, оплетенные древесными корнями, вниз обрывались почти отвесно, на дне глухо журчала вода и вспухал белой опарой туман. Спуститься с этакой кручи с конем, а потом вскарабкаться по скользкому склону наверх и думать было нечего. Но зато как раз в этом месте овраг слегка сужался и шириной был, на глаз, примерно саженей в пять. На другой стороне виднелась ровная поляна, очень похожая на ту, где стояла изба лесничего. Даже черная чахлая травка ее покрывала такая же.
– Ты как, сможешь перепрыгнуть? – наклонился Добрыня к уху жеребца. – Время дорого, а нам поспешать изо всех сил надо.
Понятно, что Премила беспокоилась за воеводу, здешних мест не знающего, потому и отправила по безопасной тропе, но этак они спрямят путь без малого вдвое.
Бурушко обиженно хрюкнул. Странности Иномирья действовали на него слабее, чем на хозяина. Ни силы, ни сноровки жеребец не потерял и тут же доказал это делом. Овраг перескочили играючи, плавным длинным прыжком, и дивоконь, захрапев, остановился далеко за краем обрыва. Добрыня легонько хлопнул любимца по лопатке, а Бурушко откликаясь на ласку, добродушно фыркнул, мол, а ты сомневался!
Трава на поляне, присыпанная наметенными ветром хвоинками и опавшими листьями, хрустко ломалась под конскими копытами. Больше в этом черном круге, зияющем обширными проплешинами, не росло ничего, зато были рассыпаны внутри него какие-то оплывшие холмики. Каждый локтя в два-три вышиной. Парочку таких же, правда, поменьше, русич заметил и у дома Премилы. Опять пни, мельком подумалось Добрыне, когда он посылал жеребца на рысях через поляну. От старости в труху почти превратившиеся и мхом обросшие… Или это муравейники?
Верхушку одного из «пней» левая передняя подкова Бурушки задела случайно. Затянутый тонкой пленкой темного дерна холмик-курганчик развалился, осыпался, и под копыта прянувшему в сторону коню покатилось что-то светлое и круглое.
«Смотри. Что это такое, недоброе-непонятное?»
Напрягшийся жеребец встал на месте как вкопанный, требуя, чтобы хозяин вгляделся попристальнее в непонятное «нечто». Добрыня наклонился с седла – и помрачнел пуще прежнего, рассмотрев, что именно лежало на пути. Это был череп, уставившийся на богатыря пустыми глазницами. На первый взгляд человеческий, с целыми, молодыми зубами, но и вправду донельзя странный. Черепная крышка выглядела какой-то смятой, а перекошенные лицевые кости словно бы невесть с чего взяли да вдруг оплавились, как оплывает нагретый на огне воск.
Или словно череп долго переваривался в чьем-то брюхе. Да так до конца и не переварился, и его изрыгнуло наружу.
Спешившись и вернувшись к потревоженному курганчику, воевода склонился над «пнем» и немедленно выругался.
Человеческие ребра, берцовые и тазовые кости, позвонки… всё это было не просто перемешано здесь в беспорядке, как попало, и свалено в кучу. Кости – обтаявшие, истончившиеся, полупереваренные – уже и на кости толком не походили. Друг с другом они слипались в бугристые комья, склеенные сухой, застывшей ломкой слизью. Нашелся в жуткой груде и еще один череп, такой же перекошенный и будто оплавленный, как и первый.
«Их сожрали. Не зверь. Чужое, голодное. Страшное».
Бурушко захрапел, ударив оземь копытом. А у Добрыни, пока он жуткую находку разглядывал, в голове как молния полыхнула.
Богатырь наконец вспомнил, откуда знает про такие поляны – «ведьмины плеши», где в кругах мертвой земли ничегошеньки не растет, кроме черной стекловидной травы. Читал о них воевода в трудах Ведислава-писаря, побывавшего в Китеж-граде и написавшего потом для князя Владимира толстенную книжищу о чудищах дивных и разной нечисти. Про яг-отступниц там тоже рассказывалось, хоть и мало. О подноготной этих лиходеек даже в Китеже ничего толком не ведомо. Кроме того, что служат они Тьме и что сила отступниц держится на волшбе Чернояра, а прочие яги их люто ненавидят.
Но одно Добрыня запомнил из книги Ведислава крепко: увидишь на такой поляне избушку, где живет ласковая красавица-хозяйка – уноси ноги без оглядки, пока цел. Не красна девица это и не молодка-лебедушка, а чудовище в женском обличье, заманивающее к себе путников. А когда вытечет из жил пленника кровь на ритуальном столе под ножом страшной ведьмы-людоедки, останки бедолаги доест и переварит… избушка. Чем жилище отступницы голоднее, тем оно с виду более ветхое да покосившееся. Ну а перестанет попадаться злодейке добыча, так изба перекочует на другое место, ведь, как у всех яг, они еще и ходить умеют.
Холмики на поляне – это погадки лесничихиной избы, которая отсюда перебралась за овраг, поближе к ручью. Но, видно, отступнице и там с поживой не больно везло, пока не сунулись в ее логово гости из Белосветья.
Где была Добрынина голова дурная – и почему он то, что у Ведислава вычитал, не вспомнил раньше?! Потому что исходил тревогой и страхом за Терёшку и ни о чем другом думать не мог, а встречи с ягой в Иномирье и подавно не ждал? Или его одурманили и заморочили не только ямочки на щеках Премилы, показное добросердечие да васильковый взгляд с поволокой, но и злые чары, незримо витавшие в избе? Ох, не сухими целебными травами там пахло… Да и тому, что хозяйка носит серебро, он напрасно доверился, видать, это тоже морок. Как и охранные руны на стенах.
Не решись Добрыня срезать путь да не будь Бурушко конем богатырским, которому широкий овраг нипочем, русич на курганчики эти не наткнулся бы. А хутора за оврагом никакого нет, сомнений в том уже не оставалось. Отступница решила их разделить, чтобы убить поодиночке.
Ничему-то тебя жизнь не учит, Никитич. Опять хватанул полным ртом кипящего молока и ладно бы одному себе губы обварил, так еще и товарищей подвел под беду.
– Едем назад, и быстро, – развернув коня и поставив ногу в стремя, воевода тихо добавил: – Прости меня, дурня. Впредь буду твоему чутью больше доверять…
Вот тут-то Бурушко и заржал, яростно и заливисто, предупреждая хозяина об опасности.
Они хлынули волной – твари, словно вылезшие из жуткого сна. Или даже из самого Чернояра. Шевелящаяся, клацающая жвалами, щелкающая клешнями волна, переливаясь через край оврага, покатилась к богатырю и дивоконю, пытаясь окружить с трех сторон и зажать в полукольцо.
Гадов было навскидку этак под четыре десятка. Добрыне многие из них еле достали бы до колена, но когда такое наваливается кучей, становится не до смеха. Одни страшилы ползли вперед, раскачиваясь из стороны в сторону на высоких, многосуставчатых лапах, усаженных шипами. Другие передвигались вприскочку, по-жабьи, шарами раздувая гнойно-белесые, лоснящиеся жирные животы. Еще нечто, смахивающее на привидевшуюся в бреду помесь зубастой ящерицы с ощипанным бескрылым петухом, прыгало-семенило на двух ногах, топорща острые, как лезвия, спинные гребни и тряся кожистыми выростами под горлом. Скрипели костяные панцири, таращились с бородавчатых многоглазых морд выпуклые паучьи буркалы. Влажно блестела слизь на зеленовато-бурых пятнистых телах, щерились кривые клыки-иглы, капала с раззявленных челюстей то ли слюна, то ли яд.
А тварям-то, не иначе, приказали следить за чужаком. И теперь они, скумекав, что Добрыня повернет и поедет вовсе не туда, куда надо хозяйке, решили напасть.
Первым, сиганув вперед, нацелился вцепиться жвалами русичу в сапог шипастый трехглазый паучище ростом с хорошего дворового кобеля. Или всё же не паук, а схожая с ним погань – жвал-то у пауков не бывает?.. Нож, выхваченный из-за голенища, сшиб гада в прыжке. Второй засапожник, отправленный в полет, по рукоять вошел в шею какой-то вовсе немыслимо мерзостной твари: кривоногой, со свисающими до колен длиннопалыми когтистыми руками, с широкой зубастой пастью и башкой-котлом, которую усеивал с десяток крохотных черных глазок. А дальше ножи у Добрыни кончились, и воевода рванул из ножен меч. Насквозь проткнул, наклонившись с седла, прыгнувшую на Бурушку сбоку шестилапую рогатую жабу – третья пара клешнястых лапок росла у нее прямо из-под клыкастой нижней челюсти. Развалил пополам второго паучину-громадину, залившегося гнойной слизью. После этого любоваться на лезущих из оврага страхолюдов стало некогда. Воеводу с Бурушкой таки окружили.
Грудью валить в жаркой сече вражеских лошадей, кусать и бить копытами врагов, вставать на дыбы, чтобы всадник, приподнявшись в стременах, мог с обеих сторон пластать клинком нападающих на него пеших, – всё это умеет любой богатырский конь. Отменно умеет. Что уж говорить о бое со злобной, но мелкой и тупой нечистью! Отбиваясь от хлынувших ему под ноги служек отступницы, Бурушко вовсю орудовал копытами. Брыкался и передними ногами, и задними, отшвыривая от себя тварей. Под тяжелыми стальными подковами хлюпала черно-зеленая, тошнотворно смердящая падалью и болотом жижа, вокруг разлетались ошметки растоптанных в лепешку тел. Меч Добрыни, чуть ли не по рукоять заляпанный зеленой слизью и черной кровью, только и поспевал рассекать воздух направо и налево.
А из дальнего уголка памяти всплыло-вынырнуло на какую-то мимолетно короткую долю мига давнее. Само собой всплыло, против воли…
Огненные искры и клубы дыма над смолисто-черной водой, отражающей в себе алые сполохи… Языки пламени, лижущие траву и подбирающиеся к босым ступням. Хищно извивающиеся на песке толстые кольца змеиных тел, на которые вот так же обрушиваются копыта совсем тогда молодого и вспыльчивого Бурушки. Блеск окровавленной золотой чешуи. И – взмахи огромных кожистых крыльев, закрывающих небо и поднимающих с берега тучи песка и пепла…
Всплыло это воспоминание… и пропало разом, так же стремительно, как закончилось и нынешнее побоище. Добрыня просто увидел, что рубить и топтать конем больше некого. Искромсанные тела мертвых и подыхающих тварей громоздились вокруг кучами, а с пяток уцелевших гадов удирали сломя головы к краю обрыва. Над поляной разливалась гнилостная вонь, от которой щипало глаза и свербело в горле.
Воевода стряхнул с клинка вязкие черные капли, благодарно взлохматил гриву зло храпящему и скалящему зубы коню, стянул с головы шапку и отер ею потное лицо. Дома, в Белосветье, после драки с такой мелкой дрянью Добрыня и тени усталости бы не почувствовал, даром что страшил было много. Размялся бы в охотку, порубив эту мерзость в капусту, и всего-то. А здесь правую руку, которой орудовал мечом, все-таки натрудил. Пусть и не так чтобы сильно, но заметно.
Только зря великоградец думал, что нечисть подарила ему передышку.
«Сверху! Берегись!»
Мысленный крик Бурушки богатырь услышал ровно в то же мгновение, что и резкие, трубные клики над головой. В лицо ударил хлесткий порыв ветра, пронесшийся над поляной и всколыхнувший верхушки деревьев на ее краю. На всадника и жеребца упала тень от широко раскинутых, с шумом рассекающих воздух могучих крыльев. И на какой-то бредовый миг воеводе почудилось: вставшее в памяти во время боя видение оделось плотью.
Наваждение сгинуло, стоило богатырю запрокинуть голову. Догадка Добрыни, что их заманила в ловушку яга-отступница, подтвердилась окончательно.
…Однажды великоградцу довелось увидеть высоко в небе над лесным проселком трех летевших куда-то по своим делам гусей-лебедей. Белых. Точнее, серебристо-серых: окраской мерно и неутомимо взмахивавшие крыльями дивоптицы ни лебедей-кликунов, ни диких гусей ничуть не напоминали. Уже тогда Никитича поразило, какие же это громадины, хотя разглядел он их лишь издали. А вот того, что у отступниц гуси-лебеди – черные, воевода прежде не знал.
Пара дивоптиц, вынесшихся из-за деревьев, впечатляла. Опустится такое чудо наземь да вытянет вверх шею, высотой сажени в полторы окажется, не меньше. Оперение у гусей-лебедей сплошь, от головы до надхвостья и хвоста, отливало цветом сажи, когтистые лапы покрывала чешуйчатая броня, тоже иссиня-черная. Клювы – громадные, топоровидные, а на макушках – кроваво-красные костяные гребни.
Передний гусь-лебедь, несшийся прямо на всадника, снова пронзительно и хрипло затрубил, разинув клюв-пасть.
Ни доскакать до деревьев, ни перепрыгнуть овраг Добрыня с Бурушкой не успевали. Плохо, что гуси-лебеди застигли их на открытом, как стол, месте, но ничего больше не оставалось, только принять бой.
Повинуясь движению колен седока, жеребец прянул с места в сторону.
От стремительного, нанесенного с разворота удара птичьей башки, на которой, под скошенным назад гребнем, злобно горели алые глаза, сумели уклониться и конь, и седок. Гусь-лебедь метил Добрыне в шею, но промахнулся: жеребец отпрыгнул вбок и закружился на месте. Меч воеводы описал один сияющий полукруг, второй… и все-таки задел левую лапу дивоптице, зашипевшей совсем по-змеиному.
С резким гоготом гусь-лебедь пронесся над ними, взмыл вверх, зато его более мелкий собрат тут же налетел на Бурушку сбоку. Взмах мощного крыла со свистом вспорол воздух, и Добрыня успел заметить, что на сгибе торчат два пальцевидных выроста с когтями на концах – острыми и блестящими, будто боевые ножи-серпы. Бурушко увернулся, вскинулся на свечку, молотя в воздухе передними копытами. А когда жеребец опять опустился на все четыре подковы, Добрыня резко привстал на стременах.
Гусь-лебедь решил напасть на богатыря с другой стороны и поплатился за то, что не в пример напарнику самонадеянно счел русича легкой добычей. Яро сверкнувший булат с маху обрушился на вытянутую шею дивоптицы. Тугой струей хлестанула из обрубка темно-багровая кровь, а клювастая голова рухнула почти под копыта коню. Следом тяжко грянулось и закувыркалось по земле бьющееся в предсмертных судорогах тело. Замер гусь-лебедь в черной траве, подвернув под грудь крыло и нелепо растопырив огромные трехпалые лапы. А ведь удар каждой запросто мог бы уложить на месте…
Уцелевший гусь-лебедь затрубил еще пронзительнее. Добрыня, вновь выставивший перед собой меч, не сомневался: сейчас нападет. Богатыря захлестнуло даже что-то вроде досады, когда громадная угольно-черная птица вдруг очертила над поляной еще один круг и, набрав высоту, пропала за вершинами деревьев.
Струсила? Или полетела за подмогой?
– Дома рассказать – не поверят, – хрипло пробормотал великоградец.
«Тебе поверят, – отозвался Бурушко, зло косясь на обезглавленного врага в траве. – Только до дому сперва добраться надобно».
Вот уж правда-истина, криво усмехнулся про себя воевода. Спешившись, он поискал в седельной сумке чистую тряпку и торопливо обтер клинок. Вынул из вьюка шлем, не мешкая надел. Достал из саадака лук, привычным движением натянул на него тетиву, расчехлил притороченный к седлу круглый щит с железной оковкой, обтянутый бычьей кожей, и закинул за спину. На всё это и на то, чтобы найти на месте побоища оба ножа, вытащить из тел тварей и оттереть от слизи, времени ушло совсем немного. Задерживаться у туши гуся-лебедя было некогда.
– Не оплошай, Бурушко, поторопись, – велел богатырь коню, и тот, перескочив овраг, захрапел и взял с места в намет.
Их ждала обратная дорога по уже знакомой тропе. И оба думали об одном – лишь бы не опоздать.
* * *
Вязкая чернота беспамятства отпускала Терёшку нехотя. Сначала возвратилось ощущение собственного тела. Только было оно, тело, совсем беспомощным, как у спеленатого натуго младенца. И пугающе непослушным. Парень попробовал пошевелиться и хоть голову чуть повернуть. Не получилось. Потом сквозь слипшиеся ресницы просочился слабый свет, и Терёшка почувствовал, как к вискам и лбу осторожно прикасается влажная холодная ткань.
С усилием он разомкнул веки. Это тоже удалось не сразу. Перед глазами всё расплывалось, но наконец из серо-кровавого тумана проступило женское лицо. Смуглое и тонкобровое.
Мальчишка узнал царицу Мадину и разом вспомнил, что с ним случилось. А склонившаяся над сыном Охотника Мадина громко охнула, увидев, что Терёшка открыл глаза и глядит на нее осмысленно.
– Очнулся наконец-то! Сам очнулся! – вырвалось у нее радостно, но так, словно алырка боялась себе поверить. Царица торопливо отложила в сторону тряпку, которой обтирала Терёшке лоб. – Парень, слышишь меня? Тебе получше?
Терёшка опять попытался приподняться, не смог, зашелся в кашле. Дышалось легче, однако в грудь всё равно точно железный кол вбили, тело сковывала лютая слабость, а язык да нёбо отчего-то противной горечью обложило.
Болеть парень ненавидел и, сколько себя помнил, болел редко: детские хвори и простуды к нему почти не липли. Но так плохо Терёшке не было даже позапрошлой зимой, когда он провалился на реке под лед и неделю пролежал в жестокой огневице, а мамка Зоряна растирала приемного сына барсучьим жиром и отпаивала сушеной малиной, девясилом и отваром багульника.
Вот тебе и цветы необычайной красоты, Чернобог их нюхай… Крепко же его скрутило. Хотел помочь Добрыне Никитичу да Василию Казимировичу, думал им в дороге пригодиться, а сам вместо того сковал отряду руки. Сколько же великоградцы драгоценного времени потеряли, пока с ним, болящим, возились? От мысли об этом Терёшку всего как варом обдало. Ох, одно хоть хорошо – алырскую государыню ядовитый цветок ужалить не успел…
Виски разламывались, в голове всё путалось, совсем как в то памятное утро, когда Терёшка, угодивший в плен к вештице Росаве, вот так же медленно приходил в себя в заброшенном охотничьем зимовье у Долгого болота. Как и тогда, парень насилу сообразил, что вокруг – не лес. И что лежит он, кажется, в избе, на лавке. Никак выбрался отряд из чащобы, покуда он, Терёшка, был в беспамятстве? Может, они уже в Кремневе?
Скосив глаза, мальчишка увидел, что рядом, на соседней лавке, сладко похрапывает Василий, подложив руку под голову. А вот рассмотреть толком, где же они, у Терёшки никак не получалось, хотя он вроде бы наконец-то проморгался.
Мадину и Василия парень видел ясно, но всё остальное перед глазами по-прежнему туман заволакивал. Оно казалось каким-то размытым и мигало, дробясь на цветные пятна и становясь то четче, то смазанней. Давеча так ведь уже было, кольнуло изнутри Терёшку… он еще перепугался, что со зрением у него неладно…
Мадина тем временем куда-то обернулась через плечо.
– Премила! – громко позвала царица. – Премила, иди сюда скорей!
И вот тут-то со слезящихся от острой рези глаз Терёшки, сумевшего чуть приподнять через силу с лавки голову, как будто пелену сорвало. Точно так же, как недавно в окрестностях Дакшина. На перекрестке двух лесных дорог у старой осины, во время боя с чермаком, напялившим личину светлого чародея.
Ловец душ с Лысой горы тогда едва не обвел поначалу Терёшку и его товарищей вокруг пальца, прикинувшись человеком. У здешних хозяев упрятать под морок свою странную и страшную избу получилось не хуже.
Стены горницы на первый взгляд казались бревенчатыми, но были осклизлыми, бугристыми и влажно блестели. И их, и потолок, и половицы, и черную громаду печи у входа пятнами покрывал слабо светящийся налет – то ли плесень, то ли еще какая дрянь. Из устья печи падали на половицы мертвенно-зеленые трепещущие отблески, а длинный стол посреди горницы и скамьи вокруг него сильно смахивали на затянутые бурой слизью обрубки пней. Узловатыми корнями, перекрученными, как змеиные тела, они уходили прямо в пол.
Пахло в избе гадостно. Свернувшейся, заветрившейся кровью, душком тухлых яиц… и еще какой-то пакостью, остро-едкой и кислой.
Что-то шустро пробежало у Терёшки по ногам и вспрыгнуло на стену над лавкой. Не вскрикнул парень только потому, что горло пережимала судорога: слюну и ту он сглатывать мог с трудом. Прямо над головой по стене распластался, раскорячив лапы, громадный паук величиной с раскормленного кота. Жирный, белесо-бурый, покрытый шипами, с подрагивающим вздутым брюхом. Выпученные черные буркала, каждое с добрый кулак, настороженно таращились на Терёшку с Мадиной. Еще одна такая же тварина, с тележное колесо, сидела в углу под потолком и пялилась на них сверху. За печью тоже что-то возилось и шуршало. И до похолодевшего Терёшки дошло, что он-то пауков видит, а вот Мадина – явно нет. Не замечала царица и других жутких странностей, а за плечом у алырки тем временем выросла темная тень, неспешно выплывшая из-за печи.
Дородная молодуха в красном повойнике и голубом сарафане, подошедшая к лавке, тоже вела себя как ни в чем не бывало. Словно в упор не видела, что всё вокруг нее с Мадиной напоминает оживший горячечный бред. А едва она над Терёшкой наклонилась, мальчишку не просто облило холодным потом. С сыном Охотника опять творилось что-то непонятное, и на миг Терёшке всерьез подумалось, что он еще не в себе.
Смотрели на парня с красивого женского лица ласковые, полные участия синие глаза… но, поймав их взгляд, Терёшка заледенел изнутри. Мальчишка глядел на незнакомку, и его всё стремительнее накрывало жуткое ощущение, перерастающее в уверенность, взявшуюся невесть откуда: это свежее румяное лицо – на самом деле не лицо никакое, а что-то вроде раскрашенной глиняной личины. Выглядит оно совсем как живое, человеческое… но вот-вот глина пойдет трещинами, с шорохом осыплется, и из-под личины проступит… что?..
– Смотри, хозяйка, он в себя пришел! – радостно сообщила молодке Мадина. – Теперь привезет Добрыня знахаря – и всё совсем ладно будет!
Та, кого царица назвала Премилой, алырку словно даже не слышала. Она уставилась на парня. Так же пристально, как Терёшка на нее. Сперва с недоумением, а потом васильковые очи молодухи полыхнули жгучей, тяжелой злобой. Их начала заливать чернота, затягивая сплошной пеленой сразу и зрачки, и белки, и из этой черноты на Терёшку, казалось, глянула сама Тьма. Холодно и брезгливо, как на таракана недодавленного. И к сыну Охотника пришло ясное осознание, что перед ним нечисть, а не просто ведьма, которая отвела гостям из Белосветья глаза чарами.
– Цари… ца… – каким-то чудом сумел прохрипеть Терёшка, снова дернувшись на лавке в отчаянной попытке привстать. Губы не слушались, точно чужие. «Государыня» и тем более «Мадина Милонеговна» он бы просто не выговорил. – Бере… гись!.. Она… не…
Алырка непонимающе вскинула брови. Зато хозяйка избы поняла прекрасно, о чем парень пытается предупредить.
Мадина не успела даже вскрикнуть, когда Премила, схватив со стола тяжелый медный кувшин и выплеснув оттуда на пол остатки воды, с размаху ударила ее по голове над ухом. Обмякнув, царица кулем повалилась с лавки на пол.
– Ах ты пащ-щенок! Поторопиться из-за тебя пришлось…
Это шипение уже никто бы не перепутал с женским голосом. Облик нечисти менялся на глазах, утрачивая всякое сходство с человеческим. Притворяться молодкой-красоткой никакой нужды у твари больше не было. Наводить морок на свою жуткую избу и на всё, что окружало в избе ее саму и пленников, – тоже.
Сарафан, вышитая душегрейка и рубаха, в которых щеголяла гадина, затрещали, расползаясь по швам в лохмотья. Слетел с головы повойник, брызнули в разные стороны серебряные подвески, украшавшие его у висков, лопнуло ожерелье на полной белой шее. По телу под одеждой пробежала дрожь. Тварь раздувалась, как копна сена, увеличиваясь в росте. А с лица, рук и всего тела Премилы – если это и впрямь было ее настоящее имя – лоскутами сползали лопнувшие кожа и плоть. Точнее, упругая студенистая мерзость, только казавшаяся со стороны человеческой плотью.
Так ядовитая гусеница выбирается из яйца.
И то, что пряталось в этом яйце, вогнало бы в оторопь любого.
Теперь у существа, деловито отряхивающего с себя обрывки одежды и ошметки наколдованной человечьей оболочки, не было даже намека на шею. Уродливая, вытянуто-раздутая голова росла прямо из плеч. Окружал голову воротник из четырех скользких и гибких серых щупалец. Два задних были чуть короче и чуть тоньше. За ними, на затылке твари, дыбом косматилась копна растрепанных сальных волос, свалявшихся в жесткие темные колтуны. Передние щупальца, покрытые ороговевшими зазубренными выростами, заканчивались костяными остриями. Серповидными и тоже усаженными с внешней стороны кривыми, бритвенно отточенными зубьями. Точь-в-точь у пилы или остроги. Как всё это помещалось внутри оболочки-личины, которую носила уродина, только Чернобогу известно.
Серая, бесформенно-оплывшая безносая морда чудища, вся в бородавках и струпьях, чуть ли не целиком состояла из одной клыкастой пасти. Маленькие, косо прорезанные глазки, поблескивавшие из складок кожи, походили на паучьи – и оказалось их не два, а шесть. Руки гадине заменяло что-то вроде гибких клешней. Бочкообразное брюхо защищали пластины, тускло блестящие, точно жучиный панцирь, спереди – два обвисших бурдюка, в которые превратилась высокая, налитая женская грудь. А туловище опиралось на загнутые толстые, мясистые щупальца. Их было с десяток, на них тварь и передвигалась, на диво ловко скользя по полу.
– Хорош-ш-о-о… Ох, хорош-ш-о-о… Наконец-то убожество это скинула!
Безгубая широкая пасть, из которой торчал частокол длинных желтых зубов-игл, почти не шевелилась, когда хозяйка избы выговаривала слова. Хриплый, взбулькивающий низкий голос исходил то ли откуда-то прямо из горла, то ли из утробы:
– Эй, помощнички, а ну в подпол девку! И вояку – тоже!
Два страхолюда, что выскочили на окрик хозяйки из-за печи, и еще трое, с топотом ссыпавшиеся в горницу по лесенке-всходу, ростом не вышли, но силой их Тьма не обделила. Увитые тугими узлами мышц тела, ручищи – будто лопаты. У двоих брылястые морды украшало что-то вроде птичьих клювов, с зубастых харь остальных таращились россыпью черные гляделки, такие же, как у хозяйки. Одежды на страхолюдах не имелось никакой, кроме тряпичных юбок-напашников да широких кожаных поясов с металлическими накладками.
– Василий Кази… мирыч! – Терёшка снова рванулся, да без толку! Тело не слушалось, рук и ног он почти не чувствовал, а хрип из горла вырвался сдавленный и сиплый. – Очнись!..
Василий не слышал, продолжая раскатисто похрапывать. Богатырь так и не проснулся, когда подскочившие страшилы вцепились в него и с натугой поволокли к черному зеву подпола, крышку которого уже отворотил один из клюворожих. Меч и длинный боевой нож с пояса русича сорвал другой брылястый уродище и, недовольно хрюкнув, швырнул под лавку. Следом за Казимировичем к подполу поволокли бесчувственную Мадину. Голова у царицы моталась из стороны в сторону, одна коса расплелась и мела половицы.
– Не старайся, он не очнется, – в голосе хозяйки, опять склонившейся над Терёшкой, прозвучала усмешка. – А в тебе, гляжу, не простая кровь течет, паренек, раз ты после яда жальцев выжил да так быстро в себя пришел. Редкая мне добыча перепала, сочная. И меня вон, видишь как я есть, и нож у тебя ой до чего любопытный…
Терёшку, с ненавистью глядевшего в буркала чудища, как ударило. Мальчишка лишь сейчас понял: пояса с отцовским ножом на нем нет. А проследив за взглядом твари, рассмотрел, что его полукафтан и пояс лежат на чем-то вроде ларя в углу горницы. Парню наконец сделалось ясно, почему камень в рукояти ножа, меняющий цвет при встрече с нечистью, не предупредил Добрыню и Василия. Видать, раздевала Терёшку сама хозяйка и догадалась убрать нож с глаз гостей подальше.
– С теми, кто его ковал, у меня счеты старые, – осклабилось чудище. – А что не из Синекряжья вы, я сразу раскусила. Для местных вы, русичи, за своих, может, и сойдете, а меня вам не провести.
Терёшка никак не мог оторвать взгляда от скалящейся жуткой морды. Что это за Чернобогово порождение иномирное такое? И откуда оно про Русь и Китеж знает?..
Служки, выбравшиеся из подпола, поухивая и урча, тем временем уже пристроили крышку на место. Двое присели рядом на корточки, остальные ожидающе уставились на хозяйку: какие, мол, приказания еще будут?
– Тобой я прямо сейчас полакомлюсь, – неспешно продолжала меж тем жуть со щупальцами. – Давно парного молоденького мясца не пробовала, соскучилась… Только кровушку сперва из тебя выцежу. Она мне на другое надобна.
Шипящий хриплый голос аж мурлыкнул, и сын Охотника невольно стиснул зубы. Страшно было до того, что заорать хотелось, но парень вдруг поймал себя на мысли, что еще чуть-чуть, и из пересохшего, сжатого судорогой горла у него против воли вытолкнется смех. Да что ж это такое делается: ведь и трех недель не прошло, как еще одна людоедка, чащобная ведьма-вештица, собиралась принести его в жертву Чернобогу, запугивая почти теми же словами… Медовый пряник он для отощавшей на скудных лесных харчах нечисти, что ли?
«Мне только кровь да сердце твои надобны, дитятко… Я твою кровь нынче выпью – и душа твоя на Ту-Сторону уйдет. К повелителю…»
И, как и тогда, отчаяние разом куда-то отступило. Терёшку захлестнула жаркая, упрямая и бесшабашно-злая ярость. Нельзя сдаваться. Рано гадина слюни роняет. Вештица клыки гнилые об него обломала, и этому неведомому отродью Чернояра он себя сожрать не даст.
Время надо как-то потянуть – на разговор тварь вызвать, что ли, пускай побахвалится… А там, дай Белобог, руки-ноги отойдут, его же на этот раз связать не озаботились.
И заодно, глядишь, к ним с Василием и Мадиной подмога подоспеет. Алырская царица помянула, что Добрыня Никитич за знахарем для него, Терёшки, куда-то поехал. Значит, жив богатырь и цел… Лишь бы с воеводой по дороге никакой беды не стряслось. Страшилище-то наверняка басню про знахаря выдумало, чтоб спровадить Добрыню прочь из своего логова и без помех с остальными расправиться… Не по зубам воевода ему, видать!
– Не… поперхнись… ненароком… – выдохнул парень. – Наш старший… вернется… и нас выручит…
– А ты смелый, – в гляделках твари снова промелькнуло удивление. – Хочешь поболтать напоследок? Что ж, храбрец-удалец, давай поболтаем. Я по душевным разговорам стосковалась. Путники сюда редко заглядывают, скуку разогнать нечем… А большого богатыря мои слуги в лесу задержат. Воротится он не скоро.
Повелась, подлюка! Проглотила наживку вместе с крючком. Как оголодавшая щука, что без разбору на любую добычу бросается – от плотвицы до утки и водяной крысы. Ну да, нечисти только дай про себя, любимую, байки потравить.
– Мы-то уже подумывали на новое место перебираться. Поживы тут мало, слезы одни. Так что спасибо вам, дурни из Белосветья, очень вы вовремя мне попались, – покачиваясь на ногах-щупальцах, чудище заскользило к ларю у двери. Откинуло крышку и вытащило странную посудину – что-то вроде здоровенного двухведерного самовара, но из черного стекла и на трех железных лапах. Поволокло к столу. – С теми двумя, в подполе, пусть избушечка развлекается, а то совсем она, бедная, изголодалась. Кто из них покрепче окажется, тот еще поживет… немножко. А я покуда тебя выпотрошу. Для моих дел, чтоб ты знал, мертвечина не пригодна. И лучше, чтоб живое человечье мясо в сознании было, вот я тебя отхаживать и взялась. Побоялась, подохнешь от яда раньше времени – а ты, эвон, сам оклемался, щенок неблагодарный, зря только старалась и на тебя снадобья изводила! Да еще, даром что в беспамятстве валялся, как-то учуял, что возится с тобой не человек… Сестрицы б такого оценили, сильный, смелый, волшба, жаль не девчонка, а то б переманили…
О чем это тварь вдруг отрывисто забормотала, обращаясь уже не к пленнику, а сама к себе, уразуметь парень не сумел. Чушь бессвязная какая-то, ни складу, ни ладу… А чудище, поставив «самовар» на стол, словно разом очнулось.
– Ну, ничего, как подзакушу, так сил наберусь, и с вашим старшим легко справлюсь. Даже волшбу в ход пускать не придется.
– Погоди… хвастать… – после непонятных, но донельзя жутко прозвучавших слов нечисти об изголодавшейся избе у Терёшки опять сердце прыгнуло к горлу, но уже от страха за Василия и Мадину, а не за себя. – Он… и не таких, как ты… одолевал…
– Ой ли? – с насмешкой отозвалось чудище. – Силушка-то его богатырская здесь, в чужом мире, почти вдвое убавилась. И у его приятеля – тоже. Вы что, ясны соколы, и про это не знали, когда сюда совались? А дивокони твоих дружков вам сейчас не помощники. Думаешь, с чего дряни мерзкие не почуяли, что с хозяевами беда? Я на них чары навела, пока тот вояка стряпней моей угощался…
Людоедка возилась с посудиной, а один из служек меж тем стащил с печи и приволок хозяйке большой плоский короб. Когда та принялась раскладывать на столе вынутые оттуда кривые тонкие ножи и иглы, Терёшка зло прикусил губу и ощутил во рту соленый вкус крови.
Не показывай ей, что боишься, с ожесточением приказал себе мальчишка. Не радуй эту погань зубастую, не хорони прежде смерти ни Василия Казимировича с алырской царицей, ни себя. Ты, Терёха, покуда ни до Китеж-града не добрался, ни об отце своем родном, чей серебряный крест-секирку на груди носишь, так ничегошеньки и не узнал. Так что рано еще сдаваться. Отец-то на твоем месте, поди, не сробел бы, придумал, как выпутаться и товарищам в подполе пособить… Не смей память о нем позорить, понял? А приемный твой батюшка Пахом чему тебя учил, когда ты мальцом нос расшибал, палец ножом рассаживал да с лошади падал и хныкал? «От напасти не пропасти, а на свете два раза не помирать…» Пока живой – барахтайся. Дерись. Даже если нечем.
Ну, а коли придется все-таки на Ту-Сторону уходить, плюнуть в морду твари напоследок у тебя сил хватит. Не дождется она, чтобы ты раскис, слезу пустил и портки от страха намочил.
– Я и не надеялась уже, что так повезет. Три года, как владычица меня от Охотников спасла и здесь укрыла. Только в этой глуши иномирной толком и добычей не разживешься. А как в Белосветье вернуться, не знаю, – чудище, кажись, даже вздохнуло, – ну ничего, ты мне подскажешь. Или тот из приятелей твоих, кого изба не доест. Под моими ножами вы, люди, разговорчивыми делаетесь.
– А кто хоть… ты такая? – прохрипел Терёшка. – Обидно-то… не узнать даже… кому на обед пойдешь…
И обнаружил, что язык слушается получше, меньше заплетается.
– Не понял еще? – уронила тварь с ленивой издевкой. – Или ты про нас не слышал? Коли так, тебе оно и ни к чему. А вот как ты умирать будешь, я, пожалуй, сначала расскажу. Позабавлю тебя, чтоб знал, чего ждать.
* * *
Овраг остался позади. Пестрые заросли наконец расступились, и в просвете между деревьями показалась «ведьмина плешь», посреди которой стояла изба отступницы.
Хозяйка наверняка не ждет, что он вернется так быстро, колотилось в висках у Добрыни во время скачки через чащу. Не срежь великоградец путь, они с Бурушкой еще огибали бы овраг, а задержать воеводу в лесу служки яги, видать, должны были на обратном пути к избе.
Именно задержать. Скорее всего, гадам велели оставить русича без коня, может быть, ранить, но не убить. Не просто потому, что яга не могла не понимать: сами сладить с богатырем ее уроды не сумеют. Из книги Ведислава Добрыня помнил, что на зелья, которые отступницы стряпают из тел своих жертв, человечья кровь годится лишь горячая. Еще не остывшая.
«Сверху! Снова!» – предупреждение неистово заржавшего Бурушки ворвалось в мысли, когда до заросшего багряными папоротниками края поляны оставался какой-то десяток саженей.
На этот раз поджидавший в засаде черный летун напал молча. Без крика. И напал в одиночку! Значит, гусей-лебедей у яги в запасе всего-то парочка и была.
То ли зубастая дивоптица, выцеливая их, кружила высоко над опушкой, то ли караулила в засидке, но врасплох богатыря на сей раз она не застала. Стрелять из лука с коня, по-степняцки, Добрыня обучился еще лет в одиннадцать. Снаряженный заранее лук он выхватил из саадака не глядя. Сжав коленями бока жеребца, потянул из колчана стрелу и привычным стремительным движением натянул тетиву к правому уху. Она звонко запела-загудела, когда усиленный роговыми подзорами [17] и лосиными сухожилиями лук послал стрелу в полет – длинную, с тяжелым, граненым железным жалом. Вслед ей с тугой сыромятной тетивы сорвались еще две.
Добрыня знал, что не промахнется, да и трудно было промахнуться по такой туше. Гусю-лебедю, который заходил на них с Бурушкой, широко расправив крылья, первая стрела угодила чуть выше основания шеи. Вторая – в грудь, третья – в правое крыло.
И от крыла, и от скользкой вороненой брони перьев, внахлест покрывающих грудину, обе отскочили. Хотя Добрыня из этого лука, который обычный человек не смог бы даже натянуть, наповал укладывал, бывало, тура на охоте. А стрелу, завязшую в мышцах шеи, дивоптица, кажется, даже не заметила.
Бурушко резко развернулся на скаку. Чернокрылый страх пронесся над ними и пошел вверх, набирая высоту для следующей атаки. Добрыня успел увидеть, как блеснул частокол острых треугольных зубов в распахнутом клюве.
Этот гусь-лебедь был не только крупнее и мощнее зарубленного воеводой, он и в драках был, видать, куда опытнее. Задетую клинком в схватке у оврага левую лапу берег, а вот когти-ножи правой один раз ухитрились скрежетнуть по кольчуге на плече богатыря и дважды оставить росчерки на щите, который Добрыня перебросил на руку. Лук, поняв, что стрелы бесполезны, русич отправил обратно в саадак и выхватил меч. Отбивая выпады клюва-пасти и когтей, воевода мельком успел подумать: все-таки это не нечисть – живая птица, пускай и небывало громадная. Нечистую силу от булатной стали, как и от серебра, корчит и корежит…
Но великоградский булат все равно выручил. Когда гусь-лебедь, снизившись, попытался хлестнуть Бурушку крылом по морде, Добрыня, выпрямившись в стременах во весь рост, рубанул мечом – сверху и наискось. Сталь клинка блеснула белой молнией, рассекая перья и кости, и одним ударом отсекла левое крыло.
Гусь-лебедь жутко вскрикнул. Обливаясь темной кровью, черная туша косо дернулась в воздухе и рухнула в папоротник. Сдаваться дивоптица не собиралась до последнего. Вытянула шею и разинула пасть, с усилием пытаясь приподняться на лапы, да не успела. На шею и голову гуся-лебедя обрушились копыта Бурушки. Подковы зло оскалившегося коня били, как молоты. Зубастый клюв судорожно раскрылся в последний раз, затянулись мутной пленкой красные глаза. По смятой черной груде перьев еще прокатывались волны дрожи, но всё уже было кончено.
– Умница мой, – прошептал Добрыня, чуть подаваясь вперед в седле и посылая пяткой сапога жеребца в намет.
Нет, не зря и по дороге к избе людоедки, и во время боя с гусем-лебедем он не переставал ждать от яги еще какого-то пакостного подвоха. Правильно ждал. Серко и Гнедко стояли у крыльца неподвижно, погруженные в тяжелый морочный сон-оцепенение. Головы опущены, глаза полузакрыты, чуткие уши поникли. Белогривый, в яблоках, красавец-жеребец Василия, похоже, и не чувствовал, что над ним целым облаком роится гнус, а по ноздрям и векам ползают мухи. У Гнедка, тоже облепленного мошками-кровопийцами, расслабленно отвисла нижняя губа – никакого внимания на крылатых мучителей не обращал и он.
Околдованные скакуны даже мордами не потянулись в сторону Добрыни, соскочившего с седла и поспешно к ним бросившегося. Словно и не почуяли его с Бурушкой, и не услышали… И только когда Бурушко тревожно заржал, окликая товарищей, оба жеребца встрепенулись, а Серко, будто медленно просыпаясь, ответил на зов тихим неуверенным всхрапом.
«Скорей! – вспыхнуло огненной вязью в мыслях Бурушки. – Я их разбужу, а ты – в дом! Там плохо!»
– Ждите! – крикнул Добрыня, взбегая на заскрипевшее крыльцо. – Начеку будьте!
Дверь в сени тяжело грохнула за спиной.
* * *
Тварь, так и не сказавшая Терёшке, кто она такая, в самом деле не сомневалась, что Добрыня Никитич воротится не быстро, а значит, и торопиться некуда. В том, что отравленный юнец еще долго останется беспомощным и неподвижным, гадина тоже была уверена. Прощупала окостеневшие, толком ничего не чувствующие мышцы рук и ног мальчишки, ткнула ему в здоровое предплечье и под колено длинной иглой, проверяя, не дернется ли от боли, и одобрительно хмыкнула.
– Вот и ладно. И привязывать тебя не придется, и закончу с тобой быстрее, – деловито-равнодушно объяснила она. Словно курице, которую собралась к обеду резать.
И эта холодная деловитость была даже страшнее, чем блеск безумия в бесцветных глазах вештицы Росавы.
Поставив на стол посудину, смахивающую на самовар, и разложив вокруг ножи, хозяйка избы принялась возиться у печи с какими-то скляницами. Сгоняла одного из своих уродов куда-то наверх, и тот притащил и плюхнул на скамью тяжелую ступку, вроде бы железную – зачем она, Терёшка даже гадать не хотел. Зажгла на столе причудливого вида курильницу, откуда заструился плотный, кисло пахнущий синеватый дым. А заточкой обоюдоострого кинжала с черной рукояткой и покрытым рунами клинком, который бережно достала со дна короба с ножами, осталась недовольна. Точила страхолюдина свой кинжал долго и тщательно, прикасаясь к зачарованному оружию с явным почтением и мурлыча под нос что-то непонятное – то ли песню, то ли заклинание. Клешни и щупальца управляться со всем этим колдовским хозяйством людоедке ничуть не мешали.
Для чего какой из ножей и какие из игл служат, она Терёшке, как и посулила, подробно да неспешно растолковывала. Никакого подвоха от жертвы, смирнехонько лежащей на лавке, нечисть не ждала, а у парня меж тем в груди захолонуло. Но не от ужасов, которые тварь расписывала. Он ощутил, что онемение в теле помаленьку начало проходить. Кисти рук ожили первыми, зазудело-зачесалось раненое запястье, следом колющие мурашки поползли вверх, от ступней, по ногам.
Терёшка боялся пошевелиться, чтобы себя ненароком не выдать. Лихорадочно метались мысли: только бы Казимирович с царицей там, в подполе, были еще живы… и только бы добраться до отцовского ножа… или до ножа Василия, его клинок тоже булатный, а нечисти булат ох как не по вкусу… Если не выйдет отвалить крышку подпола, то хоть жизнь свою продам незадешево. Шкуру тебе, погань, точно попорчу, зубами, если что, рвать буду…
И все-таки в собственную смерть, скорую и жуткую, парню упрямо не верилось. Ну никак. Плохо верится в такое, когда тебе сравнялось пятнадцать. «Ты, ягодка моя, далеко полетишь», – в какой раз вспомнилось мальчишке предсказание берегини Ветлинки. Не зря же та напророчила ему впереди удачу… Не может такого быть, чтобы Ветлинка ошиблась, гадая по воде и по ракушкам на Терёшкину судьбу!
А потом в сенях раздался грохот сапог. Дверь в горницу задрожала под градом ударов. Повисла на одной петле, едва не вышибленная вместе с косяком, и распахнулась настежь.
* * *
– Проснись! Да проснись же, задери тебя леший!
Сначала Василий смутно ощутил, как на щеку ему капнуло что-то горячее. Обожгло. Сильно. Это ощущение ожога разом вытолкнуло богатыря из омута непробудного сна, в котором он тонул. Великоградец услышал над собой сдавленные и злые женские всхлипывания. Потом разобрал, что в него вцепились чьи-то руки и безжалостно трясут, а сам он лежит на чем-то твердом и неудобном. Казимирович замотал головой, стряхивая с себя остатки сонного морока, зевнул, едва не вывихнув челюсть, и открыл глаза.
Под веки, которые он еле разлепил, словно песка насыпали, голова была тяжеленной. Сперва Василий понял только то, что вокруг темно. И запах… хоть ноздри затыкай. Воняло сразу и бойней, и выгребной ямой, а приправлял всё это резкий едко-кислый душок, очень напоминающий тот, какой исходит от свежеразрытой муравьиной кучи.
Богатырь широко и судорожно зевнул снова, еще ничегошеньки толком не соображая, и наконец угадал по голосу в склонившейся над ним и трясущей его за плечи молодке Мадину.
– Зараза худова… Это мы где? – выдавил русич.
– Слава Белобогу… – с облегчением вырвалось у алырки. Она была заплаканной, по щекам тянулись мокрые дорожки, одна коса наполовину расплелась и распустилась, и на лицо и левое плечо женщине падали растрепанные, спутанные волосы. – Я уж боялась, не проснешься. Говорила же, не налегай на здешнюю отраву, а ты знай лопаешь, как не в себя, обжирало…
Откуда она узнала про его прозвище?.. Лишь тут в голове у Казимировича всё окончательно встало по местам, да и глаза к полутьме попривыкли, но богатырь по-прежнему ничего не понимал. Заснул-то он после обильного угощения в горнице у Премилы, на лавке, а проснулся не пойми где. Холодный осклизлый пол, низко нависающий потолок в разводах тускло светящейся белесой плесени. Сыро, как в выстывшей бане. А еще Василий видел прямо над собой четырехугольник задвинутой крышки подпола. Вниз спускалась от нее узкая лесенка.
Казимирович потер затылок, сел, огляделся, и на макушке зашевелились волосы, хотя трусом великоградца отродясь никто не называл.
Ровный и гладкий пятачок пола рядом с лестницей, там, где сидели русич и алырка, оказался совсем махоньким. Василию еле-еле хватало места свободно ноги вытянуть. Дальше пол уходил под уклон, а подвальный сруб – да и сруб ли это был? – выглядел до того бредово и жутко, что стыл хребет. Ни дать ни взять, угодили богатырь с царицей в брюхо неведомого чудища, проглотившего их живьем.
Стены подпола бревенчатыми назвать язык не поворачивался, больше всего походило это на переплетение оголенных мышц, с которых кожу содрали. Синюшно-фиолетовых, подрагивающих. Сквозь склизкую упругую плоть сеткой прорастали не то вены, не то полупрозрачные хрящеватые трубки. Мерно пульсировали и гнилостно мерцали – таким светом сияют шляпки поганок ночью на болоте.
Из пола к своду подвала тянулись толстые, обхвата в полтора, опорные столбы-сваи. Тоже мокрые и блестящие, как только что освежеванное мясо. Их было четыре. Со свода между столбами свисала сопливая бахрома жирных белых сосулек, с их концов что-то дробно капало. Глубину подвала, насколько видел в полутьме глаз, заполняла перекрученная клубками мешанина каких-то отростков, раздутых, как громадные колбасы. Или как чьи-то судорожно сокращающиеся кишки…
Богатырь выбранился. Негромко, но цветисто.
– Как мы… сюда попали-то? – выдохнул он.
Великоградец уже представлял, что услышит в ответ, и мысленно честил себя, болвана-простака, на все корки самыми непотребными словами.
– Ты заснул, а я по голове получила от Премилы вашей распрекрасной, – огрызнулась Мадина. – В себя уже тут пришла, в подполе… Паренек ваш очнулся, я Премилу позвала, а малец ее как увидел – глаза вытаращил. Сказать что-то хотел, да не успел толком. Одно и прошептал: «Берегись!..» Вот тогда она меня и огрела… Что теперь с ним и с Добрыней Никитичем, не знаю.
Василий опять зло ругнулся. Потом – еще раз, когда обнаружил, что на поясе нет ни меча, ни ножа. И поздравил себя с тем, что они крепко влипли. Никакая Премила не жена царского лесничего, это ясно как белый день. Ведьма она, продавшая душу Тьме, причем ведьма не из слабых. У кого еще быть в избе такому подполу? Лиходейка уж точно тут не квашеную капусту с мочеными яблоками хранит… Да и помнил Казимирович, какой дар достался Терёшке от отца-Охотника. Что же за жуть увидел парень под личиной пригожей и участливой молодухи?..
Одно греет душу – Терёшка жив и в себя пришел, а Добрыню Премила ничем угостить не успела. Зато как бы не угодил ничего не подозревающий побратим в ловушку в лесу…
– Сказочку эта тварь для нас сплела знатную. Еще и серебро вон нацепила, охранные руны намалевала… И об заклад побьюсь, нет у нее никакого мужа, – пробормотал Василий, поднимаясь на ноги.
Во рту было мерзко, голова трещала, как с тяжкого похмелья. Подпол-утроба пугал до икоты, но чем дальше, тем сильнее казалось Василию, что это не просто темница для угодивших к ведьме в лапы пленников. Откройся перед ними с Мадиной сейчас где-нибудь в углу вход прямиком в Чернояр, русич даже не удивился бы.
– Слушай, государыня, а у той колдуньи-лисы дочки или внучки часом не было? – нахмурился Казимирович.
– Ты думаешь… Да нет вроде, Николай бы знал, – охнула Мадина. – И… в толк не возьму еще: почему нас не связали?
Великоградцу эта непонятная промашка Премилы тоже покоя не давала, но пока было не до того. Взобравшись по лесенке, ведущей к лазу в подпол, Казимирович попытался надавить на крышку. Сначала плечом, потом – обеими руками. Потом хорошенько добавил кулаком. Без толку, хотя кулачным бойцом Вася в дружине был не последним, любил это дело, а на батюшкином подворье, еще юнцом, как-то взбесившегося быка одним ударом промеж рогов наземь уложил. Ни сдвинуть крышку подпола, ни выворотить не получалось, та словно вросла в пазы.
Ни единого лучика света сквозь щели между ней и половицами не пробивалось. Снаружи, из горницы, не доносилось ни звука, как русич ни прислушивался. Будто отделяла от нее подполье толща земли и камня аршинов этак в пять.
Богатырь заколотил сильнее, и его передернуло от гадливости. Василию почудилось, что осклизлая крышка упруго проминается под костяшками кулаков. Как живое мясо под толстой влажной шкурой.
Позади, за спиной, что-то громко забурлило и выдохнуло-всхлипнуло. С таким звуком, нутряным и глухим, вырываются, лопаясь, пузыри из растревоженной трясины. Русич обернулся через плечо и увидел, как побежали по стенам подпола волны дрожи. Вспыхнула болотной зеленью сетка трубок-вен, оплетающая стены, налились изнутри гнойным желтым свечением сваи, что поддерживали свод подвала. Задергалась-зашевелилась мерзость, похожая на кишки, и тоже бледно заискрилась, истекая клейкими нитями светящейся слизи.
А потом великоградца накрыло.
Сознание у Василия помутилось так резко, что он пошатнулся, ушибся плечом о стену и тяжело опустился на ступеньку лесенки. В горле запершило, слюна во рту стала горькой, перед глазами потемнело. Это было как жесткий удар, прилетевший в затылок. А следом в сознании богатыря зашарили чьи-то липкие, скользкие и жадные щупальца, без жалости выворачивая разум наизнанку. Щупальца чего-то чужого, хищного, неистово голодного, пытающегося добраться до самых потаенных закоулков души, памяти и рассудка. Высосать из них живое тепло и до краев залить взамен черной отравой, в которой слабый человечишка захлебнется.
– Вспоминай, – велели Василию чьи-то холодные скрипучие голоса. – Всё то, о чем тебе вспоминать нестерпимо больно и стыдно… о чем ты хочешь забыть, да не выходит… Вспоминай всё, что гнетет… что лежит на сердце камнем… что сочится из него гноем и сукровицей… Вспоминай всё, что снится тебе в тяжких снах и заставляет холодным потом покрываться… Вспоминай всех, кого потерял, подвел, не сберег, перед кем никогда не искупишь своей вины… Эти раны не заживут, эту боль не исцелить, а жизнь – дурной бессмысленный морок… Уж лучше не быть, не мучиться… Сдавайся, воин. Так легче, так проще, так честнее, так ты больше никого не предашь, и никто не предаст тебя… Так не наделаешь новых непоправимых ошибок, никого не загубишь, нико…
– А вот хрена без сметаны вам… – прохрипел Казимирович, тряся головой.
Он словно из темной болотной воды вынырнул, тяжело дыша. Тело бил озноб, спина под рубахой взмокла, виски, затылок и темя раскалывались, но навалившееся наваждение отпустило, будто лопнули какие-то невидимые арканы.
В уши ворвался тихий, захлебывающийся и сдавленный плач. Мадина по-прежнему сидела на полу, сжавшись в комок и спрятав лицо в ладони. Плечи ее без удержу тряслись.
– Эй, Мадина Милонеговна! – хрипло, с тревогой, окликнул царицу богатырь, но та даже головы не повернула.
Спрыгнув с лесенки, Василий бросился к алырке. Опустился рядом на колени, осторожно тронул за руку. Плач прервался, царица отвела ладони от лица и подняла на русича глаза. Они были совершенно безумны, взгляд – остекленевший, к щекам, залитым слезами, липли разметавшиеся пряди волос, а губы мелко прыгали.
– Пусти, – простонала она. – Незачем… Всё – незачем… Мы отсюда… только на смерть выйдем… Сейчас придут… и скажут: пора ехать…
– Кто придет? – Василий вздрогнул. – Куда ехать?
– Они… Батюшкины люди… А батюшка… меня не обнял даже… напоследок… – всхлипнувшую алырку вновь всю затрясло. – Дядя Славомир сказал… прости его, Мадинушка… тяжко ему… совестно… А на взморье… цепи были холодные… ой, холодные… и чайки кричали… как плакальщицы на похоронах… И я Белобога молила… чтоб скорее… Чтоб сразу… Сразу – лучше, так и нынче надо… Пусти-и!..
Ее голос надломился, плач перешел в надрывный громкий смех.
У царицы в головушке тоже похозяйничали, сообразил Василий. Вот чего он не ожидал, так это того, что Мадина зашипит, как разъяренная кошка, вырвет руку и выбросит ее вперед, целясь растопыренными пальцами ему в глаза. Голову богатырь успел отдернуть, ногти алырки мазнули по скуле, а сама она проворно отползла на четвереньках назад. Вскочила на ноги и, оскальзываясь на влажном от слизи полу, метнулась в глубину подвала.
Теперь ясно, почему оружие-то у него отобрали, а вот связывать их с Мадиной не стали. Просто ни к чему было. Премила не сомневалась, что пленникам против чар избы не выстоять.
Опорная свая, к которой, пьяно шатаясь, подбежала алырка, еще муторней засияла холодной ядовитой желтизной, когда Мадина обхватила ее руками и прижалась-прильнула к ней всем телом. Василий, кинувшийся к царице, обмер. Влажно блестящая поверхность столба словно бы подалась, прогибаясь, навстречу Мадине… и сделалась полупрозрачной. Как мутное, запотевшее стекло или густой студень. В толще этого студня ветвились какие-то жилы и хрящи, что-то пузырилось и темнели непонятные бесформенные пятна.
Богатырю пришли на память куски янтаря с застывшими внутри жуками и мухами – такую диковину он как-то видел в Великограде, в лавке купца из Латырского царства, где присматривал сережки в подарок одной из своих зазноб. А вглядевшись в очертания самого большого пятна, обомлевший Казимирович понял: перед ним человеческий череп. Полупереваренный. Кожа, волосы, плоть – всё это растворилось в желтом студне дочиста.
Руки Мадины уже начали погружаться-втягиваться в эту дрянь, как в вязкую полужидкую смолу. Их Василий отодрал от сваи первыми, а затем ухватил алырскую государыню разом за плечо и за талию и с силой рванул на себя. Чавкнуло, сочно хлюпнуло, и ловушка выпустила жертву. Одежда, лицо и волосы царицы были перемазаны клейкой слизью, но толком прилипнуть к свае за несколько мгновений женщина не успела.
Подхватив обмякшую алырку, великоградец оттащил ее от столба. Усадил на пол у лестницы и принялся трясти за плечи. Мадина со стоном открыла глаза. Вскрикнула, дернулась в богатырских руках, снова пытаясь вырваться, и русич с маху отвесил царице хлесткую пощечину.
Алырка задохнулась. Прерывисто всхлипнула еще раз, и Казимирович с облегчением увидел, как стеклянная пустота из ее глаз медленно уходит.
– Спасибо, – еле слышно прошептала наконец Мадина, отвернувшись от богатыря.
Слезы и слизь рукавом со щек царица утерла размашисто, хотя руки у нее всё еще дрожали. Да и не только руки, колотило ее всю.
Казимирович перевел дух. Свечение у него за спиной медленно тускнело. Ведьмина изба, у которой прямо из пасти вырвали лакомый кусок, не дав даже надкусить, затаилась и настороженно выжидала, что будут дальше делать дерзкие людишки. Но надолго ли ее терпения хватит?.. А может, сил набирается и скоро снова за свое примется?..
– Вот что, Мадина Милонеговна, нечего нам тут куковать, а то сожрут. Одни только косточки и останутся, – решительно сказал Василий, окончательно убедившись, что алырка снова в себе. – Давай-ка вставай потихонечку… Вот так, за меня держись…
Великоградец сам себя оборвал на полуслове, напряженно вслушиваясь в гулкую стылую тишину подвала. Показалось ему или наверху раздался какой-то шум? Неужто пробились звуки сквозь толщу стен?..
Мадина меж тем кивнула. Уцепившись за Василия, поднялась на ноги. Ее качало, но на лесенку, ведущую к лазу в подпол, вслед за побратимом Добрыни алырка взобралась сама. А богатырь опять изо всех сил, с ненавистью стиснув зубы, налег на крышку подпола плечом.
И заколотил в нее еще яростнее, когда понял, что ему не померещилось. Колдовской морок, не дававший пленникам расслышать, что творится в горнице, тоже будто развеялся в одночасье следом за опутавшими Казимировича и царицу дурманными чарами. Наверху что-то грохотало, звенело железо – там явно шел бой.
* * *
В дверь, ведущую из сеней на жилую половину избы, воевода от души саданул сапогом, но вынести ее с одного удара не вышло. Все-таки аукнулись Добрыне схватки с нечистью да гусями-лебедями, поизмотали богатыря, а сама дверь вдобавок, как приросла к косяку. Пришлось садануть еще раз, а потом добавить плечом.
Он чудом не опоздал. Но когда, ворвавшись в логово людоедки, потянул из ножен меч, застыл на пороге. Хотя к чему-то такому и готовился.
Наваждение, напущенное ягой, сгинуло. Уютная веселая горница стала тем, чем на самом деле и была, – полутемной пещерой с осклизлыми стенами, мерцающими бледным гнилушечным светом. Никакие не охранные руны были густо поначерчены по ее углам и над подслеповатыми, узкими, как бойницы, окнами, а совсем незнакомые Добрыне символы, холодно отливающие зеленью. А хозяйка поджидала воеводу не в одиночку. Три зубастые и когтистые твари, застывшие у печи на корточках, очень походили на серокожего многоглазого урода, которого великоградец прикончил у оврага броском ножа. Правда, эти покрупнее были.
– Добрыня Никитич! Берегись!
Услышав хриплый крик Терёшки, с трудом привставшего на лавке, воевода чуть не охнул от облегчения и радости. Хвала светлым богам, парень живой, в памяти и в разуме! Тут же русича как ударило: ни Василия, ни Мадины в горнице нет. А уже потом великоградец встретился взглядом с повернувшейся к двери гадиной. В упор.
Хозяйку избы он застал хлопочущей у стола. Железяки, разложенные на столешнице, навевали мысли не то о пыточном застенке, не то о подземельях, где творят страшные обряды колдуны-некроманты. Дымилась курильница, что-то булькало в странного вида треногой посудине из темного стекла. Но причудливый обоюдоострый кинжал с черной рукоятью средь лежавших на столе ножей Добрыня опознал сразу.
Это был яг-кинжал. Ритуальный нож, которым пользуются чародеи-злонравы. Ходят слухи, что именно яги его колдунам людского племени первыми когда-то и показали – потому он так и зовется.
Но всё это Добрыня отметил краем сознания, исподволь. Он не сводил глаз с отступницы. Почему-то больше всего поразил воеводу рост застывшего перед ним страшилища. В личине Премилы людоедка и Василию-то до плеча макушкой не доставала, что уж говорить о самом Добрыне. Сейчас же клыкастое и клешнястое чудовище было выше русича головы на две с лишним. Так вот, значит, какое у этих тварей истинное обличье… и вправду ни в сказке сказать, ни пером описать…
Из ощеренной пасти вырвался глухой и низкий рык. Покачиваясь над полом на добром десятке толстых склизких щупалец, отступница метнулась к богатырю.
* * *
В бою Добрыню рывком севший на лавке Терёшка уже видел – в Моховом лесу, где отряд великоградцев столкнулся со стаей болотников. Тогда-то мальчишка и убедился, что рассказы о силе и воинских умениях прославленного змееборца не врут. Однако там, на болоте, всё закончилось быстро. Нынешний враг, с которым выпало схватиться Добрыне, был куда страшнее.
Гадина бросилась на великоградца с неожиданным для такой туши проворством, да только зажать противника в угол у двери людоедке не удалось.
Добрыня прикрылся щитом и принял на него удар щупальца-сабли, уже летевшего в лицо. Так же стремительно ушел от выпада острой, хищно щелкнувшей клешни. Не отпрыгнул даже, а неуловимо-мягко и легко, по-рысьи, перетек в сторону, одновременно отбивая мечом удар второго щупальца, – и тут же рубанул наотмашь.
Нечисть взвыла. Булатное лезвие прочертило у нее на груди косую полосу, сразу обросшую черной бахромой крови, что густо хлынула из длинного пореза. Один из многоглазых страшил, кинувшись на помощь хозяйке, попытался наброситься на Добрыню сбоку, но опять сверкнул булат, и в воздухе рассыпались черные брызги. Меч великоградца играючи снес с плеч урода башку, и Добрыня вновь занялся хозяйкой-гадиной. Верный клинок перехватил и отбил зазубренное острие щупальца, что змеей метнулось вперед, к горлу воеводы.
Пособить Добрыне в этом бою Терёшка ничем не мог. Разве что под ногами не путаться. Зато парню по силам было другое, он это и сделал. То, что задумал, пока валялся обездвиженной колодой, слушая похвальбу чудища.
На пол Терёшка не соскочил – свалился. Ноги не держали, и он больно ударился локтем, а на полу распластался ничком. Разлеживаться было некогда, мальчишка привстал, ухватился за сальный край лавки, глубоко вдохнул, отгоняя дурноту, и кое-как ухитрился приподняться на коленях. Кружившие друг против друга Добрыня и тварь как раз переместились к печи, и парень пополз на карачках к ларю, на котором были сложены его пожитки.
Пояс Терёшка стянул оттуда, чуть ли не теряя сознание – перед глазами уже мутнело. С облегчением стиснул в ладони рукоять ножа. Она была знакомо теплой, а полупрозрачный камень в серебряной обоймице полыхал темно-синим пламенем. И едва ладонь сыну Охотника согрело это тепло, муть в голове рассеялась, а в тело будто новые силы капелька за капелькой потекли. Сердце застучало ровнее, исчезла дрожь в ногах, и, торопливо застегивая на себе пояс, Терёшка понял, что сумеет встать.
Оглянулся на чудище и на воеводу – под ногами у Добрыни в черной луже валялись уже двое людоедкиных служек. Нечисти точно было не до пленника, и парень, спотыкаясь и прихрамывая, кинулся к лазу в подпол.
Встав на колени, он услышал глухие удары – в крышку подпола били изнутри! Терёшку обожгла буйная радость. Мальчишка изо всех сил потянул за кольцо, охнул от натуги и понял, что лаз в погреб не отворяется. А когда до него дошло, почему, коротко и крепко выругался.
Щелей между крышкой и половицами больше не было. Сверху их затянуло плотной белесой пленкой слизи, проступившей из пазов и застывшей вокруг вспученными твердыми натеками.
Парень снова дернул за кольцо. Убедился: толку – чуть. И, выхватив из ножен отцовский нож, принялся ожесточенно отскребать наросты с крышки.
В паз нож вошел нежданно легко, оттуда брызнула струей мутная вонючая жидкость, похожая на сукровицу. По доскам – если это были и вправду доски – пробежала судорога, и крышка наконец поддалась. Снизу, почувствовав это, на нее налегли крепче, и Терёшка услышал громкую брань, красочно поминающую многочисленную худову родню.
– Василий Казимирыч, я сейчас! – крикнул парень, еще торопливей орудуя клинком.
В тот же миг он почувствовал сильный удар в спину. Чудище, сообразив, что юнец вот-вот выпустит из заточения подмогу Добрыне, попыталось помешать – рванулось к наглецу и приложило его одним из своих щупалец, отбросив паренька к печке. Но ведьма опоздала, а дальше ей опять пришлось отвлечься на воеводу, тут же рубанувшего тварь по другому щупальцу.
Крышка подпола выворотилась с протяжным хлюпаньем, и из темной дыры показалась всклокоченная русая голова побратима Добрыни. Промедлил Василий, обведя ошарашенным взглядом избу, всего-то миг. Подтянулся на локтях, перебросил тело через край лаза и вскочил на ноги.
– Вася, выводи из избы… царицу и парня! – гаркнул с другого конца горницы Добрыня.
Стальное сверкающее кольцо, которое очерчивал вокруг себя мечом воевода, по-прежнему не мог прорвать ни один выпад клешней и щупальцев гадины. У слегка оглушенного Терёшки не получалось ни уследить за движениями богатыря, ни уразуметь, как Добрыне удается оставаться невредимым, да еще и шаг за шагом отжимать к стене громадную тварь, которую Чернобог не обидел ни ошеломляющей силищей, ни быстротой. Добрыня словно плясал по избе с мечом в правой руке и щитом – на левой, ни на мгновение не прекращая смертельного танца. Уворачивался и уклонялся от выпадов и ударов, пригибался, пропуская их над головой, и сам безостановочно рубил и колол, нанося удары в ответ.
Приходилось богатырю солоно – и крепко солоно. Стоит воеводе на какой-то миг открыться, пошатнуться, не рассчитать удара, поскользнуться на лужах крови и слизи, и всё будет кончено. Но Добрыню не так-то легко было одолеть – что силой, что напуском. Нечисть уже местах в пяти залилась черной кровью, а одно из четырех щупалец, растущих из ее плеч, укоротилось наполовину.
Над головой раздался топот, Терёшка обернулся и увидел, как по лестнице-всходу с чердака скатываются клюворожие страшилы, спешат на подмогу хозяйке. Следом по ступеням скакали по-жабьи и семенили вперевалку еще пять или шесть кромешно жутких тварин поменьше. Клешнястых, бельмастых, многолапых.
Свои меч и боевой нож, заметив их под лавкой на полу, Василий схватил вовремя. Прыгнул вперед, заслоняя Терёшку, на которого кинулся первый птиценосый урод. Свистнула сталь – и гад, так и не успевший полоснуть мальчишку по лицу страшенными кривыми когтями, распластался на половицах. Располовинил его клинок Казимировича надвое, от плеча до пояса. Следующий взмах меча снес полголовы второму.
Василий отвлекал служек, но и Терёшка времени даром не тратил и сиднем не сидел. Подобравшись к лазу в подпол, парень склонился над темной четырехугольной дырой, из которой отвратно несло гнилью и подтухшей кровью, и споро помог Мадине выбраться наружу.
На левой щеке у растрепанной и чумазой алырки горело красное пятно. Глаза были запухшими от слез, но при виде того, что творится в горнице, они распахнулись на пол-лица.
Меч Василия не переставал свистеть, пластая окруживших великоградца страшил. Отсек башку длинной клешнястой многоножке, которая, приподнявшись на хвосте, попыталась вцепиться богатырю в колено. Напополам разрубил прыгнувшую на русича бородавчатую четырехглазую ящерицу. Подкованные железом сапоги Василия уже были щедро заляпаны зеленым и черным.
Ухватив Мадину за руку, Терёшка потянул ее к двери, и тут женщина завизжала так, что парень чуть не оглох. С потолка на них с царицей, поджав шипастые лапы, кинулся один из «пауков» – тот, что побольше. Плюхнулся на пол, раздулся, ощетинив сочащиеся черной слизью иглы на спине, и, ощерив клыкастую пасть, заступил беглецам дорогу.
Терёшка загородил собой алырку от угрожающе напружившегося гада, тоже вот-вот готового прыгнуть, и выставил перед собой нож. Да только пустить его в ход не успел. Василий, уже разделавшийся со своими противниками, опередил парня, сгоряча не сообразившего, что с ножом к такой хищной да ядовитой дряни нельзя подходить близко. Из-под лезвия богатырского меча, отрубившего «пауку» одну из лап, хлестнула темная жижа, и, заваливаясь на бок, тот забился в корчах, точно на горячей сковородке. Вторым ударом Казимирович его прикончил.
– Ну куда полез, мало тебе было? – сердито бросил через плечо Василий Терёшке, махнув рукой обоим – и ему, и остолбенело застывшей за спиной у парня Мадине. – За мной, живо!
Но добежать до двери они не успели. В дверном проеме показались еще трое человекоподобных уродов, проскользнувших в горницу из сеней.
Да сколько же их там в запасе-то у людоедки?!
Та по-прежнему не давала Добрыне ни подобраться к ней со спины, ни прижать себя к стене. А воевода мешал ей добраться до освободившихся пленников. Одно из щупалец, заменявших чудищу ноги, неловко волочилось по полу, оставляя за собой темный след. Левую клешню Добрыня тоже зацепил. Но и у самого щит сплошь был иссечен следами ударов. Раны хозяйку избы вконец разъярили. До бешенства.
Василий метнулся наперерез лезущим из сеней страхолюдам. Первому всадил меч в горло. Второй, пошустрее и помельче, сунулся было к богатырю сзади, но на подмогу к Казимировичу подоспел Терёшка. Держа нож прямым хватом, лезвием вверх, парень выбросил руку вперед, нанося противнику короткий, без замаха, удар тычком прямо в подвздошье. Как учил Яромир. Гад взвыл, согнулся пополам, и сверху на толстую короткую шею, почти утопленную в искривленных плечах, молнией упал клинок Василия.
– Молодец! – крикнул мальчишке Казимирович, обрушивая меч на голову третьему страшиле.
Но охнувший Терёшка уже смотрел совсем в другую сторону. Мадина тихо вскрикнула и зажала себе рот ладонью.
Правая клешня твари все-таки задела Добрыню. Пока тот отбивал удар щупальца-сабли, рушившегося ему на шлем, второе щупальце оплело русичу щит, дернуло и вынудило богатыря открыть левое плечо и грудь. На полмига, не больше. Но ударить воеводу под ключицу двузубая острая клешня успела. Стальная кольчуга выдержала, спасла хозяина, да и сам Добрыня успел чуть отклониться назад, а второй молниеносный выпад клешни отвести краем щита. Однако равновесия не удержал, его шатнуло и отшвырнуло к печи. Великоградец еле устоял на ногах, а нечисть торжествующе взревела.
От ее броска воевода с трудом, но ушел. Качнулся-подался всем телом в сторону, сам прыгнул вперед, вновь пригнулся, полоснул чудище косым рубящим ударом и сумел подсечь еще два щупальца, на которых оно скользило по полу. Теперь уже людоедка пошатнулась, зашипев от боли, и на мгновение открылась. Добрыня этой возможности не упустил. Позволил твари вцепиться в щит и, отпустив его, поднырнул под левую, покалеченную клешню. Припав на колено, богатырь снизу вверх всадил гадине в брюхо меч почти до половины клинка. Левой рукой перехватил рукоять снизу, у яблока, надавил на нее уже обеими руками, вложив в это всю оставшуюся силу… и резанул справа налево.
Обычный человек и близко не смог бы рассадить клинком толстенную броню мышц, прикрывавших чудищу живот, – да еще из такого положения. И уж тем паче не смог бы ее прорубить одним ударом. Добрыня сумел, а булат великоградской ковки не подвел. Из длинного развала раны, протянувшегося до нижних ребер чудища через всю брюшину, потоком хлынули дымящиеся слизь и кровь. Падая и роняя богатырский щит, гадина взвыла так, что чуть не обрушились потолочные балки.
Казимирович бросился к Добрыне. За ним – Терёшка: пусть потом богатыри всласть бранят да распекают его за самовольство и за то, что полез вперед тятьки в Чернояр. Чем в силах, он должен пособить! Однако помощь была уже не нужна. Двумя взмахами меча Добрыня под корень снес упавшей на спину людоедке оба щупальца-клинка, беспорядочно мельтешащих в воздухе, и вбил меч в широко разинутую, воющую клыкастую пасть.
Вой перерос в бульканье – утробное, захлебывающееся. Тварь заскребла клешнями по полу, пытаясь отползти к двери и волоча за собой кишки, грудой вывалившиеся из распоротого брюха. Но всё, что она могла – это дергаться в судорогах. Черные буркала, таращившиеся на русичей с уродливой, искаженной ненавистью морды, одно за другим стекленели и угасали.
– Друже! – Василий подбежал к побратиму. – Цел?
– Да… – с усилием прохрипел Добрыня. Лоб и скулы воеводы были мокрыми, точно в лицо ему плеснули ведро воды. Дышал он тяжело, грудь под кольчугой вздымалась, как кузнечные мехи. – Терёха… ты молодчина…
Ладонь воеводы взъерошила и растрепала Терёшке волосы, и мальчишка напрочь потерялся от смущения. Туша людоедки меж тем вновь задергалась-заелозила на полу. Выгнулась в корчах – уже в последних. Из хрипящей зубастой пасти толчком выплеснулся еще один поток смолистой крови, чуть не залив Добрыне сапоги.
Тогда-то половицы под ногами у победителей и заходили ходуном.
Пол избы перекосился и вздыбился. Горницу наполнил невесть откуда исходящий гул, глухой и низкий. Разом заныли зубы и заломило в висках. Посыпались с печи и с полок по стенам короба и склянки, со стола – ножи, опрокинулась на столешнице и слетела, громыхая, на пол непонятная посудина, вокруг которой по полу растеклись ручьи пузырящейся пены. Изба завопила, будто бьющееся в падучей живое существо. Оплетавшая стены, пол и потолок паутина прожилок-вен налилась сначала дрожащим призрачно-синеватым светом, а потом вдруг вспыхнула лиловым огнем.
Терёшка не удержался на ногах, и его отшвырнуло к ларю, с которого как нельзя кстати свалился его полукафтан. Торопливо нашаривавшего на полу свою одежду парня подхватил под мышки подоспевший Василий.
– Наружу! Живо! – крикнул успевший подобрать щит Добрыня, подбегая к упавшей Мадине и помогая ей подняться.
В сени они выскочили как раз вовремя. Обернувшись на грохот за плечами, Терёшка увидел, как рушится, осыпаясь, в горнице печь, как сорвалась за спиной у Добрыни балка с потолка. Прямо в лужу черной маслянистой жижи, в которую уже на глазах превращалось, вслед за трупами служек, тело хозяйки избы. В сенях тоже всё трещало и шаталось, а когда выбежали на крыльцо, оказалось, что и оно наполовину обрушилось.
После спертой избяной духоты, пропахшей кровью, гнилью и жутью, у Терёшки закружилась голова. Свежий воздух и пряные запахи леса, ударившие в лицо, сразу опьянили, как кружка крепкой браги, выпитая залпом натощак. Мальчишка покачнулся и едва не споткнулся – хорошо, его снова ухватил за плечо Василий.
Остатки перил, надрывно скрипящих и грозящих вот-вот обвалиться, Добрыня просто снес пинком сапога. Соскочил вниз и помог спрыгнуть Мадине. За ней – Терёшке. Последним с рассыпающегося на глазах крыльца сиганул Казимирович.
Богатырские кони встретили хозяев заливистым победным ржанием. Они, тут же понял Терёшка, вели у крыльца свой бой, потому и прорвались в избу из леса на помощь хозяйке всего трое ее служек. Судя по разбросанным вокруг ошметкам тел, схватка здесь тоже выдалась жаркой.
Серко нетерпеливо потянулся мордой к хозяину, фыркнул ему в лицо и ржанул тонко, совсем по-жеребячьи. Казимирович прижался лбом к шее коня.
– Да хорошо все, хорошо, не переживай, – только и успел молвить он.
Времени на лишние нежности у них не было. Василий подсадил Терёшку на своего скакуна и вспрыгнул впереди. Добрыня помог взобраться в седло Гнедка Мадине и сам, не мешкая, вскочил на спину Бурушки.
До края круглой, покрытой проплешинами поляны, посреди которой стояла изба, оставалось всего ничего. И в этот миг, перекрывая треск и грохот у них за спинами, в уши Терёшке ударил крик Казимировича:
– Глядите!
Шатающаяся, перекосившаяся изба приподнималась над землей. Вместе с нижними венцами. На разлапистых ногах-корнях, напоминающих лохматые щупальца. Закачалась, грузно завалившись набок, и медленно, очень медленно двинулась вперед. Труба у нее уже обвалилась, рухнул конек, над крыльцом провалилась крыша, а в зияющих темных дырах окон метались фиолетово-зеленые сполохи.
По поляне она проковыляла шагов десять, судорожно дергаясь и переваливаясь из стороны в сторону, как полураздавленная исполинская многоножка. Остановилась. Замерла. Из провала в крыше, который стал еще шире, выметнулось вверх облако густого иссиня-черного дыма. Растеклось над кровлей, окутало избу плотной завесой-коконом. И со скрежетом, треском и всё тем же низким гулом, от которого задрожала земля, изба людоедки начала рушиться сама в себя.
* * *
– Яга-отступница, значит… – ошеломленно повторил Василий, запустив в разлохмаченные кудри пятерню.
Они стояли с конями в поводу у края широкого неровного круга, выжженного чужой и насквозь чуждой человеческому миру волшбой. А перед ними громоздился холм жирного, рыхлого и темного праха. Высотой сажени в три. Всё, что осталось от дома-людоеда и его хозяйки.
Подходить ближе к новоявленному курганчику у Добрыни никакого желания не было. У его спутников тоже – к такой мерзости лучше не прикасаться. Особенно голыми руками. А бой с отступницей, усмехнулся про себя воевода, ему еще долго по ночам сниться будет. В слухи о ярой ненависти прочих яг к этим отщепенкам, продавшимся с потрохами Тьме, Добрыня отныне поверил всей душой.
Как же Охотники с подобными тварями управляются? Гадин-то, оказывается, даже булатная сталь берет с трудом… Алеша – тот про такие вещи теперь должен знать куда больше, чем написано в книжке Ведислава, это уж наверняка… Только не дождется охламон, чтобы Добрыня его расспрашивать начал.
«Я тебе говорил, – вновь укорил Бурушко. – Ты не слушал».
– Ну-ну, не сердись, – Никитич ласково потрепал морду коня, ткнувшегося ему в плечо и почти совсем по-человечески вздохнувшего. – Впредь буду умнее.
В теле ныла каждая связка и каждая жилочка. Под левой ключицей тупо мозжило. Кровоподтек к утру нальется знатный, но им и обойдется, ребра целы – спасибо кольчуге и богатырским мышцам, принявшим на себя силу удара. А вот усталость на плечи Добрыне навалилась пугающая. Воевода не помнил, когда в последний раз в бою так выматывался. Да, с ягой он справился – благо та, долго голодавшая, пустить в ход еще и волшбу так и не смогла, но что будет, если ему встретится противник пострашнее? Как в Сорочинских Норах, где вместо одного врага пришлось драться с двумя…
Тогда Добрыню спасло лишь то, что за три года до побоища ему повезло искупаться в зачарованном омуте огненной Пучай-реки. Или, наоборот, не повезло – тут уж как посмотреть… Окунуться в ее колдовскую водицу – всё равно что со смертью в зернь сыграть, но для него в тот памятный денек кости выпали счастливо, будто судьба ему, молодому дураку, и вправду ворожила. Не это бы, он из подземелий Сорочинских гор живым бы не вышел и в битве, которую там принял, не победил… Так что нечего жаловаться, воевода, ты не раз глядел в очи костлявой и не единожды с ней в поединке еще схлестнешься. А отступница слишком рано обрадовалась богатой добыче, угодившей в ее силки. Вот что значит польститься на кусок шире рта…
– Прову про всё, что с нами тут было, даже заикаться нельзя… – ни к кому не обращаясь, пробормотала Мадина. – Он же, если узнает, с ума сойдет…
Стоявший рядом с Василием Терёшка, которого Казимирович поддерживал под локоть, выглядел и вовсе как на Той-Стороне побывавшим – жалость брала смотреть. Парень уверял богатырей, что оклемался. Но осунулся до того, что на лице одни глаза бедовые и остались. Веснушки, россыпью усеивавшие задорно вздернутый нос и скулы, – и те будто выцвели. Покашливал, то и дело потирал грудь, шатало Терёшку, как соломинку ветром. И всё же повезло сыну Охотника сказочно. Яга ведь не притворялась, когда изумилась тому, что яд парня не убил, а выкарабкаться Терёшке помогли наверняка не ее зелья.
Спасла мальчишку кровь неведомого отца-китежанина.
– Да уж, – усмехнулся Казимирович, покосившись на Мадину. – Твой деверь, государыня, должен нам теперь в ножки кланяться. Шутка ли, от такой гадины его царство избавили…
– Избавил-то, положим, воевода. Ему и честь, ему и славу петь, – поддела Василия алырка. – А кто эту гадину душевной да доброй бабой называл и пироги ее вовсю нахваливал?
Лучше бы она этого не говорила.
Василий судорожно сглотнул, кадык у него дернулся, и великоградец выпустил руку Терёшки. Добрыня и до этого заметил, что побратим нет-нет, да и поморщится страдальчески, словно прислушиваясь к себе. А теперь с лица Казимирович просто позеленел, как весенняя травка.
– Худ ее побери… – простонал богатырь. – Только сейчас дошло… а ведь это ж не пироги были никакие… И не щи с кашей…
Из чего на самом деле могло быть состряпано угощение, которое он наворачивал за столом у отступницы, Василий, видно, представил себе сочно, в ярких красках.
– И не молоко топленое, – с невинным видом продолжила Мадина.
Это Казимировича добило. Отворотиться в сторону он едва успел – богатыря, перегнувшегося пополам, от души вывернуло наизнанку.
Серко снова всхрапнул, тряхнув белой гривой, и заржал. Сочувственно, но, как показалось Добрыне – с той же самой, чуть ехидной укоризной, какая сквозила и в мыслях Бурушки.
А над притихшей поляной вдруг разнеслась птичья трель. Какая-то ночная певунья, притаившаяся в ветвях, неуверенно попробовала голосок – переливчатый, серебряный, разбивший испуганное безмолвие леса, окружавшего «ведьмину плешь», светлым звоном весенней капели. Чем-то Добрыне он напомнил голосок варакушки – синегрудого северного соловья, который великоградец не раз слышал в Малахитовых горах.
– Вася, в седле-то удержишься? – обеспокоенно спросил Добрыня у побратима. И, когда Василий кивнул, обернулся к Терёшке и Мадине: – Лучше здесь не задерживаться. Едем.
Под сапогом опять ломко хрустнула спекшаяся в стекло мертвая трава. Сколько пройдет лет, прежде чем эта поляна оживет?
Но оживет, что-то шепнуло воеводе. Непременно. Рано или поздно.
Одна голова хорошо, а три лучше
Осень в горах ощущалась явственно, особенно здесь, возле самой вершины Бугры-горы. Хорошо хоть в громадных напольных масляных светильниках-чашах трепетал и метался яркий огонь – он и освещал, и согревал. Кругом царила ночная тишина, лишь изредка гудели проносящиеся верхом порывы ветра да позвякивали железом немые люди-стражники, поставленные по обе стороны дверей. Ни мелких служек, ни худов, никого лишнего не должно быть на предстоящей тайной встрече, для которой Огнегор выбрал Зубастую террасу, самую просторную в Громовых Палатах. Часть площадки скрывалась под каменным козырьком, другая же располагалась под открытым небом и с нее открывался вид на раскинувшиеся к востоку земли. Нияде терраса напоминала зёв великана с выдвинутой вперед нижней челюстью, а зубчатые поручни добавляли сходства с клыкастой пастью.
Ведьма со скучающим видом разглядывала искусно обработанные стены с резными колоннами, что поддерживали свод. Каменных дел мастер Ярозор расстарался, не отнять: в пляске огня мудреные узоры оживали и казались шевелящимся кублом змей. К слову, о гадах – задерживается что-то Горыныч…
Нияда поежилась. То, что именно ей поручили встречать столь важного гостя, поначалу льстило, однако теперь в голову закралась неприятная мысль: а вдруг Огнегору просто не хочется мерзнуть, вот старый сморчок и сплавил это дело помощнице? Нет, не может быть! Считай колдун Нияду обычной прислугой, не стал бы он в подробностях сообщать ни о самом Змее, ни о пленнике, ради которого Горыныч летит аж с самих Сорочи́нских гор. Повелитель ценит в ней ум, обязательность и преданность – потому и доверил торжественную встречу. А сейчас Огнегор просто занят, возможно, допрашивает того самого добытого в Железных горах мастера.
Пресловутого Змёду Шестипалого Нияда увидеть еще не успела и потому терзалась любопытством. Уж больно его расхваливали на Руси и на прозвища не скупились: «Искусник превеликий», «Главный», «Великий мастер»… Увы, Огнегор, добыв Змёду, тут же заперся с узником в пыточных покоях и велел не мешать, так что на знаменитого русича не удалось взглянуть даже одним глазком… Ну ничего, скоро взглянет. И не только на него.
Торчать на одном месте Нияде надоело, и она, неспешно пройдя к краю площадки, встала у зубца. «Слугам Тьмы тьма не помеха», и ведьма могла во всех подробностях видеть и предгорья, и леса, и низкий облачный потолок над головой. Серые хмары клубились лениво – тяжелые, крепкие… стянутые невидимой волшбой. Понятно, почему Огнегор назначил встречу на темную пору да приказал тучи к горе согнать. Визит такого гостя и в самом деле следовало сохранить в тайне.
Зубастую террасу колдун тоже выбрал неспроста. Нияда Змея еще не встречала, но по слухам был он огромным, такой не везде поместится. Те же слухи утверждали, что хозяин Сорочинских гор отличается любвеобильностью, мол, огненным змеям в этом деле не уступит, страшно охоч до женщин, особенно людских. Почему именно людских? Да кто ж их, змеев-оборотней, разберет? Может, думают не тем местом? Вот как Горынычу в его дурные головы взбрело племянницу самого Владимира выкрасть?.. Говорят, Забава Путятична славилась красотой неописуемой, потому и рискнул Змей, позарился на девицу, не подумав о последствиях… за что и поплатился.
Впрочем, раз он большой ценитель женских прелестей, пусть и трехголовый, нужно показаться во всем блеске. Для встречи Нияда выбрала длинное платье из аксамита золотисто-коричневого цвета, с разрезами, открывавшими нужные части тела, – пусть гость рассмотрит неприступную красавицу как следует. Ей нравилось потешаться, распаляя похотливых мужланов.
Сзади лязгнули раскрывающиеся створки дверей, и на террасе появился Огнегор. Колдун шагал быстро, заложив руки за спину, а бороду – предмет своей гордости – заправил за пояс, чтоб не мешала. Одеяния его были, как всегда, дороги и изысканны, а голову венчал украшенный золотым шитьем и самоцветами причудливый колпак, увы, не столько прибавлявший Огнегору роста, сколько подчеркивающий его невзрачность. Как же сложно воспринимать всерьез того, кто на три головы ниже тебя! Если бы не великая колдовская сила, бурлящая в тщедушном тельце…
На открытую площадку повелитель Громовых Палат не вышел – остановился под каменным навесом, возле одной из колонн, и знаком велел помощнице приблизиться. Судя по недовольно сморщенному лицу, его что-то раздражало.
– Все готово? – хмуро спросил хозяин Бугры-горы, подтягивая пояс.
– Да, повелитель, – коротко ответила Нияда. – Наш гость, полагаю, еще в пути…
– Нет, он уже прибыл, – криво усмехнулся колдун, глядя куда-то за спину помощницы.
Обернувшись, Нияда заметила вдали движение – и сразу из самой глубины сизых туч вывалилась темная громада. Он! Змей! Наконец-то! Сделав круг над горой и увидев огни на террасе, Горыныч стремительно ринулся вниз, на некоторое время пропав из вида. Скрывая волнение, ведьма отступила за спину Огнегора и замерла, предвкушая необычное зрелище. И оно не разочаровало.
Вынырнув из темноты, Змей Горыныч завис в воздухе во всей своей красе: огромный, в черной броне из крупных пластинчатых чешуй, с четырьмя жилистыми когтистыми лапами и гибким хвостом, длинным и тяжелым. Гость, будто нарочно, картинно развернул в разные стороны свои головы, украшенные венцами из крупных и мелких рогов. Зловеще блеснули острые частые зубы, полыхнули огненные глаза… Змей взмахнул исполинскими крыльями, которые, казалось, закрывали полнеба, и порыв ветра мигом задул стоявшие возле поручней светильники. Другая бы на месте Нияды оледенела от ужаса, но глава шабаша смотрела во все глаза. И углядела, что крылья-то у Горыныча не простые, а механические, отдаленно напоминающие нетопырьи, с перепонками из неведомой ткани, натянутой меж крепких железных пальцев. Что ж, слухи не врали – за похищение Забавы Путятичны похотливый гад и вправду расплатился собственными крыльями, но – глянь-ка! – сумел заменить новыми…
Вдоволь накрасовавшись, Горыныч подлетел поближе и тяжело опустился на чуть шероховатый пол. В тот же миг Огнегор шевельнул пальцами, и погасшие светильники вновь вспыхнули багровым огнем.
– Рад видеть тебя, Змей Горыныч, – колдун развел руки, будто собирался обнять чешуйчатую тушу. Рядом с гостем повелитель Бугры-горы казался крохотной зверюшкой. – Легок ли был твой путь?
– Летел высоко, глядел далеко, путь не близок, да крылья сильны, – усмехнулись все три головы одновременно.
Слова они произносили разом, и голоса сливались в один – утробный, глубокий, оглушающий, под стать внешности. Сложив крылья за спиной, Змей Горыныч приподнялся и…
Что именно произошло, Нияда толком не разглядела, но суть поняла: Змей оборачивается своей людской ипостасью. Во всполохах огненного смерча тело его вдруг сузилось, сжалось, забурлило, распалось, роняя на пол быстро затухающие искры… и на месте трехголового чудища возникли три высокие мужские фигуры. Видом напоминающие братьев-близнецов, они отпрянули друг от друга и неспешно направились к встречающим. Смок, Змий и Змай. В человечьем облике они – одно существо, но в трех телах. Огнегор предполагал, что Змей будет оборачиваться, а потому и помощницу заранее предупредил, чтоб «без чувств ненароком не упала при виде трех молодцев». Порой казалось, что колдун очень плохо ее знает. Несмотря на незабываемые впечатления от прибытия дорогого гостя, в обморок Нияда уж точно падать не собиралась.
«Близнецы» были похожи, как горошины из одного стручка, однако различить их, припомнив объяснения повелителя, ведьма все же смогла. Тот, что справа, Змай, чуть коренастей, левый – Смок, самый вертлявый, а посередке – Змий, этот на вид умнее своих «братьев» и куда как серьезней. А еще у всех троих разные глаза. То есть они у них вообще странные: правый похож на человеческий, а левый – на змеиный, но при этом еще и оттенки различаются. У Смока зеленоватые, у Змая желтые, а у Змия с оранжево-красноватым отсветом.
На людей высокие во всех смыслах гости походили только издали, нечисть в них опознавалась без труда. Носолобые, с продолговатыми, лежащими внахлёст темными чешуйками вместо волос на головах… Поначалу Нияде показалось, что братья закованы в ощерившиеся пластинами и шипами доспехи, но вскоре ведьма поняла свою ошибку. То, что она приняла за вороненую сталь, оказалось змеиной кожей, так легшей на человеческие тела, что вышло нечто вроде цельной живой брони. Смоку и Змаю после оборота достались еще и странные скошенные длинные плащи – видимо, преобразившиеся крылья. У среднего, Змия, «плаща» не имелось, зато на грудной броне горел багровым причудливый выпуклый камень.
«Близнецы» шли к Огнегору и Нияде нога в ногу – и в самом деле, как единое существо.
* * *
Да, любит мерзавец пустить пыль в глаза! На того, кто змеевичей никогда не видел, трехголовое чудище произвело бы впечатление, и немалое, но Огнегор лично знавал Старшего Змея. Тот был в разы и крупнее, и страшнее, а внучок, пусть силен да внушителен, не дотягивает… Нет, не дотягивает.
Впечатлил он колдуна не своим истинным обликом, и даже не оборотом в трех молодцев, а тем, как изменились механические крылья, превратившись в плащи. Многоопытный Огнегор подобной волшбы раньше не встречал – а потому прищурился, приглядываясь. Камень в груди Змия, похоже, управлял преображением крыльев… Он что, вживлен в грудь? Ого, как любопытно. Может, не так прост Горыныч, раз столь занятными секретами владеет? Надо будет разузнать да разведать, но не сейчас. Поначалу нужно союз заключить.
Хорошо, что Змей обернулся, как и в предыдущие встречи. Разговаривать с задранной головой – то еще удовольствие, но даже в образе близнецов гость изрядно превосходил хозяина ростом. Смотреть на будущего союзника снизу вверх все же пришлось, однако долго терпеть подобное колдун не собирался.
Заставив себя настроиться на радушный лад, владыка Бугры-горы приветливо улыбнулся.
– Что ж, добро пожаловать в Громовые Палаты, дорогой гость!
Змей будто не услышал. В его светящихся глазах, казалось, плещется пламя – как в масляных светильниках-чашах. И сам взгляд стал масляным: Горыныч увидел Нияду.
– Это…
– …кто ш-ш-ш…
– …такой…
– …крас-с-с-с-ивый…
– …тут…
– …у нас-с-с-с?
«Близнецы» говорили по очереди, по кругу, друг за другом, быстро и складно, будто произносило слова одно существо. При этом выговаривали все чисто, а шипение и свист, вырывающиеся из тонкогубых ртов, совсем не отвлекали. Потому и сказанное прозвучало цельно и внятно: «Это кто ж такой красивый тут у нас?» Отчего Горыныч в змеином обличье говорит одновременно всеми головами, а как «близнецы» – по очереди, Огнегор не знал, да его это и не волновало, к причудливой речи владыки Змеиных Нор он уже успел привыкнуть.
– Хороша у тебя девонька, – продолжал гость, достаточно громко, чтобы «девонька» услышала. – Умеешь помощниц выбирать.
Ишь ты, ведь прямо раздевает и ощупывает взглядом… Огнегор мельком глянул на Нияду, заметив, как исказилось от гнева красивое лицо. Да что ж ты будешь делать! Чуть ли не все гости на ведьму облизываются, сил уже нет это безобразие терпеть! А она-то чего ожидала, так вырядившись? Что известный своей похотью сластолюбец на нее внимания не обратит? Приказать ей, что ли, принимать облик старой карги – может, меньше внимания к себе привлекать будет?..
Огнегора смущала непоследовательность помощницы, сам он подобное поведение не понимал и не принимал. Колдун любил лад и порядок, а потому всегда поступал в соответствии со своими убеждениями, у Нияды же – ветер в голове, и вся она из себя какая-то… противоречивая.
Впрочем, толк от красотки есть даже сейчас. Своим нарядом ведьма невольно подсказала, как из произошедшего извлечь выгоду. Слухи не врут – Змей баб любит, раз в такую стойку сразу встал. Это слабость, и ею нужно воспользоваться. Правда, не сейчас, и уж точно не с Ниядой – чересчур гордая, ишь, как яро глазюки сверкают, еще немного – и учудит со злости что-нибудь эдакое, переговоры сорвет…