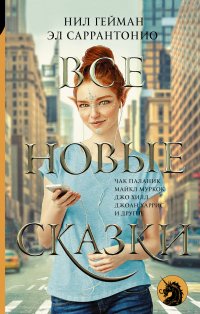Читать онлайн 48 улик бесплатно
- Все книги автора: Джойс Кэрол Оутс
Joyce Carol Oates
48 CLUES INTO THE DISAPPEARANCE OF MY SISTER
Copyright © 2023 by Joyce Carol Oates
© Новоселецкая И., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *
Посвящается Отто Пенцлеру
Часть первая
Глава 1
Шелк.
Белый, воздушный шелк. Лужа шелка, вялыми складками растекшаяся на полу, там, где (предполагает охочий до пикантных зрелищ созерцатель/вуайерист) она обнажила тело, стряхнув с себя платье. Там, где оно соскользнуло с нее, будто змея. Белая змея, белая, как нетронутый снег, как камелии, сползла по ее ногам на пол и с шипением улеглась на ковре.
Бесплотная, невесомая груда шелка, источающая слабый аромат благоуханного женского тела.
Это ли не ключ к разгадке? Платье-комбинация от Диор из тончайшего белого шелка. Оно принадлежит моей сестре М. И оно же было обнаружено на полу ее комнаты.
Сразу же после исчезновения М. 11 апреля 1991 года.
Или этот предмет одежды не имеет особого значения? Так, обычная вещь, случайно попавшаяся на глаза? Несущественная, малозначительная деталь? Не ключ к разгадке?
(В более поздний период истории, в XXI веке уж точно, белое шелковое платье М. исследовали бы на предмет ДНК, в частности, проверили бы, нет ли на нем такой грязной улики, как сперма. Но в 1991 году в маленьком городке Аврора на берегу озера Кайюга в штате Нью-Йорк о судебной экспертологии знали мало, и потому элегантное шелковое платье на бретельках от Диор аккуратно висело на плечиках в гардеробе М., куда его убрала я, заботливая младшая сестра, и все те годы, чистое и опрятное, ждало ее возвращения.)
(Хотя, конечно, шелковое платье на полу в комнате М., наверное, можно счесть «ключом к разгадке», если знать, сама ли М. купила его во время своего трехгодичного пребывания в Нью-Йорке или оно было подарено ей любовником. И если это подарок, тогда от кого?)
(Впрочем, подозрение должно бы вызвать уже то, что платье было брошено в спешке или по небрежности, а ведь М. любила порядок и обычно, уронив на пол что-то из одежды, немедленно поднимала вещь, вешала ее в шкаф или аккуратно складывала и убирала в ящик комода.
Маргарита Фулмер слыла невозмутимой, спокойной, хладнокровной женщиной. Она была скульптором – и по профессии, и по своей природе. Сама обтесывала, лепила, придавала формы, но чужому влиянию не поддавалась.)
(Неряшливость скорее была характерна для Дж. – «проблемной» младшей сестры М. Это она имела привычку бросать на пол в своей комнате одежду, которая копилась там по многу дней, а то и недель, и не позволяла домработнице что-либо трогать в ее спальне. Но поскольку Дж. никуда не пропадала из Авроры, никому дела не было до беспорядка в ее комнате, и за двадцать два года ни у кого не нашлось времени на то, чтобы все там тщательно осмотреть.)
Шелк. Белый, воздушный шелк. Мерцая и переливаясь, соскальзывает с женских бедер, с голого тела цвета слоновой кости, обнажает его с шуршанием, похожим на шипение змеи. И ты смотришь, сама того не желая, ведь подглядывать унизительно, это попрание собственной гордости, самоуважения. Пытаешься не смотреть, однако (беспомощно) наблюдаешь, как легкое платье-комбинация падает на пол, растекается лужицей у бледных обнаженных женских ног.
Глава 2
Зеркало в зеркале.
Именно в зеркале, в котором отражалось другое зеркало, я увидела сестру утром того дня, когда ей предстояло «исчезнуть» из нашей жизни.
То есть мне случилось увидеть именно отражение М., потому как саму Маргариту я (фактически) не видела – только ее силуэт в зеркале.
(О человеке, чей образ [отраженный] мы видим, принято говорить, что это тот или та. Расхожее, но не совсем точное определение. Правда, отражение М., на которое я в тот день взглянула, было отражением [загадочной, непостижимой] М. Я увидела отражение отражения.)
В нашем доме день всегда начинается очень рано. Зимой, еще не рассвело, а мы все уже на ногах, а бывает, и при полном параде.
Тогда был апрель. По-зимнему холодный рассвет медленно – неохотно – рассеивал темноту ночи, словно божественное око, мало-помалу озаряя свинцовое небо.
Я шла вниз и, минуя комнату М., заметила, что дверь отворена, будто ее распахнуло сквозняком. Меня это удивило: обычно М. плотно закрывала дверь, чтобы ни у кого не возникло соблазна зайти и пожелать ей доброго утра. Не устояв перед искушением, я заглянула в комнату сестры и примерно в шести футах от себя в вертикальном зеркале на внутренней стороне полуоткрытой дверцы платяного шкафа увидела отражение М. Сама она находилась в дальнем конце комнаты, стояла перед туалетным столиком с зеркалом. От неожиданности я невольно задержала на ней взгляд, толком даже не сознавая, что вижу призрачное лицо сестры в зеркале на дверце шкафа, в котором отражалось зеркало туалетного столика, – то есть смотрю на ее двойное отражение.
Теперь, двадцать два года спустя, все это вспоминается как некий таинственный сон, разгадку которого за минувшее время я так и не нашла. Напротив, вопросов только прибавилось.
(Возможно, боковым зрением я «увидела» на полу платье от Диор, но в ту минуту этого не сознавала. И если теперь, когда я вспоминаю то мгновение, мне кажется, что я отнюдь не безотчетно обратила на это внимание, значит, мой разум самым изощренным и коварным способом обманывает сам себя.)
(Нет, я не видела, как тонкое платье соскользнуло с голого тела сестры и белой переливчатой лужицей растеклось у ее ног. Я уверена, что не видела этого, хотя кажется, будто та картина стоит перед глазами.)
Зато я совершенно ясно помню, как моя (восхитительная) (обреченная) сестра стояла ко мне спиной в дальнем конце комнаты и расчесывала прямые белокурые волосы с серебристым отливом, отражаясь в вертикальном зеркале, к которому были прикованы мои глаза. Я наблюдала за ней с некой испуганной зачарованностью, а сама думала: «Нет, это запрещено!» Со страхом таращилась на сестру, будто была не взрослой женщиной двадцати пяти лет, сформировавшейся личностью, так сказать, а подростком. Девочкой-подростком, с малых лет благоговевшей перед (надменной, элегантной) сестрой, которая была старше меня на шесть лет.
Когда смотришь в открытую дверь на святая святых чужой жизни, возникает ощущение неловкости: ты боишься, что увидишь другого человека, сестру, в состоянии не предназначенной для твоих глаз интимности – в состоянии наготы.
Была ли М. обнаженной, когда стояла перед зеркалом туалетного столика, отражавшемся в зеркале на дверце шкафа? Белая прямая спина, идеальный изгиб талии, красивые ягодицы, бедра, стройные ноги. Линия позвоночника, изящные запястья, лодыжки.
(Разумеется), сообщая полиции, что я (мельком, совершенно непроизвольно) заглянула в комнату сестры, я ничего не сказала про то, во что была одета М. Если бы кто-то из следователей додумался спросить меня об этом (а ведь ни один не поинтересовался), я бы, морща лоб, ответила: «О, даже не знаю, в халате, наверное. В чем же еще?»
Ничто так не раздражает, как чужое любопытство, стремление постороннего человека сунуть нос в твои тайны.
Не лезьте в личную жизнь моего отца, и в мою тоже. Держитесь от нас подальше, черт бы вас побрал!
Вне сомнения, к тому времени М. уже приняла душ в своей устаревшей ванной с едва функционирующим оборудованием, где, наверное, она долго намывала шампунем длинные роскошные волосы, которые (небезосновательно полагала я) она мыла несколько раз в неделю – из тщеславия. М. гордилась собой, своей внешностью. Природа наделила ее, так сказать, «классической» красотой.
А вот я, младшая сестра Дж., зачастую неделями не удосуживалась помыть голову, да и вообще не имела желания задумываться о своей внешности – по вполне понятным причинам.
М. пользовалась щеткой с золоченым корпусом, некогда принадлежавшей нашей маме. Томными движениями расчесывала волосы по всей длине, отчего они электризовались и трещали.
Да, на это я обратила внимание. На треск статического электричества. От него волоски на моих руках тоже вставали дыбом.
Странно, что М. меня не заметила. Не догадалась о том, что стремительно надвигается на нее из будущего, летит на расправленных темных крыльях.
Я едва сдержалась, чтобы не окликнуть ее: «Эй, привет! Привет».
Я едва сдержалась, чтобы не предостеречь ее: «Маргарита! Берегись!»
Если б я позвала сестру, обратила бы она на меня взгляд в зеркале (в зеркалах) или, вздрогнув, обернулась бы ко мне?
Этого я никогда не узнаю. Потому что заговорить с ней не осмелилась.
До сего дня феномен зеркала в зеркале остается загадкой: маловажная подробность, случайность в тот критический момент. И все же это существенная деталь. Ведь если бы на какое-то время два зеркала не расположились на одной линии, я не смогла бы в последний раз увидеть свою сестру. Эффект зеркала в зеркале был необходимым условием, поскольку при обычных обстоятельствах дверь ее комнаты загородила бы от меня М., стоявшую перед туалетным столиком.
Получается, что волею случая холодный сквозняк в коридоре на втором этаже распахнул дверь комнаты М. Впрочем, это не стоит расценивать как неожиданность: в нашем старом доме дует изо всех щелей.
(Сквозняк, распахивающий двери, – досадное неудобство, с которым я сама научилась бороться: когда находилась у себя в комнате, непременно дверь изнутри подпирала тяжелой стопкой книг.)
«Комната» М. – как ее называли – представляла собой не одну, а целых три смежные комнаты на восточной стороне дома. Из их окон открывался вид на пенящиеся волны озера Кайюга – одного из крупнейших «живописных» Пальчиковых озер[1], раскинувшегося примерно в ста футах от нашего дома.
Моя комната – в единственном числе – располагалась через коридор, соседствуя, но, разумеется, не соединяясь с покоями главы дома – анфиладой комнат, занимавших всю остальную часть второго этажа.
(Это были комнаты отца. Я туда не заходила по собственной инициативе или появлялась там крайне редко. Обычно только по приглашению. Некогда родительские покои благодаря стараниям мамы были красиво убраны, но с годами убранство обветшало, приобрело неухоженный вид. Отец давно жил там один и делал это неохотно. Он предпочитал проводить время в своем офисе в деловом районе Авроры или в домашнем кабинете, расположенном в глубине дома на нижнем этаже.)
Идя по коридору, я лишь на мгновение задержалась у приоткрытой двери комнаты М., словно это был не катастрофический, пожалуй, даже судьбоносный день (если судить задним числом) в жизни нашей семьи, а самый обычный. Направлялась я к парадной лестнице с перилами из твердой древесины и широкими ступеньками, застеленными потертой темно-бордовой ковровой дорожкой. Эта лестница разительно отличалась от «черной» – узкой, с более дешевым и тонким покрытием, – которая наряду с семью спальнями и пятью ванными тоже имелась в нашем старом массивном доме на Кайюга-авеню, построенном в стиле эпохи Тюдоров.
Шла я как лунатик, зачарованная эффектом «зеркала в зеркале» (о чем тогда я еще знать не могла), который буду вспоминать многие-многие годы. Зеркала М. на вид были отнюдь не зловещими, а скорее нейтральными, как любое стекло, независимо от того, что мы через него видим. Но именно потому, что в поле моего зрения эти два зеркала на мгновение случайно сошлись на одной линии, создалось впечатление, что они, будто предостерегая, наделили аурой нереальности, иллюзорности, даже некой фантасмагоричности типичную бытовую картину: одна из обитательниц дома, минуя комнату старшей сестры, спускается к завтраку примерно в 7: 20 утра на заре наступающего дня, одного из многих, как казалось, самых обычных, ничем не примечательных дней в апреле 1991 года.
В связи с чем возникают сомнения: «заглянула» ли я через те зеркала в глубь некой сокровенной непостижимой тайны или то зеркало в зеркале само по себе являлось некой сокровенной непостижимой тайной?
Глава 3
Пропала без вести.
Впоследствии будет объявлено, что М. «исчезла с лица земли». «Растворилась в воздухе». «Бесследно сгинула».
Так ли это было? А так бывает?
Ведь на самом деле никто не исчезает. Каждый человек где-то есть, просто мы не всегда знаем, где искать.
Даже мертвые – их останки. Они покоятся где-то.
В Авроре всем известно, что отец до сих пор не теряет надежды. И я, младшая, менее красивая, менее талантливая сестра, если меня спрашивали, тоже всегда выражала «надежду».
– Да! Каждый час каждый божий день я стискиваю зубы от беспокойства, отчаяния, обиды и ярости. Моя сестра не «пропала без вести» – моя сестра где-то есть.
Многие слышали, как я говорила со всей серьезностью:
– Может, она где-то прячется. Или изменила внешность. Просто чтобы досадить нам. Досадить мне.
И спустя мгновение добавляла:
– Даже если Маргариты нет в живых, все равно она должна где-то быть.
Хотя бы ее хрупкие кости. Прядь серебристо-светлых волос, которые столь соблазнительно падали ей на спину.
Может быть, остатки некогда идеально ровных жемчужных зубов. Посмертный оскал, с триумфом выглядывающий из утрамбованной черной земли.
Глава 4
Ранняя весна.
В северной части штата Нью-Йорк весна наступает медленно, вырывается из зимы, как пар дыхания из пасти пещеры.
Неизвестно, когда точно М. вышла из дома. Лично я не видела, как она уходила, и отец тоже (о чем мы оба сообщили полиции). Наша домработница Лина тоже ее не заметила. Предположительно, она ушла после 7: 20 утра. Вероятно, не позже восьми. Потому что примерно в это время М. – обычно пешком – отправлялась в колледж, куда она редко прибывала позднее девяти часов.
Немного хмурое утро. Четверг. Самый что ни на есть заурядный день.
С карнизов нашего дома свисали сосульки, под ногами – слякоть, ледяная каша, тисы с северной стороны все еще были подернуты инеем, который не спешил таять. Обратила ли на это внимание М.? Или она думала о чем-то совершенно другом?
Думала ли М. – виновато – о чем-то совершенно другом?
Городок Аврора-он-Кайюга построен на пяти-шести холмах, с которых открывается вид на озеро, отвечающее за местный климат. Благодаря так называемому озерному эффекту[2] погода здесь быстро меняется: то лучи солнца пронизывают облака, то дождь собирается.
Пожалуй, определенно можно сказать, что М. ушла из дома в обуви фирмы «Сальваторе Феррагамо» – коричневато-красных ботильонах на низком, но вполне различимом каблуке. Ее следы вели через высокие тисы за нашим домом к узкой асфальтированной дороге, от которой примерно через полмили тянулось ответвление в сторону «исторического» кампуса женского колледжа Авроры, основанного в 1878 году. Раскинувшийся на крутом склоне, студгородок представлял собой скопление старых зданий из красного кирпича – строгих по стилю, с пострадавшими от непогоды мрачными обшарпанными фасадами. Саут-Холл, Майнор-Холл, Уэллз-Холл, Фулмер-Холл, примыкающий к новому зданию школы изобразительных искусств Кайюги, где М. работала художником-педагогом и вела курс занятий по скульптуре.
Отпечатки ботильонов М. вели от задней двери нашего дома через газон с вытоптанной травой площадью примерно в один акр на ничейную территорию – лесистый участок с побитыми зимой лиственными деревьями и кустарниками, принадлежавший округу Кайюга. Вскоре следы сестры терялись среди множества других – людских и звериных – на извилистой тропинке, которая тянулась через лес к Драмлин-роуд.
Если бы мы знали. Если бы догадывались, что она никогда не вернется. Тогда мы сфотографировали бы отпечатки ботильонов «Феррагамо». Определили бы, продолжаются ли ее следы по другую сторону Драмлин-роуд или к тому времени они уже исчезли, что могло означать лишь одно: кто-то (неизвестное лицо) на дороге остановил свой автомобиль перед М. и заставил ее сесть в машину. А быть может, она по доброй воле села в эту машину, тихо поприветствовав водителя: «А вот и я».
Глава 5
Видели в последний раз.
Сколько раз меня спрашивали: «Когда вы видели сестру в последний раз? О чем вы с ней разговаривали?»
И я старательно объясняла, что последний раз видела М. примерно в 7:20 утра в день ее «исчезновения», но мы вообще не разговаривали.
Я ее видела; она меня – нет.
Но эти дураки никак не унимались, все выпытывали и выпытывали у меня, когда я общалась с сестрой в последний раз и что она говорила. И я, напрягая память, честно отвечала:
Маргарита не говорила мне ничего такого, что указывало бы на то, что она несчастна, встревожена или обеспокоена.
Я не поясняла, что мы не в таких отношениях! Да, мы сестры, но не настолько близки, чтобы доверять друг другу свои тайны, и Маргарита уж тем более никогда не стала бы рассказывать мне о своих любовниках. Вы слишком наивны, если думаете иначе.
Не уточняла я и то, что на самом деле видела не саму сестру, а ее отражение в двух зеркалах.
И лицо М. я видела не отчетливо. В стоящем на туалетном столике зеркале оно представляло собой размытый овал с полустершимися чертами. Едва знакомый. Если б я не была уверена, что это моя сестра, никогда бы ее не узнала. Красота, обезображенная изъянами.
Зеркала удваивают расстояния, превращая привычное в нечто странное.
Глава 6
Месть.
Есть знаменитое и вместе с тем скандальное произведение искусства – рисунок Виллема де Кунинга[3], «стертый» Робертом Раушенбергом[4] в 1953 году. Можно было бы сказать, что менее значимый художник мстит великому мастеру, уничтожая его творение. Этакий акт вандализма, который можно принять за эксцентричность.
Ведь разве уничтожение работы великого мастера для незначительного художника не есть самый верный способ доказать свое превосходство?
Я – не художник. М. не боялась, что я уничтожу ее работы.
Я писала стихи. Но мои сочинения для всех были тайной – зашифрованные письмена в ящиках стола, где их могли «прочесть» только мыши.
М. были очарованы все, кто ее знал, особенно наши родители.
Природа наделила М. красотой. Несправедливость. Всякая красота – несправедливость. М. была добра, но мне казалось, что ее доброта проистекала из тщеславия. Мягкосердечие тоже было присуще М., но оно проявлялось, когда она решалась снять броню с души. Она (это было очевидно для всех) любила меня. Или чувствовала привязанность ко мне.
Я не была соперницей М. Меня, нескладную младшую сестру, никто не воспринимал всерьез. Я словно была косматой пастушьей собакой, грузной, неуклюжей, с влажными глазами навыкате, большим мокрым носом и высунутым розовым языком. Собакой, которая быстро выбивается из сил, поднимаясь по лестнице, и потом никак не может отдышаться.
Даже мое имя, Дж. – Джорджина, – было куда менее благозвучным, чем Маргарита.
Меня назвали в честь какой-то маминой тетки. Та была замужней матроной, имела дом в престижном районе Авроры, имела слуг и детей, а после смерти ее предали забвению. В общем, полнейшее ничтожество. Оскорбление!
Говорили – утверждали, – что после маминой кончины М. вернулась домой из Нью-Йорка ради меня. Что М. «отказалась от стипендии Гуггенхайма[5]», которая обеспечила бы ей год творческой свободы, что эти деньги ей пришлось возвратить, когда она снова обосновалась в Авроре. Однако я знаю наверняка, что М. грант фонда Гуггенхайма не возвращала.
Среди наших родственников – в частности, среди инфантильных кузин – была популярна сплетня, будто моя сестра вернулась в Аврору, чтобы «спасти» меня, когда я (якобы) находилась на грани самоубийства.
(Полнейший бред: я «верю» в самоубийство не больше, чем, к примеру, отец. Подобно своим далеким воинственным предкам-тевтонцам, он считал, что покончить с собой значит чертовски потешить врага.)
Зачем ненавидеть сестру, которая выказывала мне участие, когда замечала меня, находила для этого время? Зачем, черт возьми, ненавидеть сестру, ведь она (как говорят) была единственным человеком, которому я была небезразлична настолько, что она заботилась обо мне? После смерти мамы, в тот туманно-паршиво-вонюче-вязкий период, который начисто стерся из моей памяти.
Веселые были времена! Забавно было наблюдать, как пылесосят, моют, отдраивают, проветривают мою комнату-свинарник, в которую отчаявшуюся Лину я не впускала целый год. Куда даже папа, Зевс нашего домашнего Олимпа, не осмеливался войти.
М. навязывала мне свое дорогучее французское мыло с ароматом лаванды, давала взятку, чтобы я чаще принимала душ.
Заплетала мои густые «строптивые», как она выражалась, волосы. Обещала на день рождения свозить на Ниагарский водопад – «только мы с тобой, Джиджи…»
Джиджи! Мое тайное прозвище, которым нарекла меня М. Никто другой его не знал.
Джиджи! Меня охватывает исступление: хочется вопить, из горла рвется истеричный смех, крик. И это омерзительно, ведь столько лет прошло, пора бы уже про эту глупость забыть. Хоть бы кто-нибудь залепил мне рот грязью.
Естественно, М. отдавала мне свои вещи – вещи, которые идеально подходили ей, великолепно сидели на ее стройной фигуре, а мне были малы или не соответствовали моему стилю, моим потребностям. О чем М., разумеется, прекрасно знала.
Взять, например, замшевую дамскую сумочку цвета лаванды. Она потеряла товарный вид в первый же раз, как я вышла с ней на улицу и попала под дождь. (Разве Дж. не знала, что дождь губителен для дорогой замши? Нет? Да?)
Возможно ли – хотя, конечно, маловероятно, – что сестра отдала бы мне и свои ботильоны фирмы «Феррагамо», которые купила в Нью-Йорке? Жестокая шутка, если учесть, что Джиджи вряд ли сумела бы запихнуть свои лапы десятого размера в элегантную обувь седьмого.
Да, но, быть может, существует некий дьявольский сценарий, в соответствии с которым расчетливая Джиджи, завладев теми самыми ботильонами, сумела наставить на земле вереницу их отпечатков, которые вели от заднего фасада дома на ничейную лесополосу и там «терялись» среди путаницы других следов.
Но когда бы Джиджи успела это проделать? Явно же не утром 11 апреля 1991 года.
Возможно, предыдущей ночью. Тайком.
Ведь никто (кроме младшей сестры) не сообщал о том, что видел М. в то утро.
Так что, пожалуй, было бы ошибкой утверждать, что в то утро М. вышла из дома в ботильонах фирмы «Феррагамо». Это верно подметили следователи, указав, что отчетливые следы ботильонов вели от задней двери/заднего крыльца дома через потрепанный зимой газон на прилегающие к нашим владениям общинные земли, где они смешивались с другими следами и терялись.
Столько всяких может быть! Тем не менее – волнующая мысль! – одно из этих «может быть», сколь бы невероятным и немыслимым ни казалось то, что оно подразумевало, является Правдой.
Глава 7
11 апреля 1991 года.
На этот день в ежедневнике М. имелись только две стандартные пометки карандашом: 14: 00 – урок в колледже, 17: 00 – заседание комитета.
На следующий день – в 9 утра прием у стоматолога.
На следующей неделе – такие же обычные записи: встречи, заседания, занятия со студентами. Заурядность и стабильность повседневной жизни. Ничего значительного, ничего такого, что следователи могли бы счесть зацепкой.
Если только М. специально не спланировала свой календарь на апрель таким образом, чтобы нарочитой заурядностью ввести всех в заблуждение.
* * *
В будние дни М. обычно приходила в художественную школу рано утром, чтобы поработать в своей мастерской, пока никто не мешает. И когда она не появилась к полудню, ее (очевидное) отсутствие наконец заметили на факультете изобразительных искусств, хотя (какое-то время) почти никто не высказывался на этот счет. В два часа дня студенты стали собираться на занятие по скульптуре, и вот тогда-то и выяснилось, что М. нет и что телефон ее не отвечает. Начались расспросы: «Кто-нибудь видел сегодня Маргариту?», «Вы сегодня разговаривали с Маргаритой?»
Нет, пока никто не беспокоился. Люди спрашивали с вежливым любопытством: «Кто-нибудь видел Маргариту утром? Нет?»
Обратите внимание: имя «Маргарита» произносили почтительно. С восхищением, а не с недовольством.
Именно Мар-га-ри-та – полное, мелодичное имя, а не пошлое нагромождение слогов.
Миновал еще час. Коллеги и студенты М. с возрастающим любопытством недоумевали: а где же М., почему она не позвонила или не прислала записку? В мастерской ее точно нет, как нет нигде в здании факультета изобразительных искусств. И нет абсолютно никакой информации.
И все же (пока) никто не тревожился, не беспокоился о том, что с М., вероятно, случилось несчастье, что, быть может, она заболела, попала в аварию, в беду.
Предполагали, что в доме Фулмеров возник «семейный кризис», ведь было известно – не всем, но некоторым, – что у младшей сестры М., Дж., были какие-то отклонения…
Какие отклонения? Психические?..
Она лежала в больнице? В Буффало?
Об этом упоминали с большой осторожностью, так как все знали, что М. – женщина закрытая и не обсуждает жизнь своей семьи. Этим она отличалась от коллег-художников, которые бесстыдно сплетничали, жестоко высмеивали своих проблемных или забавных родных и близких, выставляя их на потеху окружающим, словно комиксы на доске объявлений.
Никогда ничего не рассказывала она и о своих любовниках. Даже неясно, был ли в жизни М. мужчина на момент ее исчезновения.
Разве что шелковое платье-комбинация от Диор являлось ключом к разгадке тайны: не «благоуханное», а «пахучее», отдающее характерным мужским духом…
Но этого никто не узнает. Никто из посторонних не вторгнется в комнату М. и не станет нагло, с подозрением рассматривать «улику», оставленную пропавшей без вести женщиной, ведь после ее исчезновения я благоразумно подобрала воздушное, невесомое, точно нижнее белье, платье, которое М. почему-то бросила на полу, повесила его на плечики и задвинула в самую глубь ее платяного шкафа, где оно затерялось среди других вещей. Так что пытливые детективы вряд ли его найдут.
Пусть я и не одобряла то, что М., возможно, в тайне от меня вела беспорядочную половую жизнь, мне было очень важно сохранить доброе имя семьи Фулмер, история которой восходит к периоду появления первых поселенцев в этой части штата Нью-Йорк – к 1789 году.
К востоку отсюда, недалеко от Олбани, есть даже округ Фулмер, где обосновались первые представители нашего рода, вернее, его ветвь, которая давным-давно откололась от нашей и интереса для нас не представляет.
* * *
Всю вторую половину дня 11 апреля личный телефон М., который стоял в ее комнате, не умолкал. Лина в соответствии с просьбой М. трубку не брала. Звонили коллеги, друзья и подруги М. из школы изобразительных искусств.
Все спрашивали, где она, оставляли сообщения. Всего было восемь сообщений от «обеспокоенных» друзей и одно – назойливо «срочное» – от коллеги (мужчины), который работал старшим художником-педагогом в том же колледже.
Вообще-то было и второе «срочное» сообщение от этого типа – псевдохудожника с манией величия, назвавшегося Элком. Он обращался к М. оскорбительным тоном, словно был ее хозяином. (Об этом несносном Элке я расскажу чуть позже.)
(А где в эти часы была я сама? Об этом меня позднее спросят следователи. И я с радостью сообщу этим идиотам, что была на работе, где же еще! Нескончаемый поток посетителей в почтовом отделении на Милл-стрит, двое моих коллег, работавших вместе со мной за стойкой, начальник – все могли подтвердить и подтвердили, что в тот день я была там.)
(Это просто смешно! Местонахождение, алиби, зацепки. Все эти шаблоны полицейских расследований – банальные и истрепанные, словно старый протершийся ковер, по которому все же надо пройти, стиснув зубы, глядя строго перед собой, всем своим видом демонстрируя невиновность.)
Не подозревая о возникшем переполохе в связи с исчезновением М., я работала в почтовом отделении на Милл-стрит до пяти часов вечера. И не было у меня никаких дурных предчувствий или опасений – ничего!
Потом я отправилась домой. Не шла, а тащилась, хмуро уставившись взглядом в землю. На прохожих старалась не смотреть. Подобно летучим мышам, издающим сигналы эхолокации, я распространяла вокруг себя ауру неприступности: никаких радостных приветствий, никаких «как поживаете», никаких «заранее благодарю».
В отличие от М. своей машины у меня не было. Как и водительских прав, которые в штате Нью-Йорк власти по своему усмотрению одним гражданам выдают, а другим почему-то отказывают в выдаче.
Придя домой, я услышала, что в комнате М. звонит телефон. Я поднялась по лестнице на второй этаж. Звонили несколько человек, а может, один и тот же, но настойчиво, неоднократно. Меня раздражал этот трезвон: после целого дня работы на почте, где приходилось обслуживать всяких придурков, которые не способны нормально заклеить скотчем посылки, нервы мои были на пределе. Поэтому я отважилась войти в комнату М. в ее отсутствие (решила, что сестры там нет) и ответить на этот чертов звонок.
– Да? Алло? – рявкнула я в трубку без всякого намека на вежливость. – Если вам нужна та, о ком я думаю, извините, ее сейчас нет.
Почему в голосе этой дуры слышится озабоченность? Кто эта женщина, притворяющаяся, будто она очень беспокоится о моей сестре? Не сдержавшись, я прервала ее в присущей мне грубой, бесцеремонной манере, и это глупая Сэлли – или как там ее – опешила и, заикаясь, залепетала:
– Но… где же Маргарита? Вы ее сестра? Разве вы не волнуетесь? Ведь на Маргариту это совсем не похоже. Она не пришла на урок скульптуры, не представив никаких…
– А вы-то откуда знаете, что похоже, а что не похоже на мою сестру? – фыркнула я. Какая-то незнакомка истерично кудахчет, как курица, у которой отрезали голову, если, конечно, отрезанная голова может кудахтать. – Может, она уже в Тимбукту, вам-то что?
Я со смехом положила трубку.
А через несколько минут телефон снова зазвонил, и я опять ответила:
– Извините, вы ошиблись номером. По-ка-а.
Это я произнесла с китайским акцентом. И рассмеялась.
Ну и придурки! Чего, спрашивается, переполошились? Причин для беспокойства нет. Никакого ЧП не произошло.
Я бегло осмотрела комнаты М., включая спальню. Кровать была аккуратно застелена покрывалом, которое лежало одинаково ровно со всех сторон. Зашла я и в ванную, где на вешалках аккуратно висели полотенца.
Решила, что позже, если того потребуют обстоятельства, я произведу более тщательный осмотр.
Так, надо закрыть дверь. Поплотнее. Чтобы М., когда вернется, не заподозрила, что кто-то вторгался в ее драгоценное личное пространство.
К этому времени назойливые коллеги М. уже вовсю названивали папе, сообщая ему, что моя сестра не пришла на работу, пропустила назначенные встречи, «а это совсем не похоже на Маргариту». Они спрашивали, дома ли она, здорова ли. Отец послал Лину проверить, нет ли М. в ее спальне. Там ее не оказалось, что я, разумеется, уже знала. Отец сам сходил в гараж: ее «Вольво» бледно-желтого цвета стоял рядом с его солидным черным «Линкольном». Но и в этом не было ничего необычного, ведь М. редко ездила в колледж на машине.
Однако где же М. могла быть в это время дня? Раз машина на месте, значит, она ушла пешком, рассуждали все.
Вообще-то М. частенько в одиночку отправлялась в дальние прогулки/походы, даже в плохую погоду. Она бродила по гористой сельской местности, которая простиралась за Драмлин-роуд, ходила по диким пустошам вдоль берегов озера Кайюга, где не было ограждений частных владений.
Она предпочитала гулять одна. Правда, иногда, непонятно почему, вероятно, по ошибке решив, что мне скучно или тоскливо, М. брала меня с собой.
Во время таких прогулок я чувствовала себя неуклюжей и раздраженной. М. бодро шагала по тропе впереди, словно забыв обо мне, а потом вдруг резко останавливалась и ждала, пока я, запыхавшаяся и потная, ее догоню.
Просто воплощение терпения. Она никогда не закатывала глаза. Ну что вы, как можно!
А потом еще удивлялась, почему это я обычно отказываюсь от прогулок с ней. Как будто ей было невдомек.
– Джорджина?
Отец близоруко сощурился на меня поверх двухфокусных очков, увидев, что я стою на лестничной площадке и смотрю в окно на причудливые облака. Гонимые ветром, они напоминали флотилию потрепанных штормами кораблей. В этот момент голова моя была совершенно пуста, словно гладкая стена, которую окатили водой из шланга.
В это время дня отец обычно работал – в конторе, что находилась в деловом квартале Авроры, или в своем кабинете в глубине дома: беседовал по телефону с консультантами по инвестициям из Нью-Йорка, с горячностью военачальника, раздающего награды и назначающего наказания, отдавал распоряжения насчет акций. Мы с детства усвоили, что в такие моменты отца нельзя отвлекать. Как будто у нас были какие-то причины ему мешать!
Однако сейчас он выглядел растерянным, словно заблудился. Взволнованный, рассеянный, к счастью, он не заметил, как я с виноватым видом спрятала то, что держала в руке. Это была одна безделушка из комнаты М. – маленькое недорогое украшение, которого сестра никогда не хватится; она могла бы заметить пропажу, если бы это был тюбик губной помады «Миднайт роуз» (израсходованный). В сущности, мне он был ни к чему, я ни за что не стала бы накладывать макияж, это все равно что садовым совком размазать на лице шпаклевку или нанести на мои пухлые щеки клоунские румяна.
Отец спросил, видела ли я сегодня Маргариту, но я из-за гула в ушах не расслышала его вопрос. Он повторил, и с моих губ сорвался крик, удививший нас обоих:
– Нет! Я не видела Маргариту с самого утра. Почему все спрашивают меня о ней?!
* * *
Вскоре стали звонить наши родственники. В Авроре вести распространяются стремительно.
Где Маргарита? Маргарита не объявлялась? Кто-нибудь сегодня видел Маргариту?
С момента исчезновения М. не прошло и восьми часов, а уже пошел слух, что с М., должно быть, что-то случилось, это на нее не похоже.
Да, такой вот бред! Но, по-видимому, только я одна это понимала.
Отец заявил, что сам будет отвечать на звонки. Не позволил Лине даже снимать трубку.
«Командный» голос отца. Жесткий голос мужчины, привыкшего к тому, что его слушают. Громкий голос человека, у которого проблемы со слухом. Родственники по телефону справлялись об М., а отец молниеносно отвечал вопросом на вопрос, подобно тому, как вошедший в раж игрок в пинг-понг мгновенно отбивает шарик.
Есть известия о его дочери? Маргарита звонила кому-нибудь из них? Она уехала из города, никого не предупредив? У Маргариты есть друзья в Итаке. Может, она там?
(Но если М. уехала в Итаку, почему ее машина стоит в гараже?)
(На это обстоятельство в дальнейшем будут ссылаться как на свидетельство того, что М. уехала не по своей воле. Ведь ее «Вольво» остался в гараже! Как будто это что-то доказывало.)
Как-то раз позвонил тот настырный старший художник-педагог из ее колледжа. Он даже решился спросить у отца, нет ли какого-нибудь «приватного номера телефона», по которому он мог бы связаться с Маргаритой «по сугубо личному вопросу», а отец ответил ледяным тоном: «Сэр, кто бы вы ни были, мне все равно, коллега вы моей дочери или нет, имя Элк мне незнакомо, и подобная информация вас не касается. Всего доброго!»
(Тогда нам не показалось странным, что этот Элк так настойчив, как будто между ним и М. существовали некие отношения, о которых мы не знали.)
Отец был так встревожен, что не мог сидеть дома. Настоял, чтобы мы с ним проехались в его солидном черном «Линкольне» по нашему городку. Мы медленно катили по Мэйн-стрит вдоль темных витрин магазинов (несколько из них принадлежали ему), затем свернули на Лейквью-авеню и поехали мимо сияющих огнями особняков наших родственников Фулмеров – тетушек, дядюшек, кузенов и кузин. Некоторые из них относились к М. и ко мне чуть лучше других, но ни у кого не было настолько близких отношений с М., чтобы она могла запросто зайти к ним в гости, не уведомив нас. Шмыгая носом, отец внимательно вглядывался в первый из этих домов, словно намеревался свернуть на подъездную аллею.
– Папа, не надо, – резко сказала я. – Не доставляй им такого удовольствия.
Он вздохнул, соглашаясь со мной. Маргарита уж точно не хотела бы, чтобы ее завистливые кузены и кузины болтали о том, что она пропала без вести.
Потом, все так же медленно, мы поехали по Черч-стрит, мимо окутанного мраком «исторического» кладбища. Потрепанные непогодой надгробия жутко светились в темноте, словно пораженные радиацией зубы. Казалось, они насмехались над нашими нелепыми и бесполезными поисками.
Затем – крутой подъем к студгородку колледжа. Застывшие здания из красного кирпича, унылые, похожие на фрегаты на гребне волны какого-то сухопутного моря. Колокольня, часовня. Монотонный бой курантов – девять вечера. Белый циферблат часов сияет, как лик самого идиотизма, лишенный выражения человеческого лица.
М. не хотела возвращаться в Аврору. Вернулась лишь «на время».
Она вела себя самонадеянно, ко мне относилась снисходительно. Ну как же! Она ведь вернулась домой из Нью-Йорка ради меня. А может, она мне завидовала.
Сестра вернулась домой после смерти мамы. Я по ней очень горевала (наверное, но точно не помню).
Хотя маму я не любила – то есть любила, но не очень.
Впрочем, я никого не люблю – так чтобы очень сильно.
М. согласилась работать в колледже при условии, что ее скромное жалованье будет перечисляться в стипендиальный фонд. Но чтобы об этом никто не знал: М. не хотела прослыть «филантропом», иначе ее коллеги-художники (большинство из них были старше сестры) чувствовали бы себя неловко в ее присутствии.
Да, конечно, по социальному статусу они были ниже Маргариты Фулмер. И им это давали понять.
Любой из ее коллег мог желать М. зла.
Наш род давно занимал видное положение в Авроре и окрестностях. Отец моего отца и его дед были членами попечительского совета женского колледжа, а теперь в него входил и мой отец. В нашей семье были банкиры, инвесторы, застройщики, благотворители. М. немало смутилась, когда узнала, что одно из старейших и наиболее солидных зданий в студгородке носит имя ее семьи.
Мама, разумеется, тоже происходила «из хорошей семьи». Кто бы сомневался.
В ее роду, как выяснилось, женщины имели предрасположенность к определенному типу онкологии. И многие умирали от рака.
О деталях я, пожалуй, умолчу.
Интересно, папу тоже посещали такие мрачные мысли? Если он вообще позволял себе думать о смерти матери, из-за которой наша, казалось бы, крепкая семья дала трещину.
Угрюмо глядя вперед, он медленно ехал по извилистым дорогам студгородка, иногда останавливался и всматривался в темноту между зданиями и в скрытые тенями уголки, которые в свете фар оказывались безжизненными и пустыми, как внутренность картонной коробки.
Я была взвинчена и, сидя рядом с отцом на пассажирском кресле «Линкольна», зажимала между коленями кулаки, чтобы не елозить и не дергаться. Я не решалась вслух произнести то, что само просилось на язык: «Пап, неужели ты правда думаешь, что Маргарита прячется где-то здесь в темноте? Правда думаешь, что найдешь ее тут?»
Если принцесса не желает, чтобы ее нашли, принцессу не найдут.
Заметив одинокую девушку на тротуаре возле библиотеки колледжа, отец остановил машину, опустил стекло на окне.
– Маргарита? Это ты? – срывающимся голосом окликнул он.
Я чуть не рассмеялась, но вдруг поняла, что папа вне себя от горя.
К счастью, девушка его не услышала. Она торопливо прошла мимо нас, прижимая к груди книги, и даже не оглянулась.
Глава 8
Тот нескончаемый день.
К десяти часам вечера стал накрапывать дождь. Я стояла у окна на верхнем этаже, смотрела в темноту и думала: «Теперь она промокнет, замерзнет. И принцесса смиренно вернется домой, поджав хвост, как побитая собака».
Однако к 11 часам вечера М. домой не пришла и не позвонила, чтобы объяснить, где она находится. И от ее имени тоже никто не позвонил.
Начал ли во мне просыпаться страх? Да, меня охватывал ужас, потому что к нам устремлялся мощный поток грязной воды, хотя дом наш стоял на холме, над городом, а я ненавидела хаос.
Я терпеть не могла беспорядок, если только, конечно, не устраивала его сама. Всякое нарушение домашнего уклада меня раздражало. Ничто так не нервирует, как отклонение от заведенного порядка. Я тружусь за стойкой почтового отделения на Милл-стрит по восемь часов пять дней в неделю, а свободное от работы время провожу в тишине и покое своей комнаты в отцовском доме и не люблю, когда в нашем налаженном быту что-то меняется. Например, когда ужин откладывается на несколько часов, а Лина греет и греет приготовленные блюда в теплой духовке, после чего на вкус они противные, как недоеденные остатки недельной давности. И особенно я не люблю, когда проклятый телефон беспрерывно трезвонит, тем более что звонят всегда ей, а не мне.
Было ясно, что этой ночью в нашем доме спать никто не будет. Мне требуется девятичасовой сон, если я хочу на следующее утро быть энергичной, со светлой головой, чтобы выстоять на ногах полный рабочий день, «приветливо» обслуживая посетителей почтового отделения, но разве кто-то подумал обо мне? Впрочем, это неудивительно.
Наконец папа, по настоянию взволнованных родственников, живших в квартале от нас на Лейквью-авеню, а также Лины, заламывавшей руки от беспокойства за мою сестру, позвонил в службу спасения «911». Делая заявление, он говорил неуверенно, с запинками, растягивая слова, что выдавало в нем человека, стоящего на пороге старости.
Да, у нас чрезвычайная ситуация!
– У меня есть все основания полагать, что моя дочь Маргарита находится в смертельной опасности.
Двоим полицейским, которые приехали к нам домой, он сказал, что с М. наверняка что-то случилось. Она не явилась на работу в колледж, где ее ждали, а вести себя столь безответственно не в правилах его дочери. Он сразу должен был догадаться, что она попала в беду, потому как утром за завтраком М. он не видел.
Можно подумать, мы всегда завтракали вместе! Иногда это бывало, но лишь случайно. С тех пор как мама заболела, а потом умерла, завтраки в нашем доме перестали быть общесемейным ритуалом.
Маргарита зачастую вообще не завтракала. Или, если завтракала, обычно в столовой колледжа. Я завтракала так, как мне заблагорассудится: дома ела хлопья Cheerios с молоком и банан, а на второй завтрак ходила в кафе напротив почты, где заказывала яичницу с беконом и ржаной тост с виноградным джемом. Папа по утрам бывал в мрачном настроении, и Лина аж в одиннадцать утра подавала ему на завтрак черный кофе с овсяной кашей.
«Вести себя столь безответственно не в правилах моей дочери», – повторил он несколько раз, словно это заявление содержало в себе некий глубокий смысл и должно было произвести на полицию столь же сильное впечатление, какое, казалось, оно производило на него самого.
Один из полицейских был заметно моложе второго. К своему неудовольствию, я узнала в нем смуглого парня со свинячьим лицом, с которым училась в школе. Теперь плотный, тучный, он моргал и щурился, рассматривая интерьер и высокие потолки дома в стиле Тюдоров на Кайюга-авеню, куда при обычных обстоятельствах путь ему был бы заказан: таких, как он, к нам в гости не приглашали.
Его взгляд упал на меня, и он вздрогнул. Словно не узнал, но в то же время узнал, однако не смел это показать, поскольку я смотрела на него с презрением.
Ведь Джорджина Фулмер сильно изменилась со школы.
И лицом, и фигурой. Некогда я была слабой, теперь – тверда как скала.
Некогда я была беззащитна перед дураками и задирами, теперь – неприступна, как моллюск: когда смотришь на него, видишь лишь раковину с тонкими бороздками и ни капельки розовой плоти.
– Мистер Фулмер, возможно, ваша дочь просто куда-то уехала на ночь, но к утру вернется, – с тяжеловесной медлительностью произнес полицейский постарше – ни дать ни взять гиппопотам, толкающий речь. – Такое мы наблюдаем сплошь и рядом. Это не значит, что она сбежала.
Сбежала! Боже, какая нелепость.
Я саркастически рассмеялась. Оба полицейских уставились на меня в изумлении. Отец обратил на меня неодобрительный взгляд.
Полицейский постарше спросил, что меня рассмешило, и я, не утруждая себя любезностями, объяснила этому идиоту, что моя сестра Маргарита – не подросток, ей тридцать лет и она преподает в колледже Авроры. Что она профессиональный скульптор, а не беглянка.
Папа положил руку мне на плечо – попытался успокоить меня, потому что я хохотала взахлеб, аж закашлялась. Оба полицейских таращились на меня во все глаза.
Ну и кретины! Разве им что-то можно доказать? Я оставила их, с трудом передвигая ноги, поднялась по лестнице в свою комнату и захлопнула за собой дверь.
Думала: ну вот, теперь они обыщут комнату М., обыщут весь дом.
От чердака до подвала. Все три этажа. Заглянут в «новый» – отремонтированный – подвал и в «старый», куда никто никогда не спускается, потому что там земляной пол, воняет сыростью и гнилью.
Но нет: в тот вечер они не стали осматривать комнату М. и уж тем более обыскивать весь дом.
Этот день! Этот день! Этот проклятый день.
До того длинный, долгий день, что к ночи уже и не вспомнить, что было утром: события расплываются как в тумане, подобном тому, что поднимается над озером и плывет в глубь побережья. Кто-то – с добрыми намерениями – зажег в доме все огни, и теперь он сверкал, как фонарь из тыквы на Хеллоуин, сообщая всей Авроре, что в доме № 188 на Кайюга-авеню что-то случилось. Но что именно?
И всему виной М. Вечно привлекает к себе внимание.
Я ее ненавижу и никогда не прощу.
Глава 9
Поиски.
История Авроры и ее сельских окрестностей знает мало случаев исчезновения взрослых людей, которых официально признавали пропавшими без вести. Обычно из дома пропадали девочки-подростки, которых называли беглянками. Серьезные преступления здесь совершались крайне редко: одно убийство за восемьдесят лет, которое в нынешнее время квалифицировали бы как «убийство на семейно-бытовой почве».
О похищениях – с целью выкупа и прочее – здесь слыхом не слыхивали. Об изнасилованиях, посягательствах сексуального характера и избиениях в полицию не сообщали, соответственно, такие случаи зарегистрированы не были.
Наиболее типичным преступлением в Авроре и ее окрестностях считался подростковый вандализм: граффити, покореженные почтовые ящики, опрокинутые мусорные баки, костры в полях на Хеллоуин.
И вот теперь, в апреле 1991 года, столкнувшись с загадочным исчезновением местной богатой наследницы, полицейский департамент Авроры в составе четырех человек попросил содействия у ведомства шерифа округа Кайюга.
По меркам правоохранительных органов взрослого человека рано официально признавать пропавшим без вести, если со времени его исчезновения прошли всего одни сутки. Однако сложившиеся обстоятельства, настойчивость отца, равно как и его высокое общественное положение в Авроре были залогом того, что исчезновение Маргариты Фулмер не осталось без внимания. О происшествии уведомили местные СМИ. Сообщения по радио и телевидению были выдержаны во взволнованно-тревожном и одновременно почтительно-объективном тоне. Моему удивлению не было предела, когда, включив телевизор, я увидела на экране лицо М., а над ним заголовок: «Жительница Авроры не вернулась домой ночевать».
12 апреля утром официально признали, что местонахождение моей сестры неизвестно целые сутки, и на ее поиски были отправлены специально сформированные отряды. Сотрудники полиции, пожарные-волонтеры округа Кайюга, школьники-старшеклассники, которых отпустили с занятий для участия в поисковой операции, крепкие молодые спортсменки из колледжа Авроры, местные граждане – все искали М. Позже к ним присоединились студенты Корнеллского университета, расположенного в Итаке. Услышав в новостях о пропавшей женщине и награде в $50 000, которые ее родные готовы заплатить тем, кто ее найдет, они сели в машины и через час пути вдоль озера были в Авроре.
Папа хотел предложить награду в $100 000, но следователи его отговорили. Они опасались, что столь крупная сумма привлечет слишком много внимания, и это не лучшим образом отразится на результатах поиска.
В полиции уже не умолкал телефон. Все кому не лень сообщали о том, что «видели кого-то», замечали «подозрительных личностей» там, где их быть не должно. Звонки поступали на радио и телевидение, и что ни день – все больше и больше.
Каждая «ниточка» будет отслеживаться, заверили нас полицейские. Очередная ложь, одно из бесконечного множества лживых утверждений, которыми нас будут потчевать еще лет десять, да и потом тоже.
Мы с Линой определили, что ни один из чемоданов М. из шкафа не пропал. И вся ее одежда на первый взгляд тоже была на месте. (Впрочем, Лина соглашалась со всем, что я говорила с присущей мне категоричностью: она не имела привычки возражать.)
У М. были наручные часы «Лонжин» – серебряные, с браслетом и дымчато-темным циферблатом, на котором маленькие цифры мог разглядеть только тот, чье запястье они украшали. Сестра редко выходила куда-нибудь без этой изящной ювелирной вещицы, тоже купленной в Нью-Йорке, и в утро ее исчезновения эти часы наверняка были на ней. Обычно М. не надевала кольца, если собиралась работать в мастерской, но мне кажется, что в то утро я видела на ее руке аметистовое кольцо, некогда принадлежавшее нашей бабушке… (Позже это кольцо я обнаружу на дне ящика своего туалетного столика, хотя понятия не имею, как оно туда попало!)
Мы с Линой обе считали, что М. ушла из дома не с одной из своих дорогих кожаных сумок, которые остались в ее комнате, а с повседневной – из пеньки, на длинном ремешке. В этой сумке лежали ее кошелек («Прада») и другие личные вещи.
К полудню 12 апреля выяснилось, что за прошедшие сутки по ее кредитной карте никаких операций не проводилось. Не снимала она деньги и со своего сберегательного счета в банке Кайюги.
Больше по счетам М. вообще не будет наблюдаться никакого движения. Оставалось только гадать, хорошая это новость, плохая или никакая.
Да! Я собиралась отправиться на поиски сестры в составе одного из отрядов – девушек-спортсменок колледжа Авроры.
Только той ночью я плохо спала, утром в голове пульсировала тупая боль, а ноги были как свинцом налитые, так что я с трудом спустилась на нижний этаж. Завтракать аппетита не было, чем я очень расстроила Лину. Она знала: если я не позавтракаю, у меня будет кружиться голова. Ей пришлось поддерживать меня, пока я, тяжело отдуваясь и чертыхаясь, пыталась запихнуть ноги (в шерстяных носках) в (резиновые) боты. Но к тому времени, когда я добралась до колледжа Авроры, поисковый отряд уже ушел (без меня), и не стоило рассчитывать, что я сумею их догнать.
Обидно до слез! Девушки-спортсменки, объединенные общим делом, прочесывают поля в поисках моей сестры, а меня среди них нет…
Другие поисковые отряды меня не интересовали, как и вся наша родня – кузины и кузены, племянники и племянницы. Они топтали поля в надежде увидеть себя в вечерних теленовостях.
В городе все стены и столбы были обклеены объявлениями о пропаже моей сестры. Конечно, меня грызло беспокойство, но еще больше – раздражение. Окружающие таращились на меня, задавали дурацкие вопросы.
Вы ее сестра? Когда видели ее в последний раз? Какой она вам показалась?
На досках объявлений возле публичной библиотеки, Дворца культуры, почтового отделения фото Маргариты Фулмер висело рядом с фотографиями преступников, разыскиваемых ФБР. Смех, да и только!
Как-то непривычно было всюду в Авроре видеть лицо М., под которым крупными буквами было напечатано: МАРГАРИТА ФУЛМЕР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ.
Казалось, это жестоко, что М. на фотографии улыбается. Выглядит счастливой, уверенной в себе. Не догадывается, что ее ждет.
Это ли не веская причина, чтобы не улыбаться, когда тебя фотографируют, да?
У М. на левой щеке сразу же под глазом имелся маленький лоснящийся шрамик в форме стрелы, но на фотографии он заметен не был. Сколько я ни вглядывалась в ее фото на объявлении, даже подносила его к свету, чтобы было лучше видно, шрам я так и не различила.
Глава 10
Богатая наследница.
Первые заголовки в (местной) прессе – «Пропала без вести жительница Авроры» – на следующий день были изменены на «Пропала без вести богатая наследница из Авроры» и благодаря стараниям «Ассошиэйтед пресс» распространились по всему штату Нью-Йорк, а 17 апреля 1991 года засветились и в авторитетной «Нью-Йорк таймс».
И с той минуты, как мою сестру в СМИ назвали «пропавшей без вести богатой наследницей», она никогда больше не будет просто «пропавшей без вести женщиной». Мало будет сказано и о ее профессиональной деятельности скульптора, разве что, может быть, в традициях поверхностной журналистики упомянут, что однажды ей присудили стипендию Гуггенхайма.
В сущности, о работах М. – она творила «абстракцию», «нерепрезентативное» искусство – особо и не найдут что сказать. Это вам не элегантные композиции Кандинского, Бранкузи, Мура[6] или произведения более популярных феминисток Марисоль[7], Буржуа[8], Кало[9]. Ее творения – это не понятные, пусть и гротескные образы, в которых журналисты могли бы усмотреть связь с несчастной судьбой пропавшей без вести женщины-скульптора.
Чертовски обидно! Это оскорбление.
Моя сестра была творцом, художником, а ее низвели до статуса богатой наследницы. Хотя М. меньше всего думала о том, что она богатая наследница. Для нее в жизни самым главным было ее творчество.
Но это напомнило мне – тычок под ребра, – что я тоже наследница.
В один прекрасный день мне отойдет папино поместье. И этот дом, и это владение. Если только Маргарита не вернется. Тогда папино наследство мы поделим поровну.
Глава 11
М. – художник.
У многих, естественно, возникает вопрос: значит, ключи к разгадке таятся в ее скульптурах?
Будто бы ключ к пониманию того, что произошло, где находится М., можно найти, глядя на ее работы – с полдесятка незаконченных скульптур в ее мастерской в колледже.
Как профессиональный художник М. выставляла свои творения под скромным именем «М. Фулмер», по которому не определить, кто автор – мужчина или женщина. Скульптуры М. были исполнены в так называемом стиле абстракционизма. Ярко-белые, серо-белые, голубовато-белые, кислотно-белые. Большинство было создано из природного камня. Куски горных пород она обтесывала, моделировала, шлифовала, полировала вручную, на что у нее уходили сотни часов усердного труда. Однако меня работы сестры ставили в тупик, раздражали.
Я не была поклонницей искусства М. Не восхищалась ее творчеством. И вовсе не из-за того, что творчество М. увлекло ее из Авроры в другой мир с центром в Нью-Йорке, принесло ей награды, гранты («престижной» стипендии Гуггенхайма обычно таких молодых, как М., не удостаивают). Просто искусство М. было чинным, жеманным, безликим. Слишком совершенным.
В геометрических – овальных, прямоугольных – формах ее скульптур лишь смутно угадывались человеческие фигуры и черты. Ходишь вокруг таких изваяний высотой около пяти футов, стоящих на постаментах или на полу, смотришь на них, смотришь и ничего не понимаешь, как будто пытаешься разглядеть человеческое лицо в облаках или на глинистой земле. Думаешь: «Зачем я на это смотрю? Что должна увидеть?» И не находишь ответа.
Творения прекрасные, но пресные. Поразительные, но легко забывающиеся. Загадочные, но претенциозные.
Приводящие в бешенство! Хочется взять в руки молоток и раздолбать эти так называемые произведения искусства.
(Правда, скульптуры сестры я никогда не разбивала. Хотя возможность была. Лишь однажды решилась походным ножом оставить несколько царапин на нижней части одной из скульптур, выставленных в колледже Авроры. Думаю, ее дно М. никогда не рассматривала, а если что и заметила, никому об этом не сказала – во всяком случае, я не слышала. И раз или два, когда я была гораздо младше, а М. работала дома, я умышленно измазала грязными руками кипенно-белый овал, похожий на голову.)
Полицейские сделали фотографии с ее скульптур в школе изобразительных искусств. Пусть изучат «криминалисты-искусствоведы», объяснили они нам. Серьезно?! Некоторые из этих снимков разместили на страницах газет и журналов, показали по телевизору. Хотя мы на то разрешения не давали.
М. пришла бы в ужас. Она никогда не позволяла фотографировать свои незаконченные работы. (Хотя как понять, что та или иная скульптура М. – законченное творение? По мне, так они почти все выглядят одинаково.)
Ее ранние работы, включая несколько скульптур, отмеченных наградами, на мой взгляд, мало отличаются от более поздних. М. любила позиционировать себя приверженцем таких течений, как формализм, классицизм, минимализм. Создавала скульптуры, побуждавшие невежд к высказываниям типа «Я тоже так могу!», о чем они заявляли с самодовольной усмешкой.
(А что, разве нет? Я сама частенько, глядя на хваленые творения сестры, тоже думаю, что и я бы смогла, как она, если бы задалась такой целью.)
(Подобная мысль у меня возникает и в отношении представителей так называемого абстрактного экспрессионизма, которыми восхищалась М. Мазню Поллока[10], Ротко[11], де Кунинга. Я, если б захотела, тоже смогла бы нарисовать такое. Для этого не нужно обладать талантом мэнского Леонардо да Винчи – как там его? – Эндрю Уайета[12], кажется.)
Самой известной скульптурой М. признают «Овоид 90», фотографии которой после ее смерти часто размещали в альбомах по искусству. Гладкий серовато-белый камень – то ли гигантское яйцо, то ли надгробие странной формы – с причудливыми бороздками наподобие иероглифов и миниатюрными выпуклостями в виде обрубленных завитков. Громоздкий – четыре фута высотой, пять в обхвате, – но не идеальный овал: в нижней части чуть шире, чем наверху. И очень тяжелый – просто так с места не сдвинешь.
Говорили, что скульптор потратила не менее тысячи часов на создание «Овоида 90». Невосторженный зритель (вроде Дж.) мог бы скептически поинтересоваться: «А зачем?»
Тем не менее к моменту исчезновения М. еще не довела до ума свой «Овоид 90».
(Хотя кто бы мог утверждать, что эта сферическая фигура не завершена?! Но я этого не говорила.)
Мы с отцом «Овоид 90» подарили колледжу Авроры. После соответствующей церемонии с участием президента колледжа, декана школы изобразительных искусств и самого папы, на которой он, седовласый, красивый, хоть и сгорбившийся от горя, стоял как величественное изваяние, скульптуру собирались установить на вершине живописного холма за библиотекой.
Унылый Овоид, называла я это творение сестры. Конечно же, про себя.
(Когда мы с М. были девчонками, кое-кто из наших родственников, любивших посплетничать, нередко восклицал: «Бедная Джорджина! Как же, наверное, она завидует Маргарите!» Но я всем им утерла носы, решительно отказавшись завидовать кому бы то ни было.)
Так называемые «рабочие материалы» – расчеты, эскизы, записи и так далее, изъятые из мастерской М, – нам с отцом вернули в конце весеннего семестра 1991 года в колледже Авроры. К этому времени следователи, в том числе эксперты-криминалисты, вдоль и поперек изучили эти бумаги, но не вынесли из них «никакого заключения», как, впрочем, и из всего остального.
Особенно если учесть, что эти идиоты не знали, исчезло ли что-нибудь из бумаг М. А откуда им было это знать?
Например: если бы среди вещей М. был какой-нибудь журнал записей художника, что-то вроде личного дневника или ежедневника, естественно, я сразу забрала бы эту тетрадь, как только ее увидела – днем 12 апреля 1991 года. Секреты моей сестры не для чужих глаз.
Глава 12
Мисс Фулмер, вы знаете кого-то, кто желал бы зла вашей сестре? Есть ли у вашей сестры враги? Можете сказать, с кем из мужчин она встречалась?
Нет, нет и еще раз нет.
Яростное, категоричное нет.
Глава 13
(Сестра, конечно же, не пытается отвести подозрения от себя. Она не назвала нам ни одного имени.)
Глава 14
Зависть.
Нет мести без зависти. Зависть – это как вспыхнувшая спичка.
Самая загадочная из эмоций. Самая постыдная из эмоций.
О моем характере можно точно сказать одно: я не подвержена таким эмоциям, как зависть, ревность, злоба, мстительность. Я презираю слабость в людях и прежде всего в самой себе.
Все мужчины, любившие М., хотели ею «обладать».
(Я взяла это слово в кавычки, чтобы подчеркнуть: да, я считаю, что это дурацкое слово. Я считаю, что это глупое желание. Но понимаю, что стремление «обладать» присуще многим мужчинам, околдованным женщиной, которая ускользнула от них.)
Не то чтобы М. много рассказывала мне о своей личной жизни. Свою личную жизнь она оберегала как сокровище – не посвящала в нее незрелую младшую сестру.
Но я знала про некоего У., который, ища М., приходил к нам домой. Были еще Д., И., Т. С этими мужчинами я знакома не была, но слышала о них. Потом объявились и другие.
Мужчины, с которыми М., возможно, имела отношения. Возможно, сексуального характера. В Итаке, в Нью-Йорке, даже в Авроре – в тот или иной период времени.
Я не стану называть эти имена. Не опущусь до повторения пошлых грязных сплетен.
В сущности, я не знала имен – полных имен – этих мужчин, за одним лишь исключением. Другие наши родственники (кузины и кузены), а также друзья сестры, живущие кто где, и бывшие одноклассники, которые не стеснялись посплетничать под тем предлогом, что оказывают помощь следствию, перечисляли имена «мужчин в жизни М.», а те потом должным образом подвергались допросу как «возможные фигуранты дела».
Называние имен доставляет злорадное удовольствие. Как же легко усложнить жизнь человеку или даже разрушить ее, назвав его фамилию полицейским, расследующим исчезновение молодой женщины.
Месть М. за то, что волновала мужское воображение, пробуждала интерес к себе, пробуждала желание. И месть «возможным фигурантам» за то, что имели такое желание.
Со временем в деле добавится множество новых имен. Следствие будет двигаться не в глубину, а приобретать (безрезультатно) все более широкий охват. Ведь полицейское расследование «нераскрытого» преступления не ограничено какими-то рамками и теоретически может длиться вечно.
Как те безнадежно истоптанные тропы в лесу, испещренные следами незнакомых людей и отпечатками оленьих копыт – клубок «нитей», ведущих в никуда.
Если следствие по делу «все еще ведется» – «подвисло», – значит, пощады не жди: под подозрением находятся все, кто так или иначе был связан с потерпевшей.
Когда у следствия по делу не видно ни конца ни края, горе сменяется гневом, гнев – сожалением.
Как возможный фигурант становится подозреваемым?
Вот здесь-то полиция и дала промашку. Следствие не установило ни одного подозреваемого.
Общепринятая версия – непонятно, откуда она появилась – гласила: он подобрал ее на Драмлин-роуд. Кем бы ни был этот человек, он куда-то увез М.
Заставил сесть в машину – может быть, затолкал в багажник. Связал, засунул ей в рот кляп и, еще живую, повез навстречу неизвестной судьбе.
Но не исключен и другой вариант: на Драмлин-роуд М. сама села в чью-то машину, как и планировала. Запыхавшаяся, целеустремленная, практически без личных вещей и денег. В лучшем случае в кошельке у нее лежало меньше ста долларов наличными, судя по тому, что последний раз, причем довольно давно, со своего счета в банке Кайюги она сняла меньше пятисот долларов.
В таком случае кто сидел за рулем автомобиля? И куда этот автомобиль направился с Драмлин-роуд?
Зависть!
Я не завидовала тому, что в жизни М. якобы были мужчины, потому что М. я не завидовала. Младшая сестра не может завидовать старшей – красивой, умной, образованной, элегантной. Перед такой сестрой можно только благоговеть, радоваться тем крохам внимания – мимолетным улыбкам, словам одобрения, которые принцесса бросает ей, словно монеты нищему.
Вы с сестрой были близки? Еще больше сблизились после смерти матери?
Ваша сестра была с вами откровенна?
Нет, нет, никогда.
Глава 15
Похищение.
В конечном итоге решили, что (наиболее логичным) объяснением исчезновения М. является похищение.
К такому выводу пришли совместно полиция, журналисты, местные власти, семья, родственники, жители Авроры и со временем дилетанты-любители неразгаданных тайн, среди которых встречались невежественные, надоедливые и неприятные типы.
В сумасшествии дней, последовавших сразу за исчезновением М., когда из разных концов региона Пальчиковых озер и за его пределами постоянно поступали сообщения, что мою сестру «видели» там-то и там-то, а полиция Авроры круглосуточно дежурила по адресу Кайюга-авеню, 188, защищая нас от вторжения незваных гостей (папарацци – как журналистов, так и телевизионщиков, – и волонтеров всех мастей), осаждавших наш дом, также рассматривали и версию о похищении с целью выкупа.
А что, вполне вероятная версия, учитывая высокий социальный статус пропавшей женщины/богатой наследницы.
Везде в округе Кайюга фамилия Фулмер ассоциировалась с богатством, престижем, привилегированным положением.
(Разумеется, это преувеличение! Как является преувеличением все в маленьких городах Америки, где быть «богатым» значит просто иметь чуть больше денег, чем остальные жители.)
Полицейские посоветовали отцу немедленно поставить их в известность, если похитители свяжутся с ним, но не пытаться договориться с кем бы то ни было самостоятельно и уж тем более не платить выкуп, на что папа согласился, ведь он был «не дурак», как он сам любил похвастать. Однако я уверена, если бы похитители позвонили и он услышал голос М., умоляющей спасти ей жизнь, папа не раздумывая выполнил бы условия злоумышленников.
Но никакие похитители с ним не связывались. Выкуп никто и никогда не требовал.
В те дни телефон трезвонил как сумасшедший: следователи сказали, чтобы он всегда был включен и чтобы мы отвечали на каждый вызов. Однако того звонка, которого мы ждали, так и не было.
При каждом входящем вызове сердце подпрыгивало в груди, а потом болезненно сжималось, потому что каждый звонок не приносил ничего, кроме разочарования.
Версия о похищении с целью выкупа себя не оправдывала, и все больше склонялись к тому, что это было насильственное похищение.
В этом случае рассчитывать на сообщение от злоумышленников бессмысленно, а будет (как это ни жестоко) нескончаемая череда дней в ожидании этого звонка, который никогда не поступит. Ведь, если это было насильственное похищение, сказали нам полицейские, скорее всего, М. уже нет в живых и маловероятно, что ее местонахождение когда-нибудь обнаружат.
Как правило, похищение молодых женщин, девушек, детей оканчивается их гибелью – сексуальное надругательство, страшная смерть. Тела большинства жертв не находят, хотя не исключено (такое бывает крайне редко), что однажды убийца разоткровенничается с сокамерником (например) или на смертном одре вдруг попросит прощения у Господа.
Размышляя об этих возможностях, папа мрачно пил виски.
– Ничего подобного, – говорил он, решительно качая головой. – Мы увидим Маргариту живой. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Глава 16
Правовые нормы и процедуры, определяющие понятие «пропавший без вести» (штат Нью-Йорк)
23.0 Пропавшим без вести считается человек, о котором заявлено, что он «внезапно исчез» с места своего проживания. К этой категории относятся:
а) лица младше 18 лет, или
б) лица 18 лет и старше, и:
1. больные умственно или физически, которым, возможно, требуется госпитализация, или
2. возможные жертвы амнезии, утопления или подобного несчастья, или
3. лица, склонные к суициду, или
4. лица, пропавшие без всякой на то объективной причины при обстоятельствах, указывающих на то, что исчезновение не было добровольным.
23.1 Определение «пропавший без вести» неприменимо к лицам:
а) в отношении которых выдан ордер на арест;
б) которые разыскиваются за совершение преступления;
в) 18 лет и старше, которые добровольно ушли из дома по причинам бытового или финансового характера или схожим причинам;
г) которые попадают под определение «отсутствует по собственному желанию».
Глава 17
Кошелек.
Черный кожаный кошелек, даром что вымокший под дождем, грязный и помятый, не был старым или потертым. В нем не осталось ни наличных, ни кредитных карт, ни удостоверения личности. Пустой кошелек, может, и не улика вовсе, если не принимать во внимание фирменный блестящий металлический значок с логотипом «Прада».
Кошелек был обнаружен на обочине одной из сельских дорог (в восьми милях к востоку от Авроры, в четверти мили от въезда на Нью-Йоркскую автостраду) спустя почти месяц после исчезновения М. Нашел его ехавший на велосипеде подросток. Кошелек лежал на виду, словно его выбросили из проезжавшего автомобиля.
За прошедшие недели никаких операций по кредитным картам М. не проводилось, и папа собирался закрыть ее банковские счета.
Принадлежал ли тот грязный помятый кошелек М.? Да, у М. имелся кошелек фирмы «Прада», купленный несколько лет назад. Равно как имелись другие дизайнерские вещи, включая шелковое белое платье от Диор, приобретенное в Нью-Йорке, где она жила три года.
Обратите внимание: многое здесь одни лишь предположения. Может быть, Дж. точно знает, что произошло с М., но она старается представлять зацепки в той последовательности, в какой они появляются.
Все наши родственники Фулмеры были убеждены, что помятый кошелек принадлежал М. Папа склонялся к тому же мнению. Даже те, кто никогда не видел кошелек М. и не имел ни малейшего представления о том, как он выглядит, в один голос утверждали: «Это ее кошелек!»
И если это кошелек М., значит, ее действительно силой увезли из Авроры. Значит, она покинула Аврору не по своей воле. Значит, она «пропала без вести, возможно, убита», а не «отсутствует по собственному желанию».
Только вот Дж., младшая сестра, не входила в число тех легковерных людей.
Скептик по натуре, она отказывалась «верить» в то, во что другие верили безоговорочно.
С первого взгляда я определила, что кошелек, столь кстати найденный на обочине дороги, моей сестре не принадлежал.
Но… разве это не «доказательство»? Не «улика»?
Слишком очевидное «доказательство». Слишком очевидное, чтобы быть правдой.
Меня сердито спрашивали, почему я упорствую, ведь кошелек явно же принадлежит М., черт возьми! В конце концов, сколько кошельков фирмы «Прада» можно насчитать в округе Кайюга?! Тем более таких, которые были выброшены на обочину дороги вскоре после исчезновения М.?
А у меня были на то свои причины. Я не настолько тупа, чтобы принимать за доказательство кошелек, который, возможно, специально подбросили.
Положили на обочину, на видное место. Как удобно! Почему его не зашвырнули, например, в лесную чащу? Или в канаву? Или в озеро Кайюга?
На обочину кошелек выбросила, будто мусор, сама М. Вполне вероятно.
Так же как она выбросила, будто мусор, свою жизнь в Авроре, думая о тех, кто любил ее, не больше, чем о тех, кто ее порицал.
– Джорджина, ты говоришь глупости. Разве не хочешь, чтобы полиция нашла Маргариту?
Это меня посмела язвительно уколоть наша кузина Дениз. Она ровесница М., в школе, в старших классах, была с ней близка, а теперь всю себя посвятила мужу и детям.
Я смотрела на рыхлое накрашенное лицо Дениз, и у меня чесались руки: очень хотелось залепить ей пощечину.
Кровь прилила к лицу, я почувствовала, как оно начало гореть. Глаза застлали слезы ярости.
А потом я с величайшим достоинством – нет, не ударила Дениз, – а повернулась и, держа спину прямо, всем своим видом выказывая негодование, пошла прочь. Пошла прочь, а Дениз смотрела мне вслед.
Ни за что. Никогда. Никогда я не передумаю. Я знаю то, что знаю. То, что никто из вас никогда не узнает.
* * *
Помятый кошелек «Прада», который «предположительно» признали вещью Маргариты Фулмер, в качестве вещественного доказательства приложили к материалам дела, и, полагаю, он по сей день хранится в полиции.
Глава 18
Хаос и зацепки.
В нашем холодном климате апрельские метели нередки. Снежинки хаотично кружатся в небе, словно возможные ключи к разгадке какой-то тайны.
И это ужасно, когда осознаешь, что окружающий мир представляет собой хаотичный круговорот ключей к разгадке тайн.
Тела нет, есть только исчезнувшее тело. И никаких гарантий, что это исчезнувшее тело живо.
Почему только я одна сообразила, что кошелек фирмы «Прада» – это не ключ к разгадке, а ложная зацепка? То есть предмет, который мог бы быть «ключом к разгадке» исчезновения М., на самом деле является ложной зацепкой, подкинутой с одной-единственной целью – ввести в заблуждение, а не прояснить ситуацию.
Хитрость, призванная внушить следователям, что М. похитили, а ее кошелек выбросили из окна машины, направлявшейся к автостраде. Что, впрочем, тоже не исключено.
Но недоверчивую Дж. не проведешь. Какой смысл выбрасывать кошелек похищенной женщины из окна машины, мчащейся к выезду на автостраду? Где здесь логика? Зачем это нужно?
Ясно, что это сделано намеренно. Для чего? Чтобы направить по ложному следу.
Чтобы убедить полицию, будто пропавшая женщина находится не в Авроре, а где-то в другом месте. Чтобы полиция думала: совершено преступление, и пропавшая без вести женщина исчезла «не по собственной воле». Есть и другие улики, которые, возможно, не заметили. Но они не ускользнули от внимания Дж., внимательно изучившей ежедневники М. за период с начала 1991 года.
Многие записи сделаны карандашом. Как в любом ежедневнике.
Среди множества записей, не представлявших никакого интереса, в глаза бросалась одна – за 8 апреля: «МАМ, 9 утра».
И еще одна – на 2 марта: «МАМ, 11 утра».
Разумеется, никому об этом я не сказала. Со следователями я старалась контактировать как можно реже – ровно столько, чтобы не вызвать подозрений.
* * *
Еще одна ложная зацепка – астрологическая карта М.
Она родилась 23 марта 1961 года, ее знак Овен.
(Дж. родилась 18 августа 1967 года, ее знак – Лев.)
Университетов я не оканчивала, но моей натуре свойственен здоровый скепсис, и в астрологию я, разумеется, не верю. Уповать на «Бога» глупо, но еще бо=льшая глупость – уповать на «звезды».
Человеческий разум, столкнувшись с хаотичным нагромождением зацепок, пытается понять то, что осмыслить невозможно. Даже Эйнштейн как-то презрительно воскликнул: «Бог не играет в кости со вселенной!»
Но, вероятно, Господь все же играет в кости со вселенной.
Если тебя разъедает беспокойство и ты готов провести над изучением своей «натальной карты» столько же времени, сколько мог бы потратить на постижение чего-то полезного, например, методов математического анализа в объеме программы средней школы, наверное, можно извлечь пару-тройку выводов из одного только факта, что М. родилась 23 марта. Или что я родилась 18 августа. Или что Овен и Лев взаимодействуют вполне определенным образом, который неизбежно приводит к раздорам, соперничеству, борьбе, победам. Или что Овны – натуры творческие, одаренные богатым воображением, вдумчивые, добрые, дисциплинированные, организованные, но в то же время равнодушные к окружающим, раздражительные, упрямые. А Львы – верные, правдолюбивые, наделены независимым умом, но в то же время требуют беззаветной преданности, ревнивы и по природе своей собственники.
Это же просто смешно! Совершенно беспочвенные утверждения.
Основные черты человеческой личности определяют такие факторы, как генетика, дородовой уход и окружающая среда, а вовсе не звезды. Астрология давно уже скомпрометирована как никчемная псевдонаука.
Тем не менее, к нашему вящему неудовольствию, некая жительница Авроры по имени Милдред Пфайффер, астролог-медиум, как она высокопарно величала себя, решила составить подробную астрологическую карту исходя из даты рождения моей сестры и даты ее исчезновения. Она ничего не знала о семье Фулмеров и, разумеется, о Маргарите тоже, но утверждала, что ее расчеты помогут «разрешить эту загадку».
Сначала эта бесстыдная саморекламщица попробовала встретиться с отцом, но наша домработница даже на порог ее не пустила. Тогда она попыталась поговорить со мной, но, естественно, получила от ворот поворот.
Затем – неслыханная наглость! – Милдред Пфайффер заявилась в полицейский участок и потребовала встречи со следователями, которые вели дело об исчезновении М., и ей отказали в третий раз.
Но мошенница не унималась. Она отважилась постучаться в дом к нашим родственникам на Лейквью-авеню, и те – по наивности, а может, из зловредности – впустили этого доморощенного астролога-медиума и выслушали ее бредовый лепет.
На следующее утро мне позвонила кузина Дениз, чтобы рассказать об их встрече.
Я почти сразу же прервала ее:
– Все, хватит, Дениз. Я кладу трубку.
– Постой, Джорджина! Эта женщина высказала интересные соображения…
– У нее нет и не может быть «интересных соображений». Астрология – чистый предрассудок, а все «экстрасенсы» – шарлатаны. Я кладу трубку.
Голос у меня дрожал от ненависти. Эту свою кузину я на дух не выносила. В школьные годы она была ближайшей подругой М.
– Нет, Джорджина, постой! – воскликнула Дениз. – Она говорила, что может «видеть»…
– «Видеть» она ничего не может. Придумала какую-то бессмыслицу для дурачков, и этот бред попадет в газеты, если мы ее сейчас же не остановим. Маргарита не верила в «символы и знамения», – с негодованием добавила я, – и мы с отцом тоже не верим. Это просто оскорбительно.
– Джорджина, прошу тебя, не кричи! Я хорошо тебя слышу. Милдред Пфайффер говорит, что, по ее расчетам, Маргарита еще здесь – в Авроре. Она «видит» – так она говорит – глазами Маргариты (она тоже своего рода экстрасенс), но ее видение «затемнено, затянуто облаками». Она пыталась вступить с Маргаритой в контакт, но, по ее словам, Маргарита «молчит», не отвечает…
– Дениз, это полная чушь. Хочешь вывести меня из равновесия, да? Ради бога, только папе с этим не звони – ни в коем случае. Эта женщина – бессовестная мошенница. Ей деньги наши нужны. Она надеется получить от папы пятьдесят тысяч долларов! Если ты с ней общаешься, передай, чтоб она не смела лезть в жизнь Маргариты. А если будет упорствовать, скажи, что я ее убью.
– Джорджина, что ты такое говоришь? Ты убьешь?..
– Я подам на нее в суд. Я сказала «подам в суд». Все, я кладу трубку, пора прекратить этот дурацкий разговор.
Я со всей силы швырнула трубку на рычаг, так что она со стуком отрикошетила на пол.
Глава 19
«Медиум-экстрасенс».
Теперь я понимаю, что ошиблась. В том, что не приняла Милдред Пфайффер всерьез.
Думала: мы ведь все-таки живем в двадцатом веке, а не в двенадцатом. Никто не поверит в эту идиотскую болтовню об астрологии, не говоря уже об «экстрасенсах».
И поскольку до меня продолжали доходить тревожные вести от родственников, после того как Пфайффер в очередной раз попыталась связаться с отцом, потом со мной, я написала ей следующее:
«8 мая 1991 г.
Дорогая Милдред Пфайффер,
Спасибо, что беспокоитесь за мою сестру Маргариту.
Боюсь, что, как истинные христиане, исповедующие англиканство, мы с моим отцом, в соответствии с принципами нашей Церкви, вынуждены отказаться от веры в астрологию.
Я не ставлю перед собой цель раскритиковать или опорочить ваше призвание. Просто хочу объяснить, почему мы не желаем вдаваться в ваши «заключения». Также от всей души прошу вас прекратить всякую активность в отношении моей сестры, которая в настоящий момент не может постоять за себя, и впредь воздержаться от подобных попыток. Не надо воображать, будто у вас имеется «доступ» к духу Маргариты и вы можете тем или иным способом с ней общаться.
Заранее благодарю вас, презренная мошенница…
Джорджина Фулмер».
* * *
Нет, я, конечно, не написала «презренная мошенница». Шутка!
Но остальной текст был отправлен мисс Пфайффер без изменений. Неудивительно, что ответа я не получила.
Глава 20
Конец начала.
Одним из возможных фигурантов, чье имя сообщили следователям, был У. – Уолтер Лэнг.
Один из мужчин, который имел несчастье состоять в неких отношениях с М. Из всех воздыхателей сестры только Уолтера Лэнга я видела однажды – за несколько лет до 11 апреля 1991 года.
Нет, не я сдала его полиции. Он не лучшим образом со мной обошелся, и я, конечно, была на него обижена, но не желала зла этому незадачливому ухажеру М. Не хотела, чтобы его имя фигурировало в материалах бестолкового полицейского расследования.
Бедняга Уолтер в один прекрасный день появился (без приглашения) на пороге нашего дома. Небритый, неопрятный, нервный, то и дело извиняясь, он выразил надежду, что Милтон Фулмер, с которым он не был знаком, не откажется поговорить с ним о том, почему М. внезапно перестала встречаться с ним и уехала из Нью-Йорка, оставив ему лишь прощальное сообщение на автоответчике. Можно подумать, папа знал, чем руководствовалась М.! Или имел терпение обсуждать ее мотивы.
Однако отец, как ни странно, пожалел этого Уолтера. Пригласил расстроенного парня в дом, а не отправил его восвояси, как я ожидала. Довольно долго с сочувствием слушал его. Был смущен тем, что дочь поступила столь непорядочно по отношению к человеку, который (по-видимому) очень ее любил.
Этого Уолтера я не знала. Лично не была с ним знакома. Позже выяснилось, что он биолог, занимается исследовательской работой в Корнелле, с М. его свели их общие знакомые; «перспективный», докторскую защитил в Гарварде, с М. встречался несколько месяцев, но она так и не удосужилась представить его своим родным.
С гулко бьющимся сердцем я подслушивала под дверью кабинета отца.
Сочувствовала я этому Уолтеру? Нет.
Мнимый возлюбленный моей сестры. Потенциальный муж. Слабовольный человек, банально и предсказуемо поддавшийся чарам принцессы.
Из-за закрытой двери кабинета отца доносился молодой серьезный голос Уолтера, полнившийся отчаянием и мольбой.
Гость допытывался у отца, знает ли он, догадывается ли, почему М. перестала с ним встречаться? Почему не отвечает на его звонки?
Почему она никогда не говорила нам об Уолтере? Почему никогда не приглашала его к нам домой?
Представляю, как потрясен был отец, когда увидел Уолтера Лэнга, о котором он слыхом не слыхивал.
(Но М. всегда такая была: скрытная. Она не любила откровенничать.)
Сорок минут папа серьезно беседовал с гостем в своем кабинете. Меня это поразило по двум причинам. Во-первых, потому, что папа терпеливо выслушивал сетования страдающего парня, а не высмеивал его. Во-вторых, потому, что он обсуждал с незнакомцем какую-то тему на протяжении столь длительного времени. Со мной, я уверена, он так долго ни о чем не говорил; в лучшем случае уделял мне минуты четыре.