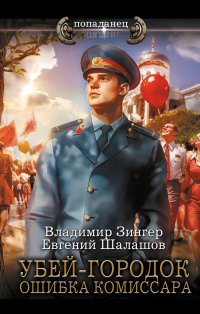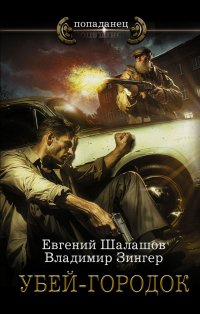
Читать онлайн Убей-городок бесплатно
- Все книги автора: Владимир Зингер, Евгений Шалашов
* * *
Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.
© Евгений Шалашов, 2024
© Владимир Зингер, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Часть первая
Работа над ошибками
Глава первая
Это не по-мушкетерски
Как там старая заповедь? Можешь справиться – задерживай. Не можешь – ищи другой способ победить.
Как там теперь вызывать полицию? Сто двенадцать? «Вы позвонили на многоканальную горячую линию. Вам ответит первый освободившийся оператор». Та-а-ак, тут, походу, не дождаться. Оператор не только первый, но, видимо, и единственный. Эх, куда ты, дурень? Семерых не задержишь, да и не справишься.
А надо.
Эй, ребята, отдохните! Вон как умудохались! Да и этого дружка своего поберегите. Убьете – не на ком тренироваться будет! Какой я вам дед? Мы вообще незнакомы, не то что не родственники. Давайте поднимем Гошу-то, а то он, похоже, не дышит. Почему Гошу? Так все манекены, на которых тренируются, Гошами зовут.
Опа, как горячо! Только бы не печень. Второго проникающего она не переживет.
Темнота.
* * *
- На зарядку, на зарядку,
- На зарядку, на зарядку становись!
Да что же ты, японский городовой! Голова и так ноет, а тут музыка орет. Ну вот, кто-то любит послушать ретро-мелодии. Входят в моду пионерские песни?
- Здравствуйте, ребята!
- Слушайте пионерскую зорьку!
И что, есть любители не только ретро-музыки, но и ретро-передач? Даже не знал, что старые записи сохраняются. Кажется, их тогда даже и не записывали, а если и записывали, то на огромных бобинах, которые никто не станет оцифровывать. Ну, неважно. Но помню, что «Пионерскую зорьку» транслировали в семь часов сорок минут.
А где это я? Кто здесь рядышком – звук аж по ушам бьет! – такой любитель ретро?
Открыл глаза. Судя по белым казенным стенам, а еще койкам, наставленным там и тут, в больнице. И штампики на простынях характерные.
Живой. И это радует.
И вот какого хрена на старости лет полез спасать какого-то «Гошу»? Может, он сам и напросился? Но все равно, когда несколько человек бьют лежачего, это не есть гут. Не вмешался бы, так и себя бы перестал уважать.
Хотя почему это на старости лет? Шестьдесят пять – это еще не старость. Смешно, конечно, что полковник милиции (ладно, полковник в отставке), орденоносец и все такое полез разнимать драку. И вот, подрезали, как стажера. А скоро должен опер прийти, станет выяснять: кого я запомнил, что слышал? «Плохо, что никого опознать не сможете. И того, кто сзади вас был, нанес проникающее ножевое ранение? Совсем плохо. А может, это какие-нибудь враги, которые затаили на вас злобу? Фамилии-то не назовете?» Так я в ментовке уже тринадцать лет как не служу. Все мои бывшие враги либо умерли, либо уже давным-давно плюнули и на меня, и на свое прошлое.
Ну ничего не меняется в этой жизни! Могли бы меня и в более приличное место отвезти. Уж должны бы побеспокоиться. Ладно, я бы и сам мог отдельную палату оплатить, не такой уж я бедный, пусть и пенсионер. Вот как опера дождусь, попрошу у администрации, чтобы перевели. Надеюсь, мои несостоявшиеся убийцы банковскую карту не увели? Надо бы выяснить. Может, стоит ее заблокировать? А где мой сотовый? Скорее всего, там же, где и прочие вещи, потому что лежу я в больничной пижаме.
Да, а супруге-то сообщили? Вот ведь какая невезуха. Старший сын как раз в отпуск приехал. Старшенький у меня служит на Сахалине, полковник, повышение недавно получил. Может, еще и генералом станет? А что уж совсем удачно, внук получил отпуск. Этот ведь тоже при погонах, лейтенант, за него-то особенно переживаем. А почему? Ну, потому что служит он…
Бабушка обрадовалась, а тут такое. Дед загремел в больницу. Ладно бы как приличный дед, с инфарктом, там, еще с чем-то, а тут как не знаю кто. Семья теперь переживать станет. Вот ведь… Сам-то ладно: коли живой, то переживу. А им-то каково?
Нет, определенно, хоть и показывают по ящику, как идет у нас развитие медицины, но все на прежнем уровне. Вон от левой руки трубочка идет, стало быть, я под капельницей. А из чего каплют-то? Ох ты, здоровенная стеклянная бутыль. Каменный век, блин. А ведь показывают, что уже либо пластиковые бутыли, либо вообще пластиковые пакеты. И установка для прокапывания – или как оно правильно? – неуклюжая, словно из фильма про семидесятые годы.
Кажется, в семьдесят шестом году, когда я попал в больницу с проникающим ножевым ранением, тоже лежал под капельницей. Но тут-то ничего нового не придумать. Вот разве что слышал, что нынче едва ли не сразу заставляют сходить с операционного стола и гулять по коридору. Нет, я гулять еще не в состоянии.
Сотоварищи по несчастью лежат, смотрят вверх. Не иначе, слушают рассказ о пионере, который сегодня опоздал в школу, зато помог старенькой бабушке дойти до больницы. В тему. Наверное, главврач – ценитель ретро, потому что звуки детской передачи льются из черного радиоприемника на стене. Внутрибольничная сеть? Есть радиоузел, дают записи? Все может быть. Но налаживать трансляции давно канувших в небытие радиопередач – штука недешевая.
А ведь память подсказывает, что все это уже было. И больничная койка, и «Пионерская зорька», под которую я очнулся.
Нет, определенно, главврач увлекся ретро. Вон приемник уже выдает обзор газеты «Правда». Кто-то кого-то встретил, поприветствовал. Ну кому нужны такие древние новости, да еще в повторе?
И коек в семьдесят шестом было шесть. Посчитать, что ли? Да, шесть. Лежат такие же бедолаги, вроде меня.
В правом боку ноет, голова еще соображает плохо. Глаза толком не сфокусировались, но, помнится, на потолке из семьдесят шестого года была трещина, напоминавшая слияние реки Шексны и реки Ягорбы. Если присмотрюсь и увижу эту самую трещину, точно глюк.
Трещина на месте. Глюк? Раздвоение личности? Шизофрения? Или я в настоящий момент просто умираю и мне мерещатся всякие вещи, которые со мной когда-то происходили? Вот если сейчас рядом со мной появится некий человек, тогда я умер. Или в процессе, но это уже неважно.
– Привет, дружище. Пить, небось, хочешь? Ну, давай-ка я тебя напою.
Точно, умер.
Рядом со мной стоял мой наставник – дядя Петя Веревкин, хотя на самом-то деле это капитан милиции Петр Васильевич Задоров, а Веревкиным его прозвали за умение виртуозно «упаковывать» нарушителей закона. Бывало и так, что дядя Петя приводил в отделение несколько человек, связанных веревками, и вел их по городу, словно бедуин верблюдов. Петр Васильевич «пристрастился» к веревкам еще в войну, на которую попал почти мальчишкой – в восемнадцать лет. И всю войну отбарабанил в разведке. А чем ты будешь языка вязать? Наручников разведке никто не давал (у нас, впрочем, тоже о наручниках только слышали), а веревка – она всегда под рукой. В крайнем случае можно что-то другое приспособить.
После войны дядя Петя еще два года служил на Западной Украине, выкуривал из схронов «бандерлогов», а уже потом пришел в милицию. Награды носить не любил, но на День Победы все-таки их надевал. Два ордена Славы, два – Красной Звезды (один за бандеровцев), «Отечественная война» первой и второй степеней, целый иконостас медалей.
Про войну дядя Петя рассказывать не любил. Да и кто из настоящих фронтовиков об этом рассказывал? Вон мой родной дядька, который до Берлина дошел, на все вопросы отвечал просто: «Пшел ты…» Направление давал очень конкретное, куда идти.
В году так сорок восьмом бывший разведчик вернулся домой. Обнаружив, что его дом попал под затопление и лежит теперь на дне Рыбинского водохранилища, а родители перебрались в город, подался сначала на стройку, но там не понравилось. Понять парня можно: разучился жить на гражданке. А тут как раз пригласили работать в милицию. Лет с десяток отбарабанил простым патрульным, но город рос, людей не хватало, поэтому бывшему разведчику предложили стать участковым инспектором.
С дядей Петей боялись связываться самые отпетые хулиганы в любой стадии опьянения. Даже цыгане, ни в грош не ставившие никакую власть, способные отмудохать кнутом инспектора уголовного розыска (ищи их потом по всей стране), при виде невысокого худощавого капитана предпочитали сплюнуть и убраться куда-нибудь подальше. Понимали: если вытащат кнут, так будут тем же кнутом и биты, а потом им и повязаны.
Петр Васильевич был едва ли не «последним из могикан». Нет, кое-кто из фронтовиков имелся, но на более высоких должностях и при погонах не ниже полковничьих. Тот же министр Щелоков, или наш начальник горотдела подполковник Горюнов, участвовавший в высадке десанта на Южном Сахалине.
Министр наш, увы, закончил плохо, но эта история всем известна. Хотя Николай Анисимович очень много сделал для органов внутренних дел. В сущности, восстановил милицию после ударов, нанесенных Хрущевым. Воссоздал школы милиции для подготовки среднего начсостава, создал высшие школы. Даже фильмы, которые до сих пор все смотрят с огромным интересом, снимались по его заказу. Те же «Рожденные революцией», «Следствие ведут знатоки».
А с Владимиром Васильевичем Горюновым мы виделись в году так девяносто пятом. Помнится, разговор зашел о фильме «Место встречи изменить нельзя». До сих пор не забуду фразу, которую сказал Горюнов: «Будь у меня такой подчиненный, как Глеб Жеглов, уволил бы сразу, как только о подкинутом кошельке бы узнал». Владимир Васильевич умер в две тысячи втором году, успев получить звание полковника. Да, в двухтысячном был приказ министра внутренних дел о присвоении очередных воинских званий ветеранам войны. Помню, как старички радовались. В шестидесятые и семидесятые годы, когда ветераны уходили со службы, мало кто из них имел даже звание майора. Все больше капитаны, а то и старлеи.
А наш дядя Петя уже лет пятнадцать как застрял в капитанах, потому что для должности старшего участкового это потолок. А поставить на другую, присвоить майора, не позволяет его образование, потому что у старшего участкового нет даже четырех классов. Это в фильмах про полковника Зорина можно было дослужиться до полковника, не имея среднего образования, а у нас – нет, не выйдет.
Петр Васильевич многому научил меня тогда. Это он первым привил привычку никогда не стоять перед дверью, и она потом много раз выручала меня. Смешно, но я, даже идя в гости к друзьям, после звонка всегда становился сбоку от двери – правило впиталось навсегда. Это он заставлял меня всегда таскать веревку в кармане – «на всякий случай» – и научил нескольким хитрым узлам, чтобы одним движением захлестнуть петлю на запястьях очередного нарушителя. И правильно разговаривать с жуликами тоже он научил. Ну конечно, не только он. Сама жизнь учила, да и другие коллеги. Только другие-то иногда обидно это делали, а у дяди Пети получалось душевно. И погасить семейный скандал так, чтобы обе враждующие стороны ему еще и спасибо сказали, мог только он. У других участковых так не получалось. У меня, признаюсь, тоже.
В семьдесят шестом наставник казался мне едва ли не глубоким стариком. А сколько тогда ему было? Пятьдесят три года. Всего-то? Так я сам ушел «на дембель» в пятьдесят два, а потом еще лет с десяток обеспечивал безопасность крупного бизнеса, как и большинство коллег-ветеранов, не сгоревших дотла еще в служебные годы. Но таких, чтобы здоровых и относительно целых, осталось немного. Какая там работа? Хорошо, что пенсия более-менее приличная.
– Алексей, ты пока резких движений не делай. В печень меня не кололи, но в другую часть тела бывало. Ничего, парень ты молодой, заживет как на собаке. Ну-ка, поднимай голову, еще немножко пивни.
Замечательный человек Петр Васильевич, но вот беда – не должно его быть в этой больнице. После своего увольнения со службы, а было это… в семьдесят девятом году, прожил он недолго и умер в разгар Олимпиады-80. А я как раз в ту пору был в Москве – на усилении, так сказать. Обидно, что даже на похороны своего наставника прийти не сумел. А может, и правильно. Чего и ходить-то, если мы с ним тут встретились? Авось дядя Петя, который вводил меня в тонкости службы участковых инспекторов, поделится тайнами загробного существования.
Но руки теплые, ладони жесткие. Не похож мой наставник ни на покойника, ни на призрак.
А Петр Васильевич уже успел развернуть бурную деятельность. Открыв мою тумбочку, деловито сложил в нее бритву, зубную щетку и коробку. Так, а коробка-то с чем? Неужели с зубным порошком? Хорошенькая загробная жизнь у ментов: и тут-то не смогли хотя бы зубную пасту организовать. Имеется же в продаже зубная паста, тот же «Поморин». Ладно, порошок тоже сойдет. Вспомню золотое детство и пионерский лагерь.
– Ты уж извини, что я у тебя в комнате похозяйничал, – повинился дядя Петя. – Но как услышал, что ты ранен, но вроде живой, так вначале в общежитие твое побежал, чтобы кое-что подсобрать. Бельишко тебе прихватил, чтобы трусы свои, а не казенные, майку. При ранениях чистое белье – первое дело. Твое-то ведь все в крови нынче, да еще и изымут небось, как вещдок. Рубашку и прочее я потом принесу. Вот кружка тебе нужна. По своему опыту знаю, что в госпитале или в больнице с этим беда. Ну, ложки с мисками тут к завтракам и обедам дают.
Сделав усилие (все-таки не каждый день разговариваешь с покойником), я спросил:
– А я давно здесь?
– Так вторые сутки. К тебе вчера Женька Митрофанов приходил, показания хотел взять, но ты еще без сознания был. Женька до врача (ты же его знаешь, дуролома, потребовал, чтобы тебя в чувство привели), а врач только плечиками пожимает: мол, все так и должно быть, была операция, отдыхает.
Хм… Женька Митрофанов (ну, давным-давно Евгений Матвеевич) звонил на днях, на рыбалку звал. Говорит, щука плавает во-о-от такенная, карась сам на крючок бросается! Но не любитель я рыбной ловли. Если бы за грибами, то сходил. Да и не выпить мне столько, сколько Жека выпьет. А он ведь еще и постарше меня лет на пять. Когда я участковым стал, получил первую звездочку на погон, он уже в старлеях ходил. Очень любил говорить, подражая Папанову: «Лэйтенант я, старшой».
Нет, если бы Джексон умер, я бы о том знал. Как-никак в одной ветеранской организации состоим. У него, правда, звезд на погонах поменьше, чем у меня, майором ушел, но все равно избран в Совет ветеранов. Как раз занимается организацией досуга. Эх, представляю, как он там досуг организует. Надеюсь, пустую посуду вывозят, не захламляют берег водохранилища?
Я помолчал, уставившись в потолок.
– Я тут тебе апельсинов принес и курятины, – сообщил дядя Петя. Вздохнув, мой бывший наставник добавил: – Когда курить-то бросишь? Это ж каждый месяц кучу денег на ветер пускаешь, да и вообще…
Сам дядя Петя до войны курил, но как стал разведчиком, то бросил. Оно и понятно: приходилось часами сидеть ждать, а запах дыма мог выдать лежбище разведчиков. Вот это вот его «и вообще» означало – а вдруг да придется сидеть в засаде? Курильщики мучаются и порой не выдерживают. Мы не полковые разведчики, но и нам иной раз в засаде сидеть приходится. А я сам курил как паровоз еще со школы, но бросил. Когда я бросил-то? Так уж лет десять прошло. Но если я не сошел с ума, не умер, то получается, что брошу… То есть предстоит завязать с пагубной привычкой. А через сколько лет? Да через тридцать с хвостиком и брошу.
А может, прямо сейчас взять да и бросить? Прислушался к себе. Кажется, курить не особо и хочется. Да что там, совсем не хочу. Как говорил мне врач, помогавший бросать, все у нас в голове.
– Петр Васильевич, а если я прямо сейчас возьму да и брошу?
Если я не умер, а перенесся в прошлое, о чем много раз читал у фантастов, то хоть какая-то польза. Здоровье ладно – кто им по молодости озаботится? А вот по деньгам точно проруха. Сколько пачка сигарет стоила? Или стоит? «Прима» подешевле, «Памир» (его еще называли «Нищий в горах») совсем дешево. А я в те годы курил «Столичные». Сколько они стоили? То есть стоят?
Глава вторая
Явление Джексона
Общение с дядей Петей меня утомило, и захотелось немного вздремнуть, но не тут-то было. В палату ввалился жизнерадостный инспектор уголовного розыска и по совместительству мой сослуживец Евгений Митрофанов, между своими – Джексон. Пышущая здоровьем физиономия и рот до ушей никак не соответствовали моменту, но сыщик сумел объяснить причину своей радости.
– Наконец-то! – с порога громогласно объявил он. – А то все доктора: «Нельзя, нельзя! Больной в тяжелом состоянии». А теперь говорят: «Кризис миновал. Можно поговорить, но сильно не волновать!» Так мы волновать-то никого и не будем, ни больных, ни врачей, верно ведь, Леха?
Я не успел ничего ответить, но это, видимо, и не требовалось.
Сыщик осмотрелся, обнаружил моего наставника, сильно удивился и произнес:
– Здрасьте, Петр Васильевич! Вот оно, значит, как: меня не пускают, а вы тут свободно разгуливаете. Так и взяли бы заодно объяснение с Воронцова, что да как. А то я уже полдня убил, чтобы прорваться.
Дядя Петя претензию не принял:
– Я тут, дружок, по другим делам. А ты лучше свою работу делай и не учи ученого.
Про «не учи ученого» из уст дяди Пети, «академиев» не кончавшего, было слышать особенно прикольно, но его это не волновало. Так отшить он мог не только какого-то опера, но подчас и начальника. И то, через его руки прошли многие, кто сегодня носил большие звезды.
Я решил защитить «шефа»:
– Петр Васильевич мне манатки кой-какие принес, спасибо ему.
А Митрофанов и не слушал.
– Ну, старик, ты всех удивил! – это он мне. – К тебе тут пару часов назад следователь прокуратуры пробился. Как уж у него это получилось, не знаю. А ты, видимо, еще не в себе был и такого наборонил ему, что мама не горюй. Вот он и сказал, что больше к тебе не поедет, и пусть, дескать, тебя твои коллеги опрашивают, а он уж потом решит, что делать.
Ничего такого я не помнил. Первым человеком, отобразившимся в моем сознании, был дядя Петя в образе то ли ангела, то ли привратника Петра. И никаких следователей прокуратуры.
Но тут в разговор встрял кто-то справа, видимо, мой сосед по палате, по голосу старик:
– Вот и я говорю, слышь, гражданин начальник…
– А почему гражданин? – оборвал его Митрофанов. – Сидел, что ли?
– Да боже упаси! – испугался старик. – Но я порядки знаю.
– Ну-ну! – поощрил его сыщик к дальнейшему разговору.
И старик с радостью продолжил:
– Так вот, тот-то гражданин начальник и спрашивают: как, мол, дело было? А этот-то, – кивок на меня, – и понес, и понес. Про какого-то Гошу, про мушкетеров, про Шекснинский проспект, про этот, как его, аквариум… нет, аквапарк, что ли. Про тридцать первый автобус. Я все хорошо слышал, рядом был. И ведь скажу, слышь, ничего такого в нашем городе нету, тем более мушкетеров. Вот какая штуковина, слышь?
В палате стало тихо. Слушают, значит, ушки навострили, подумалось мне.
Митрофанов повернулся ко мне с вопросом:
– Ну, там-то понятно, стресс, да под лекарствами всякими. А теперь-то что расскажешь?
Хороший вопрос! Теперь я могу внятно и во всех подробностях рассказать, как семнадцатого ноября две тысячи девятнадцатого года в двадцать два тридцать в районе аквапарка решил защитить какого-то идиота от четверых пьяных мужиков и словил ножевое сзади справа в область печени. И после лечения телесного меня направят на лечение душевное. А пока все окружающие, и Жека Митрофанов, и даже дядя Петя будут смотреть на меня с сожалением и гладить по головке, потому что сказать такому идиоту просто нечего. Так, что ли?
Такого развития событий мне совсем не хотелось. Но вот обстоятельств моего пореза здесь, в этом времени, я совершенно не помнил. Во мне еще не исчезло чумное состояние от окружающей действительности, в которую я до конца так и не поверил, несмотря ни на что.
Я попробовал зайти на свои воспоминания о происшествии через то будущее, из которого меня выбросило сюда. Получалось следующее: год я помнил – тысяча девятьсот семьдесят шестой, месяц – июнь, место – около общаги на Металлургов, где я жил. Меня кто-то окликнул, а дальше – пусто. Или не меня окликали, а просто услышал крик и повернул на этот крик голову? Не знаю.
Причем вспоминалось это не как картинка, а как мой последующий рассказ нудному прокурорскому следователю, который периодически меня дергал к себе и задавал один и тот же вопрос: «Ну как, Алексей Николаевич, не припомнили больше ничего существенного?» И я каждый раз отвечал: «Нет». А он каждый раз говорил: «Если что-то припомните, обязательно сообщите». Похоже, ему было глубоко наплевать и на это происшествие, и на сопливого милиционера, где-то по своей глупости налетевшего на нож и явно что-то теперь скрывающего.
Я смотрел на сыщика и думал: вот расскажу я тебе сейчас так, как рассказал в той, первой жизни следователю, и ждет меня такая же бесполезная тягомотина, как и тогда. А смысл?
И я произнес неожиданное:
– Евгений, давай я скажу тебе, что упал на что-нибудь острое. А если хочешь, собственноручно запишу. Все равно мне тебе нечего рассказывать.
Сыщик возмущенно замахал руками, и накинутый на плечи дежурный халатик белой чайкой слетел на пол.
– Ты разве не въехал, что я тебе говорил? У тебя уже прокурорский следователь побывал, наверняка медицинские документы посмотрел, знает про твое проникающее ранение. На укрытие от учета сто восьмой меня хочешь подписать?[1]
– Ну тогда записывай, – успокоил его я и рассказал то, что в первой жизни рассказывал прокурору.
Митрофанов слушал, и было видно, что он не верит ни одному моему слову. Я тихонько вздохнул: и правильно. Легковерных оперов на свете не бывает: они не проходят естественный отбор и вымирают как мамонты. Я бы тоже себе не поверил. Но и сказать мне было больше нечего: ни мотивов супостата, ни лиц, затаивших на меня злобу, я не знал.
Сыщик посмотрел на меня пытливо еще раз, и во взгляде его было: ну, не хочешь говорить – дело твое. Он быстро набросал пяток строчек своим неразборчивым почерком, приписал в конце: «С моих слов записано верно, мной прочитано» – и сунул мне в руку обгрызенную шариковую ручку.
Я расписался.
– А теперь только мне, по секрету, – заговорщически, тихонько шепнул он, наклонившись ко мне. – Красивая?
– Кто? – удивился я.
– Та, из-за которой ты на перо полез.
– Это ты брось! – решительно отмежевался я от таких подозрений.
Митрофанов расстроился.
– Что, и на самом деле ничего не помнишь?
– Ни-че-го, – по слогам отрезал я.
– Тогда покеда!
Сыщик осторожно пожал мою руку, как будто именно она и была у меня травмирована, и сложил свои бумаги в потрепанную папочку.
– Покеда! – в тон ему ответил я.
Во время всего нашего разговора меня не покидало чувство, будто бы я знаю что-то еще или узнаю потом в своей будущей жизни об этом происшествии, но это «что-то» никак не выплывало на поверхность сознания. В голове царил ералаш, и все события этого дня и моей прошлой жизни перекрутились, перепутались местами, как в детском калейдоскопе, который с сумасшедшей скоростью крутил перед моими глазами какой-то идиот.
Митрофанов уже собрался уходить, когда послышался голос дяди Пети, о котором я совершенно забыл за разговором с сыщиком.
– Эх, дурилка ты картонная, – говорил он кому-то. – Зарежет она тебя как-нибудь. Куда нынче-то ткнула? В грудь? Нет, Василий, поверь опытному человеку: коли повадился кто тебя ножом тыкать, так зарежет.
– Она зарежет, так у нас хоть «глухарей» не будет, – флегматично откликнулся Джексон, врезавшись в разговор. – А не то из-за Василия уже две штуки висит. Так что, Петр Васильевич, пусть режет, нам хлопот меньше. И отчетность портить не будет.
Видимо, сыщик тоже знал человека, которого увещевал дядя Петя.
Я скосил глаза вправо и увидел, что дядя Петя сидит на краешке койки одного из страдальцев. В этот раз, как ни удивительно, память не отказала. И я понял почему. Это же Вася Ламов, парень с кривой судьбой, в которую мне впоследствии приходилось неоднократно вмешиваться вплоть до самой его смерти. Вот уж где встретились! Вася был не с моего участка, а с дяди Петиного, но тот соседний, поэтому мы всегда в курсе дел друг друга. А супруга Ламова числилась дворником в поликлинике, которая уже на моем участке, поэтому я и знал кое-какие подробности их жизни.
Василий Ламов – парень хороший. Работяга, каких мало. Спокойный, немногословный. Трудится сменным электриком на заводе, воспитывает чужого сына. Пьет только по большим праздникам – на Новый год да на День десантника. Все-таки два года отслужил в десантуре, даже поучаствовал в каком-то военном конфликте, но в каком именно и где, не рассказывает. Ламов меня постарше лет на пять, так что это может быть и Египет, а то и Вьетнам. Но официально считалось, что нас там не было, тем более срочников не посылали. Не посылали, а вот медалька у Васи есть, но не наша – маленькая, из латуни.
И все бы хорошо было в жизни Васи, если бы не Люська, его жена, или, говоря казенным языком, сожительница, потому что не хотела женщина официально выходить замуж за Васю, хотя тот ее постоянно о том просил. Люська – разбитная бабенка лет тридцати с небольшим гаком, битая жизнью, успевшая дважды отсидеть в тюрьме (первый раз по малолетке, за кражу, а во второй раз – за нанесение тяжких телесных повреждений сожителю), родить Никитку (от кого именно, не говорила) и захомутать хорошего парня.
Василию добрые люди много раз говорили: мол, куда ты с ней связываешься, с этой кобылой? Она же тебя и старше, и с ребенком, да еще и с таким прошлым. Но что тут поделаешь – любовь у парня, да такая, что прощал он своей Люське и запои-загулы, и все прочее. На увещевания не реагировал, только кивал. Но жену любил страшно, а ее сына Никитку старался воспитывать, как умел, и за жену на работу выходил. Дворничиха из Люськи та еще, на вверенной территории ее почти и не видели, но коли все в порядке благодаря Васе, так и вопросов нет.
Вася прощал жене и пьянство, и измены. К ее ребенку относился как к своему. Сам водил в садик, а если был занят на смене, то просил кого-нибудь из друзей забрать мальчонку. И ему не отказывали, потому что парень и сам всегда готов был помочь.
Люська иной раз после недели отсутствия появлялась, словно ни в чем не бывало, и деятельно принималась за хозяйство: мыла полы, стирала, кормила мужа и сына. Васька радовался и надеялся, что супруга взялась за ум. Но проходил месяц-другой, и Люська срывалась: либо исчезала непонятно куда (а искать ее было бесполезно), либо надиралась до поросячьего визга и принималась буянить. А еще проявляла неслыханную ревность, выражавшуюся в том, что норовила пырнуть сожителя чем-то острым.
Ламов – парень крепкий и сильный, все-таки бывший десантник, мог бы образумить супругу, так ведь нет, рука не поднималась. Уворачивался, конечно, но не всегда получалось. Да и как увернешься, если тебя пытается зарезать любимая женщина? Два раза «кобыла» колола Васю отверткой в филейную часть, один раз – в живот, а нынче, значит, уже и в грудь. Но Вася упорно покрывал свою любимую женщину. Про удары отверткой говорил: мол, сам не туда сел; а про ранения в живот и в грудь – дескать, нанесли неизвестные. Сама же Люська всегда шла в отказ: мол, ничего не знаю, ничего не видела. Свидетелей, разумеется, не было.
И как тут, скажите, уголовному розыску работать? Отвертка еще куда ни шло, можно отписаться, что имел место несчастный случай, а вот «неизвестные», которые нанесли тяжкие телесные, – это стопроцентный «глухарь». Ну, теперь уже две штуки. И все кругом знают, кто виноват, даже начальник ОУР, а что поделать?
Такое, чтобы муж бил супругу смертным боем, а та его жалела, не хотела писать заявление в милицию, я встречал, да и не один раз, а вот чтобы жена тиранила мужа – такого больше никогда не видел.
Занятная штука память: чуть приоткрывшись, она уже не препятствовала восстановлению некоторых событий, и я принялся вспоминать: чем закончилась история «большой и светлой любви» Василия Ламова? А закончилась она очень плохо – убийством. Только убили не Васю, а саму Люську. А убил ее не кто иной, как подросший Никитка, который, хотя и знал, что Василий ему не родной отец, но называл его папкой и очень любил. Нет, мальчишка не хотел убивать свою мамку, но когда та в очередной раз бросилась на Васю с ножом, оттолкнул ее, да так сильно, что пьяная Люська упала и ударилась виском о табурет. И так бывает. Так что зря говорят, что пьяных Бог хранит.
Кажется, Никиту потом отправили в колонию, но не уверен. Хотя нет, в колонию он точно не пошел. Характеристики из школы хорошие, на учете не состоял, да и обстоятельства дела ясные – убийство по неосторожности. А парню всего-то пятнадцать лет было. Ламов, кстати, пытался взять вину на себя, чтобы спасти мальчишку. И взял бы, и в тюрьму бы сел, если бы на этот раз в квартире не оказался случайный свидетель – одноклассница Никиты.
Кажется, у Люськи отыскались какие-то родственники в Таджикистане, которые и забрали парня к себе. Вася переживал, но официальные отношения с Людмилой оформлены не были, поэтому опекунство не разрешили оформить. Значит, Никита уехал, а Вася Ламов, похоронив жену, запил по-черному, да так, что его уволили с работы. А что оставалось делать, если сменный электрик приходит пьяным, а потом норовит забраться на кран? Два раза прощали, работник-то он был отличный, но сколько можно? Убьется – кто отвечать будет?
Кажется, последний раз я видел его в году этак… девяносто втором или третьем. Вася уже пропил квартиру, бомжевал, был частым гостем в медвытрезвителе, хотя бомжей туда не любили брать: что взять с бездомного, а вытрезвители должны окупаться. Мне приходилось звонить начальнику трезвака, чтобы тот устроил Ламова на ночь. Пытался пристраивать Васю в приемник-распределитель для бродяг и попрошаек, чтобы парень восстановил документы, устроился хотя бы на какую-то работу. Можно же, если захотеть, начать все заново. Устроился бы на работу, не пил, с жильем, пусть даже с койко-местом в общежитии, я бы ему помог. И ведь устраивал пару раз, но Вася срывался, убегал. Как помогать тому, кто не желает, чтобы ему помогали? А потом Ламов просто замерз в сугробе.
И что я сейчас смогу сделать, со знанием будущего? Скажу Василию: мол, кончай ты со своей бабой, ищи себе нормальную женщину? Послать-то он меня не пошлет, но слушать не будет. И Люську его я вряд ли спасу.
Да пропади ты пропадом, все мое послезнание!
До конца дня я проспал. Мне снились аквапарк и дед Слышь, который показывал на здание водных удовольствий и строго внушал мне: «Ты, парень, это брось! Не бывает, слышь, такого, это тебе мерещится. Об этом тебе любой мушкетер может сказать!»
А потом что-то меня разбудило. Спросонок почудилось, что Нина (или не Нина?) чем-то брякает на кухне, и, значит, пора ужинать. Вот сейчас я встану, а после ужина мы с ней посмотрим по «Культуре» «Романтику романса», и все будет хорошо. Только вот бок почему-то болит.
Разбудила меня дренажная трубка, соединяющая мои внутренности и бутылку с темно-коричневой жижей. Трубка каким-то мудреным образом зацепилась за край кровати и не позволяла мне повернуться на бок. Пришлось звать помощников. Пока меня выручали из беды, все мои грезы о домашнем ужине в семейном кругу растворились без следа. Перед глазами была все та же палата, к которой я начал понемногу привыкать.
Собратья по несчастью занимались кто чем. Вариантов было немного: Митька читал какую-то затасканную книгу, мой старый знакомец Вася разглядывал что-то в окне, насколько ему позволял угол обзора, остальные, как люди прагматичные, спали «впрок» – когда еще такая возможность представится?
После сна мне показалось, что мой мозг несколько посвежел, и я решил нагрузить его. Слово «нагрузить» сработало, и мне вдруг вспомнился наш деревенский учитель физики, от которого к месту и не к месту можно было услышать: «Давайте, дети, нагрузим наш трансформатор…» Он был пьющий, наш добрейший Пал Семеныч, и такие грешки случались с ним даже во время уроков. В таких случаях он приходил в благодушное настроение и ставил нам оценки на наших ладошках. Конечно, никакой тайны это обстоятельство ни для кого не составляло, но в нашей школе другого учителя физики взять было негде.
Ученые говорят, что человеческий мозг круче любого компьютера до такой степени, что сам человек не в силах оценить этот свой аппарат. Оно, может, и так, не специалист, не знаю, но то, что иногда он преподносит необъяснимые подарки, это точно. Вот и сейчас, пока я ностальгировал по поводу Пал Семеныча, мою голову посетила сумасшедшая мысль, что я ведь знаю, как вычислить подрезавшего меня злодея. И все время знал. И теперь это знание уже никуда от меня не уйдет. Я даже встрепенулся: а не позвонить ли Митрофанову? Младший лейтенант Воронцов, наверное, так бы и сделал. Но старый полковник, тот, что сидел внутри моего молодого тела, велел притормозить. И я ему подчинился.
Глава третья
Песенка о переселении душ
В семь утра, когда самый сон и снятся самые интересные сны, нас будила дежурная медсестра, которой непременно требовалось измерить температуру. Мы спросонок ворчали, но не противились.
Сегодня градусники раздавала Тося – симпатичная медсестричка, рыженькая, в веснушках. Встряхнув термометр, прищурилась, пожаловалась:
– Всю ночь читала биологию, но опять ничего не запомнила.
Тосенька недавно закончила медучилище и мечтала стать врачом.
– Ничего, когда билет вытащите, то сразу все вспомните, – утешил я девушку, упихивая под мышку градусник. – И в институт вы поступите.
Тося лишь отмахнулась и пошла дальше, к очередному страдальцу. Не говорить же девчонке, что я на сто процентов уверен, что она не просто поступит, а закончит и станет успешным врачом? Может, я бы ее и не узнал, просто так получилось, что не так давно главный врач городской больницы Антонина Сергеевна купила квартиру в моем доме, а теперь по утрам она выгуливает двух рыжих шпицев, которых мои внуки называют лисичками. Странно, что я не вспомнил рыжую медсестричку в солидной седовласой женщине. Так и она не вспомнила в немолодом дядьке, полковнике милиции в отставке, бывшего младшего лейтенанта.
В который раз подумал, что в моей реальности ртутные градусники запрещены. А здесь… Вон недавно Тося один разбила, и ничего. Службу дезактивации вызывать не стала, а просто смела осколки стекла на совочек, а ртуть аккуратненько ухватила бумажкой. И все туда же – в урну.
Цивилизация творит чудеса. Некогда я и сам разбивал градусники, ловил серебристый шарик и выбрасывал, не заморачиваясь, что ртуть для организма очень вредна. А теперь с удивлением посматриваю на мусорницу, которую пока еще не выносили, и думаю: а не влезут ли в меня вредоносные пары? Смотрел, а потом плюнул. Если я умудрился дожить до шестидесяти с лишним лет, а от ртути не умер, стало быть, и сейчас не помру. А если начать копать, то будет хреново. Наверняка вспомню о пирамидоне, которым во времена моего детства и юности лечили все подряд – и головную боль, и боли в желудке. И ведь помогало! А потом обнаружили побочные эффекты. Нет уж, лучше не умничать, не спорить с врачами и делать то, что они велят.
Больничный завтрак… Ну, не скажу, что уж совсем плохо, но остывающая каша не самое вкусное блюдо. Иной раз радовали омлетом. Белый хлеб с маслом, слабенький чай, от которого пахло свежезаваренным веником, а еще что-то непонятное, именуемое кофе. Кофеина там и не ночевало. Я-то ярый кофеман, поэтому приходилось пить сквозь зубы, гадая: чем же нас таким поят? Потом вспомнил, что в это время имелся «кофейный напиток» из ячменя.
После завтрака, когда нас опять бросало в сон, начинался обход. Шел важный и степенный заведующий отделением, а за ним стайка врачей плюс еще какие-то люди. Возле каждой койки лечащий врач давал краткие пояснения. Про меня было сказано: мол, проникающее, в область печени, операция прошла успешно…
То, что успешно, я и так знаю. Провели бы ее неуспешно, уже бы умер.
В общем, все рутинно и буднично, а еще скучно. И мысли всякие лезут. Может, пока идет обход, так сразу и сообщить: не корысти ради, а из будущего я? Из далекого. Сразу в «желтый дом» отвезут или вначале печень пролечат? Пожалуй, лучше не рисковать. Печень у меня только одна, голова тоже. Пусть меня вылечат (в том смысле, что резаную печень вылечат), а головой займусь позже. Я уже почти смирился с тем, что у меня шизофрения. Правда, сумасшедшие себя сумасшедшими не считают. «Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша». Кажется, «сдвиг крыши» принять гораздо легче, нежели перемещение.
Я читал, разумеется, про попаданцев, начиная от Марка Твена с его «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и до современных авторов, которые выкладывают свои книги на сайты. Что-то и нравилось, но больше смеялся, когда отыскивал очевидные ляпы. Например, про «следователя уголовного розыска» или про отпечатки пальцев, снятые с шеи покойного. Да и нынешние сериалы про ментов и бандитов, которые гоняют по всем каналам, ничуть не лучше фантастических книг. Но одно дело читать про попаданцев, и совсем иной коленкор – самому оказаться в подобной ситуации.
Я никогда не был особо религиозным человеком, но и к атеистам себя тоже не причислял. Верил ли в Бога? Пожалуй, что и да. Всегда считал, что имеется какая-то сила, которая стоит выше человека. А вот что это за сила, лучше не заморачиваться, потому что сам все равно не поймешь, что и как. Как может так статься, что душа – или что там у нас? – перенеслась во времени и пространстве и переселилась в тело, пусть и свое, но еще достаточно молодое. И угодила она – душа? – аккурат в меня. В реинкарнацию я никогда не верил, о переселении душ лишь читал, а главные знания получил из песни Владимира Высоцкого. Как там у него? «Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а следом от прораба до министра дорастешь». Ну и так далее.
Но человек такая скотина, что ко всему привыкает. Так и я, лежа в больнице, потихонечку начал смиряться с тем, что мне снова предстоит жить в одна тысяча девятьсот семьдесят шестом году, работая участковым инспектором, смотреть старые фильмы, которые считаются новинками, читать книги, уже не раз читанные и перечитанные, следить за «новостями», в моем мире ставшими историей.
Но коли я сюда попал, значит, это кому-то нужно.
Мне что, историю поменять? До перестройки еще почти десять лет. Составить «расстрельный» список, а потом заняться «врагами» отечества? Попытаться сохранить Советский Союз? Во-первых, а хочу ли я его сохранять? Во-вторых, даже если предположить, что я этого хочу, то как это сделать?
Нужно ведь не просто Союз сохранять, а сделать так, чтобы он сам сохранился, для чего потребуются изменения и в экономике, и в политике. Словом, чтобы это был не тот Советский Союз, в котором колбасу, масло и яйца давали по талонам, а получить квартиру было чрезвычайно сложно, а такой, чтобы он и сам не вздумал разваливаться. Такой, чтобы у среднестатистического гражданина имелась достойная зарплата, а в магазинах чтобы не шаром покати, а чтобы полки ломились. Ну и все такое прочее. Да, а еще чтобы хорошие книги не на макулатуру приобретать, не по блату, за двойную-тройную цену, а попросту заходить в книжный и брать того же Ефремова, или Стругацких, Гуревича с Немцовым и всех таких прочих безо всяких очередей и номерков.
А если… Ну да, а если мне удастся вернуться обратно, в мой двадцать первый век? Вернулся бы. Там у меня жена, дети, внуки. Конечно, здесь мне двадцать один, а там шестьдесят пять, так и что такого? Всегда относился к своему возрасту спокойно: в сорок пять не плакал по тому времени, когда было тридцать, а в шестьдесят пять радовался тому, что есть. Все хорошо вовремя.
Нет, дорогие мои, вернулся бы я в свое немолодое тельце с радостью. Понимаю, что коли не умер – а как бы я умер, коли рассуждаю? – то рискую вновь оказаться на больничной койке, а раны на немолодом теле заживают хуже, нежели на юном. Плевать. Спешить мне некуда, я все равно на пенсии, заодно и денежку сэкономлю на казенных харчах. Ну, это если сумею вернуться. А если нет? Нет, тогда очень хреново.
Так, ну а мне-то что делать? Наверное, все то же самое, что я делал в семьдесят шестом году. Вспомнить бы еще: а что я делал? То, что возился со всякой шелупонью, это я хорошо помню. Тунеядцы, пьяницы, поднадзорники, подучетники, семейные дебоширы. Да, все это было. Что-то припоминается, о чем-то вспоминаю с трудом, а что-то вообще осталось за кадром, как мое нынешнее ранение. Ведь что-то такое припоминается, а что именно? Есть кое-какие мысли, но как бы их сформулировать? И как бы все так сделать, чтобы мысли улеглись в стройную цепочку?
Придется вести себя как товарищ Штирлиц, которого только-только забросили в «логово зверя». Хотя, насколько помню, Макс фон Штирлиц приехал в Германию из Шанхая. Значит, нужно вживаться, заново знакомиться с теми людьми, с которыми я был знаком, э-э-э, сорок с лишним лет назад, вспоминать имена, а еще – о чем с ними разговаривал, скажем, неделю назад по местному летоисчислению. Но мне полегче, потому что и связные не нужны, и радистка Кэт может отдыхать ввиду того, что я ни на кого не работаю и секретные сведения не нужно отправлять в Центр.
Пожалуй, напрягать мозги нет смысла. Знаю по опыту: нужен какой-то толчок, тогда все само собой заработает, и картинка сложится. Стало быть, буду этого толчка ждать. А пока жить, узнавать новости.
Газеты в нашей палате имелись. И передачки в них приносили, и дополнительную трапезу мужики на газетах «сервировали», да и вообще, в ином случае газета – вещь незаменимая. А вот читать их особо и не читали, разве что четвертую страницу – там, где кроссворды, занимательные рассказики и программа радио- и телепередач. Поэтому, к удивлению сопалатников, я попросил, чтобы мне передали имеющиеся газеты. Народ запожимал плечами, но газеты отдали.
В Череповце издавалось несколько ведомственных газет. Одна городская, она же коммунистическая, под скромным названием «Коммунист». Она существует и ныне, только сменила свое название на «Речь». А еще имелись «Череповецкий металлург», «Ударная стройка», «Азотчик». Вроде они все и сохранились, кроме «Ударной стройки». Из нее в девяностые вышла газета «Курьер», а потом она тоже благополучно загнулась.
И что у нас хоть творится-то? Значит, с начала года череповецкими металлургами прокатана миллионная тонна стали, и этот рубеж взят на месяц раньше, нежели в прошлом году. И столь весомый прирост достигнут за счет нового стана «2000». Ага, про этот стан знаю.
«На общегородском слете победителей соревнования прокатчики отрапортовали о выполнении своих обязательств, принятых в честь XXV съезда КПСС».
«Череповецкие металлурги вызывают на социалистическое соревнование своих коллег из Караганды и Кривого Рога за наиболее эффективное использование агрегатов».
Это ладно, это мы пропускаем. А что еще интересного? В «Коммунисте» пишут следующее: «Череповчане тепло встретили металлургов республики Шри-Ланка. Гости прибыли сюда в качестве стипендиатов Организации Объединенных Наций. На семинаре-практикуме они в течение пяти месяцев будут изучать передовые методы работы электросталеплавильного цеха „Северной Магнитки“».
А вот это плохая новость. Металлурги с острова Шри-Ланка по первому времени будут жить в своем общежитии, а потом постепенно начнут расползаться по городу. Кто-то наверняка начнет заглядываться на наших девок. А там, как водится, огребет в глаз от ревнивого жениха, а то и просто от какого-нибудь подвыпившего металлурга. А то и барахлишко какое-нибудь уведут. С ланкийцев как с гуся вода, а с нас потом спросят: почему не уберегли, не присмотрели? Начальство начнет мозг выносить, а там и из райкома-горкома кто-нибудь пожалует, станет говорить о напряженной международной обстановке и о том, что кража из общежития дружбе Шри-Ланка с СССР не способствует. Плавали, знаем.
Радиоприемник иной раз выдавал довольно-таки интересные передачи вроде «Театра у микрофона» или «Клуба знаменитых капитанов», но были они редкими. «Театр» выходил по воскресеньям, ровно в десять утра. Но что плохо, так это то, что полностью послушать передачи не удавалось: с утра и после обеда приходили родственники, которые притаскивали своим больным передачки, делились нехитрыми новостями.
Чаще всего гости приходили к отставному учителю черчения Тимофею Даниловичу. И старенькая супруга, и двое детей вместе с внуками, а еще бывшие ученики. К Федору явилась его жена – властная женщина лет под пятьдесят, которая притащила любимому мужу литровую банку с борщом и заставила его съесть все прямо при ней. Дядя Федя брыкался, давился, но съесть пришлось.
Ко мне, кроме дяди Пети да Джексона, явились лишь один раз. Лучше бы такие гости не приходили.
– Лешк… – донеслось от двери.
Все лежачие и полуходячие мужики нашей палаты дружно притихли и навострили уши. Видно же, что пришла не жена, а подруга. Что с жены взять? А коли подруга, так всем интересно.
А это что за мымра? Ой, так это же моя прежняя любовь, Аллочка. Якобы рыжая, но волосы выкрашены хной (видел у нее на кухне пустую упаковку), наштукатуренная. А ведь прежде она мне казалась красавицей. Мы с ней вроде бы считались парой, на танцы по субботам ходили, и у меня даже имелись какие-то серьезные планы. А как иначе? Завел себе девушку, значит, нужно жениться. И время подошло – двадцать один год.
Нет, «по субботам на танцы ходили» – это я малость преувеличил. У меня почти все субботы рабочие, на танцах были один раз, да и то началась драка, пришлось помогать коллегам ее разнимать. Алла сказала, что больше она со мной никуда не пойдет. Мол, хоть и в «гражданке», но за версту видно, что мильтон.
Аллочка трудилась в строительном тресте секретарем-машинисткой, хвасталась, что может печатать двести знаков в минуту и что если поступит в техникум, то ее ждет повышение по службе – назначат начальником отдела. Какого именно отдела, не уточнялось, вероятно, что-то связанное с пишущими машинками. Но учиться ей не хотелось, а вот зарплату повыше очень даже хотелось. Семьдесят рублей даже на шмотки еле-еле, а нужно еще и покушать хотя бы пару раз в день.
Мы с ней познакомились в библиотеке – да-да, именно там! Я в читальном зале читал журналы, а еще книги, которые не выдавали на абонементе, а она пришла за какими-то техническими справочниками. Девушка-технарь! Меня это так поразило, что я решил с ней познакомиться. Выяснилось, что за справочниками ее отправил начальник, потому что в стройтресте их не нашлось, а нужны были позарез.
Стуча каблучками и резво перебирая длинными ногами, торчавшими из-под подола коротенького дефицитного кримпленового платья, девушка подошла ко мне, осторожно протерла пальчиком табурет около кровати, оправила подол платья и уселась.
– Лешк, а ты как? – поинтересовалась барышня.
Ну вот, могла бы и поцеловать. И вот еще что: показалось мне или нет, но девушка смотрела на меня с какой-то брезгливой жалостью.
– Да так, вроде бы ничего, – отозвался я.
– Я совершенно случайно узнала, что ты в больнице, у меня тут подружка в соседнем отделении медсестричкой работает. Ты извини, что я ничего не принесла, купить не успела. Меня начальник подвез, сказал, что могу минут на пять или десять зайти, пока у него в горкоме совещание. Если бы автобусом, так я бы до больницы час ехала.
– Так мне ничего и не надо, все есть, – пробормотал я. – Спасибо, что навестила.
– Может, тебе что-то нужно?
– Да нет, у меня все есть. Кормят здесь хорошо.
Кажется, девушка слегка обрадовалась, что ничего не нужно.
– Это хорошо, если хорошо кормят. Вот я тут как-то три дня лежала…
Тут Аллочка отчего-то сбилась, а кто-то из мужиков на соседней койке хохотнул. И чего вдруг? А, понял. Это тот Лешка, образца семьдесят шестого года, не понял, куда иной раз идут девушки на три дня, а Алексей Николаевич просек сразу.
– Так вот, кормили ужасно, – закончила свою фразу девушка.
Кажется, сидеть рядом с раненым ей становилось в тягость, и я пришел ей на помощь:
– Слушай, тебя, наверное, начальник заждался.
– Ага, сейчас, – кивнула девушка. Потом внимательно посмотрела на меня и спросила: – Лешк, а я слышала, что после такого ранения инвалидность дают. Правда?
Инвалидность мне не дали, это я точно знаю, но на всякий случай пожал плечами:
– Не знаю. Все будет зависеть от моего выздоровления. От последствий, от состояния здоровья.
– А по инвалидности, которая по ранению, пенсию повышенную дают или как?
Было слышно, как не один мой сопалатник хохотнул, а уже двое. Но ржать вслух постеснялись, прятали смех в подушку.
– Я у наших кадровиков справлялась, они говорят, что за первую группу могут дать сто десять процентов от зарплаты, а за вторую – сто процентов. Вот у тебя какая зарплата?
– Нормальная у меня зарплата, – буркнул я. Зарплата у меня была такая, что вслух, да еще при мужиках, называть совсем не хотелось. И я прибавил сороковник: – Сто шестьдесят.
Кому скажи, что оклад участкового составлял девяносто рублей, а за «звездочку» доплачивали еще тридцать – не поверят. За два года выслуги накидывали еще пять процентов, но где она, эта выслуга-то?
– И всего-то? – удивилась Аллочка. – А я почему-то думала, что у тебя рублей двести, не меньше.
– Двести – это если бы у меня выслуга была лет десять, да звание чтобы не ниже капитанского. Да и от должности зависит.
Судя по тому, как захлопали крашеные ресницы, моя зарплата и потенциальная пенсия девушку не вдохновили.
Странно, но мне казалось, что наш разговор с Аллой о пенсии и инвалидности произошел позже, уже после выписки, но когда я еще оставался на больничном и мне следовало ехать в областной центр, на обследование. Ну а потом должна была быть комиссия.
– И если меня комиссуют, то квартиру не дадут, – сообщил я.
Лицо у Аллы вытянулось. Она жила в одной комнате с тремя соседками и мечтала об отдельном жилье. Но кто даст комнату, не говоря уже о квартире, секретарю-машинистке? Тогда милицейских домов еще не строили, а участковым, единственным по должности, было положено служебное жилье. Причем женатым квартиры давали быстрее, нежели холостым, те по общагам иной раз мыкались годами. Но у нас имелся в запасе другой вариант. Я живу в комнате один, и договориться о подселении законной жены было вполне возможно. Все-таки участковый в общежитии – великое благо для администрации. Ты ему добро сделаешь, а он за порядком присмотрит и приструнит кого надо.
Мои ли слова о печальной квартирной ситуации поторопили гостью или какие другие резоны, но девушка вдруг спохватилась:
– Ой, Лешенька, мне пора.
Сделав вид, что чмокает меня в щечку, Аллочка быстро ушла.
В палате на несколько секунд установилась тишина, а потом самый старый из нас, дядя Федя, слесарь-ремонтник с судоремонтного завода, веско сказал:
– Леха, ты хоть и мильтон, но парень хороший. Стерва она.
Вообще-то дядя Федя сказал немного другое слово, но по смыслу подходит.
Забегая вперед, скажу, что с Аллой мы несколько раз встречались. Один раз просто на улице, а как-то (я уже был хоть и небольшим, но начальником) она приходила писать заявление на своего мужа. Потом пересеклись в магазине, где я покупал пеленки для младшего сына. Судьба, в общем-то, нормальная. С первым супругом развелась, вышла замуж во второй раз, удачно, слава богу, родила двоих детей. Детки хорошие, муж непьющий и работящий. А что еще надо?
Глава четвертая
Убей-городок
Делать было нечего, читать тоже. Одно развлечение – слушать радио, но и у него днем перерыв на обед. Оставалось только одно – поговорить с соседями. Вели разговоры о жизни, о грибах, о рыбалке. Рассуждали еще, надо ли помогать Вьетнаму. Вон Китаю-то помогали, а он взял да и послал нас подальше, едва война не случилась. Пару раз заговаривали о Сталине, но эти разговоры быстро смолкали. О женщинах, то есть о бабах, вообще разговор не заходил. Да и чего о них разговаривать? Тем более что в палате лежали уж слишком разные люди. Разного возраста, разного образования, культуры. И все прекрасно понимали, что представление о женской красоте, да и о женщине в целом, у каждого свое.
Книги не обсуждали, зато фильмы – бывало. Мне приходилось сделать усилие, чтобы понять, о чем идет речь. Что-то я смотрел, но уже и забыл, а что-то просто перестало нравиться. Так тоже бывает.
А еще мы рассказывали друг дружке анекдоты. Оказывается, в том мире, где я жил, анекдот почти исчез. А ведь забавно слушать. Вот жалко, что особо смеяться нельзя, бок начинал болеть, а так бы все ничего. Так я и сам подкинул мужикам парочку «свежих» анекдотов про Штирлица, они их не слышали.
Иной раз заводили разговоры об истории родного края и города, в котором мы жили. Однажды даже заговорили о том месте, где я служил участковым. Бывшая деревня Панькино, а ныне улица Чкалова. Как ее называли – Убей-городок. В семидесятые здесь еще оставались бараки, а улицу постепенно застраивали пятиэтажными домами. В моей реальности это почти респектабельная улица, но даже в двадцать первом веке здесь витает этакий флер бывшего разгула и кое-кому мерещатся тени бараков.
– А отчего Панькино Убей-городком прозвали? – поинтересовался Митя, пэтэушник.
Митька у нас самый молодой. В Череповец приехал недавно, из деревни. Чтобы побахвалиться перед товарищами, залез на крышу, но навернулся оттуда и угодил на какую-то железную штуку. И теперь с двумя переломами и ранением брюшной полости лежит рядом с нами.
– Так просто же, – хмыкнул Тимофей Данилович, бывший учитель черчения в вечерней школе, а теперь пенсионер.
Он, бедолага, попал под поезд. Еще хорошо, что легко отделался. Руку даже обратно умудрились пришить.
– После войны, когда начали металлургический завод строить, здесь пленные немцы жили в бараках. Нашим сюда заходить не разрешалось, потому что конвоиры сразу стреляли.
Тимофей Данилович тоже не местный. Он в Череповец переехал после войны, откуда-то из Бабаевского района. Фронтовик, кстати, но кого в те годы можно было этим удивить? Все, кто родился до двадцать шестого года, все побывали на фронте. Имелись, конечно, исключения, но редко.
– Фигня, – изрек дядя Федя, тот, что с судоремонтного завода. – Никого тут никогда не стреляли. В Панькине народ самый бедовый жил – зэки бывшие, завербованные. Их сюда тысячами присылали, когда строительство завода возобновили. Жили в бараках, по десять человек в комнате. Всю неделю работали, а по воскресеньям дрались. Потому и говорили – Убей-городок. Но потом поостепенились многие, семьями обзавелись. А в шестидесятые стали бараки расселять.
А что до немцев, так я так скажу: у них даже конвой без оружия был, сам видел. Я после войны из деревни приехал, в школе ФЗО на каменщика учился. Немцы не в Панькине жили, а в старой церкви, которая нынче под склад используется. Немцев в Панькине в столовую кормить водили. И нас там же. Так их, сволочей, кормили лучше, чем нас. Нам только мороженую картошку давали, хлеб с опилками, суп на костях варили, а им и рисовую кашу, и белый хлеб с маслом, и мясо каждый день. Вначале их кормили, а потом нас. Мы порой на морозе ждали, пока фрицы пожрут да посуду после них перемоют.
Но мы ничего, пленных не трогали, даже не дразнили. Нам мастера сразу сказали: мол, они военнопленные, их трогать нельзя. Тронете – сами как фашисты будете. А коли фашисты, так возвращайтесь обратно, нечего вам в образцовой школе ФЗО делать. А то и под суд пойдете, за негуманное обращение с военнопленными. Во как! Однажды только не выдержали, да и то фрицы тут ни при чем. Как-то раз мы пришли на обед, так повара нам в немытую посуду, что после немцев, еду наложили.
– И что потом? – полюбопытствовал Митька.
– А что потом? У меня батя на фронте погиб, у большинства пацанов тоже. Из моих дружков мало у кого отцы с фронта вернулись. Но я хотя бы знал, что мой погиб, а у кого без вести пропал, им каково? И чтобы мы после немцев, из их грязной посуды жрать стали? Да мы раздачу мисками закидали, а потом заявили, что есть не станем.
Вот теперь стало любопытно и мне.
– И как, последствия были? – поинтересовался я.
Если верить перестроечным газетам, такое могли счесть бунтом против власти.
– А какие последствия? – хмыкнул дядя Федя. – Начальство из горкома приехало. Разобрались и приказ отдали: сначала «фабзайцев» кормить, а уже потом фрицев. Вот и все. А фрицы работали хорошо. Вон целый квартал отстроили, стоят их дома как новенькие, а уже тридцать лет прошло.
Я мысленно вздохнул. Тот самый «немецкий» квартал стоит до сих пор, спустя восемьдесят лет, только стены облупились. Но здесь уже немцы ни при чем, от нынешних хозяев зависит.
– А знаете, отчего Панькино так прозвали? – задал риторический вопрос дядя Федя. – В двадцатые, как гражданская война закончилась, жили тут братья Панькины. Бандиты они были страшные, долго их чекисты ловили, но наконец поймали и расстреляли. Вот в их честь деревню и назвали Панькино. Алексей, слышал? – хохотнул дядя Федя. – Бандиты людей грабили, а в их честь деревню назвали. Почему так?
Братья Панькины действительно были бандитами. Только деревня Панькино никакого отношения к братьям-разбойникам не имеет. Читал я в свое время и про Панькиных, и про название деревни.
– Панькино еще за сто лет до братьев существовало, – отозвался я. – А название она получила тоже из-за бандитов, только из-за других.
– Да ну, Алексей, не свисти, – недоверчиво сказал дядя Федя. – Мне о братьях один старикан рассказывал, он еще говорил: дескать, были они как благородные разбойники, вроде этого… как там его?
– Робин Гуда! – подсказал Митька. – Фильм я про него смотрел классный. «Стрелы Робин Гуда» называется. Там еще песня есть…
Митька прокашлялся и противным голосом запел:
- Когда к твоей мошне дырявой
- Милорд проявит интерес,
- Ты на него не жди управы,
- А уходи в Шервудский лес.
Странно, я сам этот фильм раза два видел, но эту песню не помню. Зато помню песни Высоцкого[2].
Дождавшись, пока народ угомонится, я сказал:
– Путает твой старикан. Благородным разбойником в Череповецком уезде был Иван Николаев. У богатых отбирал, бедным отдавал. Но так как богатых мало, он потом всех подряд принялся грабить. Но его тоже убили. А вот что касается Панькина, точно могу сказать, в книгах читал. Еще в семнадцатом веке, когда поляки Москву захватили…
– А что, разве поляки Москву захватывали? – перебил меня Митька. – Так кто ж им позволил-то?
– Митька, у тебя по истории какая отметка? – строго поинтересовался Тимофей Данилович.
– Н-ну, тройка, а что? – окрысился Митька.
– А то, что тройку тебе зря поставили, если ты простых вещей не знаешь, – менторским тоном произнес отставной учитель черчения. – Была у нас на Руси Смута, когда старого царя не стало, а нового еще не выбрали. Вот тут поляки изловчились, самозванца к нам прислали, который себя за сына Ивана Грозного выдавал, а сами, вместе с новым царем, Москву под себя и подмяли. А уже потом, как народ восстал, и Минин с Пожарским поляков из Москвы выгнали, заодно и этого самозванца прогнали. Будешь в столице, посмотри, на Красной площади им памятник поставлен, аккурат напротив Мавзолея товарищу Ленину. Они-то, Минин с Пожарским, нам Мишку Романова в цари и дали, а его род триста лет Россией правил. За это им памятник старая власть и поставила. Там еще рядом Лобное место, где Стеньку Разина казнили. Я до войны, когда сам в школе учился, в Москве на экскурсии был – за отличную учебу наградили! – Об этом учитель сказал с гордостью. – Нам тогда все и рассказывали.
Я слушал вариант событий Смутного времени в изложении бывшего учителя черчения и про себя вздыхал – пожалуй, я бы и Тимофею Даниловичу больше тройки по истории не поставил. Очень своеобразное толкование русской истории. А его, вишь, поездкой в Москву наградили. И он еще и учителем работал. Правда, как я понял, педагогического образования нет, да и вообще никакого профессионального образования нет, зато в войну он служил в инженерном батальоне, был на офицерской должности. Соответственно, чертить и рисовать умеет. Возможно, какие-то курсы закончил. А после войны, из-за кадрового голода в школах, его и взяли учителем. Да такое даже в пятидесятые годы случалось, когда сами учителя имели лишь среднее образование. Вон тот же Василий Шукшин, например.
– Мужики, дайте Алексею Николаевичу про наше Панькино рассказать, – донесся вдруг голос Васи Ламова. – Я сам в Панькине в бараке десять лет жил, пока родители квартиру на Ленина не получили. Интересно же.
Ишь, а Василий-то меня по имени и отчеству назвал, хотя обстановка совсем не служебная и не официальная. Значит, он раньше в Панькине жил? Если в бараке, так тоже приезжий. Либо из Череповецкого района, либо откуда-то еще. Советский Союз огромный, а в Череповец со всей страны люди ехали. А у нас вообще имеются коренные череповчане? Вернее, их положено именовать черепанами. Да и сам город раньше назывался Чере повец, а не Черепове ц. Ударение поменялось как раз из-за наплыва приезжих, которые меняли не только облик самого города, но и названия.
– Давай, Алексей, жарь, – покровительственно разрешил дядя Федя.
Дядя Федя оказался единственным в палате ходячим, поэтому он стал вроде бы нашим старостой, а заодно и нештатным «нянем». Бабушка-санитарка заходила три раза в день, но иной раз хотелось сделать «важные» дела и в неурочное время. Думаю, что поэтому я и стал подниматься на ноги раньше, чем этого хотели врачи: мне не хотелось зависеть от персонала.
А про историю деревни Панькино, про лихих братьев да про Ивана Николаева я читал в «Истории череповецкой милиции», которую напишет через сорок лет мой бывший коллега, что пришел на службу в органы, поработал немного, а потом вернулся к основному занятию – изучению истории.
– Когда поляков, литовцев и прочую шушеру из Москвы выгнали, – принялся я за рассказ, – они по всей России разбрелись кто куда. Но не поодиночке, а отрядами. А у нас все силы на освобождение столицы брошены, в городах, почитай, никого и не было. И вот бандиты стали города грабить, деревни, а еще монастыри жечь. Думали, что в монастырях монахи богатства хранят. Из всех монастырей только Кирилло-Белозерский уцелел, а из северных городов – Тотьма с Великим Устюгом. А у нас вместо города несколько деревень здесь было да монастырь. Все, что могли, забрали, мужиков убили. Монахов наших, тех вообще живьем сожгли. Требовали, чтобы те им золото да серебро выдали: не поверили, что его нет. У католиков-то монастыри богатые, а наши всегда бедными были. Монахи сами землю пахали, рыбу ловили. А вот как поляки все ограбили, сожгли, так в одной из деревень себе лагерь создали. Из него они по остальным деревням разъезжали, чтобы дальше грабить.
– Ну вот не сволочи?! – воскликнул учитель черчения. – А я ведь Польшу освобождал. Сколько там наших ребят погибло, не счесть. А они вон что с нами делали.
– Данилыч, дай послушать, – осадил его дядя Федя. – Интересно же участковый рассказывает.
Тимофей Данилович притих, а я продолжил:
– Не только в наших краях, но и в других поляки свои лагеря понаставили. Их в народе звали либо панскими, либо панькиными. Ну, поляки же себя панами называют – «господа» по-нашему, – пояснил я. – Позже, когда в Москве царя выбрали, начали порядок на Руси наводить, князь Пожарский принялся поляков гонять. Вот и у нас подошел отряд стрельцов, лагерь польский окружили, предложили всем сдаться. Паны сдаваться не захотели, так их перебили.
– И правильно, так и надо, – поддержал действия отряда стрельцов Митька.
– Ага, а как иначе? – поддакнул и я. – На том месте, где у панов лагерь был, деревню отстроили, а потом так ее и назвали – Панькино. Кстати, есть еще легенда о кладе панском. Рассказать?
– Рассказывай! – зашумел народ.
Еще бы. Истории про клады всегда интересные.
– Так вот, если верить легенде, то стрельцы не убивали поляков, – многозначительно заявил я. Дождавшись недоуменных возгласов, сообщил: – Когда наши панов окружили, атаман своих подчиненных в собак превратил, а все золото и серебро, что награбил, глубоко в землю закопал. Сам превратился в огромного ворона и теперь стережет свои сокровища.
– Да ну, враки все это, – решительно заявил дядя Федя.
– Сказки, – поддержал его Василий Ламов.
Зато Митька с интересом спросил:
– Алексей Николаевич, а где атаман мог сокровища закопать?
– А где он мог закопать… – призадумался я. – Панькино – деревня большая была, длинная. Если бы сохранилась, так до самого сталепрокатного завода. Скорее всего, если и был там какой-то клад, то, когда фундамент копали, все выкопали и не заметили. Если ковшом экскаватора землю выгребали, в самосвалы грузили, кто там клад разглядит? Там же земля сплошная, если и было золото, то все в грязи.
– Митя, а ты по Панькину пройдись, посмотри, – посоветовал Василий. – Если увидишь огромного ворона, так знай, что где-то поблизости клад закопан, вот и ищи. Только осторожно. Вороны – птицы серьезные. Клюнет тебя – до мозгов проймет.
Мужики захохотали, а Митька смущенно сказал:
– Да ну тебя, дядя Вася. Фигню городишь. Я что, дурак, что ли, огромного ворона искать?
Самое забавное, что находились те, кто и на самом деле искал огромного ворона. Мне о том сам автор рассказывал. Дескать, после издания книги ему звонили, просили указать место. Мол, они технику подгонят, если понадобится, а ему долю отстегнут – десять процентов.
Из-за разговора о Панькине вспомнилось начало моей милицейской карьеры. Вернее, ее предпосылки. Замполит заставы, капитан Баринов, что вручал мне комсомольскую путевку, сказал: «Вот, товарищ старший сержант. Служил ты достойно, а теперь получи направление на другую службу – в милицию. Повезет – возьмут в участковые, а это уже офицерская должность. Считай, что безо всякого училища в офицеры прыгнешь. И город в твоей области – Череповец».
В Череповец?! Вот уж чего не хватало! Да у нас все поголовно говорят, что там одни зэки живут, что вечером никому до дома не дойти, чтобы не быть раздетым или разутым. Про Череповец известно, что это не просто город, а Убей-городок. Правда, по размерам он уже достиг областного центра, но все равно до культурной столицы не дотягивал.
Мой одноклассник Славик, который каждое лето ездил в Череповец погостить у дядьки, что работал на металлургическом заводе, возвращаясь, рассказывал с придыханием и восторгом: мол, город красивый, дома высокие. Но когда в кино ходишь, то весь сеанс сидишь и дрожишь: а вдруг место проиграно в карты, и того, кто на него сядет, зарежут?
Опять шевельнулась мысль: говорили же умные люди, чтобы по окончании школы поступал в институт, так нет, решил поработать годик, помочь родителям – дескать, там видно будет. А сейчас бы уже третий курс заканчивал. Мысль, что я мог не поступить, даже не рассматривал. Это чтобы я да на истфак не поступил? Я по истории все книги в школьной библиотеке прочитал, а когда они закончились, перешел на Большую советскую энциклопедию.
Это теперь я знаю, что репутация Череповца как одного из самых криминальных городов СССР была сильно преувеличена. Хотя как сказать. Один из начальников, возглавлявший городской отдел милиции в пятидесятые годы, говорил, что Череповец был на особом учете и входил в десятку самых «опасных» городов нашей страны, наравне с Ростовом-на-Дону и Одессой.
А что удивительного? В начале двадцатого века Череповец был обычным провинциальным городом, не сильно отличавшимся от Белозерска, скажем, или Устюжны. А потом пришла железная дорога, поспособствовавшая благополучию Череповца. А в тридцатые годы партия и правительство решили строить у нас металлургический завод. Решение, надо сказать, очень неординарное, потому что раньше подобные предприятия ставили либо рядом с каменным углем, либо с залежами металла. А у нас решили строить Череповецкий металлургический завод на пересечении транспортных путей – железной дороги и реки Шексна, превращенной в участок Волго-Балтийского канала. Еще в сороковом году стали готовить площадки, заодно «запустили» Рыбинское водохранилище, но планам помешала война.
Возобновили строительство Череповецкого металлургического завода в сорок седьмом, для чего сюда начали присылать инженеров, мастеров и простых рабочих. Но если со специалистами все понятно – брали из тех городов, где имелись подобные заводы, то рабочих брали отовсюду – из Вологодской области, а еще и со всей бескрайней страны. И численность населения бывшего провинциального городишки резко скакнула, обогнав даже областную столицу. Вот и получается, что на строительство завода ехали и романтики, и бывшие заключенные.
В сорок восьмом году в Череповце насчитывалось тридцать пять тысяч человек, в пятьдесят пятом их стало под восемьдесят тысяч, а в семидесятые, сколько помню, двести тридцать. А рабочих рук все равно не хватало, поэтому в моем городе и появились первые спецкомендатуры. Сейчас их аж восемь штук, где пребывают почти десять тысяч человек из числа условно освобожденных и условно осужденных[3].
Категория «условно освобожденные» формировалась из тех, кто в местах лишения свободы зарекомендовал себя с положительной стороны и заслужил более хорошие условия. Спецкомендатура была чем-то средним между рабочим общежитием и тюрьмой: решетки на окнах, контроль при входе и выходе, обыски. Но при распределении на работу условников конвоя, как в тюрьме, не было. В свободное время они могли находиться в городе.
Большая часть обитателей спецкомендатур трудились над возведением химзавода, поэтому их стали называть «химиками». Этот термин получил распространение не только в Череповце, но и по всей необъятной стране, где спецкомендатур было великое множество. Среди спецконтингента имелось немало нарушителей режима, которые старались убежать в город и совершали там преступления.
Глава пятая
Служебная проверка
Вот уже одна неделя прошла, пошла вторая. Васю Ламова выписали, его кровать пока пустовала. Я уже передвигался на своих ногах, но пока осторожно. Все имеющиеся газеты зачитал до дыр, а еще осилил книжку, оставленную в наследство Ламовым. А может, этот замусоленный томик лежит тут давно?
Книга называлась «Ханидо и Халерха», автор – Семен Курилов. Рассказывалось в ней о жизни народов Крайнего Севера – якутов, чукчей и юкагиров. Удивительно, но я зачитался. Тут вам и описание обычаев, и жизни людей, о которых я почти ничего не знаю. Ну разве что о чукчах, из анекдотов. А ведь имелись сомнения: что я стану читать в этой реальности? Оказывается, можно и здесь отыскать приличных авторов и интересные книги, нужно только быть внимательным.
Ко мне пару раз заглядывал дядя Петя, приносил передачи – домашние пирожки с яйцом и сладкие крендельки. Еще притащил штаны и рубашку, а то если выпишут, так и домой идти не в чем. В моем холостяцком хозяйстве гражданской одежды не завались: четыре рубашки да двое штанов – одни, купленные еще до армии, были немного тесноваты, а во вторых, приобретенных уже здесь, я как раз и вышел погулять.
Прочие сослуживцы тоже заходили, но раза два, не больше. Но я на них не был в обиде. Напротив, сейчас каждое знакомое или малознакомое лицо представляло настоящую пытку. Пытался вспомнить: где я его видел, как зовут и что с ним сталось?
Вон на днях к дяде Феде забегал племянник.
– Андрюшка – студент, уже на второй курс перешел, – с гордостью сказал дядя Федя. – Учителем физики и математики будет, детишек станет учить.
Племянник только покивал, тряхнув длинными волосами, да улыбнулся в едва отрастающие усики. А меня в тот момент словно бы резануло. Увы, не станет племянник дяди Феди учителем, не будет детишек учить. Не успеет. Погибнет в восемьдесят первом году в Афганистане, посмертно парня наградят орденом Красной Звезды. А узнал я его потому, что в последние годы приходится часто хоронить своих коллег, а на старом кладбище есть Мемориальная аллея героев, погибших в горячих точках. На памятнике племянник дяди Феди чуть постарше, волосы покороче, но все равно узнать можно.
Гнал от себя эти мысли, но появление Андрея, который в этой реальности еще жив, опять заставили вспомнить… Да, в семьдесят шестом году еще живы и отец, и мать. Надо бы к ним гости съездить, но боюсь. В прошлый раз, когда меня подрезали и я явился, слез было, переживаний! Может, не стоит пока и ехать? Вылечусь, тогда и смотаюсь, а им пока лучше ничего не знать. А может, им вообще не стоит говорить о ранении? В отпуск не выберусь, в баньке с отцом не попарюсь, чтобы шрам не увидел. Ну, потом-то все расскажу, но это потом.
Как же осознать, что тут они живы, им еще и пятидесяти нет, в то время как для меня они уже умерли и лежат теперь рядом на деревенском кладбище?
Задумавшись, я не сразу осознал, что рядом с моей кроватью появился некто.
– Н-ну, рассказывай, Воронцов, как там дело было? – покровительственно улыбнулся мне товарищ в милицейской форме.
Звание не рассмотреть из-за халата, наброшенного на плечи. И что это за новое лицо? Вроде бы что-то знакомое, но кто такой, не помню. А товарищ этот мне сразу не понравился. Лет под сорок, стало быть, стаж в органах немалый, но нет ни одной орденской планки. То, что нет боевых наград, это ладно. Медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» награждены единицы. А где «50 лет советской милиции»? Планочку помню – бордовая с синими полосками.
Морда какая-то лисья, взгляд цепкий, только он мутный, словно похмельный. А еще не понравился тон. Разговаривает со мной так, как опер по малолеткам разговаривает с несовершеннолетними «злодеями»: мол, рассказывай, облегчай душу, но мы-то уже все знаем.
А вообще, что этому субъекту надо? Ах ты, так он же проводит служебное расследование. Вернее, проверку. Служебные проверки переименовали в расследования в начале девяностых. Все-таки ранение участкового инспектора – случай нерядовой. Скорее всего, уже и Вологда бьет копытом, требуя отчета, а может, и Москва. Даже странно, что явились так поздно. Обычно служебные проверки назначаются сразу и проводятся незамедлительно. Но все в этой жизни бывает. Может, ждали каких-то справок от уголовного розыска или из прокуратуры?
Так откуда он? Не из руководства горотдела и не из наших, но, судя по поведению, при полномочиях. Мне почему-то захотелось обозвать его «политотдельцем». Был в те времена совхоз с таким смешным названием.
– А что рассказывать? – вяло поинтересовался я.
– Воронцов, ты мне тут му-му не пори, все сам рассказывай. Сколько выпил накануне, с кем пил, куда пошел – все выкладывай.
Тот Лешка Воронцов, что младший лейтенант, уже принялся бы излагать, что в тот день он был абсолютно трезвым, да и вообще не любитель выпить, что вышел из общежития просто погулять да еще походить в гражданской одежде, потому что если таскаешь милицейскую форму денно и нощно, то начинаешь к ней прикипать. В кустах около клумбы его окликнули, а дальше он ни фига не помнит. Однако у полковника милиции, пусть и в отставке, в душе шевельнулся начальственный гнев. Это что за штабное чуфло передо мной? Обращается по фамилии и на «ты», да еще и пытается сделать меня виновным в том, в чем я никак не виноват.
Едва сдержался, чтобы не рыкнуть. Нет, все-таки сдержался. Не знаю, вернется ли обратно полковник, но младшему лейтенанту здесь еще жить, а значит, портить отношения раньше времени – себе дороже. Поэтому решил взять на вооружение немного иной стиль ответов.
– А откуда у вас сведения, что я накануне с кем-то выпивал? – полюбопытствовал я.
– А ты что, самый умный? – занервничал товарищ. – Я тебе сказал, Воронцов, ты мне вола не пори. Это ты мне рассказывай: где пил и сколько?
– Так если вы уже все знаете, зачем мне еще о чем-то рассказывать? – усмехнулся я. – А уж если врачи подтвердили, что я к ним пьяным доставлен, о чем же еще говорить?
Врачи такого подтвердить не могли, равно как и опровергнуть: анализа крови на алкоголь никто не делал. Но пьяным я тоже не был, а это, даже если человек в бессознательном состоянии, видно невооруженным взглядом.
Незнакомый товарищ решил сменить гнев на милость. Вдумчиво почесав лоб, сказал с толикой угрозы в голосе:
– Ладно, Воронцов, с этим потом разберемся. Скажи-ка лучше: где в момент ранения находились твой пистолет и служебное удостоверение?
– Пистолет в оружейной комнате, в дежурке, а удостоверение – в кармане брюк.
– Так, с пистолетом понятно. А где сейчас удостоверение?
– Не помню, – честно признался я.
Вот уж о чем я точно не думал, так это о своем удостоверении. А ведь это издержки жизни на пенсии. Что случится, если потеряю пенсионное удостоверение или паспорт? Получу новое, вот и все. А в той жизни, когда я был действующим сотрудником, свою «ксиву» хранил очень бережно. За потерю служебного удостоверения самое мягкое – строгий выговор, а не то и предупреждение о «неполном служебном соответствии». Огребешь такое – и ходишь целый год без премии и надежды на получение очередного звания. А бывало, что людей за утерю и увольняли. Помню, когда по выслуге лет уходил из органов, то с болью в душе наблюдал, как кадровичка кромсает мое служебное удостоверение ножницами…
– Воронцов, мать твою! – подскочил с табурета «политотделец». Выкатив глаза, начал орать: – Как это ты не помнишь, где твое удостоверение?! А если оно в руках у бандитов?! Ты знаешь, что бывает, если преступный элемент получает документы сотрудника органов?! Да тебя увольнять пора без выходного пособия!
Мне этот орущий дядька уже надоел. Решив плюнуть и на карьеру Лешки Воронцова, и на субординацию, открыл рот, чтобы послать нежданного хама куда подальше, но в разговор вмешался дядя Федя:
– В тумбочке его удостоверение. Я сам видел, что когда участкового с операции привезли, то сестричка его корочки туда и поклала.
«Политотделец» затих на пару секунд, но потом снова принялся орать:
– А почему служебное удостоверение в тумбочке?!
– А куда его лейтенант денет? В задницу сунет?
Ух ты, так это ж тишайший учитель черчения!
– Слышь, гражданин, а ты не нарывайся, – с угрозой в голосе сказал «товарищ из политотдела».
– А я и не нарываюсь. А вот некоторые сотрудники милиции, которые с порога гражданам хамят, они точно нарываются.
– Да я тебе, дед, хамить еще и не начал, – самодовольно сообщил «политотделец». – Вот упеку тебя на десять суток, тогда не будешь пасть разевать, когда не спрашивают.
Тимофей Данилович, кряхтя, спустил ноги с кровати, засунул ступни в казенные тапочки и, баюкая руку, до сих пор находившуюся на перевязи, подошел к моей кровати. Остановившись напротив моего «дознатчика», сказал:
– Так, говоришь, на десять суток упечешь? А жопа у тебя не треснет? А вот я в горком партии жалобу напишу, тогда и посмотрим, начал ты мне хамить или нет и могу ли я пасть без твоего разрешения раскрывать. Если ты сотрудник милиции, то вначале должен представиться, а к гражданам, которых ты защищать должен, обращаться строго на «вы».
– Шел бы ты, дед… то есть шли бы вы, дедушка, к себе да не вмешивались, – посоветовал «политотделец», слегка сбавив тон.
Но отставного учителя уже понесло:
– Парня в больницу привезли с ножевым ранением. А ты, вместо того чтобы расспросить, как дело было, начал на него бочку катить.
– Слушайте, дорогой товарищ…
Старый учитель по сравнению с крупным «политотдельцем» выглядел как цыпленок против петуха. Петух – он и сильнее, и крупнее, но только почему-то испугался цыпленка.
– Что «слушайте»? – попер на дяденьку отставной учитель. – Я сам капитан в отставке, фронтовик. У меня два ордена, а ты мне «тыкаешь» да еще на десять суток грозишься упечь. Может, я с самим Дрыгиным в одном полку служил![4] Да я не в горком – я в обком, да не жалобу накатаю, а сам в приемную Дрыгина позвоню. Скажу: что у нас за милиционеры такие служат, которые к своим товарищам, которые младше по званию, обращаются словно к скоту, а к больным ветеранам грозятся применить физическую силу? Посмотрим, что первый секретарь скажет, если узнает, что фронтовику грозят сутками, словно какому-то хулигану.
Похоже, угроза обратиться в обком подействовала. Мой «дознатчик» словно переменился в лице. Встав с места, принялся неловко оправдываться:
– Подождите, товарищ… Когда я грозился применить физическую силу? А про сутки, простите, вырвалось ненароком.
– Слышь, ты, тыловая крыса, а я вот как Анатолию Семеновичу все изложу, он сразу поймет, физической силой ты мне угрожал или в каталажку закопать сулил…
– Да в какую такую каталажку?! – почти вопил «политотделец». – Нагрубил, да, признаю. И на «ты» обратился, тоже виноват. Ну виноват, простите, погорячился. Так и что же теперь жаловаться-то на меня? Да еще и оскорблять? Почему это я тыловая крыса? Да я с шестнадцати лет работаю! У меня ни одного партвзыскания нет!
Я смотрел и малость охреневал. Вот если бы такое сделал дядя Петя, фронтовой разведчик, я бы не удивился. А тут старый чертежник, который, по его собственным словам, служил в саперном батальоне. Ни хрена себе! Нет, все-таки есть у фронтовиков нечто общее – наверное, они уже не боятся ни бога, ни черта, ни начальственного гнева, да и ничего другого. И мне стало стыдно. Лежу здесь, отвечаю на вопросы хама, да еще и виноватым себя чувствую.
– Фамилия твоя как? Звание? Должность?
– Зотов Иван Владимирович, капитан милиции, инспектор, э-э-э, по поручениям Череповецкого городского отдела милиции.
– А вот теперь, товарищ капитан, потрудитесь объяснить: почему вы так относитесь к младшему по званию?
– Да как я к младшему по званию отношусь? – недоумевал капитан.
– Обращаетесь к нему на «ты», а не по имени-отчеству. А вы ведь среди советских граждан находитесь. Вот что мы теперь станем думать о взаимоотношениях внутри милиции? Нездоровые это отношения, товарищ капитан. Вместо того чтобы поддержать раненого товарища, вы сразу начинаете обвинять человека в том, чего он не совершал. Вот от вас самого разит, как от пивной бочки, а вы на младшего лейтенанта поклеп возводите. Это нормально, если старшие офицеры являются в больницу в нетрезвом виде?
А я вдруг вспомнил этого капитана. В том, что на его кителе нет ни одной медали, нет ничего удивительного. В горотдел он пришел из горкома партии, вроде бы «на усиление». Что ж, против решения партии не пойдешь, но все прекрасно понимают, что от хороших работников не избавляются. Присвоили ему звание капитана, потому что был старшим лейтенантом запаса, назначили на одну из всегда имеющихся вакансий и обозвали инспектором по отдельным поручениям, так как ничего толкового поручить все равно было нельзя. Конечно, в милицейский стаж включат все годы «партийной и советской работы», но это не совсем то, что должно быть. Потому-то на кителе и нет никаких наград. Потом-то они, конечно, появятся, станет он заседать в президиумах, ходить на встречи ветеранов, греметь «железом», но все равно настоящим ментом не будет.
Нет, не стану огульно хулить всех, кого присылали к нам из партийных и советских органов. Вон в конце восьмидесятых, когда ликвидировали райкомы партии и райисполкомы, людей-то куда-то нужно было девать, дать им возможность доработать до пенсии. Большинство вполне себе адекватные и хорошие люди. Крутых ментов из себя не строили, а дело делали.
Но были и другие, кто считал, что быть милиционером – это зазорно, и они имеют право на нечто большее. А капитан Зотов, как рассказывали сведущие люди, по прибытии в горотдел претендовал на должность не ниже майорской. А где таких должностей набрать? Уголовный розыск он не потянет, в замполиты отдела Горюнов не пропустил, а с нашим начальником считались на всех уровнях. Поэтому должность инспектора Зотов воспринял как личную обиду, а должен был радоваться, могли бы и участковым сделать. Хотя таких лучше участковыми не ставить.
– Вы, это, товарищ капитан в отставке, – набычился Зотов. – Я приношу вам свои извинения. А с товарищем младшим лейтенантом погорячился. – Повернувшись ко мне, скривил губы и сказал: – Алексей Николаевич, если я в чем-то неправ, то прошу простить.
Это он так быстро перевоспитался? Ага, как же. Понимает, что если ветеран – соратник Дрыгина, то будет беда. А коли и не соратник, а просто ветеран, орденоносец, да обратится в горком, а не то, не дай боже, в обком, то будет плохо. Нет, с должности не уволят, но выговор по партийной линии закатят, а это еще хуже, нежели по служебной.
– Ничего, товарищ капитан, все бывает, – великодушно сказал я. – Так что вы так и пишите: пистолет в оружейной комнате, служебное удостоверение на месте, а деталей своего ранения Воронцов не помнит.
– Ага, так и запишу, – кивнул инспектор, косясь на строгого учителя, который ушел на свое место.
Принимаясь писать, Зотов продолжал коситься на отставного капитана, а потом, наклонившись ко мне, прошептал:
– Леша, ты попроси, чтобы жалобу на меня не катал…
– Попрошу, – пообещал я, ставя свою закорючку в конце страницы, там, где написано: «С моих слов записано верно, мною прочитано».
Капитан ушел.
На некоторое время в палате установилась тишина. Потом дядя Федя сказал:
– Слышь, Данилыч, а ты таким грозным можешь быть, я аж сам испугался.
– Глупости это, – отмахнулся учитель, но тут же слегка застонал, потому что попытался взмахнуть раненой рукой.
– А ведь ты, Данилыч, здорово Алексея подвел, – раздумчиво сказал дядя Федя. – Этот засранец, он же такого не забудет.
– Конечно, не забудет, – хмыкнул Тимофей Данилович. – Мелкие люди таких унижений не забывают. Выместить злобу на мне у него кишка тонка, а на Алексее – вполне возможно. Но я тебе, товарищ лейтенант, так скажу: на всякое дерьмо внимания не обращай, а просто свое дело делай. Станешь свое дело делать, и ни одна зараза с большими звездами тебе ничего не сделает.
Эх, товарищ капитан в отставке, романтик вы, а вроде и фронтовик. Но это я так, про свое будущее.
Глава шестая
Участковый у себя дома
Как говорил когда-то царь Соломон, все проходит. Вот и срок пребывания в горбольнице подошел к концу. Меня наконец-то выписали, и я, попрощавшись с собратьями по несчастью, собрал свои нехитрые манатки и отправился домой. Понятное дело, что сразу из больницы никто на работу не выгонит. А мне еще на перевязки ходить.
Удивительно, но, пока ты лежишь в больнице, те люди, с которыми делишь палату, начинают казаться едва ли не родственниками. И кажется, что станешь поддерживать с ними связь, а дружба ваша – на всю оставшуюся жизнь. Но я уже знал, что проходит какое-то время, и ты уже забываешь, с кем лежал рядышком. И вообще, нужно ли тебе о них помнить? Примерно то же самое бывает в пионерском лагере. Или в армии. Хотя кое с кем из армейских друзей поддерживаю связь до сих пор – спасибо социальным сетям!
До дома, то есть до общежития на улице Металлургов, дом 55 (адрес еще не забыл!), от улицы Данилова я обычно шел полчаса, а теперь плелся час, если не полтора. В мое время, то есть в далеком будущем, в этом доме размещается наркодиспансер и обитает «группа анонимных алкоголиков». С наркодиспансером все понятно, а вот что такое анонимные алкоголики, мне до сих пор не особо ясно. Не то люди, решившие завязать с вредной привычкой, не то, напротив, те, кто пьют втихаря, да еще и скрывают свои имена друг от друга.
– Ой, Лешенька, здравствуй, дорогой, – заулыбалась мне наша вахтерша тетя Катя. – Выписали? Вот и славно. А мы тут переживали: как там наш Леша?
– Жив, – кивнул я. Подумав, добавил: – Но еще не очень здоров.
– Так ты на больничном пока или как? А кто тебя ножом-то пырнул, узнал?
Вот ведь тетя Катя! Все-то ей надо знать. Вместо ответа я просто кивнул – мол, на больничном, – а потом пожал плечами: дескать, кто пырнул, не знаю.
Но тетя Катя все понимает без слов. Отдавая мне ключ, сказала:
– Тут без тебя пару раз Петр Васильевич заходил, я ему ключ давала. Ничего?
– Все правильно, – кивнул я, мучительно вспоминая: а какой номер комнаты-то у меня? У тети Кати вроде бы спрашивать неловко. Этаж, кажется, второй. Или третий? Если бы я в своей жизни жил только в одном общежитии, то, возможно, и запомнил бы, но я их сменил штуки три.
– Ты чего задумался-то? – заволновалась вдруг тетя Катя. – Или тебе плохо стало?
– А вот, теть Кать, показалось, что номер своей комнаты позабыл.
– Так и что тут такого? А номер твоей комнаты – тридцать четыре.
Тетю Катю чем-то удивить в этой жизни сложно. Даже постояльцем, который забыл номер комнаты. Так у нас и не такое иной раз бывает. И номера комнат забывают, а то и общаги путают. Был как-то случай, когда прошел человек в комнату, лег спать, а потом выяснилось, что он из другого общежития. А то, что ключ подошел, так у нас почти все ключи типовые. Рязанов свою «Иронию судьбы» еще не снял – или уже снял? – но ситуаций схожих не счесть[5]. А я еще молодец, вспомнил, что нынче живу на улице Металлургов, а то ушел бы на Ленина. Там тоже общага, только семейная, и комнаты больше. Мы там с моей нынешней – или будущей? – супругой прожили два года, пока не получили квартиру.
– Вот, точно, тридцать четыре, – хмыкнул я. – Значит, помню еще.
Я пошел на свой третий этаж. Шел медленно, словно старик, время от времени останавливаясь. Но дошел до двери, провернул ключ и вошел.
Кажется, все здесь знакомо и одновременно незнакомо. Но так бывает и в собственном доме, если уезжаешь куда-то, да хоть бы в загранпоездку, недели на две.
Скинув ботинки и плюхнувшись на кровать прямо поверх покрывала, принялся изучать свои «хоромы». Впрочем, для ясности, они не мои, а государственные, и вообще о таких вещах, как своя квартира, можно забыть лет так… на двадцать. Все тут у нас социалистическое.
Ничего нового в комнате я не увидел. Стандартный набор из любой общаги, хоть советской, а хоть и другой. В постсоветское время в общежитии жить не приходилось, но не думаю, что там что-то переменилось. Кровать с панцирной сеткой, в углу круглый стол, тумбочка вроде той, что в больнице, да платяной шкаф. А что еще-то человеку надо?
Хотелось бы, конечно, еще и свою кухню, пусть даже крошечную, да санблок, где имеется душ, унитаз и раковина. Но кухня у нас общая на весь этаж, два туалета, а душевые кабины внизу, в полуподвале. Но тоже, в общем-то, очень даже неплохо. Конечно, после собственной квартиры, где все свое, где нет соседей, так жить как-то и стремно, но тоже можно. А еще больница стала для меня неким переходным этапом от комфорта к аскетизму. Хотя не такой уж и аскетизм. Вон в армии нас в одной казарме жило сразу восемьдесят душ, туалет был на улице, куда приходилось бегать в любую погоду, а душа вообще не было, только баня по субботам.
Что хорошо, так это то, что у меня нет соседа. А то место напротив, где могла бы стоять чужая кровать, занято книжными полками. Их у меня целых две. Не поленившись, встал и пошел осматривать свое главное богатство.
Книги всю жизнь были моей слабостью. Читать любил с детства, да и все в моей семье читали. У мамы любимой книгой были «Два капитана», а у отца – «Угрюм-река». Я, к своему стыду, «Угрюм-реку» так и не сподобился прочитать. Может, хоть теперь наверстаю? А ведь у родителей было только начальное образование, и они всю жизнь проработали в колхозе. А вот книги оба любили и покупали. И я сам, будучи школьником, тратил на книги свои карманные деньги, а позже – часть того, что получал за работу в колхозе. На моей полке стоят кое-какие книги, которые приобрел сам, а еще те, что с разрешения родителей уволок из отчего дома. А ведь эти книги, только немного потрепанные, с пожелтевшими страницами, до сих пор стоят в моей библиотеке.
Сейчас странно видеть тома, изданные в шестидесятые-семидесятые годы, с белыми страницами, с почти новыми переплетами. Вон Александр Дюма и его «Три мушкетера». «Детская литература», «Библиотека приключений и научной фантастики». Сейчас-то у нее самодельный переплет, изготовленный моими собственными руками, кое-каких страниц не хватает. Купил я ее по случаю. А уж как именно, даже рассказывать не стану. Есть еще Сервантес, «Айвенго» Вальтера Скотта. Сборник рассказов Белова, томик Рубцова. А это уже из отцовских приобретений. Трехтомник Михаила Михайлова, Лесков, поэмы Некрасова. Любимая серия ЖЗЛ. Здесь у меня только биографии Жюля Верна и Мольера (кстати, написана Булгаковым), потом наберется на три полки, а теперь вроде бы уже и четвертая на подходе.
Со временем библиотечка станет пополняться, превратится в библиотеку. Даже теперь, когда пришла эпоха электронных книг, все равно отдаю предпочтение бумажным. Не знаю, что станет с моей библиотекой после меня – сохранят ли жена и дети мои книги? – но это уже неважно.
Только что промелькнувшая мысль удивила. Я что, подсознательно уже смирился с невозвратом?
От тяжелых дум меня отвлек мой пустой желудок, давно сигнализирующий, что соловья баснями не кормят. Можно сбегать (в смысле тихонько спуститься) в общежитский буфет, но хотелось чего-то более основательного, чем чай с ватрушкой. И я решил сходить в «Аленку», что в конце улицы Ленина, благо недалеко. Так, а деньги где? Вечный вопрос! В общежитии деньги должны быть надежно спрятаны, иначе это общественное достояние. И хоть жил я в комнате один, правило оставалось в силе.
Смутно помнилось, что я их куда-то прятал. Вопрос – куда? После некоторых логических умозаключений я выбрал «Дон Кихота». Ни разу не помню, чтобы кроме меня этой книгой еще кто-нибудь интересовался. Так и есть: вот он, трешничек. Я полюбовался давно забытой зелененькой купюрой, с умилением прочитал первую из множества надписей – «три карбованцi» – и отправился чревоугодничать.
Более-менее приноровившись к ходьбе, понял, что передвигаться могу и на расстояния побольше. Бок побаливал, но жить не мешал.
Только я выбрался из дворов на тротуар, как сердце мое пропустило удар, а потом еще один: по противоположной стороне улицы шел мой будущий закадычный друг – Толян Громов. Это он в свое время потянет меня в ОБХСС, куда сам перейдет чуть ранее. Это он, имея шило в известном месте, умчится куда-то на Север за должностью начальника уголовного розыска. Это он, вернувшись через пару лет, потому что «с лопарями каши не сваришь», будет рассказывать о своей секретной командировке в Таджикистан для борьбы с наркодельцами, а ему никто не будет верить. Это он без отрыва от службы в милиции станет почти фермером и на вопрос, как обстановка, будет отвечать: да вот, овца объягнилась, а я на дежурстве. Это он скоротечно уйдет из жизни неоправданно рано. И окажется, что в Таджикистане он все-таки был, но это уже будет неважно. А я ничего этого и знать не буду, потому что после крепкой дружбы пути наши к тому времени разойдутся.
А пока мы были просто сослуживцы, и не более. И участок мой был далековато от зоны инспектора уголовного розыска Громова. Поэтому Толя почти безразлично махнул мне рукой издали и продолжил свой путь. Я тоже махнул ему, а в голове беспорядочно крутились мысли, что так и до кондрашки недалеко, что сколько еще таких встреч будет и что мне со всем этим делать.
В столовой было прохладно и почти пусто: обеденный перерыв у людей давно закончился. С его завершением улетучились и все аппетитные запахи – да и были ли они? Под парочкой столов сиротливо стояли сосуды из-под того, что «приносить с собой и распивать строго воспрещается». Некоторые столы еще терпеливо дожидались, чтобы их протерли. Честно говоря, не айс, как говорили приверженцы пока еще не известной советскому народу жвачки «Стиморол».
Я взял щи, котлетку с пюре (собственно, выбора уже не осталось), два кусочка хлеба и чай и уложился в полтинник с небольшим (не рублей – копеек). Прислушался к своим ощущениям – обычная еда, только бы погорячее. А вот чай подкачал. Сода, которую, как мне было известно из дальнейшей жизни, столовские работницы нещадно валили в этот напиток «для цвета», создавала иллюзию крепкой заварки, но напрочь убивала все чайные ароматы.
Я обедал и вспоминал недавно увиденного Толика. В ОБХСС его сразу невзлюбили товарищи по оружию, записав в выскочки. А что Толя делал? Вот так же приходил в столовку, заказывал второе, а после того как на кассе ему пробивали чек, доставал «корочки» – контрольная закупка! Всем стоять и бояться! После перевешивания котлетка оказывалась чуть легче, чем указывалось в калькуляции, а пюрешки чуть меньше, ибо в какой же точке общепита может быть иначе? Набиралось копеек на пять недовложений. Оставалось приложить несколько бумаг и вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (мы же не звери какие, не в тюрьму человека, а только на товарищеский суд). И вот – для учета полновесная «палка». И таких «палок» Толян мог нарубить за день с десяток, если не ленился. Понятно, что по количественным показателям он быстро вышел в лидеры. Начальству такая прыть нового работника нравилась, в отличие от ближайших коллег.
В это время в моей голове кто-то сварливый загундел: «Вот, за пять копеек так сразу в тюрьму, а как миллионами воровать, так ничего!» Я не стал ввязываться в полемику с внутренним голосом, но почему-то вспомнилось, что у директора треста столовых и ресторанов города была огромная библиотека самых дефицитных книг, которых на прилавках книжных магазинов никогда не найти и которых не читал ни он, ни его сын. Скажете, что не видите связи с ранее изложенным? Так я вам отвечу: вы счастливый человек!
До конца рабочего дня оставалось еще пара часов, и я решил заглянуть в отделение. Слона надо есть по кусочкам, как утверждали сладкоголосые менеджеры двадцать первого века, туманно намекая, что большую проблему надо решать пошагово. Не знаю, большой ли проблемой окажется мой выход на службу после амбулаторного лечения, но предварительно осмотреться не мешало.
Обшарпанные стены, два ряда сколоченных между собой стульев, частично обезноженных, десяток дверей в кабинеты вдоль темноватого коридора и тесная дежурка с единственной камерой – вот и вся матчасть отделения милиции для успешной борьбы с преступностью. И, конечно, запах. Этот ни с чем не сравнимый запах казенщины, микс из ароматов табака, флюидов из камеры, затхлости, к которому со временем привыкаешь и перестаешь замечать и который после большого перерыва снова бьет по твоему обонянию насмерть.
Мой приход не вызвал никакого фурора. Не у кого было вызывать. Только дежурный Воронин (почти однофамилец), изображавший голову профессора Доуэля за высокой стойкой, приветственно махнул мне рукой.
– Привет! Что, уже залатали?
– Залатали, но пока еще на больничном.
– А с чем пожаловал? Не заявление ли писать?
Надо сказать, что любой дежурный как огня боится новых заявлений (специфика должности), поэтому я не стал огорчать хорошего человека, сказав, что заглянул по пути просто так. Воронин сразу потерял ко мне интерес и, успокоенный, откинулся на своем стуле, отчего и вовсе перестал быть виден из-за стойки.
Я решил заглянуть в кабинет участковых. В мою задачу входило провести предварительную рекогносцировку, проще говоря – осмотреться и вспомнить разные мелочи, чтобы при выходе с больничного не выглядеть дураком. Вот где, например, лежат бланки? А где ячейка на мой участок? Где мои подучетники, в смысле дела на них?
Дверь оказалась запертой – вообще замечательно! Так, а где ключ? Логика подсказывала – у дежурного, о чем я его и спросил.
– Долго под наркозом был? – не в строчку отреагировал Воронин и, видя мою удивленную физиономию, добавил: – Память отшибло?
Прозвучало это как-то не дружески, и я уже собрался рассердиться, но, проследив за его взглядом, все понял. За моей спиной на стене висела фанерка с наколоченными гвоздями, явно для ключей. Фанерка была любовно покрашена в темно-синий цвет – в тон стенам. Видимо, в этом году старшине горотдела удалось где-то добыть только такую краску.
Забрав единственный ключ, я отправился на разведку, решив не реагировать на грубость дежурного. Вот так на мелочах можно и засыпаться. Но я-то не шпион в стане врага, мне моя забывчивость смертью не грозит. Но и прослыть странным, страдающим провалами памяти, сотрудником тоже не хотелось. Выпрут еще со службы – и что? Все будущее под откос?
Я уже собрался уходить, когда дверь в кабинет открылась, и на пороге возникла дознаватель Лида Соколова.
– Здравствуй, Леша! Мне Толя сказал, что ты пришел. Как ты?
– Да ничего, помаленьку выздоравливаю.
– Расскажи скорей, как это все, как ты? Больно было? Ты его знаешь, да?
Вопросы сыпались градом, а мои скучные ответы Лида слушала, округлив глаза и обхватив ладошками свои круглые щечки. Совсем тебе Мунк со своим «Криком». Потом она спохватилась:
– Ой! Я же что зашла-то? Ты у нас должник в этом месяце.
Я начал соображать, на что можно собирать деньги в это время. Праздники, дни рождения, похороны, не дай бог, что там еще?
Лида нетерпеливо притопывала каблучком: дескать, давай думай скорее.
Я решил начать с невинного вопроса:
– Сколько?
Лида недоверчиво посмотрела на меня – не прикалываюсь ли? – и неуверенно произнесла:
– Так рубль двадцать. Ты, Леша, смеешься? Или из-за больницы так…
Она не договорила. И что вы все привязались ко мне со своей больницей? Я вообще не отсюда! Я фантастический монстр из вашего будущего! Мне очень хотелось сказать именно так, но Лиду было жаль. И еще себя немножко.
А Лида добавила:
– Так ты же кандидат! Вот, и в ведомости записано.
Упоминание о ведомости немного прочистило мозги. Ведомость – это вам не хухры-мухры. Ведомость – она и в Африке ведомость. И на похороны не по ведомости собирают. И еще слово «кандидат». Вот теперь все встало на место. Как же! Это же наша руководящая и направляющая! Это же ум, честь и совесть нашей эпохи! И именно быть в передовых рядах строителей коммунизма я стремлюсь, и из-за этого мне сейчас надо расстаться с моими деньгами.
Рубль двадцать мне было жалко. Хотелось прямо сейчас сказать Лиде о том, что именно мы все вместе построим. Но не время, не время…
Вечером у себя дома я переживал накопившиеся впечатления от города образца 1976 года. Скромный уличный трафик, из легковушек – «запорыги», «москвичи», реже «Волги». Воняющие сизым перегаром неуклюжие КрАЗы с фотографиями Сталина на лобовухах. Номера на них с буквами «ВОА». Девчонки стайками, все в мини-юбках, миленькие такие. Цыгане на лошади с телегой, груженной бачками с пищевыми отходами из больницы или столовой. Работающие кинотеатры с очередями желающих попасть на фильм, а не торговые точки по продаже секонд-хенда. Зеленые пивные палатки, облепленные страждущими и жаждущими еще задолго до начала торговли. Вспомнилось: «Граждане, пиво сегодня не успела разбавить, поэтому буду недоливать!» Синие тележки на велосипедных колесах с газировкой за три копейки и мокрой сдачей.
Слезливые воздыхатели по самому лучшему в мире прошлому, ау! Где вы? Почему здесь я, а не вы? Давайте меняться!
Глава седьмая
В поисках портала
Прошла неделя после моей выписки из больницы. Семь дней вживания в действительность, состоящие из сплошных загадок. Кто-то в общаге мне бросал мимолетно: «Привет, чего не здороваешься?» Кто-то таращил в недоумении глаза после моего приветствия: мол, чего пристаешь? Все время приходилось быть настороже, чтобы не влипнуть в непонятное.
В первый день по возвращении домой попытался слегка навести порядок. (Странно было называть домом «хоромы» в общежитии.) И в мыслях следовало разобраться (хотя я это в больнице пытался сделать), и в собственной комнате. Не то чтобы у меня тут был бардак, но за время моего отсутствия скопилось изрядно пыли. Все-таки лето, да и близость металлургического завода дает о себе знать – на подоконнике скопилась настоящая сажа.
Кстати, первое время меня пугала «металлургическая» пыль, запахи, но во всем этом имелись и свои преимущества. Например, нет комаров: не выживают они вблизи металлургического производства – слабые. Но им же хуже. Вспомнилось, что в моей реальности, когда комбинат обзавелся фильтрами, улавливающими вредные отходы, уже и снег стал нормального цвета, и комары расплодились.
Осознав, что пол я пока не в состоянии помыть, ограничился тем, что протер подоконник, стол и все прочие поверхности, которые мог привести в порядок, не слишком нагибаясь. Но все равно в боку закололо. Надо бы поаккуратнее. С другой стороны, слишком себя жалеть тоже не стоит.
А теперь и самому не мешало бы помыться. Увы, полностью я пока это сделать не могу, но хотя бы так, фрагментарно. Значит, берем мыло, полотенце и сменное белье и отправляемся вниз, в полуподвал.
Ну вот, уже гораздо лучше. Чистый (относительно, но лучше, чем ничего), выбритый (руки бы оторвать тому, кто пустил в продажу лезвия «Нева»), переодетый в свежее белье.
Провел ревизию своего гардероба. На зиму и осень имеются шинель, форменный плащ, двое форменных брюк, четыре рубашки. Китель с погонами младшего лейтенанта. А на груди – ни значочка, ни орденской планки. Служил бы срочку в ВВ, мог бы какую-нибудь ведомственную «регалию» нацепить, а вот «Отличник пограничник» на милицейской форме не катит. Комсомольский значок носить уже не положено, а «поплавка» об образовании пока нет. Со временем, разумеется, все будет, но пока китель выглядит скромно, можно даже сказать сиротливо.
Еще фуражка и зимняя шапка. Из гражданской одежды висят пальто демисезонное, куртка и две рубашки. Из гражданских штанов одни на мне, а одни надо бы постирать. Выстираю, отглажу – опять они станут у меня парадными брюками. Обувь шикарная – сапоги, ботинки форменные и сандалии. Вот и все. Гардероб, скажем так, скудноватый, но мне, насколько помню, его хватало. Пиджачок бы какой завести, только зачем? Куда мне в нем выходить?
И моя портупея с кобурой. Начальство портупею снаряжением велит называть, иначе, дескать, ты не офицер, а шпак гражданский. Кстати, как и вместо кобуры говорить ка бура. С портупеей, однако, проблемы на службе. Если ты носишь сапоги (а при сплошной стройке это необходимость!), так обязан быть в портупее. А за нее всякому хулиганистому элементу очень удобно хватать милиционера руками, особенно сзади.
Еще где-то валяется свисток. Его уже сто лет не используют, но до сих пор выдают и проверяют на строевых смотрах, при тебе ли он. Если нет, к службе не готов. Кстати, при увольнении портупею и кобуру можно оставить себе, а вот свисток ты обязан сдать старшине. Был такой анекдот: два свистка, один зеленый. Смешно, да? Как может быть звук зеленым? Так вот, это не про звук, это про наше спецсредство.
Теперь бы нужно прикинуть: а как жить дальше? Пока даже не в глобальном плане, а в чисто житейском. После обеда и уплаты членских взносов денег у меня осталось… Так. Один рубль железный, с портретом Ленина, и мелочь. Лопухнулся. Ведь был же в отделении, мог бы спросить. Недавно была зарплата, что-то да должно причитаться. Пусть рублей пятьдесят. Позвонить бы да выяснить. Но я и телефона не знаю, да и скажут ли? Значит, завтра схожу, выясню. А если деньги и на самом деле вернулись в банк, что тогда делать? Пройтись по сослуживцам, стрельнуть по рублику с человека? Дадут, конечно же, не дадут пропасть. Но занимать деньги никогда не любил.
Так, какие действия? При желании можно протянуть дня два, если в столовой не роскошествовать. Но если сходить в магазин, закупить какую-нибудь крупу или десяток яиц, хлеб, то можно и дольше. И, что хорошо, не надо тратиться на сигареты!
С этим все ясно. Как-нибудь проживу. Правда, ремень пришлось застегивать на последнюю дырочку, но все равно штаны великоваты, придется еще одну прокалывать. А ведь были малы. Сколько я скинул, пока лежал в больнице? Килограммов пять, не меньше. Надо бы взвеситься ради интереса.
Вечером первого дня забежал друган и смежник по участку Санька Барыкин и сбил все мои планы. Намеченный на завтра поход в бухгалтерию не потребовался. Санька пришел с деньгами, да не с какими-то, а с полным месячным содержанием, со всеми ста двадцатью карбованцами. Хорошо все-таки, когда у тебя нет никакого профсоюза, а жалованье выплачивают независимо от того, работаешь ты или болеешь. И когда есть друг, который о тебе позаботится. Сказал, не хотели давать, но на помощь пришел сам начальник отделения. Как, мол, раненому бойцу да отказать? А на что он лекарства покупать станет?
Рассказывая все это, Санька вытащил пачку «Примы», сунул сигарету себе в рот, вторую протянул мне. А у меня на автомате вырвалось:
– Спасибо, не курю.
Сигарета свалилась у Саньки с губ:
– Ты?! Не куришь?! И давно?
Что мне было ему ответить – лет десять?
Но отвечать и не потребовалось.
– А может, калибр не тот? – заобижался Санька. – «Столичных» захотелось? Так мы не баре, у нас таких не водится.
Пришлось ему наврать, бедному, что вот, после ранения решил завязать. И пусть он меня не соблазняет, и так еле держусь. А коли закурю, раненая печень взвоет. Я еще очень убедительно скривил физиономию. Вот это подействовало.
– Тогда, оно, конечно, – согласился друган и засобирался уходить.
Так понемножку и шла эта неделя. Днями было еще ничего, а вот вечером… После отбоя, который назначал себе сам, я забирался в утлую холостяцкую постель (тощий матрас, пружины), и против воли в мозг забивались вопросы, не имеющие ответа. Чтобы избавиться от этой бесконечной мороки, я стал приучать себя подбивать дневное, так сказать, сальдо: актив, пассив и все такое. Что мы имеем в активе? Молодость, энергию, несмотря на не совсем полное выздоровление после ранения, интерес к жизни.
А еще… Стыдно сказать, но мне давно уже не помнилось собственное повышенное внимание к девчонкам. И не просто внимание, а желание получить ответные сигналы приязни. Кажется, сегодня на раздаче мне барышня улыбнулась. Такая молоденькая, не больше двадцати семи – тридцати лет. А на кассе тоже ничего, постарше, около сорока. Только стоп! А мне самому-то сколько: чуть за двадцать или сильно за шестьдесят? Опять шизофрения на подступах! Ведь Алексею образца семьдесят шестого года она могла показаться уже и старой, а мне, прожившему шестьдесят пять лет, кажется юной.
И думалось: это ведь не будет изменой по отношению к моей будущей жене, если вдруг у меня возникнут какие-то отношения? Я ведь еще не женат. Вот когда женюсь, тогда да, никаких хождений налево.
Что еще в активе? Энергия, бодрость, страстное желание, движение. Нет, это все уже было. А в пассиве?
А в пассиве я пока вижу все. И нищенскую зарплату, и опостылевшую работу – все по новой! – и отсутствие комфорта, к которому я привык. У меня в той реальности и квартира неплохая, и машина, и кое-какие сбережения, и пенсия – кстати, гораздо выше средней по стране. А главное, жена. Дети. Внуки. Как они там? Понятное дело, что не пропадут, все уже давно на своих ногах, но все равно переживаешь. Понятие времени становилось географическим. Получается, они были не «сейчас», а для меня они были не «здесь». И было это одно и то же.
Нет, не может такого быть, чтобы живого человека вот так просто перенесло в прошлое. Но коли перенесло сюда, стало быть, можно как-то вернуться назад. И все время подмывало отправиться на поиски той трещины во времени, а может быть, некоего портала. Совершенно не имел представления, как его искать, чем эта «трещина» может быть отмечена. Хотелось представлять так: я найду это место, и мне будет некий знак. Сияние ореола, удар молнии, у меня зачешется задница, что-то еще, по чему я определю безошибочно: вот это место. И меня выбросит домой.
И тут вставал вопрос: а хочу я вернуться или нет? И однозначного ответа у меня не было. Но нет… Все-таки я хотел вернуться. Хотел обратно, несмотря ни на что, в свое старое тело, в свою, наверное, не очень длинную последующую жизнь, но в свое уютное пространство с друзьями и близкими. И я решил, что завтра же поеду (или пойду) искать это странное, а возможно, и страшное место.
В том, что автобусы ходят ужасно, я уже убедился. Можно ждать его минут сорок, но дождаться – это еще не значит уехать. Будет толпень, запросто кто-то локтем заедет в мой многострадальный бок. Поэтому решил не тратить время, а с утра отправился пешком в сторону строящегося моста.
Строят его уже лет семь, а может, и больше. То, что он не готов, было заметно еще издали. Пилон буквой «А» возвышался вдали, но ванты пока еще не были натянуты. Я вспомнил, что мы тогда гордились этим мостом, даже не начав им пользоваться. Ну как же? Первый вантовый мост такого порядка во всем Советском Союзе. Почти такой же, как через реку Рейн у немцев.
Но коли моста нет, значит, следовало найти паром.
Паром, как я помню, отправлялся от улицы Максима Горького. Точнее, улица уходила прямо в воду реки Шексны, куда и подходил паром. Пройти предстояло между парком КиО, который тогда только старики да люди сведущие называли Соляным садом, и небольшим, но плотно заселенным цыганским анклавом. Это несколько напрягало. Отбиваться от кучи сопливых босоногих ребятишек и говорливых женщин с навязчивым предложением «дарагой, давай погадаю, всю правду скажу», не хотелось. Но все обошлось. Видимо, правило «не блуди, где живешь» действовало и здесь.
Я шел и удивлялся Соляному саду, который был, не в пример будущим временам, значительно более густым и непроглядным на просвет. И мощных деревьев-долгожителей здесь было куда как больше.
Цыганский поселок держался долго. Окончательно его снесли уже в двадцать первом веке, а теперь на этом месте расположился шикарный микрорайон с домами-высотками – этакий Череповец-Сити. Дома, разумеется, пониже, чем в Москве, но все равно впечатляет. И стоимость квартир в этих новостройках тоже.
Паром пришлось немного подождать. Вот с ним не было никаких чудес. Я помнил его именно таким – баржей с палубными надстройками в виде большой и толстой буквы «П» и торцевыми щитами-съездами (моряки, конечно, высмеяли бы меня и снисходительно поправили: носовым и кормовым съездами). На верхней перекладине буквы «П» размещалось название – СП-13. Самоходный паром, расшифровал я, не мудрствуя лукаво.
Он уже подходил к нашему берегу, но потребовалось некоторое время на выезд немногочисленных автомобилей. Пока я думал, платить за перевоз или нет, руки сами сделали свое дело – вытащили корочки. Тетка с кондукторской сумочкой равнодушно кивнула: проходи. А я вспомнил, что в те времена по удостоверению можно было проехать полстраны, если с умом.
Мне так далеко было не надо, я всего лишь отправлялся туда, где у нас улица Матуринская, заполненная коттеджами, а пока деревня Матурино, со всеми реалиями колхозного быта – деревянными домиками, коровами, пасущимися на бережку, и курами, азартно копающимися в навозных кучах. Во мне тут же проснулся деревенский житель. А почему кучи валяются прямо на улицах? Их что, весной на грядки сложно было стаскать?
Погода стала портиться, появился ветерок, который особенно чувствовался на реке, и было достаточно прохладно. Мысленно похвалил себя, что захватил курточку. Похожа она была на пиджак, у которого немножко отрезали снизу и вместо этого сделали опушку. Не очень удобная, задница открыта, но все так носят. Видимо, у нас в СССР в то время не было не только секса (да-да, знаю, что фраза звучала по-иному, но это уже устойчивый штамп), но и моды. Сшито это чудо дизайна было, видимо, на фабрике «Большевичка», а может, и в местном ателье, я уже и не помнил этого.
Но я решил свое путешествие не отменять. Да и куда его отменять, если баржа форсирует Шексну?
Путь мой, по моим представлениям, был направлен в сторону будущего аквапарка, который, как я полагал, находился примерно в паре километров от моста к югу и немножко к востоку. Я понимал, конечно, что действительность сильно отличается от того, как мне представляется эта территория, но не ожидал, что настолько. Меня встретила деревня. И становилось все меньше и меньше надежды рассчитывать на какой-то знак, сигнал по мере моего блуждания по этой территории. Деревня – она и есть деревня.
Сколько помню, слева от причала, если смотреть с реки, должна быть усадьба Гальских. В моем времени – шикарный двухэтажный дом, с колоннами, балконами и прочими атрибутами провинциального классицизма. У нас она считается жемчужиной, наравне с домом-музеем Верещагиных и храмом Воскресения Христова. Так, а где усадьба-то?
Неужели вот этот зачуханный двухэтажный дом, лишенный всякого намека на изящество, и есть наша «знаменитость»? А куда девались колонны? Нет запоминающихся резных балконов. Где эта штука, которая сверху? Как ее правильно – фронтон? Нет, фронтон у обычных домов, а это портик. Пожалуй, это и есть старинный дом, потому что вокруг либо сараи, либо амбары. М-да, никогда не задумывался, сколько пришлось потрудиться реставраторам, чтобы превратить халупу если не в дворец, то в красивый особняк.
Я уже вдоволь находился по разным деревенским улочкам, намочил брюки в сырой траве и, честно сказать, устал. Когда я третий, наверное, раз прошел по одной и той же улице, какая-то сердобольная старушка у калитки одного из домов спросила:
– Ищешь кого, милок, али заблудился?
Вот сейчас я ей отвечу, что ищу то, чего нет и нескоро будет. А дальше? Поэтому вместо ответа я сделал замысловатый жест рукой, который можно было расценить как угодно, и поспешно ретировался. Не заблудиться окончательно мне помогал только торчащий в небе пилон моста.
Я плутал по этим территориям, совершенно для меня непонятным и даже загадочным. Было такое ощущение, что я здесь впервые. Оно, может, так и было. Вспомнилось японское стихотворение, когда-то прочитанное у Стругацких, кажется, в «Миллиарде лет до конца света». За точность не ручаюсь, но как-то так:
- Сказали мне однажды, что эта дорога
- ведет к океану смерти.
- И я с полпути повернул обратно.
- С тех пор все тянутся передо мной
- глухие окольные тропы.
Меня очень мотивировал в жизни этот стих. «Не бросай начатого! Не отступай! Не дрейфь!» – требовал он. А потом оказалось, что его написала слабая женщина. Но если так считала женщина, то мне совсем стыдно отступать или менять планы в самый последний момент.
Я уже собрался заканчивать эту свою авантюру, исход которой можно было просчитать заранее, и выбираться из этой глуши, какой она мне представлялась на данный момент, когда послышался звук стрекотания большого кузнечика. Очень большого! Я повернул голову на звук. Ба! Да я же почти у Матуринского аэродрома.
О том, что поблизости аэродром, свидетельствовало и наличие огромного колпака Буратино, что мотылялся под легким ветерком на невысоком шесте. Это был приземный ветроуказатель, рукав с красно-белыми полосами, а по-другому – просто «чулок». Специалисты на своем сленге еще называли его «колдуном».
Во время Великой Отечественной войны здесь базировался истребительный авиаполк, что сопровождал ТБ-3, а потом и Ли-2, охранял железную дорогу и Мариинскую водную систему от налетов немецкой авиации. Как-никак мой городок был ближайшим тылом к блокадному Ленинграду. Именно в Матурине приземлялись на дозаправку транспортные самолеты, доставлявшие в осажденный город боеприпасы, медикаменты и продовольствие, вывозившие обратно раненых и больных ленинградцев.
Немцы сбросили на нас тысячи бомб, чтобы вывести из строя железнодорожный узел. Сброшенных бомб было бы больше, если бы не наши ребята, отгонявшие фашистов от города, сами гибнувшие в бою и сбивавшие вражеские самолеты. Среди летчиков есть даже Герой Советского Союза Алексей Годовиков, таранивший немецкий самолет и получивший звание посмертно.
После войны аэродром использовался гражданской авиацией. Но Череповец застраивался и разрастался, и в начале девяностых годов аэродром в Матурине был закрыт. А теперь здесь тоже стоят кирпичные дома. А ведь где-то неподалеку стоит и мой дом. Тьфу ты, его построят лет через сорок.
Аэродром – это совсем не то место, где даже поблизости мог находиться интересующий меня будущий аквапарк, неподалеку от которого я и встретил этих хулиганов. Но скорее всего, «торчков». Аквапарк должен быть почти прямо к югу от парома, а меня занесло сильно левее. Геолокацию бы сюда. Я машинально схватился за карман – на месте ли телефон? – и похолодел: телефона не было. Несколько секунд я тупо соображал, где мог его выронить, пока не понял, что этого девайса не может быть в принципе. Его еще не изобрели. Несмотря на это каждый день раза по три меня бросало в дрожь от мысли о том, что я потерял свое сокровище. До чего въедливая привычка.
Между тем стрекот на аэродроме усилился, и над домами возник маленький биплан. Я присмотрелся – точно, подзабытый в будущем наш «кукурузник», наша «Аннушка», наш деревенский воздушный автобус. Он забирался вверх так надсадно и так трудно, что казалось, вот сейчас он забуксует и остановится. Но этого не случилось, самолетик вскоре вышел на ровный курс и тихонько почапал к горизонту.
А я вспомнил, что в оперской юности мне пришлось достаточно много полетать на этом аппарате. И он, по моим воспоминаниям, жил так же долго, как его собрат по автомобильному движению, а именно «уазик» под названием «буханка». Только вот все-таки «кукурузник» сошел с дистанции, а «буханка» до сих пор в строю и даже обрела второе дыхание, судя по всему.
В стране, где вместо дорог направления, такой самолетик был просто необходим. И туда, куда было сложно доехать, можно было долететь. И никого не удивляло, что рядом с какой-то захолустной деревней располагался аэродром, куда можно было прийти и улететь километров за сто, сто пятьдесят. И по области, и в Ленинград, кстати.
Вспомнилась одна поездка, первая – наверное, потому и запомнил, – в Вытегру. Туда нужно было лететь по каким-то делам, с кем-то беседовать, что-то выяснять. Детали сейчас уже стерлись из памяти, но хорошо запомнился сам полет. Первым делом шибануло в нос специфическим запахом, который свидетельствовал о том, что дополнительной платой пассажиров за проезд часто могла являться сдача желудочного сока. И запах от подобных процедур выветриваться не успевал.
Брезентовые сиденья типа раскладных дачных стульчиков, минимум комфорта, а если сказать честно, то полное его отсутствие. Но зато полное ощущение полета, которое не получишь ни на одном другом самолете, тем более каком-нибудь реактивном, летающем выше облаков. Летал в свое время. Тоже отсюда, но уже с другого аэродрома, более современного. И в пределах России – это по работе на благо капиталистов! – и так, в отпуск с женой.
Так вот, на современных самолетах ты увидишь разве что облака. Или, при полете в Крым, воду красного цвета. Здесь все тебе видно. Все интересно, все необычно, все заставляет смотреть со вниманием. Правда, мотыляло его, как помнилось, до такой степени, что я тоже начал подумывать о сдаче желудочного сока. Но, слава богу, обошлось.
Почему-то дверь в кабину всегда оказывалась открытой. Может быть, в случае аварии пилот рассчитывал первым смыться из самолета? Не знаю. А если серьезно, то где-то я читал, что этот биплан – один из самых безопасных и способен планировать и приземлиться при полном отказе мотора.
Хотя к чему мне лишние воспоминания? Если все в этой жизни у меня повторится, так я опять полечу в Вытегру и опять сумею «насладиться» впечатлениями. А может, отыщется другой желающий, еще не летавший на самолете? Если что, с удовольствием уступлю ему право на командировку.
А сейчас не пора ли искать дорогу обратно к парому?
В общем, квест у меня случился из разряда «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Соответственно условиям задачи и результат, в общем-то, был понятный и ожидаемый. Напрашивается одно нехорошее слово, но не стану его использовать. Все правильно поняли.
В определенный момент я почувствовал даже какое-то облегчение. Все-таки в каком-то смысле моя совесть чиста. Я предпринял необходимые попытки, сделал необходимые шаги. И то, что не получил нужного результата, значит, его и не должно быть.
Я решил думать так: ежели результата нет, значит, его просто не существовало в природе. Не существовало в природе ни трещины, ни портала временного, ни обозначений этого места. Стало быть, придется принимать мне новую старую жизнь как данность. А может, попробовать что-то в ней поменять? Чревато, конечно, «давить бабочек», но, кто знает, может, мне это и нужно сделать?
Глава восьмая
Жаль, нет ружья…
На больничном хорошо сидеть здоровым людям. Сиди себе, книжки читай, телевизор смотри. Но в моей жизни такого ни разу не бывало. Напротив, иной раз приходилось выходить на службу с температурой. Сейчас бы сказали: так делать нельзя, заразите других! А в мое время это вроде бы и нормально. На ногах стоять можешь? Значит, работать тоже можешь.
Сегодня вечером я пожалел, что не послушался доктора, который мне не рекомендовал физические нагрузки в течение полугода. Не спится, печень болит, хорошо еще, что крови нет. Но сам виноват. Нечего было козла матуринского изображать и отыскивать «портал» в поле чудес, то есть в будущее.
Значит, «портала» нет и не будет, и мне предстоит снова прожить свою собственную жизнь. Идти потихонечку по служебной лестнице, получать звания и уйти на пенсию в звании полковника. Карьера, в общем-то, у меня неплохая: из младших лейтенантов полковником становится один на тысячу. А может, в здешней реальности я и генерал-майором смогу стать? Не стану повторять те ошибки, что совершил в прошлой жизни, прогнусь, если потребуется. А может, и прогибаться не придется, я и так получу большие звезды?
А может получиться совсем другое: застряну в должности участкового инспектора, лет через пять получу приставку «старший», до майора к «дембелю» дослужусь. Это дяде Пете выше капитана не светит, а лет через пять или десять потолки для должностей поднимут. Майор – это, конечно, поплоше, но тоже не самый плохой вариант. А может и так случится, что уволюсь я на хрен. Пойду работать на стройку или на мартен или отправлюсь получать педагогическое образование, а потом остаток дней стану сеять разумное и светлое. И уволить меня могут за что-нибудь, и кирпич на голову упадет. Нет, на самом-то деле вариантов море.
Если не спишь, то снова и снова в голову лезут всякие мысли, а вместе с печенью ноет и совесть. Хотя совесть-то тут при чем? Но все равно получается, я был не совсем откровенен с Митрофановым, который меня опрашивал на предмет ранения. Опрашивал, а еще и легонечко «колол». Да-да, именно что «колол». Вы думаете, Джексон задал вопрос о том, красивая ли баба, из-за которой меня пырнули, по доброте душевной или из любознательности? Как же. Женька – мент прожженный и оперативник от бога. А оперативников, которые задают потерпевшему праздные вопросы, не бывает. Потерпевшие (слово «терпила» еще не появилось) на то и существуют, чтобы скрывать от уголовного розыска правду. И неважно, кто тут перед тобой, случайный ли человек или твой приятель. А мы еще даже и приятелями не стали.
Но дело-то еще и в том, что, кроме сомнений, мне рассказывать было не о чем. Да и ситуация, если честно, была такая, что я в палате не очень-то хорошо соображал, где я вообще нахожусь и откуда здесь взялся молодой Митрофанов, которому уже почти семьдесят. Так-то вот.
Что ж, теперь о сомнениях. В году этак, э-э-э, восемьдесят седьмом, а то и в восемьдесят восьмом, точно уже и не вспомню, я уже майором был, подполковника ждал. И разговаривал я со своим коллегой из СИЗО. Должность у него – заместитель начальника по оперативной работе, в просторечии именуется «кум».
В показателях оперов СИЗО есть количество явок с повинной, полученных от сидельцев. Повинки жулики пишут самые нелепые, и их принимают. Нельзя пренебречь. А пишут и от скуки, и от желания создать о себе хорошее мнение, и ради желания отомстить ментам хоть по мелочи – задать им работы. А еще бывает, что из желания совершить побег, если пишут про себя и будет проверка показаний на месте. Естественно, что мы, оперативники, работавшие на «земле», поддерживали контакты с оперчастью. Их задача – выявлять латентные преступления, а наша – их раскрывать.
И вот некий подследственный (фамилию я уже и не помню) пишет: «Твердо решив встать на путь исправления, сообщаю об известном мне преступлении, совершенном моим знакомым по кличке Босой примерно десять лет назад. Он упоминал в разговоре, что порезал какого-то милиционера из-за ружья, и ему за это ничего не было. Фамилию этого Босого я не знаю, но мне известно, что он умер за пару лет до Олимпиады». Он даже фамилии не помнил, звал либо по кличке, либо Серегой.
Никакая это была на самом деле не повинка, а заклад какого-то своего приятеля – поступок совсем не поощряемый в тех стенах. И поступить так мог только сиделец авторитетный, не боящийся разборок, узнай сокамерники о таком поступке. Или у него была какая-нибудь отмазка. Одна из них или даже две были очевидны: личность фигуранта повинки получалась неизвестной, да и был он уже, как говорится, в лучшем мире. Так что ищите, граждане менты, ищите, стирайте мозги и ноги до мозолей, а мы посмеемся. Или все сообщение было совершеннейшей лажей, рожденной по каким-то соображениям, нам вообще не известным.
Так что вроде и появилась надежда на раскрытие, но не факт, не факт. Во-первых, преступление случилось давно, прошло больше десяти лет. Если и раскроем, так сроки давности, скорей всего, истекли. Надо бы посчитать, а я уж и не помнил, по какой статье было возбуждено уголовное дело. А во-вторых, а это самое главное, преступник (ну да, он пока не преступник, суда-то не было, но так удобнее), совершивший преступное деяние, умер. Вот, собственно-то говоря, и вся информация.
А мне Владимир Иванович поведал лишь потому, что знал, что меня когда-то подрезали. Все-таки нашего брата бывает, что и режут, да и стреляют, но не настолько часто, как это показывают в кино. Но так бывает, если кто-то осмелел по пьяни или на семейном скандале. А вот чтобы так, чтобы кто-то сидел в засаде или отслеживал милиционера от самого дома, такого никто припомнить не мог. Даже среди самых отпетых бандитов дураков нет. За умышленное убийство сотрудника милиции или дружинника светила «вышка».
Так что получил я информацию, принял ее к сведению, но не более того. А что бы я стал делать? Нет, теоретически я мог бы поднять архивы, отыскать: а кто же такой Серега, да чтобы он меня настолько возненавидел? Но это на самом деле возможно только теоретически.
Только зачем мне все это? Этот гражданин давно умер, его могилу я бы искать не стал. Да и за давностью лет уже и подзабыл о том случае. Нет, не то чтобы забыл, но уже как-то все утряслось, улеглось. Возможно, если бы этот человек был жив, то я бы с ним и поговорил. Но опять-таки зачем? Пристыдить? Да упаси боже. Вот если бы он меня насмерть убил, тогда да. Но нынче, если принять за основу, что мое сознание переместилось в мое же собственное, пусть и подраненное тело, все складывается несколько иначе. Мой, скажем так, обидчик, еще жив. И вполне реально его найти.
И что, сообщить Митрофанову? Мол, пришла из астрала весточка? Так не поверит, ему факты нужны. Кто тебе рассказал? А что ты видел? А почему раньше молчал? А фактов-то у меня и нет. И слово «астрал» пока неизвестно. Надеюсь, при перемещении сознания мозги я не растерял (образно я, прежние мозги должны в старом теле остаться).
Но одна зацепка есть. И даже не одна, а целых две. Во-первых, кличка. Но выявлять злоумышленника по кличке не самый легкий способ. Город у нас большой, искать хоть босых, а хоть и обутых замучаешься. А вот вторая зацепка более перспективная. Коли порезал из-за ружья, то этот Сергей – любитель охоты. А кто у меня на участке охотник с таким именем? Не помню. А если и есть, то все равно не помню: что я такого успел сделать?
Нет, охотника-то я вычислю мигом, надо только до опорного дойти, там все данные есть. Но все равно что-то я должен вспомнить. Но это если «злодей» с моего участка, а он может оказаться с соседнего, а то и вообще из Заречья.
Думай, голова, шапку куплю.
Ученые говорят, что человек никогда ничего в этой жизни не забывает. Все, что он когда-то видел и слышал, он помнит. Другое дело – как вытащить из глубин сознания нужную информацию? Это вам не записная книжка, не компьютер. Так и то, книжки и компьютеры тоже не безупречны. Если забьете в поисковик запрос, он вам сразу выдаст нужную информацию? Нет, выдать-то выдаст, только все равно искомое придется поискать среди прочих ссылок.
И с записными книжками тоже не всегда гладко. Вот, предположим, листаешь и натыкаешься на Шмалько Александру Валентиновну, почему-то записанную на букву «Н», вместо «Ш». Думаешь: а с чего бы вдруг? Вроде я стараюсь записи вносить аккуратно, а тут на тебе. Пытаешься доискаться до причины. Может, эта Александра Валентиновна нотариус, налоговый инспектор, потому и попала на «Н»? Память поднапряжешь – вспомнится, что она стоматолог. И какая связь? А потом тебя осенит, что когда записывал ее данные, то очень спешил и книжку открыл не там, где положено, а где та открылась.
Вот и с человеческой памятью так. Что-то открылось, а потом вдруг такое вылезло, что и вспоминать не захочешь. Вспомнилось, как та же Аллочка губки кривила, когда я ее в кино приглашал. Намекала: дескать, в ресторан бы неплохо, а потом можно и куда-то еще. Но на ресторан у меня денег не было, а намеков я тоже не понял. М-да…
Значит, Серега, обиженный мною охотник. Нет, все равно не припомню. Стоп. А если плясать от печки? Из-за ружья он меня порезал… Обиженный, блин. Чем можно обидеть охотника? А тем, что ружье это у него отобрать. А вот это-то я как раз и мог сделать. Ну да, вполне себе мог. Скажем, получил человек срок, а то и административку, или он подозреваемый по уголовному делу, и тогда по закону огнестрельное оружие у него следует изымать. А кто изымает? Правильно, участковый инспектор.
Так, уже теплее. Но пока еще не горячо, потому что ружей изъятых… Не скажу, что их тысячи, даже не сотни, но какое-то количество наберется. И какое ружье и когда изымал, я не вспомню. И добро бы, коли изымал только на своем участке, но в дежурные сутки приходилось выезжать и по адресам. Значит, где искать сведения об изъятом ружье? А только в одном месте. И место это – разрешительная система, или по-простому, между своими, «разрешиловка».
Некоторые граждане в запальчивости считают, что в разрешительной системе работают боги. У богов тихие голоса, склонность к занудству и вежливые манеры, но одно упоминание о них заставляет дрожать поджилки многих строгих начальников различных организаций, а чувствительных барышень из множительных центров сразу отправляет в обморок. Еще бы! Охотничье оружие, СДЯВы (сильнодействующие ядовитые вещества), взрывчатка, работа множительных центров и отдельных множительных аппаратов на предприятиях – все зависело от этих людей, как и еще чертова туча непонятных простому милиционеру функций и полномочий.
Для кого-то они были даже страшнее Главлита, ведавшего вопросами цензуры. А как же иначе? Главлит далеко, а разрешители с их броненосной неуступчивостью – вот они. И ни за что не простят, если вдруг обнаружат размножение не тех бумаг, которые надобны, а какой-нибудь брошюрки с кулинарными рецептами, будь они неладны.
Вспомнилось, как читал однажды данную мне только на одну ночь под страшное честное слово – никому ни-ни! – пачку замызганных листов папиросной бумаги с почти неразличимым шрифтом (экземпляр, наверное, десятый) воспоминаний Светланы Аллилуевой. При передаче материалов в воздухе витало страшное слово «самиздат» и пахло нарушением закона. А как же иначе, если в стране не только множительные аппараты, но и каждая пишущая машинка подлежала строгому учету и правильному применению?
Я шел в разрешиловку, и из ее многочисленных функций меня интересовала только одна – оружие, а именно – охотничье гладкоствольное. Попасть хотелось к Васе Парманову, инспектору чуть старше меня возрастом, с которым, как я надеялся, разговаривать будет попроще, чем с его матерым коллегой.
Вася был никакой не Вася, а очень даже Гайбулла Икрамович, что ярко подтверждалось его смуглой узбекской внешностью. Васей, по слухам, его стали звать с легкой руки командира комсомольского оперативного отряда Василия Жуковского, идейного борца с преступностью и житейского философа одновременно. Это ему принадлежала фраза «Эх, Вася!», которой он публично корил себя за что-нибудь неправильное. Во время какого-то совместного милицейско-комсомольского рейда, в котором участником оказался и Парманов, Жуковский произнес свою сакраментальную фразу, а она возьми да и прилипни каким-то чудом к инспектору. Парманов, к его чести, не обиделся и легко откликался в дальнейшем на свое новое русское имя.
Я помнил, что мы неплохо ладили, пока Вася служил в Череповце. Никуда он не перешел, так и работал в своей разрешиловке, несмотря на маленькие потолки по должности и званию. А когда страна затрещала по швам, он уехал на родину, то ли в хлебный Ташкент, то ли в солнечный Навои. Доходили слухи, а может, придумки, что он получил очень высокую должность и процветает напропалую. Кто знает? Будь я на его месте, тоже бы сочинил что-нибудь подобное при любом развитии событий. Но такое счастье выпадало немногим. Не ко всем уехавшим в те времена их исторические родины были одинаково щедры и благосклонны. Некоторым пришлось возвращаться, и отношение к ним было уже несколько другое. Вернувшийся – это совсем не одно и то же, что не уезжавший. Вот так.
Надо признаться, я шел к Васе с целью его обмануть. Немножко. Совсем чуть-чуть. И при этом помыслы мои были чисты. На мою удачу, он оказался на месте и без посетителей. И я взял быка за рога. Легенда была следующая: начальство требует с меня акт передачи в разрешительную ружья, которое я ранее изъял у одного гражданина. А я, разгильдяй и редиска, эту бумагу куда-то заховал и не могу найти. И мне надо сделать копию, чтобы от меня отвяли. Убей не помню, к месту ли я употребил давно привычный мне термин «редиска» – в каком там году вышли «Джентльмены»? – но вроде прокатило. Значит, в строчку.
Ну и что крамольного в моей истории? А то, что никакое начальство ничего с меня не требовало. И я вообще не помню, изымал ли какое-либо оружие в обозримом прошлом. Если окажется, что я ничего не сдавал сюда вообще, то объясняться с Гайбуллой будет стремно. Тогда зачем весь этот цирк? Да затем только, чтобы мне самому узнать, был ли такой факт в прошлом и (это главное) кто этот нарушитель.
Если звезды сойдутся как надо, я получу уверенность в том, что сумасшедшая идея, посетившая меня после встречи с Митрофановым, есть не болезненная химера, а вполне добротная версия, могущая привести к нужному результату. Это там, в моем то ли будущем, то ли прошлом махать крыльями и кулаками было уже поздно. А теперь, раз уж такая оказия случилась, почему бы и не раскрутить ситуацию? И мне вдруг подумалось, что ходить неотомщенным более сорока лет – это избыточная милость к моему обидчику.
Моя легенда Васю не удивила. А что, может, к нему с такими вопросами не один я хожу? Он вытащил из металлического ящика, огромного как шифоньер, толстый журнал, но в руки мне его не дал – вот они, зануды! – а стал смотреть сам.
– Тебе который? – спросил он через некоторое время блуждания по страницам.
Ого! У меня, оказывается, не одно ружьишко сюда сдано было.
– А давай оба на всякий случай, – рискнул ответить я, надеясь, что их там не окажется три.
И ничего плохого не произошло. Вася заложил двумя линейками нужные страницы в журнале и передал его мне. Оказалось, что первый случай был вообще не про то: вдова сдавала ружье на реализацию в связи со смертью владельца. Это на порядок увеличивало мои шансы на нужный результат во втором случае. К нему я и перешел.
Бурмагин Сергей Александрович, 1946 г. р.
Проживает ул. Ленина, д. 132, кв. 28.
02.05.1976 г. административный арест 15 суток. Указ ПВС РСФСР от 26 июля 1966 года.
Дальше шли неинтересные мне на этом этапе сведения о ружье. Дата изъятия – двадцатое мая. Я прикинул – получился самый разгар весенней охоты. Да, болезненное дело для заядлого охотника. А участок-то не мой. Значит, скорее всего, в майские праздники товарищ совершил мелкое хулиганство и схлопотал пятнадцать суток. А дальше по накатанной: в картотеке нашли, что он владелец оружия, и начальство по каким-то своим резонам поручило провести экспроприацию стороннему участковому. Что ж, обычное дело. Кстати, мужик-то хоть и не с моего участка, но почти сосед мой. Живет на улице Ленина, а это от моего общежития минут десять-двадцать неспешной ходьбы.
Я старательно заполнил ненужный мне теперь акт, подписал сам и дал Васе расписаться. Тот поставил витиеватую закорючку – не по-узбекски ли? – и аккуратно написал сверху листа: «Копия». Ну не зануда ли?
Душевно поблагодарив разрешителя, я удалился.
Бинго! Пока все идет так, как надо.
Глава девятая
Участковый под прикрытием
Значит, что мне известно про моего потенциального душегуба? Фамилия и адрес. Пятнадцать суток дают нечасто, а если дали, стало быть, заработал. И про ружье, которое я изымал, тоже знаю.
Теперь – а что я не знаю? А я не знаю, что это за человек. Теоретически мог он свои сутки заработать случайно, а сам по себе – милейший человек. Я ведь могу и ошибаться. Не факт, что человек решил отомстить участковому за изъятие ружья. Получается, надо его проверить по месту жительства.
Общеизвестно, что лучшим другом участкового инспектора являются бабушки у подъездов. Понимаю, что полученная от них информация не может стать доказательством ни для прокуратуры, ни для суда, но нам этого и не нужно. От нас, как правило, требуют предоставлять характеристики некоторых граждан, а кто этих граждан лучше всего может знать? Правильно, бабушки, которые целый день сидят у подъездов, чешут языками и от пристального взора которых не укроется ничего. Ни очередной хахаль Нюськи-парикмахерши, ни фингал, поставленный своей супруге тишайшим Федором Михайловичем (не Достоевским, а инженером с ЖБИК), ни пьяный дебош старшеклассников. А также и то, что жилец исправно здоровается с бабками, выносит мусор и ни разу не был замечен в нетрезвом виде. Или замечен, но так, по мелочи.
Кто-то мне скажет, что маньяки по месту жительства характеризуются положительно. Не спорю. Но сколько их, маньяков-то, существует? Я за свою практику встречал лишь двух.
Череповецкие бабульки отличаются разнородностью социального состава и происхождения. Здесь имеются и коренные черепанки, помнившие если не городского голову, то установление Советской власти, есть бывшие «вербованные», переехавшие в город после войны и принявшие участие в грандиозной стройке. Есть и те, кого дважды переселяли из собственных жилищ: первый раз, когда заливали Рыбинское водохранилище, а во второй, когда из-за строительства новых микрорайонов деревянные дома шли под снос. Имелись и бывшие деревенские бабульки, которых дети перевезли в Череповец, чтобы получить квартиру побольше.
Что характерно, при разном уровне образования и достатка старушки уживались друг с другом. И, что очень важно для участкового, каждая из них отмечала какую-то деталь, оставшуюся незамеченной для товарок.
Самое лучшее – проводить оперативно-розыскные мероприятия «по гражданке», под прикрытием какой-нибудь сугубо мирной профессии: слесаря-сантехника, сотрудника СЭС, инспектора по охране окружающей среды, а еще лучше – журналиста. Увы, такое не всегда удавалось, потому что форменная одежда для участкового обязательна, а бегать туда-сюда переодеваться бывает просто некогда. Да и стремно так шифроваться на своем-то участке, где тебя каждая собака знать должна.
Но сейчас, будучи на больничном, я мог себе позволить прийти на улицу Ленина в гражданской одежде. Участок-то все равно не мой, не узнают. Есть, разумеется, вероятность, что кто-то из особо глазастых бабулек признает во мне милиционера, приходившего изымать ружье у гражданина, но это маловероятно. Одно дело – человек в форме, совсем иное – гражданское лицо.
Решив, что нынче я побуду фотокором, одолжил у соседа Валентина фотоаппарат. Вспомнил даже, что когда-то давным-давно я у него его одалживал. Даже марку вспомнил – «Смена 8-М». Правда, тот предупредил, что разрешает отснять не больше трех кадров, а если больше, то придется компенсировать всю пленку. Ну, мне и трех кадров за глаза и за уши.
Искомый дом, второй подъезд. Около подъезда, как водится, лавочка, на которой сидят три бабушки. На первом этаже список всех жильцов, проживающих в подъезде. Никакой тебе защиты персональных данных. Но список мне не нужен, потому что я и так знаю, что гражданин Бурмагин проживает здесь.
Бабульки, приметив чужака, насторожились.
– Добрый день, – улыбнулся я бабулькам, демонстрируя свои зубы. Заметим, еще нелеченные!
– Добрый… Добрый… – прошелестела скамейка.
– А я с «Ударной стройки», – сообщил я. – Внештатный фотокорреспондент. Вот хожу, фотографирую наши дома, подъезды.
«Внештатный фотокорреспондент» – понятие растяжимое. Это может быть кто угодно. Но зато вызывает доверие.
– Можешь и нас сфотографировать, – предложила бабулька в белом платке в горошек.
Я еще разок улыбнулся, еще шире, и щелкнул кнопкой футляра, демонстрируя желание запечатлеть всю троицу, но две оставшиеся бабушки заахали:
– Куда нас снимать-то? Не готовы мы…
Ну да, ну да. Даже пенсионерки предпочитают, чтобы их фотографировали при всем параде. У одной-то платок был нарядный, а у второй и третьей – повседневные.
Я только пожал плечами и присел рядышком. Первый контакт налажен. Приступаем к следующему этапу.
– Конкурс в городе намечается – фотография самого лучшего дома и самого дружного подъезда. Хожу вот, дружный подъезд ищу. У вас как?
Эх, какую хрень я несу. Самый дружный подъезд. Это как?
– А что у нас? У нас как у всех, – запереглядывались старушки.
– Никто не пьет? Не скандалит? Я что-то про жильца из двадцать восьмой квартиры слышал…
– Из двадцать восьмой? Это ты про Серегу Бурмагина, что ли? – хмыкнула бабуля в белом платке.
– Не уверен, – пожал я плечами. – Я только про квартиру слышал, а уж кто там живет, не знаю.
В разговор вступили и другие бабушки. Но я теперь не фиксировал, кто и что сказал, а только слушал.
– Так в двадцать восьмой Серега-то и живет. Раньше-то с ним его жена жила, Полинка, да двое деток, а теперь он один.
– Да где один-то? Кажий вечер к нему собутыльники шастают. Надо бы участковому сказать.
– Так чего про Серегу-то говорить? Раньше-то мужик как мужик был, пил, как все, по праздникам да по выходным, жену свою пальцем не трогал. А как по весне запил да жена ушла, совсем с катушек сошел. Все лето пьет, вроде уже и с работы уволили, а ведь хороший работник был.
– Ага, жена детей забрала, а сама в Шексну уехала, к отцу с матерью. Серега уже два раза туда ездил, а Полька обратно ни в какую возвращаться не хочет. А у Польки отец в колонии работает, обещал, что если еще раз зятя увидит, так прямо сам его в колонию и отправит.
– А Серега-то от батьки своего покойного ружье имел. Как весна, он на заводе отпуск брал за свой счет да на охоту ездил. Как запил, так дебоширить начал. Стекла все в подъезде расколотил, соседу дверь высадил. Участковый наш его два раза предупреждал, а в третий на пятнадцать суток посадил. А потом ружье отобрали, так он совсем озверел.
Здешний участковый, сколько помню, Петр Николаевич Курганов. Человек неплохой, даже добрый. Если уж он не выдержал, отправил на сутки, то заслужил Бурмагин. Только вот если Курганов отправил хулигана на сутки, то почему он решил мстить именно мне?
И, словно подслушав мои мысли, бабулька в белом платке сказала:
– Серега-то, как у него ружье изъяли (вон на тебя похожий милиционер приезжал), так и сказал: мол, я эту суку лягавую удавлю. Мечтал до осени дожить, в лес сходить. Авось пить бы бросил, так и Полина бы вернулась.
Значит, я ружье изъял как раз в разгар весенней охоты, лишив Бурмагина сиюминутного счастья. Отчего тот и слетел с катушек. Значит, я еще и виноват, что он пить не бросил? Ну и ну.
Постаравшись запомнить лица бабулек (вдруг пригодится), повздыхал и засобирался обратно. Как говорится, все ясно. Угрозы, которые слышали бабушки, к делу не пришьешь, да и не факт, что они потом свои слова повторят «под протокол», но главное я уже понял. Гражданин Бурмагин решил мне отомстить именно за изъятие ружья. И проделал все очень грамотно. Но вот что интересно: кто у него был в напарниках? Ведь должен иметься и второй. Тот, что меня отвлек.
Окрыленный своим открытием, я пошел обратно в родную общагу. Однако так просто дойти до нее не получилось, потому что на повороте меня остановила молодая женщина. Полненькая, в ситцевом платье. В двадцать первом веке эту ткань отыскать сложно, а в семьдесят шестом материал считался дешевым. У нас почти все девушки и женщины ходили в ситчике, хотя и считали, что кримплен – это круче. Для невесты пределом мечтаний было идти под венец в кримпленовом платье.
А это у нас кто? Судя по тому, что целеустремленно идет мне навстречу, кто-то из знакомых. Но кто именно? Точно не дама моего сердца: такая имелась одна, так и та недавно меня покинула. Возможно, что с моего участка. Да, точно. Показалось даже, что лицо знакомое. Но как зовут, что случилось – не помню. Надеюсь, не какое-то срочное дело? Так я все равно нынче на больничном.
Женщина в ситцевом платье остановилась напротив меня, загораживая дорогу.
– Алексей Николаевич, как тебе не стыдно!
– Во-первых, здравствуйте, – дипломатично отозвался я. – А во-вторых, за что мне должно быть стыдно?
Но про себя я уже догадался, что это чья-то обиженная жена, приходившая ко мне с жалобой на мужа. У меня таких дел вагон с прицепом. Но помнить каждое такое дело, да еще и случившееся сорок с лишним лет назад, нереально. Немного покоробило слух, что обращается на «ты», но для того времени это нормально. Уже хорошо, что называет по имени и отчеству, а не кричит: «Эй, участковый!»
– А за то должно быть стыдно, что из-за тебя мы квартиру потерять можем, – скривила губы женщина. Вытащив откуда-то из рукава платочек, приложила к глазам. А глазенки-то сухие. Не иначе слезу пытается выдавить?
А вот теперь я уже знал, в чем тут дело, хотя женщину по-прежнему не вспомнил. Но это, скажем так, тоже банальность.
– Вы ко мне с заявлением на мужа приходили? – риторически поинтересовался я, а потом сам же и ответил: – Приходили. Просили, чтобы я принял меры? Просили. Ваше заявление я зарегистрировал. Объяснительную я у вашего мужа взял, соседей опросил. И что же теперь? Что я, по-вашему, должен был сделать?
– А должны были его к себе вызвать да постращать хорошенько! – назидательно сказала женщина. – И так настращать, чтобы впредь ему неповадно было пить да на меня руку поднимать. Вы наш участковый, стало быть, он вас послушаться должен. Зачем вы бумажки на товарищеский суд отправили?
Ну вот, опять двадцать пять. Муж жену поколотил, а я должен к нему применять воспитательные меры да еще и не выносить сор из избы? Понимаю, женщина сгоряча накатала на мужа заяву, остыла, простила, а теперь осознала, что с очереди на квартиру могут снять. Товарищеские суды у нас существуют по месту работы, а у них, как нередко бывает, вердикт суров – объявить порицание и наказать, сняв с очереди на улучшение жилья. А если не снять, то сдвинуть пунктов на десять, а это иной раз дополнительный год-два (а может, и десять) в семейной общаге или бараке. Меры суровые, но не я их придумал. Вот коли отменят такой закон, так и я его соблюдать не стану, а пока – извините.
Семейные разборки вообще самые противные дела, и вызов на семейный скандал воспринимался как тяжкое наказание. Иной раз проще разнимать пьяных мужиков, нежели утихомирить разбушевавшихся супругов. А сколько раз так бывало, когда битая-перебитая жена при виде милиционеров, прибывших ее спасать, начинала бросаться на защиту мужа? И ладно если просто начинала орать и оттаскивать свое «сокровище», а то ведь могла ухватить что-то острое, вроде кухонного ножа, и пырнуть сотрудника правоохранительных органов в спину. Бывали, знаете ли, прецеденты.
В девяностые годы участковым инспекторам было категорически запрещено отправляться на «семейные» в одиночку, а еще требовали, чтобы они обязательно надевали на себя бронежилет. Но для этого требовалось получить печальный опыт. Из всех моих знакомых, что получили ранения при исполнении служебных обязанностей, только трое пострадали от рук преступников, а все остальные – от пьяных мужей либо их жен. Но где в семидесятые-шестидесятые годы бронежилеты, спецсредства, вроде дубинки?
– Нет уж, вам надо было с самого начала определиться, – строго сказал я. – Либо заявление на супруга не писать, либо если писать, то понимать, к чему это приведет. Ваш муж – человек взрослый, а я не воспитатель из детского сада. Если мне заявление поступило, я должен меры принять, а не сопли ему утирать.
А еще начальство меня не поймет, начни я стращать дебоширов (я представил себе «козу», какой пугают младенцев) вместо принятия реальных мер по зарегистрированному у секретаря заявлению.
Хотя чего уж греха таить, бывало по-всякому. Бывало, что и я заявления отправлял «майору Корзинкину», нигде их не регистрируя. Опыт старших товарищей, да и свой, пусть и небольшой, так сказать, «сын ошибок трудных», подсказывал. Если тебе в руки заявление принесли, скажем, на опорник, так не беги сломя голову в отделение его регистрировать. А то штемпель поставишь, а потом не знаешь, как это заявление списать. Уж и оппоненты помирились давно, а в бумаге такого понаписано, что обе стороны подлежат расстрелу, не меньше. Вот и маешься, время без толку тратишь. А так конфликт разрешил по факту, и хорошо. А «майору Корзинкину» не просто бумажку страшную, а лучше пепел от нее, чтобы ни слуху ни духу. Тут, правда, нечего будет учесть в графе «разрешено заявлений», но ты уж выбирай, что важнее.
Однако я отвлекся.
– Если нас с очереди снимут, то я, товарищ участковый, сама к тебе жить перееду и детей привезу, – пообещала женщина.
Она что, считает, что у меня отдельная квартира? Впрочем, сколько раз я уже слышал нечто подобное. И покойников обещали привезти, и хулиганистых ребятишек – а это вообще не моя епархия, а инспекторов детской комнаты (тогда еще именно так назывались). А один ревнивый супруг, обиженный тем, что советская милиция предлагает ему оформить развод, вместо того чтобы проводить беседу с его гулящей женой и призывать женщину к порядку, собирался притащить ко мне на дом и свою жену, и ее любовника.
Вот тут главное не спорить.
– Хорошо, – кивнул я. – Приезжайте, перевозите, авось на моих двенадцати метрах вы все разместитесь. Туалет, правда, и все прочее в конце коридора, но ничего, по очереди станете ходить. – Посмотрев в печальные, но еще сухие глаза женщины, посоветовал: – Когда супруга на товарищеский суд позовут, вы тоже являйтесь. Скажите, дескать, я сама во всем виновата, это я напилась, мужа била, а когда соседи пришли, то стыдно стало, поэтому пошла к участковому.
– Да кто же поверит-то, что баба мужика бьет? – всплеснула руками женщина. – А если и поверят, так моему Андрею позор до старости лет. Где это видано, чтобы мужик позволял бабе себя бить?
Так уж и на старости, подумал я. И здесь кокетничает. Небось муж-то не в два раза старше, а ровесник.
– Ну, тут уж вы сами решайте, что лучше: квартира или позор? – хмыкнул я. – Андрей на суде пусть скажет: мол, а что было делать, если жена в кои-то веки пьяной напилась? Мол, не драться же с пьяной бабой? Решил, что пусть лучше я виноват останусь, чем жена. После такого признания не позор, а уважение супруг заработает.
Женщина слегка задумалась. Пока она думала, я умудрился вспомнить и ее, и ее мужа. Мужа Андрей зовут, фамилия Соколов. Работает, как и большинство, на ЧМЗ. Супруга – Ирина. Но где она трудится, не вспомнил. Двое ребятишек у них. Правда, про наш разговор я не помнил напрочь, равно как и про то, что она меня караулила и стыдила. А если после этого случая нас жизнь не сводила, то прожила она с мужем нормальную жизнь.
– А если товарищеский суд на меня потом бумагу отправит? – нерешительно поинтересовалась Ирина Соколова.
– А вы-то, прошу прощения, где работаете?
– Я на «Красном ткаче».
– Так пусть на ваш товарищеский суд отправят, что тут такого? – пожал я плечами. – Посмеются, да и все. У вас вроде бы квартиры не дают?
– Точно, – кивнула женщина. А в глазах ее по-прежнему плескалось недоверие: уж не прикалывается ли над ней участковый, предлагая такое?
Внезапно она поднялась на носочки, видимо, что-то решив для себя, звонко чмокнула меня в щеку и убежала.
Хорошо, коли так. А ведь могла и плюнуть.
Глава десятая
Наука и жизнь
На улице жарко. Неподалеку обнаружилась желтая бочка с квасом, вокруг которой змеилась разноцветная очередь. Некоторые были с бидончиками и трехлитровыми банками в сетчатых авоськах. Какая прелесть эти авоськи! Пудовая выносливость, минимум занимаемого пространства в пустом виде и никакого посягательства на экологию.
Мне отчаянно захотелось сделать глоток холодненького кваса из запотевшей кружки, а заодно проверить, так ли хорош вкус напитка, о котором последние годы, наряду с другими милыми сердцу атрибутами СССР, все настойчивей ностальгировали наши граждане. Я нащупал в кармане какую-то мелочь, выбрал три копейки и направился к бочке. Стоять всю очередь, конечно, не хотелось, но и лезть напролом не хотелось тоже.
Выручил сердобольный старичок примерно в середине хвоста.
– А, служивый! – участливо произнес он. – Запарился? – И, не дожидаясь ответа, крикнул толстой продавщице в местами белом халате: – Катя, нацеди власти кружечку! А то вон участковому жарко.
Вроде и неудобно, что во мне признали участкового, я же в гражданке. А вот я старичка не узнал. Возможно, в той своей жизни вспомнил бы сразу, а тут надо делать усилие. Но все равно не мог вспомнить. Для приличия поотнекивался, но недолго. Видя, что никто и не возражает, подал тетке свои три копейки и получил маленькую мокрую кружку.
Квас оказался в меру сладким, в меру терпким, в меру холодным. Сразу захотелось окрошечки. Я решительно пресек кулинарные фантазии: кто знает, чего мне захочется дальше. Надо лучше подумать о деле.
В том, что именно гражданин Бурмагин ударил меня ножом, я теперь уверен на девяносто процентов. Нет, даже на девяносто пять. Пять процентов я оставляю на непредсказуемость ситуации, на погрешность, а на сто процентов буду уверен, если сам бывший охотник, превратившийся в бытового пьяницу, подтвердит мне сей факт. Стало быть, нужно решать: не то мне Бурмагина посадить (а дадут мужику лет пять, может, и семь), не то простить, спустив дело на тормозах.
Если бы я был Лешей Воронцовым из моего семьдесят шестого года, который спустя три недели узнал имя своего «обидчика», то исход был бы ясен. Я бы уже бежал в уголовный розыск, звал с собой Джексона или кого-нибудь из знакомых парней (любой побежит, коли раскрытие преступления светит) и брал гражданина Бурмагина. Даже начальству бы не стали докладывать, что собираемся брать подозреваемого: тут все решают минуты.
А вот теперь, будучи умудренным жизненным опытом, отчего-то решил не торопить события. Чего я хочу? Отомстить? Так уже времени-то сколько прошло. Накал страстей угас, мне уже не хочется никому мстить. А сам Бурмагин уже давным-давно лежит в могиле. Нет, в могиле лежит тот Бурмагин, из моего времени. А этот живехонек, радуется, что отомстил, и не ведает, что ему осталось жить всего ничего.
Я бы сейчас с большим удовольствием узнал: а что там с тем Воронцовым, который пенсионер? Где он теперь пребывает? Лежит в больнице или – тьфу-тьфу – его уже похоронили на каком-то городском кладбище? Их у нас не то пять, не то шесть штук. На Центральном-то кладбище мне могила не полагается, так и не надо. А как с теми отморозками, что избивали «Гошу» и засадили пожилому человеку нож?
Нет, торопиться не буду. Обдумаю.
Возвращаясь в общежитие и получив ключ, услышал от вахтерши:
– Алексей, а ты почему свою почту не забираешь? И газеты уже в ячейку не помещаются.
А ведь и верно. Снова забыл, что почта не электронная, а самая настоящая, «живая», а письма и пресса к нам приходят на вахту, и вахтер раскладывает все это дело по специальным ячейкам.
Сделав неопределенный жест рукой, вроде вкручивания лампочки, вздохнул:
– Так, тетя Катя, у меня все как-то так…
Вахтерша вздохнула с пониманием:
– Ага, у меня золовке аппендицит вырезали под общим наркозом, так она теперь как дурочка стала.
Я постарался изобразить сочувствие неизвестной золовке, а тетя Катя махнула рукой:
– Она у нас и раньше-то не шибко умная была, а теперь и вовсе.
Взял из своей ячейки газеты «Коммунист», скопившиеся за неделю, письмо. Даже не глядя на адрес, узнал по почерку – от мамы. Снова что-то меня укололо, вроде не случившегося воспоминания.
А еще имелась открыточка, почему-то заполненная моим собственным почерком. Зачем самому себе открытки слать? Хм… Так это же открытка, которую я оставил в магазине «Политкнига». Чудеса иногда бывают. Чисто случайно зашел в магазин, а там один товарищ отказывается от подписки на «Библиотеку современной фантастики» издательства «Молодая гвардия». Вот, успел перехватить.
Стало быть, нужно выкупить том 27. Я даже помню, что томик называется «И грянул гром», по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Елки-палки, а ведь в тему мне этот сборник, а уж тем более рассказ! Там же как раз и рассказывается о путешествии во времени, в котором главный герой раздавил бабочку. Я сам недавно вспоминал эту пресловутую бабочку. Сколько я их теперь передавлю? Нет, считать не стану, а бабочки сами виноваты. Нечего под ноги лезть.
– Леша, вот здесь еще. В ячейку уже не вмещалось, я к себе в стол положила. И журналы свои сразу забирай, а иначе знаешь, что бывает…
– Спасибо, тетя Катя, – поблагодарил я женщину, забирая у нее пачку газет и журнал.
Да, знаю я, что если не заберешь свои журналы сразу же, то им могут приделать ноги. Правда, на журнал «Наука и жизнь», что я выписывал, охотников мало. Это вам не «Крокодил» и не «Юность». Но для меня там имелись интересные статьи, особенно по истории. И фантастику в нем печатали время от времени. Я бы еще «Вокруг света» выписал, но на сто двадцать рублей в месяц слишком не разгуляешься. Скажу еще, что долгие годы выписывал «Советскую милицию», но это уже потом, когда в начальники выбился. Была бы возможность, выписал бы журнал «Искатель» – приложение к «Вокруг света». До сих пор уверен, что это лучшее периодическое издание приключений и фантастики.
Отнес свою стопку наверх, открыл комнату. Газеты сложил на подоконник, где уже скопилась приличная кипа; полистаю потом, вдруг что-то интересное отыщу. А вот письмо и журнал оставил, чтобы прочитать прямо сейчас.
Матушка пишет и от себя, и от отца. Батя, как и я сам, не любит писать письма. Что там в родной деревне?
Да все то же самое. Живы-здоровы, чего и мне желают. Вот, про здоровье – это хорошо. Про работу ничего не пишет. А что там о ней писать? Пишет еще, что соседка Надька вышла-таки замуж, хотя она уже и перестарок – целых двадцать пять лет. Ух ты, какой перестарок. В мое время, в будущем, двадцать пять – это еще юная девушка.
А соседку я помню. Да, замуж вышла поздно, но у нее еще один фактор, кроме возраста, – ребенок, которого «принесла в подоле» не то от армянина, не то от грузина. Был в наших краях стройотряд, состоящий из студентов республик Закавказья. Парни горячие, до русских девок охочие. Но я помню, что замуж она вышла за моего одноклассника, что младше ее на четыре года. Сашка вроде бы? Точно, Сашка Легчанов. Он на Надежде женился, а «нагуленного» сына усыновил. И стал мальчишка, похожий обликом на грузина, русским парнем. А уж как там дальше сложилась их жизнь, не помню.
Еще матушка пишет, что картошка нынче хорошо уродилась, лука тоже много. Дескать, приедешь, забирай с собой в город, сколько хошь. Я бы, конечно, и забрал, но и тащить тяжело, да и хранить-то где стану? Ведро картошки утащу, лука пару килограммов, штуки три свеклы, а больше мне и не надо.
Нет, надо к родителям съездить, помочь по хозяйству. И ответное письмо написать. Значит, нужно сходить на почту, купить конвертов.
Решив, что журнал можно почитать под свежий чай, пошел хозяйствовать. Чайник у меня имелся свой. А еще – кипятильник. Понятное дело, воду в общежитии лучше кипятить в своей комнате, а иначе с утра ваш кипящий агрегат окажется у тех, кто опаздывает на работу. Чайник, разумеется, потом вернут, но сам ты рискуешь остаться без чая. Ладно, что у меня скользящий график работы, и мне не нужно толочься на кухне с утра. Утро у нас тоже начинается рано, а заканчивается поздно. Ну, это в зависимости от того, у кого и когда начинается смена. Общежитие-то рабочее.
После выхода из больницы я питался либо в столовой, либо в нашем буфете. В моем холостяцком хозяйстве обнаружился чай (в смысле заварка), сахарный песок в стеклянной полулитровой банке и бумажный пакет с сухарями.
В той своей жизни я перестал пить чай с сахаром лет так… десять назад, поэтому и здесь принялся употреблять его несладким. Я уже мысленно посмеялся: опять экономия. Бросил курить, значит, не нужно тратить из своего бюджета рублей… А сколько нынче «Столичные» стоят? Кажется, сорок копеек. Тридцать пачек в месяц (а иной раз и больше) – экономия двенадцать рублей. Это минимум, а реально и все пятнадцать. А если пить чай без сахара, так еще рубля три-четыре. Ишь, какой я хозяйственный и экономный.
Двадцать рублей – так это штаны можно купить. Нет, хорошие на них не купишь, приличные стоят рублей тридцать, если не больше. Но мои «стратегические запасы» заканчивались, и надо бы пройтись по магазинам, прикупить че-нить. А в магазины, памятуя голодное перестроечное время, идти было страшновато. Завтра же и схожу. Как только с Бурмагиным дело улажу, так и схожу. И письмо родителям напишу.
Чайник вскипел, можно заварить. Подождем, пока как следует заварится, потом можно и пить. А пока просто полистать страницы, прикидывая, что стоит читать, а что нет.
Итак, журнал «Наука и жизнь» номер семь за тысяча девятьсот семьдесят шестой год. Попробую угадать: помню я его содержание или нет? Нет, по номеру я содержимое не угадаю, я не Чагин. Я про тот материал, что внутри. На обложке фотография Леонида Ильича Брежнева и анонс, что на третьей странице напечатана речь товарища Брежнева на встрече с работниками автозавода ЗиЛ. Ясно, речь Леонида Ильича пропускаем.
Что-то там пишут про аэроклиматические комплексы. Это тоже не для меня. А вот В. Есаулов «Пещерные города Крыма». А вот это может быть интересным. Крым я люблю, но о пещерных городах ничего не помню, только о монастырях, выдолбленных в скалах, читал.
Борис Патон, президент Академии наук УССР пишет о том, что следует повышать эффективность науки. Вот тут я согласен, даже не читая статью. А зачем читать, если и так все понятно? Надо повышать эффективность науки, чтобы она вошла в каждый дом. Патон вроде бы изобрел какой-то метод сварки?
А вот здесь еще интереснее. В. Елисеев рассказывает, отчего вымерли динозавры. Обязательно почитаю. Знаю, что до сих пор нет на это ответа, но, может, как раз в этом журнале он и найдется?
Статья Н. Эйдельмана «Не ему судить!». В отличие от прочих авторов, чье имя-отчество я не знал, про этого помню, что зовут его Натан Яковлевич. В моей библиотеке есть его книги: «Мой восемнадцатый век», «Апостол Сергей», «Обреченный отряд». Раньше читал и перечитывал с удовольствием. Похоже, что эту статью я тоже уже читал. Речь в ней идет о том, что император Александр I знал о готовившемся восстании декабристов. Но можно и перечитать, освежить в памяти.
Идем дальше. Пишут в «Науке и жизни» не только про науку, но и про жизнь. Про автоматическую поливку огородов, о простейшем способе получения соков. В общем, много о чем здесь пишут. Что-то и стоит прочитать, а что-то и нет. Наблюдения за птицами и шахматные задачи – вот это точно не мое. Фокусы, о которых рассказывает Арутюн Акопян, тоже не слишком интересно.
Вот раздел «Маленькие хитрости» рекомендует для наждачной бумаги брать небольшой деревянный брусок и закреплять «шкурку» канцелярскими кнопками. Фи, да это я и так знаю. Но откуда я этот лайфхак узнал? Так, скорее всего, из этого же журнала и узнал. Еще, помнится, рекомендовали при чистке рыбы воспользоваться небольшой дощечкой и жестяными пробками от пива. Вкрутил пробки в доску, чтобы зубчатый край шел вверх – вот тебе и терка. Чистить рыбу стало гораздо удобнее, потому что чешуя теперь попадает внутрь, а не летит по всей кухне.
Так, а сухарики-то закончились? Что ж, придется все-таки прогуляться до продовольственного магазина. И не завтра, а прямо сейчас. Какой смысл откладывать? Это на Металлургов, по прямой – метров двести.
В магазине слегка непривычно. Витрины, полки, заставленные банками и бутылками, продавцы в не очень-то свежих белых халатах. Но и в моем времени не везде есть самообслуживание, так что переживу. Очередь не чрезмерная, человек на пять. Пока она движется, поизучаю ассортимент.
Выбор отличается от выбора моего времени, количество товаров здесь так себе, но я человек непривередливый, а изобилие только мешает. Иной раз думаешь: а что брать-то? А здесь все у нас просто и ясно: покупаешь то, что есть, и не надо ломать голову. Но холодильника у меня все равно нет, придется брать всего, но понемногу. Цены я помню смутно, но ценники в витринах есть. Ага, деньги тоже взял. Наличкой-то уже и отвык пользоваться, но как отвык, так и привыкну.
А что я хотел купить? Так, масло здесь трех сортов. Масло шоколадное, масло соленое и масло, которое просто масло. Ага, пойдет. Возьму грамм двести масла масляного, мне пока хватит. Колбаса за два двадцать (с жирком) и за два девяносто (без жирка). Тоже двести. Но без жирка. Ливерная есть, так эта вообще шестьдесят копеек. Может, купить ливерной колбаски, добавить в нее специй, а потом соорудить фарш? И с макарончиками за милую душу уйдет.
Нет, колбасы за два девяносто грамм четыреста, испортиться не успеет. Сыр по два рубля семьдесят копеек за килограмм. А что за сыр-то? Беру полкило, больше мне и не надо. Что-то еще хотел? А, точно, собирался взять батончик. Пачку заварки «со слоном» и полкилограмма конфет. Ох, девушка, простите, конфет не нужно, лучше килограмм печенья, которое по восемьдесят копеек.
Забыл о том, что в магазинах нельзя купить пластиковый пакет, – мой прокол. Наверняка где-то у меня в комнате лежит авоська. Не в служебной же планшетке я покупки таскал? Или у меня имеется какая-нибудь матерчатая сумка? Несолидно милиционерам с авоськами ходить. А пока придется все это дело прижать к груди, взять в охапку, словно дрова, да так и идти. И сдача еще. Рубль бумажкой и спичечный коробок. А, мелочи у девушки нет.
Как и донести? Несколько бабушек, стоящих за мной, сразу же заметили мою проблему и принялись выяснять причины.
– Парень, а чего тебя жена без сумки-то в магазин послала?
– Да девки-то вертихвостки нынче. Замуж-то рады-радехоньки выйти, а потом мужика в магазин пошлют, вместо того чтобы самой сбегать. А мужья-то нынче бестолковые. Что с них взять-то?
– Да не женатый он, вишь, у парня кольца-то на пальце нет?!
– Давай, парень, я тебе хоть все в газетку завяжу.
Бабульки общими усилиями скрутили фунтик из газеты «Коммунист», сложили туда мои покупки, обернули еще одной газетой и напутствовали в дорогу:
– Смотри, не растеряй.
– Дорогу осторожно переходи, по сторонам смотри.
Фунтик я дотащил, не растеряв ничего из покупок. От заботы сердобольных бабулек на душе стало легче. А может, и ничего страшного, что попал? Надо жить дальше.
Значит, придется налаживать свой быт. Прикупить какие-нибудь штаны, потому что те, которые были парадными, после стирки сели и покрылись пятнами. Можно бы сделать так, как делают мои коллеги, – выпороть из форменных брюк красный кант, превратив их в гражданские штаны. Но для этого требуется определенное умение, а лучше – наличие жены. Увы, у меня нет ни того ни другого. Стало быть, придется обзаводиться. Вначале женой, а потом и навыками. Ну, или наоборот.
Пожалуй, все-таки проще купить новые штаны.
Глава одиннадцатая
Разговор на кухне
В чем пойти на встречу с гражданином Бурмагиным? В форме или в гражданке? Пожалуй, надену-ка я форму. В форме милиционер выглядит куда солиднее.
В последние годы китель я надевал нечасто. Даже на мероприятия в профессиональный праздник приходил либо в костюме, либо в джемпере. Вот пару раз пришлось выходить в школу, где имеется «полицейский» класс, на встречу детишек с ветераном.
Китель по летнему времени можно не надевать. Поискал в шкафу рубашку с короткими рукавами, но не нашел. А куда я ее девал? Или их у нас еще не ввели? Похоже на то. Придется с длинными, что означает необходимость нацеплять галстук. И фуражка. Тяжеленная, словно рыцарский шлем. Отвык, да и жарко. Одно утешение, что жара у нас ненадолго. Вон в августе температура спадет, а там начнутся дожди, потом осень, и придется мерзнуть.
Но скоро вечер, будет прохладнее. И опять схватился за карман, чтобы взять телефон и посмотреть – сколько «за бортом» градусов? Ага, разбежался. Вроде бы на первом этаже, напротив вахты, за окном висит градусник?
Посмотрел на себя в зеркало. Вчера брился, а новая щетина еще не наросла. Непривычно помолодевшее лицо. А так вроде и неплохо смотрюсь. И форменная одежда мне идет, об этом все говорят. Плохо, что рубашка и брюки стали великоваты. Не висят, как на вешалке, но все равно ощущаю некоторый дискомфорт.
Идти беседовать с гражданином Бурмагиным в одиночку не стоит. Кто знает, что он способен выкинуть? Но разговор вести лучше тет-а-тет. Значит, нужен сопровождающий, который составит компанию. В разговоре он участвовать не будет, постоит на площадке, покурит, но, если что, придет на помощь.
Кого позвать? Джексона? Можно, но я не знаю его графика. Лучше кого-то из своих, из участковых. Так чего тут думать? Позову Саню Барыкина, выручит.
Вспомнилось вдруг: раньше никто не связывал фамилию Сани с именем известного певца Барыкина. Но осенью семьдесят шестого появится пластинка (ну да, правильно говорить – диск) «По волне моей памяти», ставшая невероятно популярной у всех, включая сотрудников милиции. И одним из исполнителей будет именно Александр Барыкин. Поэтому над Саней иной раз подсмеивались: дескать, не ты ли поешь? Тот никогда не спорил, поэтому и подначивать было неинтересно.
Хорошо, что Саня жил в соседнем общежитии, в двух шагах от меня. Правда, его график я не знал, рассчитывая на удачу. Но, к счастью, приятель оказался дома. Он как раз отсыпался после суточного дежурства, но к моему приходу уже встал.
– Сань, ты мне компанию не составишь? Мне бы по одному адресочку сходить, – спросил я.
– А что случилось? – зевнул тот. – Так ты вроде бы на больничном должен сидеть? Чего в форме-то?
– Так сам знаешь, какие у нас больничные. Завтра все равно на работу выхожу. А сегодня надо с одним товарищем профилактическую беседу провести. Пьет сильно.
Саню ситуация не сильно и удивила. Такое тоже бывало, что участковых просили просто поговорить с гражданином, «без протокола».
– Внушение сделаем?
– Не-а, я с ним сам хочу поговорить. А ты на площадке постоишь, для страховки.
– На стреме постоять? – хохотнул Санька. – А если тебя бить будут, то спасать?
– Да вроде того, – пожал я плечами. – Тут и идти недалеко, на Ленина.
– Так ладно, схожу, – зевнул Саня еще шире. – Все равно вечером делать нечего. Вот только чаю вначале попью. Чай будешь? Сушка еще есть.
Чаю я вроде и не хотел, но зайти в гости да не попить чаю, если тебе предлагают, неприлично.
Пока пили чай, я опять удивил своего приятеля.
– Слушай, а ты чего без сахара пьешь? – нахмурился Барыкин. – Я ж помню, что ты по пять ложек в стакан клал. Сам же всегда говорил: чай должен быть как поцелуй красавицы, – Санька изобразил зверский грузинский акцент, – крепким, сладким и горячим.
Я и сам помню, что всю жизнь был отъявленным сладкоежкой. Правда, чтобы пять ложечек сахара на стакан чая, такого не было, а вот три точно. Не понимал: как это можно несладкий чай пить? А я со сладким чаем еще и конфетку мог употребить, и пирожное. А вот уже лет пять, как пил чай без сахара, и казалось нормально.
– Так после больницы не только на курево, но и на сахар словно отшибло.
– Да? – с изумлением хмыкнул Саня, потом сам же себе и ответил: – Ну да, печень – она такая, штука капризная. Тока если окажется, что ты еще и водку не пьешь, я с тобой больше никуда не пойду…
Водку мы с ним пили нечасто, но, что там греха таить, бывало. Если вдвоем, то брали «маленькую», а если поллитру, то это уже на троих. Третьим иной раз бывал дядя Петя, который никогда не закусывал, но никогда не пьянел.
– Про водку говорить не стану, но пока тоже воздержусь, – сообщил я, прислушиваясь к сигналам организма.
Вроде бы на слово водка изнутри реакции не последовало. Может, немножко можно? А то так и ладно, обойдусь. И отмазка для товарищей теперь есть.
Бабушек на лавочке у подъезда на этот раз не было, потому что по вечернему времени их сменили подростки, возившиеся со старым велосипедом. Завидев двух подходивших милиционеров, они сразу притихли.
Я глянул на пацанов, на всякий случай вложив во взгляд толику строгости, но промолчал, а вот Саня спросил:
– Угнали у кого?
– А че?! Наш это велик! – возмутился один из ребят. – Кого хошь спрашивайте – не угоняли.
Приятель пришел к нему на помощь:
– Миха его из старых великов собрал, со свалки.
Я бы поверил. Рама погнута, проржавела, на колесах не хватает половины спиц, а руль – словно его кто-то жевал. Кожа на седле протерта, пружины торчат. Вот этот у парней точно никто не угонит. Зато если наш легендарный «гаишный» старшина Катяшичев увидит парней на таком велике, пиши пропало.
Спросить, что ли: на месте ли Бурмагин? Но эта шантрапа, в отличие от бабушек, могла и не знать. Или не сказать. Тем более не скажут, трезвый нынче охотник или пьяный. Если он пьяный, то разговора не получится. Хуже бывает только в одном случае: если мужик с похмелья. Поэтому я не пошел с утра и не стал затягивать визит до позднего вечера. Шестнадцать часов – самое то. Даже если Бурмагин и пьет, он еще адекватен.