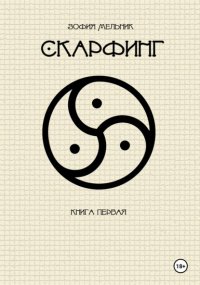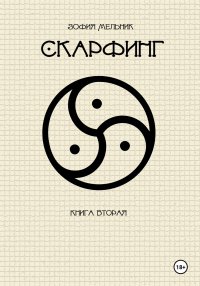Читать онлайн Гувернантка. Книга первая бесплатно
- Все книги автора: Зофия Мельник
Когда я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, я стал испытывать не страх, а скорее желание быть наказанным снова.
Жан-Жак Руссо
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Добрейшая тетушка Гликерия Павловна ежемесячно выплачивала Арсению некую сумму наличных на карманные расходы. Сумма эта была невелика, но и развлечений в Березине было немного и обходились они куда дешевле, чем в столице. Пожалуй, о Березине стоит все же сказать два слова. Во-первых, это вовсе не город, а городок, немногим больше села, и, во-вторых, возле Березина полвека назад построили железную дорогу, ту самую, Николаевскую, которая соединила Санкт-Петербург и Москву. А стало быть, в городке был вокзал и привокзальная площадь. В одноэтажном, сложенном из тесаного песчаника, здании вокзала кроме всего прочего располагалась закусочная, открытая до поздней ночи. В эту закусочную можно было зайти, как с площади, так и прямо с перрона, толкнув тугие тяжелые двери со стеклами. Что до привокзальной, мощеной булыжником, площади то она была не пойми какой формы и шла под уклон, и с одного её краю вечно стояла большая лужа, и в этой луже в дождливые годы непременно водились лягушки. Окружали площадь стоящие фасад к фасаду дома все в два этажа – каменные, сложенные из кирпича, а то и вовсе с почерневшими бревенчатыми стенами. Возле железнодорожных путей в самом углу привокзальной площади, словно прячась от добропорядочных граждан за будкой сапожника и старой вековечной липой, стояла, одна неприметная постройка. На первом этаже была не то лавка, не то какая-то артель, но сколько Арсений помнил, там всегда было заперто. А весь второй этаж занимал дом терпимости.
Арсений привычно обходит с торца это неказистое здание, взбегает по деревянной лестнице с навесом, останавливается возле двери без вывески и дважды дергает за шнурок. Слышно, как за дверью звякает колокольчик. Арсений нетерпеливо постукивает ногой на дощатому настилу и глядит на площадь. Возле вокзала стоит полдюжины колясок – извозчики дожидаются вечернего поезда. От дверей закусочной, держась, рукой за стену, бредет пьянехонький мужик в одетом набекрень картузе. Лежащая на панели черная собака, старательно вылизывает хромую лапу. Остывшее красноватое солнце уже касается городских крыш, и на булыжной мостовой лежат прозрачные тени.
Наконец, за дверью слышаться легкие быстрые шаги. Стучит задвижка, дверь отворяется и в сумрачном коридоре Арсений видит Любочку Кшесинскую в полупрозрачном кисейном платьице.
– Здравствуйте, Арсений Захарович, – говорит барышня и поправляет рукой завитые темные волосы.
– Здравствуй, Любаша, – говорит Арсений и шагает через порог и тут же недовольно кривит лицо, потому что слышит мужские голоса, долетающие из залы.
Стоит сказать, что Арсений никогда не посещал дом терпимости на выходных, он бывать здесь исключительно по будним дням в ранние вечерние часы, чтобы по возможности не сталкиваться с другими посетителями.
– Кто это у вас? – спрашивает молодой человек Любашу, раздумывая, не уйти ли ему.
– Так рано еще, никого нет, – говорит Любаша, запирая дверь. – А это грузчики. Они уже уходят.
– Что еще за грузчики? – ворчит Арсений и проходит по коридору мимо чучела медведя, стоящего на задних ногах.
Подле чучела на стене висит овальнее зеркало в потемневшей деревянной раме. В зеркале Арсений видит мельком свое конопатое гладко выбритое лицо, рыжие, оттенка бронзы волосы, которые не помешало бы постричь короче. Сколько их не причесывай, вихры не желают лежать и торчат в разные стороны. На Арсении сюртук, жилетка и белая сорочка в полоску. Сюртук заметно поношен и такой покрой в столице уже вышел из моды, но в уездном Березине Арсений Захарович выглядит франтом.
В окна залы бьет вечернее солнце, и сквозь прозрачную кисею платья Арсений видит черные чулочки Любочки и кокетливые панталоны с лентами и рюшами. Барышня чувствует его взгляд и зябко поводит плечами, и косит на Арсения шальным глазом.
В единственном доме терпимости в городе Березине было три жрицы любви – мадам Брюс – сама хозяйка борделя, Авдотья Истомина и Любаша. И как ни скудно было тетушкино вспоможение, Арсений Балашов воспользовался услугами каждой из куртизанок.
Сперва, как и многие мужчины этого уездного городка, он едва не влюбился в мадам. Прасковье Брюс было хорошо за тридцать, но она сумела сохранить точеную стройную фигурку и была гибкая, словно девочка. У мадам были завораживающие серые глаза, нос с горбинкой и большой рот с тонкими красиво очерченными губами. Арсению казалось, что Прасковья Брюс оказалась в Березине проездом, словно сошла ненароком с поезда, который следовал не то в Париж, не то в Стамбул. Обычно мадам встречала гостей в полупрозрачном кружевном пеньюаре. Она курила папироски через длинный костяной мундштук и недурно играла на пианино, а то, что инструмент, стоящий в зале, был порядком расстроен, придавало очарование этим модным в прежние времена пьескам Дюрана, Лакомба и Дебюсси.
Поначалу Прасковья совершенно вскружила голову Арсению Балашову, но через месяц-другой его любовный пыл пошел на убыль. Отчасти это случилось по самой пошлой причине – любовные услуги мадам Брюс стоили недешево, а молодой человек был весьма стеснен в средствах.
И тогда Арсений стал коротать вечера с Любочкой Кшесинской.
Что до Любочки, то она была самой юной из куртизанок. Барышня была худенькая, невысокого роста, но с большой красивой грудью. Особую прелесть ее лицу придавали немного косящие, будто у ведьмы, глаза. И в этих глазах вечно плясали какие-то веселые бесовские огоньки. Совсем не сразу Арсений разобрал, что Любаша была девкой с придурью. Как-то раз она вздумала упрямиться и отказала Арсению в пустячном удовольствии. Арсений пригрозил пожаловаться мадам. Любаша тотчас встала на колени подле кровати и стала упрашивать, этого не делать. Барышня призналась Арсению, что у нее дурной характер, и ее надобно учить, и лучше всего будет дать ей дюжину пощечин. Щеки у Любаши разрумянились от смущения, и говорила торопливо и не очень связано, а ее глаза косили больше обычного. Арсений не стал упрямиться и отвесил барышне пару звонких оплеух. На глазах у Любаши выступили слезы, она принялась благодарить Арсения и целовать ему руки, а после с необычайным рвением исполнила все его нехитрые пожелания.
Но эти игры показались Арсению слишком уж мудреными. А он искал в доме терпимости простых радостей плоти. И стоит сказать, ему пришлась по вкусу третья здешняя куртизанка – Авдотья Истомина. Это была молодая крепко сбитая женщина с полными ногами и широким массивным задом. Ее крестьянское округлое лицо было не лишено миловидности. По какой-то причине Авдотья терпеть Арсения не могла, он чем-то ужасно раздражал эту женщину. Но работа, есть работа, и куртизанка, деланно улыбаясь, вставала по-собачьи, как велел Арсений, и в эти минуты её лицо становилось угрюмым, а глаза тоскливыми и злыми. Пожалуй, эта с трудом скрывая неприязнь и покорность, а еще – большая белая задница Авдотьи, похожая на подушку более всего распаляли похоть Арсения Балашова. И потом, за свои труды Авдотья Истомина брала куда меньше чем мадам Брюс.
Пройдя в залу, Арсений и правда видит грузчиков в синих поддевках, фартуках и сапогах. Прасковья дает каждому по монете, те благодарят хозяйку и уходят, оставив после себя запах махорки и чеснока. Внимание Арсения привлекает непонятного назначения предмет интерьера, который эти самые грузчики внесли и установили возле стены промежду окон. Больше всего эта штука похожа на раскладную стремянку немногим выше человеческого роста. С одной стороны «стремянка» обшита мягким и плотным сукном. Примерно посредине в суконном полотнище прорезано большое прямоугольное окно, а на самом верху «стремянки» – овальное отверстие поменьше. На массивных деревянных стойках закреплены кожаные ремешки с пряжками.
– Рада вас видеть, Арсений Захарович, – говорит мадам Брюс и улыбается молодому человеку, будто старому знакомому.
Стены залы оклеены синими обоями с золотыми полосами, и эти полосы горят в закатных лучах, падающих из окон. Вдоль стен стоит пара диванчиков, с протершейся обивкой, рядом – круглый столик, в одном углу – пианино, в другом буфет, где на полках поблескивают бокалы для шампанского и рюмки.
– Здравствуйте, мадам, – отвечает Арсений. – Позвольте полюбопытствовать, а что это такое?
И он подходит ближе к «стремянке».
Стоя у окна в полосе медного солнечного света Авдотья Истомина хмуро глядит на Арсения и тянет из стакана густой хлебный квас. Её русые волосы заплетены в толстую короткую косу. Тяжелая пышная грудь рвется наружу из белого корсета с кружевами. Черные чулки плотно обтягивают крепкие ноги. Арсений представляет, как Авдотья Истомина опускается на колени, наклоняется вперед и опирается локтями об атласное, винного цвета покрывало, которым обычно застелена кровать в ее комнатке. Авдотья носит старомодного кроя просторные панталоны, их штанины не сшиты между собой от паха и до самого пояса. Это удобно, не нужно развязывать тесемку, расстегивать пуговицы и каждый раз стаскивать панталоны, достаточно развести в стороны два куска тонкой льняной ткани, прикрывающих массивную задницу Авдотьи, и жадному взору Арсения предстают эти белые и мягкие, как сдобные булки ягодицы. Молодой человек чувствует, как тяжелеет его член, и начинает сладко ныть внизу живота…
– Это чрезвычайно удобное приспособление изобрела одна англичанка в начале прошлого века. Звали эту предприимчивую даму Тереза Беркли, – рассказывает мадам Брюс. – Вот с тех пор все так и называют этот станок – «лошадка Беркли».
Прасковья останавливается рядом с Арсением. От мадам волнительно пахнет горькими духами и табаком. В её длинном костяном мундштуке тлеет папироска, и дымок серой лентой плывет к распахнутому по случаю летней жары окну. Пшеничного цвета волосы Прасковьи Брюс коротко острижены, как говорят «а-ля гарсон», что очень идет мадам и делает ее решительно не похожей ни на одну женщину в Березине.
– Но, право, я удивлена, что вы не видали «лошадку» прежде. У нас в захолустье это диковинка, но в столице такие станки можно найти в каждом борделе.
Молодой человек только пожимает плечами. Покуда его не выгнали из университета, Арсений захаживал в столичные бордели, но такую «лошадку» отчего-то нигде не приметил. Разглядывая деревянную раму, обитую с одной стороны плотным сукном, молодой человек по-прежнему пребывает в недоумении.
– А ты, Любаша, вот что, – говорит мадам Брюс, оглядываясь на сидящую, на диване барышню. – Будь добра, сходи, нарежь прутьев. И не забудь поставить их в воду.
– Да, мадам, – кротко отвечает Люба Кшесинская и отчего-то краснеет.
Она достает из буфета ножичек и, опустив очи долу, быстро выходит за дверь.
– Я гляжу, Арсений Захарович, вы не знаете, что и думать?
Мадам Брюс затягивается табаком через длинный мундштук, и поглядывает на молодого человека с лукавой улыбкой.
– Признаться, ума не приложу, – разводит руками Арсений. – Вы нарочно меня интригуете?
– Интригую, а как же иначе… Я скажу вам, Арсений Захарович, эта «лошадка» была весьма доходным изобретением. Она буквально озолотила мисс Беркли. У нее был бордель на Шарлот-стрит для клиентов с весьма специфическим вкусом. Их еще называют флагелланты. Вы, верно, слыхали?
– Нет, не припомню.
Мадам Брюс пожимает плечами и подходит к «лошадке» с той стороны, которая обитая мягкой тканью.
– Вот, взгляните, высоту и угол наклона можно регулировать. Встаньте сюда. Ну же, не бойтесь.
Чувствуя некоторое смущение, Арсений подходит к «лошадке» и встает между стоек.
– А теперь наклонитесь вперед, – говорит мадам и слегка подталкивает Арсения в спину.
Молодой человек хватается руками за стойки и прижимается всем телом к плотно натянутому сукну. Через сукно Арсений чувствует, как упирается ляжками и грудью о перекладины «стремянки». Его лицо оказывается вровень с овальной прорезью.
– Смотрите, как это удобно, – говорит мадам Брюс. – Ноги и руки пристегивают к «лошадке» ремнями. Еще один ремень затягивают на пояснице… Для порки будет довольно и одной барышни. Но чтобы получить все возможное удовольствие от «лошадки», понадобятся услуги еще одной куртизанки.
– Мадам, я по-прежнему блуждаю в потемках, – признается Арсений. – Я не могу взять в толк, для чего могут понадобиться две куртизанки?
– Ну как же… Представьте, Арсений Захарович, вас в одном исподнем или и вовсе голого пристегивают к «лошадке», – сладким голосом говорит мадам Брюс. – Одна барышня хлещет вас прутьями по заднице, как нашкодившего мальчишку. А другая с помощью вот этого окошка стимулирует ваше возбуждение. Причем, она может делать это, как руками, так и ртом.
Закончив объяснение, мадам Брюс, хорошенько шлепает Арсения ладонью по ягодицам. Раздается звонкий и сочный шлепок.
Арсений от неожиданности вздрагивает, а потом смеется и оглядывается.
– Простите, Арсений Захарович, не смогла удержаться, – признается Прасковья Брюс. – Так что же, не желаете ли попробовать сами. Любаша уже вернулась с розгами.
Арсений и сам видит, что Люба Кшесинская стоит посреди залы и держит в руках дюжину длинных и довольно толстых березовых прутьев, отчищенных от листвы.
– Так вы говорите, кто-то платит за то, чтобы его высекли? – спрашивает Арсений Балашов. – По мне, так это довольно странно.
– Не знаю, как в нашем захолустье, а вот в Англии охотников до розог великое множество, – отвечает мадам. – Если вы не слыхали, порку розгами называют английским удовольствием.
– Пакостники и срамники вот, кто они такие эти англичане, – ворчит Авдотья Истомина.
Потеряв интерес к «лошадке», Арсений проходит по зале. Молодой человек никак не может решить, с кем из трех куртизанок предаться любовным утехам. Он примечает лежащую на диване книгу. На обложке отпечатано заглавие – «Письма из турецкого гарема», вместо имени автора стоит – Аnonymous.
– Коли есть охота, возьмите почитать, – мадам Брюс зевает и прикрывает ладошкой рот. – На мой взгляд, довольно утомительное чтение. Авдотьи книжка надоела, а Любаша и вовсе ничего не читает.
Арсений замечает, что уголки страничек загнуты там и сям, из-за чего книга имеет неопрятный вид. Так делают люди грамотные, но скверно воспитанные, и Арсений уверен, что это именно Авдотья Истомина загибала уголки страничек.
Он открывает книгу где-то вначале, расправляет уголок и пробегает страницу глазами…
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПИСЬМА ИЗ ТУРЕЦКОГО ГАРЕМА
В тот роковой вечер турецкий принц лишил меня девственности. Сейчас ты узнаешь, как все было на самом деле. Меня провели по сумрачному лабиринту гарема в роскошную комнату, где на ложе под парчовым балдахином с золотыми кистями возлежал принц Карабюлют. На вид принцу было лет сорок, он был довольно тучный и высокий, с ровно подстриженной щегольской бородкой. Его смуглое лицо сперва показалось мне грозным и даже красивым на восточный манер. Но присмотревшись, я заметила, что губы принца были слишком яркими и полными, будто у женщины, а темные глаза маслянисто блестели и были медлительны, как у рыбы.
Капитан немедленно распростерся ниц, а после, поднявшись, почтительно заговорил с принцем то и дело, указывая на меня. Принц выслушал капитана весьма благосклонно. Откинувшись на подушки, он какое-то время откровенно и молча меня разглядывал. Этот пристальный бесцеремонный взгляд его темных маслянистых глаз, словно срывал с меня одежду. Смутившись, я в свою очередь принялась разглядывать ковер под ногами. Принц сказал что-то капитану, голос у него был низкий, рокочущий и густой, будто патока. Оба мужчины рассмеялись, а потом капитан, поклонился и вышел прочь. Карабюлют поднялся, потрепал меня по подбородку и на хорошем английском сказал, что сегодня воистину счастливый день, ибо в его гареме появилась такая прекрасная рабыня.
С этими словами принц отвел меня к дивану и без дальнейших церемоний обнял за талию и, несмотря на все мое сопротивление, заставил сесть к себе на колени. Обвив одной рукой мою шею, он притянул мои губы к своим. Турок стал дерзко меня целовать и просунул свой язык в мой рот, и это вызвало ощущение, которое совершенно невозможно описать. Это была первая подобная вольность в моей жизни.
Вы, наверное, догадываетесь, какое возмущение и ужас подобное обхождение вызвало у меня поначалу, но я должна признаться, что мое негодование длилось недолго. Мое женское естество откликнулось на его поцелуи и помогало его похотливым действиям, которые находили отклик в сокровенных уголках моего сердца. Мои крики и мольбы превратились в тихие вздохи, и, несмотря душившую меня ярость, я не могла сопротивляться.
Заметив, что я растеряна, принц Карабюлют внезапно запустил руку мне под нижние юбки. Взбешенная этой грубостью, я попыталась вырваться из его объятий, но турок крепко меня держал. Принц продолжал целовать меня, приводя в величайшее смятение, и по мере того, как оно росло, я чувствовала, как моя ярость и силы убывают. У меня стала кружиться голова. Я почувствовала, как рука принца быстро раздвинула мои бедра, и один из его пальцев проник в то место, которого, видит бог, никогда прежде не касалась ни одна мужская рука. Если чего-то и не хватало, чтобы довести меня до полного замешательства, так это волнующего ощущения, которое я испытывала от прикосновений его пальца. Каким ужасным моментом это было для моей добродетели! Как я страшилась потерять свою невинность, как я молила принца отступить в те минуты! Но горячие и влажные губы турка снова впились в мои губы, а его палец по-прежнему находился там, где ему не коим образом нельзя было быть! И каждый следующий поцелуй становился все приятнее, пока, наконец, я не стала сама ему отвечать с тем неуместным пылом, который заставляет меня краснеть и сейчас, когда я пишу эти строки.
Набравшись смелости, я заговорила с принцем, хотя едва могла смотреть ему в лицо. Я рассказала ему о коварстве пиратского капитана, о своей помолвке с Робертом, о большом выкупе, который заплатит за меня дядюшка, если меня освободят без дальнейших покушений на мою добродетель. Принц терпеливо выслушал меня. Ободренная его вниманием, я продолжила свои мольбы, подкрепленные слезами, но внезапно Карабюлют привлек меня к своей груди и поцелуями осушил мои слезы, ответив такими решительными словами,
– Ты молишь напрасно, твоя судьба предрешена. Я не расстанусь с тобой за все сокровища мира. Не тешь себя, милая, тщетными надеждами на выкуп. Восхитительный аромат твоего девственного цветка предназначен для моего наслаждения. Через несколько дней я вернусь, и тогда, прекрасная гурия, ты должна без колебаний и стеснения подчиниться моим неистовым желаниям. Как ты могла хоть на мгновение вообразить, что я настолько глуп, чтобы отдать такую красавицу, как ты, в объятия другого и позволить сорвать твою девичью розу. Нет, милая, это нежное наслаждение, несомненно, предназначено мне.
У меня совсем упало сердце от такого решительного отказа! Между тем принц прервал свои настойчивые и бесцеремонные ласки и повел меня в апартаменты, которые мне предстояло занять…
В моей спальне было три больших окна. Приглядевшись, я обнаружил, что окна выходят на море. Гарем принца Карабюлюта стоял на высокой скале, и морские волны бились о позеленевшие камни так далеко внизу, что мне сделалось дурно. Отсюда не было никакой возможности сбежать!
Заметив, что я побледнела, принц взял меня за руку и подвел к кровати со множеством бархатных, вышитым золотом подушек. На стенах подле кровати висела пара зеркал, и еще оно зеркало было закреплено на потолке. Принц заключил меня в объятия, он почувствовал, что я вся дрожу, как в лихорадке и сказал,
– Когда я скоро вернусь, я избавлю тебя от всего этого трепета и страха.
Принц поцеловал меня долгим поцелуем и ушел, а я без сил опустилась на кровать. Чувствуя себя совершенно разбитой после пережитого, я решила лечь спать. Был вечер, и из окна спальни я видела, как солнце, пройдя свой путь по небосводу, опускается в море. Я стала раздеваться, и в тот самый момент, когда я уже сняла платье и готовилась надеть ночную сорочку, я услышала, как распахнулась дверь. В то же самое мгновение я оказалась в объятиях принца Карабюлюта, который был так же обнажен, как и я. Вы не можете себе представить мой ужас и отчаяние в этот момент!
Беззащитная и обнаженная, я была брошена на кровать, мои мольбы и крики разносились по всему дворцу, но никто не пришел на помощь, чтобы предотвратить мою гибель. Что могла сделать такая слабая девушка, как я, против такого могущественного противника? Ровным счетом ничего. За время меньшее, чем требуется, чтобы об этом написать, Карабюлют раздвинул мои бедра и расположился между ними. Я и сейчас содрогаюсь при одном воспоминании о тех ужасных муках, которые испытала, когда принц превратил мое целомудрие в кровоточащие руины.
Сопротивляться натиску было бесполезно, турок был во много крат сильнее, и разложил меня на кровати, будто беспомощную куклу, как ему было удобно. Его уд, его мужское естество страшило меня. Уд принца походил на темный искривленный рог, оплетенный венами. Помогая себе рукой, Карабюлют немного пропихнул уд внутрь меня. И хотя он беспрестанно целовал меня, я испытывала только страх и стыд. Я почувствовала, как он проникает все глубже и закричала от боли. Но мои мольбы о пощаде и слезы были бесполезны. Мои крики, казалось, только подстегивали и все более распаляли его. Карабюлют яростно целовал меня и покусывал мои груди, пока полное слияние наших тел не возвестило о том, что весь его ужасный уд вошел в меня целиком. Находясь в объятиях принца, я чувствовала, как его уд двигается у меня внутри и причиняет такую острую боль, что вскоре потеряла сознание…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
– Ну, скажи, Сеня, отчего ты не пожелал учиться? Будешь теперь сидеть, как сыч в деревне! – горячится Коля Кувшинкин.
Николай невысокого роста, тщедушный и худенький, и хмельное сильно его пьянит. Утром после гулянки, несмотря свой на юный возраст, Кувшинкин непременно мучается похмельем. Но сейчас, допивая вторую кружку пива, Коля кристально ясно видит все устройство мира и знает наверняка, кто и в чем неправ и как следовало поступить.
Арсений же может выпить куда больше приятеля, а по утрам не страдает вовсе, лишь испытывает легкое недомогание. Однако тяги к хмельному он не испытывает и выпивает редко. Как правило, только по случаю. И как раз сегодня был такой случай.
– Учиться? – переспрашивает приятеля Арсений Балашов. – По мне, учиться – скука страшная. Да и потом, скажи на милость, какой прок, грызть гранит науки?
Он стоит, облокотившись локтем о столик и подперев щеку кулаком. После визита в дом терпимости, Арсений чувствует приятную легкость в чреслах, на душе у него покойно и нет ни до чего дела.
– Тебе, может, и нет смысла учиться, – соглашается Коля Кувшинкин и поправляет на переносице очки в проволочной оправе. – А мне, брат, придется добывать хлеб насущный в поте лица. Мне надобно карьеру делать. Чтобы обеспечить себя и хворую матушку мне придется крутиться, как белка в колесе. Деньги нужны до зарезу. Коли встретил бы дьявола, продал бы душу не раздумывая, только сперва поторговался, чтобы не продешевить… Нет, Сенька, ты не подумай, я не ропщу. Такая уж у меня планида.
– Я бы тебе ссудил деньжат, – говорил Арсений. – Но у самого ветер в карманах свищет. Я, брат, опять был у девок.
Подняв кружку, Арсений глядит на приятеля сквозь толстое стекло поверх пивной пены. У Николая широкое скуластое лицо, рябая кожа и тонкие усики над верхней губой. Он коротко пострижен, а по бокам его головы торчат большие розовые уши. Фуражку Николай снял и положил на стол, и Арсений думает, что эту фуражку его приятель запросто может позабыть в закусочной, а этого никак допустить нельзя. Сегодня Николай Кувшинкин одет в новенький с иголочки мундир императорского военно-воздушного флота. Серый китель с черными обшлагами и тонким красным кантом и черные отглаженные брючки. На кокарде фуражки – герб с двуглавым орлом. В когтях орел держит авиационный винт и саблю, и еще какую-то штуку, вроде бомбу с горящим запалом.
За спиной Николая – скудно освещенный масляными лампами и почти пустой зал закусочной. У окна на своем привычном месте сидит городовой в белом мундире при сабле и хлебает из тарелки холодные щи, то и дело, смахивая салфеткой капусту с усов. За окном виден пустой перрон и горящие в летних сумерках фонари.
– Я даже не стану скрывать, как тебе завидую, – признается Николай Кувшинкин. – Состояние, прямо скажем, немалое, а ты, выходит, единственный наследник.
– Так и есть, брат. Нет больше Балашовых на белом свете. Говорили, у тетушки была родная сестра, но она еще девочкой пропала в Германии. С тех пор про нее ни слуха, ни духа. Наверное, ее и в живых нет… Вот такие дела.
– А как здоровье Гликерии Павловны?
– Не шибко хорошо. Вся пожелтела лицом. Доктора говорят, с печенкой у нее худо. Вот собралась ехать на воды, в Ессентуки, – Арсений вдруг осекается и кривит лицо, будто от зубной боли. – Вот же черт, совсем из головы вылетело! Меня же тетушка нынче ждала. Попрощаться хотела… Ах ты, незадача какая! – он оглядывается на висящие над стойкой, часы. – Вот же… Уехала уже, конечно, уехала. Как же нехорошо получилось! А все чертовы девки…
Слышен звук подходящего к станции поезда. Стекла в окнах закусочной начинают дребезжать, потом на перрон из густой летней темноты выползает уже сбавивший ход паровоз и тащит за собой клубящийся шлейф пара. И следом выкатываются вагоны со шторками на окнах, озаренных уютным рыжеватым светом масляных ламп. С лязгом и скрипом пассажирский поезд, наконец, останавливается. И тут же распахиваются двери вагонов, и проводники в форменных кителях и фуражках выходят на перрон.
– Ничего теперь не поделаешь, напишу тетушке покаянное письмо, – размышляет вслух Арсений. – А еще лучше отобью телеграмму… Тетушка добрейшей души человек, дай ей бог здоровья! Она души во мне не чает, всю жизнь меня баловала… Да, так и сделаю. Завтра же сочиню письмо… И все таки, как паскудно на душе! Ладно, что теперь-то. Давай-ка, брат, выпьем за твою головокружительную карьеру на военном поприще.
Приятели со стуком сдвигают кружки и пьют до дна.
– Хорошо, – говорит Арсений.
Он опускает пустую кружку на столешницу и вытирает ладонью пивную пену с губ.
– Сам понимаешь, где находится наша часть, я рассказать не могу, – говорит Коля Кувшинкин, вытряхивая из пачки папиросу. – Скажу только, что неподалеку. Так что, на побывку смогу приезжать домой.
– Это славно, – говорит Арсений и зевает в кулак. – Стало быть, служить будешь под Миропольем.
Коля, зажав в зубах картонную гильзу папиросы, с тревогой глядит на приятеля.
– Ты откуда знаешь? – спрашивает он вполголоса.
– О чем ты?
– Сеня, откуда ты знаешь про авиационную часть?
– Так про нее все знают. В уезде только одна авиационная часть, под Миропольем.
– А с чего ты решил, что я там буду служить?
– Вот те на, – удивляется Арсений Балашов. – Так ты же сам сказал, что ваша часть неподалеку.
– Верно… Верно… – соглашается Николай и чиркает спичкой и раскуривает папироску. – Прости, Сеня… Меня предупредили, чтобы я держал ухо в остро. Говорят, будет война с Германией. Говорят, в России пруд пруди немецких шпионов… Ты же знаешь, я не летчик. Я в инженерном полку. У нас там конструкторское бюро. Мы такой самолет построим, что Берлин можно будет разбомбить…
– Смотри сам лишнего не сболтни, – советует приятелю Арсений.
– Твоя правда.
Николай затягивается еще раз и бросает папироску в кружку с опивками.
– Не умею я пить. Голова кругом идет… Домой мне надо идти.
Час уже поздний, в закусочной немноголюдно и поэтому Арсений сразу обращает внимания на молоденькую барышню со шляпной коробкой, идущую через зал. Следом за барышней понурый, похожий на медведя носильщик нёсет пару чемоданов. Выбрав столик, барышня расплачивается с носильщиком и садится. И словно по волшебству, возле ее столика тотчас появляется половой. Барышня говорит ему что-то, и половой, смахнув полотенцем крошки со стола, быстро уходит.
На барышне простое темное платье из зеленого сукна, кожаные сапожки и шляпка. Приглядевшись, Арсений замечает, что её дорожное платье помято, обувь не чищена, кожа на мысах поцарапана, а волосы растрепаны. Арсений встречал таких девиц в университете. Все они одевались с показной небрежностью, не завивали волосы и не пользовались пудрой, словно говоря всем своим видом, что заняты серьезным делом и на женское кокетство и прочие глупости у них попросту нет времени. Арсений толком не понимал, кто они такие – нигилистки, революционерки или феминистки. Экономическая теория Карла Маркса и страдания русского народа под пятой самодержавия, воспетые в поэме Некрасова, Арсения Захаровича не занимали вовсе, и он полагал, что эти девицы просто бесятся с жиру. Что же до барышни, которая сошла с поезда и дожидалась кого-то в закусочной, то её лицо отчего-то показалось Арсению знакомым. Он словно видел эту барышню прежде, может статься, несколько лет назад, но не мог припомнить при каких обстоятельствах.
– Быть того не может, – говорит Коля Кувшинкин и толкает Арсения локтем. – Ты погляди, это же Лиза!
– Что за Лиза?
– А ты разве не узнаешь её? Лиза Колесова. У них поместье неподалеку от вашего. Григорий Ипатович лошадей разводит, говорят, жеребцы у него знатные…
Арсений разглядывает миловидное чуть тронутое загаром лицо Лизы Колесовой, ее полные губки и маленький вздернутый носик. Прядки светлых волос выбиваются из-под шляпки. Под дорожным платьем угадывается высокая грудь.
Половой возвращается и приносит барышне стакан чая в подстаканнике.
– Григория Ипатовича знаю, – соглашается Коля. – А кем он ей приходится?
– То ли дядя, то ли кузен, право, не знаю, – Коля снимает очки, протирает их платком и снова пристраивает на нос. – Лиза как-то приезжала к Григорию Ипатовичу погостить, и я совершенно в нее влюбился. Так что же, ты её не вспомнил?
И Арсений как будто вспоминает то жаркое с частыми грозами лето, которое кажется ему теперь таким далеким и смешливую худенькую девочку с соломенными волосами.
Тем временем, Николай Кувшинкин оправляет мундир, надевает фуражку и идет через зал к столику Лизы. Остановившись в двух шагах, он щелкает каблуками и отдает по-военному честь, и есть в этом что-то настолько пошлое, гусарское, что у Арсения сводит скулы. Коля улыбается и говорит что-то Лизе. Барышня слушает его, склонив голову на бок, потом неожиданно смеется и протягивает ручку для поцелуя. И Арсений понимает, что Лиза узнала-таки Николая Кувшинкина.
– А вам, Коля, определенно идет военная форма, – говорит Лиза, когда Арсений Балашов вслед за приятелем подходит к столику барышни. – И сидит на вас отменно… Так что же, вы – авиатор, летчик?
Николай краснеет, словно девица.
– Никак нет. Я инженер… Конструктор, если угодно.
– Здравствуйте, Лиза, – говорит Арсений.
Лиза удивленно глядит на молодого человека, хмурится и поправляет рукой выбившуюся светлую прядь. Арсений замечает, какие у нее чудесные карие глаза и длинные ресницы.
– Мы с вами знакомы, – говорит Арсений, потому что молчать далее попросту неприлично. – Мы виделись несколько лет назад. Меня зовут Арсений Балашов, и признаться, я тоже едва вас узнал.
– Здравствуйте, Сеня, – говорит Лизавета и протягивает ручку для поцелуя. – А вы возмужали, и совсем не похожи на того мальчишку… Да, что вы стоите, господа, садитесь, садитесь.
Арсений и Коля Кувшинкин усаживаются за столик.
– Как все удачно сложилось, – Николай не может отвести от барышни глаз. – Мы с Сеней отмечали мое назначение, пили, знаете ли, пиво. Я уже собрался идти домой и вдруг – вижу вас. Ну разве, это ни чудо? Знаете, Лиза, сперва я своим глазам не поверил!
Лиза улыбается Николаю Кувшинкину и пьет маленькими глотками чай из стакана. Арсений замечает, что барышня вовсе не весела, а скорее напротив, Лиза выглядит несчастной, она вовсе не рада их обществу и ей нелегко поддерживать светскую беседу.
.– Я думал, что едва ли встречу вас снова в нашей глуши, – продолжает между тем Коля, то и дело, улыбаясь и, сверкая стеклышками очков. – Я слышал, вы учитесь на Бестужевских курсах. Позвольте спросить, вы выбрали точные науки-с или поступили на историко-филологический?
Лиза Колесова осторожно ставит стакан с чаем на столик. Какое-то время она хмуро разглядывает столешницу, а потом поднимает глаза и смотрит на Николая Кувшинкина с вызовом и обидой.
– Коля, меня отчислили с курсов. И в столице мне теперь жить нельзя.
– Что вы такое говорите, Лизонька? – растерянно спрашивает Коля. – Но почему?
Лиза Колесова сидит, выпрямившись, с гордо поднятой головой. Ее щечки порозовели от волнения.
– Потому что, Коленька, для меня судьбы обездоленных крестьян и угнетенных рабочих значат куда больше, чем собственная жизнь.
– Угости папироской, – просит приятеля Арсений.
Он редко курит, но сейчас ему становится скучно.
– Вы ходили в марксисткий кружок? – спрашивает шепотом Николай.
– Да, с этого все началось, – так же негромко отвечает барышня. – И это изменило всю мою жизнь. У меня словно пелена с глаз упала. Я увидела всю жестокость и чудовищную ложь правящего режима.
Арсений затягивается папироской и выдыхает табачный дым в потолок.
– А вы, господа, что же не читали ни Маркса, ни Спенсера? – спрашивает Лиза, и Арсений слышит, как голос барышни взволнованно дрожит.
– Признаться, я все хотел прочесть. Ознакомиться, так сказать, для общего развития, – мямлит Коля. – Но как-то руки не доходили. Знаете, я все же учился на инженера, и окончил с отличием…
– А что же, вы, сударь? – спрашивает барышня Арсения Балашова.
– Я не большой любитель читать книжки, – отвечает Арсений, поглядывая на Лизу сквозь дымок папироски. – Признаться, меня это не слишком занимает.
– Вот как, – говорит Лиза, сощурив глаза. – Тогда позвольте узнать, что вы находите интересным?
– Ну, коли вы спрашиваете, извольте. Тут неподалеку, буквально на другой стороне площади есть дом терпимости. Так вот, посещение подобных заведений, я нахожу куда более занимательным, нежели чтение.
Лиза заметно краснеет, отводит в сторону глаза и делает глоток чая.
– Проституция это есть самая отвратительная, самая гнусная форма эксплуатации женщин, – говорит Лиза гневно. – Когда революция победит, мы закроем все публичные дома в России.
– Как вам угодно, – пожимает плечами Арсений. – Но эти барышни весьма недурно зарабатывают. И, смею вас заверить, они хорошо питаются и спят до полудня.
– Лиза, расскажите, что с вами стало, – просит Николай. – Вы стали говорить про марксисткий кружок.
Барышня понемногу успокаивается.
– Ах, Коля, с какими людьми я там познакомилась! Это были самые лучшие люди, которых я встречала в жизни. Бескорыстные, умные, бесстрашные, самоотверженные. Все они были готовы бросить свои жизни в горнило классовой борьбы! Мы организовали подпольную типографию и стали печатать книги…
– Вы необычайно отважная барышня, – говорит на это Николай Кувшинкин.
– Нет, что вы, Коля, я трусиха, – вздыхает Лиза. – Желаете знать, чем закончилось эта история? Нас кто-то выдал охранке. И весь кружок арестовали. Все мои друзья отправились в ссылку, в Сибирь. А мне всего лишь запретили жить в столице. Можете, себе представить?
Коля молча качает головой.
– Это все моя матушка, – говорит со злостью Лиза Колесова. – Ее связи, знакомства, ее деньги… Вы знаете каково мне сидеть и распивать чаи на вокзале, когда мои друзья идут по этапу? Мне так гадко на душе, вы бы знали только! Так гадко…
– Я вам искренне, сочувствую, Лиза, – говорит Коля и осторожно опускает свою короткопалую темную от загара лапку на белую руку Лизаветы.
– Боже мой, какая варварская страна, – вздыхает Лиза. – Я вижу, вы благородный человек, Коленька. Так я дам вам одну книжку… Сейчас… Сию минуту… У меня осталось несколько экземпляров. Жандармы не все сожгли. Часть тиража мы хранили в тайнике…
Барышня ставит на колени шляпную коробку и, ловко сдвинув в сторону тесемки, достает из коробки тонкую брошюру и протягивает ее Николаю.
Николай оглядывается по сторонам, потом быстрым вороватым движением берет брошюру из рук Лизы и прячет в карман кителя.
– А вот и Георгий Ипатович пожаловали, – замечает Арсений.
Он сидит, откинувшись на спинку стула, и видит, как в полутемный зал закусочной заходит с улицы высокий широкоплечий мужчина с окладистой бородой, в долгополом купеческом сюртуке и картузе, сдвинутым на затылок.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Покуда они едут по большаку, кибитку сильно трясет, и Лизоньке это кажется непривычно после езды в пролетках по столичным проспектам. Её кузен Григорий Ипатович сидит подле на скамейке и, откинув голову на высокую спинку, хмуро глядит за окно в непроглядную темноту июньской ночи. Из фонаря льется тусклый невеселый свет, и Лизе приходит в голову, что бричка кузена передвигается не только по большаку, то есть в пространстве, но и во времени. И Лиза Колесова, севшая в бричку возле закусочной, совершает путешествие из века электричества и синематографа, из века, когда по ночам Невский проспект сияет иллюминацией, так что дух захватывает, когда женщины имеют право учиться в университете наравне с мужчинами, и когда праведная десница народного гнева вот-вот сбросит с престола одряхлевшее самодержавие, словом, из самого начала двадцатого века в дремотное и темное прошлое, назад к бородатым дворянам, лучинам, горящим в грязных избах и берестяным грамотам. И чем дольше трясется Лизонька в этой старенькой бричке, тем все дальше и дальше откатывается вспять податливое, похожее на загустевшую патоку, время.
Сперва Лизе делается чудно оттого, что такая странная фантазия пришла ей в голову, но после барышня понимает, что это и не фантазия вовсе. Старенькая бричка Григория Ипатовича увозит ее от столичной жизни, от электрических огней Невского в усадьбу, которая стоит в этой глуши уже пару веков, и время здесь не бежит, не несется, как угорелое, а стоит, будто зацветшая вода в пруду. А если подумать хорошенько никакого времени и нет вовсе, ведь что такое время? Время – это секундная стрелка, прыгающая по циферблату, это качающийся маятник часов, эта страничка отрывного календаря, но, скажем, если нет ни календаря, ни часов, то где же тогда время?
От этих досужих мыслей Лизе Колесовой отчего-то делается грустно. Барышня вздыхает, отворачивается от окна и искоса поглядывает на сидящего рядом кузена. Лизонька знает, что Георгий Ипатович будет постарше её лет не то на пять, не то на шесть, но из-за окладистой купеческой бороды он выглядит, куда как старше. Бороду, к слову сказать, не помешало бы подравнять, темные вьющиеся волосы – хорошенько расчесать и по-модному постричь, а двубортный сюртук почистить. На первый взгляд кузен выглядит неухожено и немного неряшливо, и про себя Лиза думает, что это все оттого, что Григорий Ипатович вдовец и живет один-одинешенек в деревне. Но стоит барышне приглядеться, и она замечает, что у кузена благородное тонкое лицо, а глаза ясные и светятся умом, вот только, невеселые. Плечи у Григория Ипатович широкие, а сам он высокий и статный. Немного смущаясь, Лиза мельком глядит на его руки и находит, что и руки у Григория Ипатовича хороши – пальцы длинные и крепкие, а ногти ровно подстрижены.
Прежде Лиза видела кузена, когда приезжала с маменькой погостить в родовое имение Колесовых. Ёй запомнилась обветшалая усадьба в один этаж, длинная, словно барак. Стены усадьбы были обшиты тесом, тес выкрашен тусклой синей краской, а наличники на окнах – белой. Еще Лиза помнит, что неподалеку от усадьбы проходил заросший кустами овраг, а на той стороне оврага на косогоре начинался мрачный еловый лес.
Тут бричку тряхнуло сильнее обыкновенного. Барышня лязгает зубами и едва не прикусывает себе язык.
– Знаю я эту канаву, – ворчит Григорий. – Тут поворот на усадьбу Балашовых. Был бы путевый хозяин, давно бы щебнем засыпал.
Лизонька всматривается в темноту за окном и как будто различает аллею и горящие вдалеке огоньки.
– Ты, Лизавета, вот что, – говорит Григорий Ипатович и оглаживает бороду рукой. – Ты с Сенькой Балашовым не водись. Непутевый он человек, пустой. Без всякого смысла живет.
– Я и не думала, – отвечает Лизавета. – Больно он мне нужен, ваш Балашов.
– А вот Николай, малый толковый. Помяни мое слово, выслужится, генералом станет. Ты не смотри, что Кувшинкины сейчас едва концы с концами сводят…
– Григорий Ипатович, вы меня часом, не замуж меня решили отдать?
– А если и замуж, так и что же? Это дело хорошее.
– А я пока замуж не собираюсь.
Григорий Ипатович молча смотрит на Лизу и под его пристальным взглядом барышне делается неловко.
– Ох, Лизавета, и начудила же ты в столице, – вздыхает Григорий. – А если бы дело кончилось ссылкой? Что тогда? Ты хоть о матушке подумала?
Лизавета недобро улыбается и показывает кузену ровные белые зубки.
– А вы о матушке не беспокойтесь. Моя матушка давеча села на пароход и отправилась в кругосветное путешествие. Обещалась вернуться в Петербург на другой год.
. – Твоя матушка женщина легкомысленная и взбалмошная. Я ее хорошо знаю и спорить не стану. Однако, это ее стараниями ты не отправилась по этапу в Сибирь… Ты, Лизавета, всегда казалось мне барышней смышленой. Как же вышло, что ты спуталась с этой публикой?
– Это достойные люди, Григорий Ипатович, – говорит Лиза с вызовом. – Может быть лучшие люди, которые только есть в России! Поймите, мы все готовы отдать свои жизни ради благого дела.
– Это какого же, позволь спросить?
– А вы думали о тысячах крестьян, у которых нет своей земли и которые идут батрачить или помирают с голову? Думали, о рабочих, которые ютятся в бараках и гнут спину на фабриках по двенадцать часов! Это по-вашему справедливо?
– Вот оно как, – качает головой Григорий Ипатович. – Я гляжу, ты все-таки вывихнула себе мозги, покуда жила в столице. Нет, худо это, когда девки учатся в университетах. Не бабье это дело!
– Вы невежественный и грубый человек! – сердится Лиза. – Лучше оставить эту тему, мы все равно друг друга не поймем, а только разругаемся.
– Я с тобой ругаться не стану, – усмехается в бороду Григорий Ипатович. – Не доросла еще… Твоя матушка сообщила в письме, что в Петербурге и в Москве жить тебе запрещено. После, когда время пройдет, можно будет подать прошение…
– А что еще вам матушка написала? – спрашивает Лиза.
– Что еще? Пишет, что с тобой, Лиза, никакого слада нету, и что она уже отчаялась и опустила руки. И просит, чтобы я выбил из тебя всю эту блажь.
– Жаль меня не отправили по этапу в Сибирь!
– Дура. Сама не знаешь, о чем говоришь… Ты теперь под моей опекой, Лизавета. Я твоей матушке пообещал, что за тобой пригляжу.
Кузен оглаживает рукой бороду и, раздумывая о чем-то, глядит на Лизоньку.
– Я не стану обходиться с тобой излишне строго, – обещает Григорий Ипатович. – Но будь добра, Лизавета, покуда живешь у меня в доме, весь свой марксизм оставь за порогом. Мы здесь люди тихие, богобоязненные. Я, коли помнишь, лошадей развожу… И чтобы никакой крамолы, никаких запрещенных книжек и прокламаций!
Лизонька хмуро глядит за окно.
– Лизавета!
– Я вам обещаю, Григорий Ипатович, – говорит Лиза скучным голосом.
Барышня хорошо помнит, как писал Сергей Нечаев – ради дела революционер может врать сколько угодно и притворяться не тем, кто он есть.
– Ну, гляди, коли обманешь. И на меня потом не серчай.
– Да, что вы мне все грозитесь?
– Ей богу, я тебя так проучу – сидеть пару дней не сможешь, – говорит Григорий Ипатович и усмехается в бороду.
Лиза краснеет до кончиков ушей,
– Вы не посмеете! Слышите! Даже пальчиком меня не посмеете тронуть! Сейчас не те времена… Я сегодня же матушке напишу!
– Ну, пиши, коли бумаги не жалко.
Лиза с досадой думает, что маменьке и верно нет смысла жаловаться. Она ужасно озлилась на Лизу после этой истории с марксистским кружком. И все же Лизавета не может поверить, что ее, восемнадцатилетнюю барышню кто-то может выпороть, будто девчонку. Нет, такое немыслимо себе представить!
Между тем, бричка сворачивает с большака и катит по проселку к усадьбе Колесовых.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В тот вечер приятели никак не могут проститься и разойтись по домам. Уже покинув закусочную, Арсений и Николай надумали купить бутылку плодового вина в известном подвальчике. И вот они пьют вино, поочередно прикладываясь к горлышку, и бредут сперва через безлюдную привокзальную площадь, а после по улочке вдоль железной дороги.
– Лиза просто невероятная девушка, – говорит Николай, неуверенно шагая по деревянному тротуару и цепляясь рукой за локоть Арсения. – Эх, как же досадно, что мне ехать на службу!
Арсений Балашов молчит, поглядывая по сторонам на темные бревенчатые дома, прячущиеся за оградами и зеленью деревьев. Лишний раз он убеждался, что Березин лишь притворяется городом, и стоит отойти от площади на пару шагов, как действительность приобретает совершенно пасторальный, сельский вид.
– Ну, признайся, Сеня, ты тоже от нее без ума?
Арсений делает хороший глоток из горлышка. Вино довольно кислое, и Арсений в толк взять не может, зачем они его купили. И потом, он же прекрасно знает, что не следует пить вина после пива.
– Какой Лиза стала красавицей! Глаз не оторвать…
Арсений передает бутылку приятелю, и Коля тоже делает глоток-другой.
– Б-р-р-р, какая же кислятина… Сеня, ты мне скажи… Лиза… Лизавета, она хороша, право же? Хороша, как картинка! И вовсе не дурочка, нет! Она увлечена марксистской идеей… Что скажешь, Сеня, разве не так?
– По мне все эти идеи вздор.
– Вот те на, – удивляется Коля Кувшинкин. – А отчего же, позволь узнать?
– Ладно, может и не вздор, – решает не спорить Арсений. – Только через такие вот кружки и идеи запросто можно угодить в Сибирь. Хорошо матушка у Лизаветы со связями.
Коля обдумывает слова Арсения, и какое-то время приятели шагают по улочке молча. Арсений Балашов, между тем, поглядывает на фонарь, горящий промеж деревьев. Молодому человеку кажется, что этот фонарь самым хамским образом ему подмигивает, и у Арсения так и чешутся руки этот фонарь погасить. Он даже начинает оглядываться по сторонам в поисках подходящего булыжника.
– Да, брат, тут ты прав. Сибирь это не шутки. Сибирь, это, брат, Сибирь, – соглашается, прерывая молчание, Николай.
– Я видел таких девиц в Петербурге, – говорит Арсений, подбрасывая в руке бутылку, а сам искоса поглядывает на фонарь. – Они все, будто не в себе. Им головы заморочили этими крамольными книжками.
– Мне что-то на ребра давит, – жалуется Коля Кувшинкин. – Что это у меня в кармане такое… И все же Лиза невероятная красавица. У нас во всем уезде другой такой не найти… Ты же не станешь с этим спорить? Я обижусь!
– Нет, не стану, – соглашается Арсений. – Лиза и впрямь хороша собой.
Коля, тем временем, достает из кармана тонкую брошюру в картонной обложке. Он останавливается под фонарем, поправляет очки, переворачивает брошюру, которую держал вверх ногами, и читает заглавие,
– Сергей Нечаев. «Катехизис революционера».
– Нечаев? – переспрашивает Арсений и тоже останавливается. – Нечаев, говоришь… Слушай, Коля, выбрось ее немедля от греха подальше.
Коля глазами пустыми смотрит на брошюру в своих руках, потом медленно поднимает взгляд на Арсения.
– Куда выбросить?
– Да куда хочешь. Вон, в кусты. Или в сточную канаву.
– Отставить, – говорит сам себе Коля и прячет брошюру обратно в карман.
Навстречу приятелем из темноты верхом на лошади выезжает жандарм в кавалерийском кителе, темно-синих шароварах и сапогах.
– И откуда он тут взялся, – бормочет Арсений и тащит Кувшинкина в сторону под своды старых кленов.
Лошадь неспешным шагом проходит мимо приятелей, и Арсению кажется, что жандарм дремлет в седле, не выпуская из рук поводья.
– Знаешь, брат, а я как будто протрезвел, – говорит Коля Кувшинкин, провожая жандарма взглядом.
Он снова достает из кармана «Катехизис революционера», находит спички, поджигает брошюру и бросает в пересохшую сточную канаву.
– У Лизаветы шляпная коробка набита запрещенной литературой, – качает головой Арсений. – Совсем девка из ума выжила.
– Твоя правда, – говорит Николай и икает. – Ох, попадет Лиза в беду! Сеня, надо что-то делать… Что-то делать…
Остановившись возле дома Николая Кувшинкина, приятели допивают плодовое вино.
– Ну, еще свидимся, – говорит Коля.
– Свидимся, – кивает Арсений. – А то как же.
Приятели обнимаются, потом Николай толкает калитку и идет по дорожке к темному дому. Арсений глядит ему вслед, вокруг него вьются и тонко звенят комары. Немного постояв возле ограды, Арсений с пустой бутылкой в руке идет восвояси по темной улице. Ночи в июне стоят такие теплые, что спать можно прямо на земле.
Возле фонаря Арсений останавливается и смотрит на него, наклонив голову на бок.
– Что же ты, сволочь, мне прямо в глаз светишь? – спрашивает Арсений с укоризной.
Его словно черт подначивает. Арсений ничего не может с собой поделать. Он подбрасывает бутылку, хорошенько размахивается и бросает ее в фонарь. Слышен звон бьющегося стекла.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
– Это Зора, – представляет Григорий Ипатович темноволосую смуглую женщину лет тридцати. – Зора мой верный старинный друг.
У Зоры огромные глаза, изогнутый «римский» нос, и темные вьющиеся волосы. Зора похожа на цыганку. Она худощавая и высокая, и кажется Лизе невероятно красивой. Рядом с Зорой барышня чувствует себя гадким утенком.
– А это моя кузина, Лизавета, – представляет барышню Григорий Ипатович. – Помнишь, я тебе о ней рассказывал? Так она у нас погостит.
– Я очень рада нашему знакомству, – улыбается Зора.
Держа в руке подсвечник с тремя огарками, цыганка направляется в глубину старой усадьбы. Лизонька со шляпной коробкой в руке идет следом и разглядывает кашемировый архалук Зоры в золотую и малиновую полоску, подпоясанный кушаком. Стены коридора, по которому ведет их Зора, обшиты деревянными панелями. Мигающий отсвет свечей ложится на портреты в овальных и прямоугольных рамах, висящие на стенах. Замыкает эту маленькую процессию Григорий Ипатович, он несет чемоданы с вещами кузины. Рассохшиеся половицы скрипят под ногами. Неожиданно из темноты выбегает белая с рыжими подпалинами собака и ластится к Григорию Ипатовичу. Тот улыбается, опускается на корточки и треплет и гладит собачью морду.
– Ах, ты моя хорошая! Ну, вот я и приехал! Глаша, девочка, что заждалась меня? Заждалась…
Глаша неожиданно зевает, а потом принимается обнюхивать Лизу. Барышня протягивает собаке руку. Глаша внимательно смотрит на нее темно-карими умными глазами. Собака немного смахивает на волка и про себя Лизонька решает, что это русская гончая. Она ставит шляпную коробку на пол и, наклонившись, принимается гладить и чесать собаку.
– Идемте же, – торопит всех Григорий Ипатович.
Пройдя еще немного по темному, кажущемуся бесконечным, коридору, они сквозь распахнутые арочные двери заходят в гостиную.
На длинном столе, застеленным домотканой скатертью, стоит пара зажженных масляных ламп. Лиза замечает темные гардины на окнах, стоящий подле стены книжный шкаф, оттоманку в углу, и просторный диван, едва различимый в полумраке. В топке камина, сложенного из горшечного камня, тлеют припорошенные золою угли. Над каминной полкой поблескивает золотой краской рама какой-то картины, но что за картина сейчас не разобрать.
Григорий Ипатович ставит чемоданы с вещами кузины подле стола.
– Ты проголодалась с дороги? – спрашивает он Лизу.
– Нет, я не голодна. Да и поздно уже.
Глаша валится на старый ковер посреди гостиной и начинает вылизывать себе пузо.
– От поздней обильной трапезы сон обычно бывает скверный, – замечает кузен. – Я, пожалуй, тоже не стану есть, а вот чаю выпью… Зора, ты покажешь нашей гостье ее комнату?
– Я, кажется, потеряла шляпную коробку, – говорит растерянно Лизонька. – Я же несла ее в руке. Как же так…
– Верно, была шляпная коробка, – вспоминает Григорий Ипатович.
– Вы, наверное, оставили ее, когда гладили Глашу, – говорит Зора.
Лиза сразу светлеет лицом.
– Ну, конечно, какая же я растяпа!
– Я сейчас принесу, – Григорий Ипатович быстро выходит из гостиной.
– У вас чудесная комната, – говорит Зора с улыбкой. – Окна выходят в сад, и по утрам солнце не будет вас будить.
– Да-да, замечательно, – кивает Лиза, а сама прислушивается к шагам в коридоре.
Наконец, кузен возвращается.
– Тяжелая какая коробка, – замечает Григорий. – Что у тебя за шляпки такие?
– Позвольте, – барышня торопливо тянет руку.
Григорий Ипатович подает ей шляпную коробку, но делает это так неловко, что коробка выскальзывает у него из руки и со стуком падает на пол. Крашеный картон рвется, и на ковер вываливается дюжина книжек.
– Прости, бога ради, – извиняется Григорий Ипатович. – Однако, тут вовсе не шляпки. Нет, не шляпки.
– Вы нарочно ее уронили, – говорит Лиза. – Это подло!