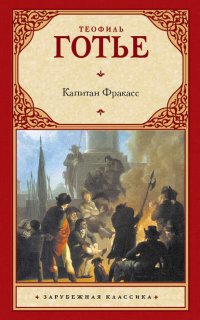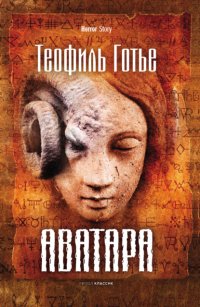Читать онлайн Спирита бесплатно
- Все книги автора: Теофиль Готье
© Трынкина Е. В., перевод на русский язык, примечания, 2021
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
* * *
Спирита: радуга над водопадом сознания
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита…
О. Мандельштам
Теофиль Готье (1811–1872) умел создавать о себе легенды, но при этом и жил внутри легенды. Любитель экзотических путешествий и одновременно – античной гармонии, он создал то, что мы на ученом языке назвали бы самореферентным дейксисом, а переводя это на простой язык – умением, указывая на любую вещь, тем самым говорить что-то и о себе и о своем таланте, замечать детали и подробности. Это ни в коем случае нельзя путать с самолюбованием – любующийся собой как раз пренебрегает всеми деталями и забывает все подробности. Скорее Готье обладал способностью со строгостью математика все подводить под общий знаменатель – и бытовые впечатления, и фантазии, и моды, и вечные истины. Все это оказывалось внутри пестрой риторики, вдруг показывающей читателю свои механизмы и тем самым позволяющей посмотреть со стороны и на устоявшиеся убеждения, и на мимолетные модные развлечения.
Радикализм Готье вошел в историю Франции: его красный жилет, в котором он пришел на премьеру новаторской пьесы В. Гюго «Эрнани», стал скандальным анекдотом и одновременно первым случаем, когда спектакль сопровождается дополнительным перформансом. Готье именно так всегда и действовал: он не просто знал, любил и ценил искусство, ему нужно было, чтобы любое искусство сопровождалось каким-то другим искусством. Поэтому и разные чудачества Готье, включая любовь к сытным обедам и экзотическим путешествиям, – это просто стремление сопроводить уже известные искусства, которые могут наскучить, еще не известными, но столь же прекрасными.
Повесть «Спирита» была написана в 1865 году и, подобно многим другим произведениям того времени, публиковалась в периодике с продолжением – это было нормой тогдашних литературных коммерческих публикаций. Фоном ее написания стал роман Готье со свояченицей, балериной Карлоттой Гризи, жившей в Женеве. Карлотта Гризи была первой исполнительницей главной партии в балете «Жизель» (1841) – все ли помнят, что Готье был одним из авторов либретто? Конечно, определенные черты Карлотты отразились в главной героине, но тайная любовь писателя – не самое существенное обстоятельство.
Шестидесятые годы были временем своеобразной «глобализации»: Франция уже успела поучаствовать в опиумных войнах в Китае, и эхо этих войн слышится в китайских мотивах Готье. Литературные моды до Франции доходили очень поздно – в отличие от повестей пятидесятых годов, в «Спирите» появляется английское и американское: в частности, цитируются Эдгар По и Лонгфелло. И это неудивительно – англичане продолжали осваивать Ближний Восток и Египет, и ожидалось, что именно они откроют тайны древнейших мистерий, поэтому, например, в повести упомянут ассиро-вавилонский миф о любви богини Иштар и пастуха Дамузи.
Готье был мастером изображения «местного колорита», но при этом он, в отличие от Флобера, создавал его не с помощью деталей быта, а выводя необычных персонажей. Это говорило о том, что писатель предпочитал «буржуазный» тип знакомств, требующий взаимопонимания с самыми разными характерами – принадлежность к аристократии была для него только одной из многих возможных социальных стратегий, а не особым статусом. Стиль, присущий Готье, я называю обычно «пористым экфрасисом»: он любит описывать произведения искусства, смакуя все детали ремесла, всю золотую канитель, блеск эмалей, шуршание шелка, но в этих описаниях всегда остается место для зрителя – он успевает во время рассказа усадить читателя в театральное кресло и направить внимание на то, что в данный момент подсвечено рампой.
В повести видны отражения разных событий, и некоторые из них прямо названы – прежде всего, скандал вокруг постановок Вагнера в Париже. Вагнерианство позволило Готье вернуть трагическое в повесть: если «Аватара», повесть, также вышедшая в этой серии, строилась по законам комедии и водевиля, то в «Спирите» мы сталкиваемся с настоящей трагедией – не в журналистском смысле («произошла ужасная трагедия»), а в структурном. Трагедия – это прежде всего особое функционирование речи, когда герой, объясняя свою позицию в конфликте, озвучивает и какую-то общезначимую истину – и как раз главная героиня в ее долгом монологе и открывает такую истину, кратко ее можно выразить словами «крепка, как смерть, любовь», развернуто – только если прочитать повесть до конца.
Эммануил Сведенборг, шведский горный инженер и мистик XVIII века, чье учение кратко пересказано в повести Бальзака «Серафита», считал, что наш мир – только первая ступень в эволюции духовных миров и каждый следующий тоньше предыдущего. Событием, побудившим Сведенборга к созданию собственной мистической системы, было одно видение: однажды он объелся и вдруг почувствовал, как комната наполняется каким-то смрадом и тяжестью, как и его желудок; явившийся затем белый ангел повелел ему впредь есть меньше. Готье, гурман и рационалист, конечно, с иронией относился к этой истории, но ее тень видна в сюжетах многих его повестей. Прежде всего, конечно, в повести «Спирита» действуют белые ангелы, которые направляют события, но важна и сама идея аскезы – как общего языка, позволяющего главному герою общаться с явившимся ему духом женщины.
Эта повесть была очень современна, в частности, об этом говорят отсылки к гравюрам Гюстава Доре, который был тогда сравнительно молод и только входил в моду. Умение Доре чертить контуры так, чтобы передавать незаметный переход от физического мира к духовному, внимание к деталям, напоминавшее Готье дух английской науки о микромире, вроде «Микрографии» Роберта Гука, а также его мастерство в изображении облаков как неких духовных явлений, конечно, вдохновляли Готье при написании повести. Во многом к этой повести восходит идея, согласно которой, наблюдая за перемещением облаков, освещением неба, разрывами в тучах, можно получить какие-то духовные откровения, – косвенно ее популяризовал французский астроном Камилл Фламмарион, рационалист, требовавший, впрочем, внимательно следить за всем, что происходит на небе, ради общего вдохновенного прогресса науки (своего рода мистическое единение вокруг науки?), а в России ее подхватил, например, народоволец Н. А. Морозов, который, наблюдая за появлением солнца среди облаков и изменением небесных пейзажей, счел, что нашел ключ к Откровению Иоанна Богослова.
Спирита, иначе говоря, явившийся дух умершей, это прежде всего мыслящее существо, обладающее интуицией. Здесь Готье по сути развертывает в произвольном фантастическом сюжете то понимание «интуиции», которое создал Имманиул Кант, который понимал под этим словом скорее наблюдательность, умение смотреть на вещи независимо от их употребления. Так ведет себя и Спирита: она пишет невидимое письмо, в результате чего герою приходится не просто писать под диктовку духа, но писать за него, как бы стать заместителем духа и тем самым объединять его интуицию и свою. Герой в чем-то побаивается техники, сомневается в своих мыслях и чувствах, но сомневается и Спирита. Можно видеть в этом пародию на кантовское понимание здравого смысла, а можно – единственную возможность создать завершенный сюжет, который будет не только про «чувства», но и про «интуицию».
В отличие от героя «Аватары», который попал впросак из-за незнания языков, которыми владел прежний хозяин тела, героиня «Спириты» находится на высших уровнях мира Сведенборга – она владеет всеми языками и всеми науками. Глобализация 1860-х годов сказывается и в этом, но если бы эта повесть только рассказывала о своем времени, едва ли она была бы нам интересна. Одна из важных ее тем – способность текста подменить человека: Спирита рядом с героем, и, как он сам признается, она не за семью замками, не в башне, не взаперти, а вот – только руку протяни… но при этом ему доступны только тексты. Объяснение, почему это так, мы найдем только ближе к концу: не забегая вперед, оно в том, что когда-то в молодости герой был слишком идолопоклонником, ему нравилась пустая красота, а так как даже пустая красота дается человеку только один раз, сейчас на его долю остается лишь текст, наиболее искусственное восстановление красоты с помощью записанных слов.
Вообще, это превращение героя в сознательный медиум очень показательно. Позднейший спиритизм исходил из того, что во время спиритического сеанса держащий карандаш медиум всегда исключительно пассивен, он должен только, как электрический провод, передать с минимальными потерями все то, что сообщают духи умерших. У Готье, напротив, ставится вопрос о субъектности медиума, ведь выбор, например, орудия письма всегда остается за этим медиумом, значит, он не вполне пассивен. Средневековая философия в таких случаях говорила, что «категорема», то есть отнесение отдельной вещи к общей категории, даже для совершенно пассивного человека будет активным действием: здесь он окажется человеком деятельным и разумным. Но то, что средневековая философия решала на уровне логики, Готье решил на уровне расширения выбора: если можно выбирать инструмент письма, позу, степень внимания и комфорта, то в конце концов ты обретаешь полную свободу и в выборе стиля, и только то, что когда-то ты попал в ловушку безответной любви, делает тебя послушным слугой. Жесты в воздухе – икона незамеченной любви, а подражание этим жестам – такая же икона свободы писателя, который, выбрав сюжет, все же до конца следует его логике. Эти две иконы смотрят друг в друга как неотвратимые зеркала.
Конечно, в этой повести, как и почти во всех повестях Готье, происходит материализация метафор. Так, метафора «музыка похищает душу» присутствует у Готье постоянно, и она материализуется как действительное присутствие чужой души, чужого взгляда или чужой «интуиции» во время исполнения музыки, пришествие духов и душ умерших. Но этот мотив Гофмана у Готье разыгран иначе, не как присутствие личности композитора в музыке, но как присутствие критика. Музыка открывает критика в каждом человеке, который хоть немного способен судить о музыке, а значит, и хотя бы немного приникнуть к духовному миру, миру сильфид, ангелов, эоловых арф и пифагорейской гармонии сфер, где звуки производятся в соответствии с законами духовного мира. Поэтому то, что «музыка похищает душу», вовсе не означает, что слушатель впадает в исступление, а наоборот, что слушателю приходится разобраться, на какой ступени духовного мира сейчас находится он сам и что с этим делать.
Если обозначить проблему этой повести одним вопросом, то этот вопрос – возможна ли не какая-то «научная» оценка, а литературная или художественная критика медиумического откровения? Можно ли воспринимать написанную Спиритой автобиографию как произведение изящной словесности, со своими достоинствами или недостатками, или она только служит сюжету произведения? Если последнее, значит, главный герой несвободен и всегда будет несвободен. Но Теофиль Готье, пылкий и вольный, никогда не отрекался от свободы, а значит, если мы признаем свободу воли, мы признаем литературную и художественную критику. Говорить о стилистике и поэтике медиумического откровения так же законно, как говорить о необходимых и достаточных условиях свободы или о сферах ее проявления – не больше, но и не меньше.
Александр Марков, профессор РГГУ
Спирита
Фантастическая повесть
Глава I
Ги де Маливер1 полулежал, вытянув ноги, в роскошном кресле у ярко пылавшего камина. Судя по всему, он приготовился скоротать вечер дома: даже самые большие охотники до бурных и утомительных светских развлечений изредка позволяют себе передохнуть. Ги оделся по-домашнему и в то же время со вкусом: на нем были черная бархатная куртка, обшитая шелковым сутажом2 того же цвета, сорочка из фуляра3, длинные панталоны из красной фланели и просторные марокканские туфли без задника, которыми поигрывали его нервные и изящные ступни. Сняв с себя все тесное и неудобное и облачившись в мягкую свободную одежду, Ги де Маливер подкрепился простой, но искусно приготовленной пищей, запил ее двумя-тремя бокалами бордо и теперь испытывал то физическое блаженство, которое проистекает из полной гармонии всех органов. Он был счастлив, хотя ничего особенного с ним не приключилось.
Лампа – похожий на луну, подернутую легким туманом, матовый шар в селадоновом рожке4 с потрескавшейся глазурью – испускала ровный молочный свет. Она освещала книгу, которую Ги рассеянно держал в руке, – не что иное, как «Эванджелину» Лонгфелло5.
Конечно, Ги нравилось творение великого поэта, рожденного еще молодой Америкой, но он пребывал в том ленивом состоянии души, когда нежелание думать сильнее даже самых возвышенных воззрений, изложенных самым прекрасным слогом. Он прочитал несколько строф, потом, не выпуская книги из рук, откинулся на мягкую спинку кресла, обитую гипюром, и, выкинув из головы все до единой мысли, с наслаждением расслабился. Теплый воздух комнаты ласково обволакивал его. Все вокруг дышало покоем, благополучием, тишиною, умиротворением. Лишь изредка шипели дрова в камине да тикали часы, чей маятник тихо отмерял ход времени.
Была зима. Свежевыпавший снег заглушал отдаленный стук колес экипажей, довольно редких в этом пустынном квартале, ибо Ги жил на самой малолюдной улочке Сен-Жерменского предместья6. Пробило десять, и наш лентяй поздравил себя с тем, что не подпирает дверной проем на балу в каком-нибудь посольстве и не мается в черном фраке и белом галстуке, взирая на тощие лопатки некой вдовой старухи в платье с огромным вырезом. Хотя в комнате было тепло, будто в оранжерее, по тому, как жарко пылал огонь, и по тишине, царившей на улице, чувствовалось, что за окном мороз. Великолепный ангорский кот, единственный товарищ Маливера в этот вечер farniente[1], подошел так близко к камину, что едва не опалил свою белую шерстку, и только позолоченный экран мешал ему улечься прямо в золу.
Комната, в которой Ги де Маливер вкушал свои мирные радости, находилась между его кабинетом и студией. Эта просторная гостиная с высоким потолком располагалась на последнем этаже флигеля, который занимал Ги. С одной стороны к флигелю примыкал двор, с другой – сад с достойными королевских лесов вековыми деревьями, какие можно найти только в этом старом аристократическом предместье, ибо, чтобы вырастить дерево, нужны годы, а наши нувориши, как ни крути, не в силах придумать ничего другого для обеспечения тени своим новеньким особнякам, построенным в спешке, характерной для всех, кто опасается банкротства.
Стены комнаты были обиты коричневой кожей, а потолок украшали кессоны из неокрашенных еловых досок в обрамлении старых дубовых балок. Строгие тона стен служили прекрасным фоном для картин, эскизов и акварелей, развешанных в этой своего рода галерее, а также для собрания редкостей и оригинальных вещиц. Дубовые книжные шкафы, достаточно низкие, чтобы не загораживать картин, образовывали по всему периметру комнаты некое подобие цоколя, который прерывался одной-единственной дверью. Книги, заполнявшие полки, поразили бы наблюдателя своей разнородностью: тут смешались библиотеки художника и ученого. Рядом с классической поэзией всех времен и народов: Гомером, Гесиодом, Вергилием, Данте, Ариосто, Ронсаром, Шекспиром, Милтоном, Гёте, Шиллером, лордом Байроном, Виктором Гюго, Сент-Бёвом, Альфредом де Мюссе и Эдгаром По – стояли «Символика» Крейцера7, «Небесная механика» Лапласа8, «Астрономия» Араго9, «Физиология» Бурдаха10, «Космос» Гумбольдта11, труды Клода Бернара12 и Бертло13, а также другие творения высокой науки. Однако Ги де Маливер не был ученым. Его образование едва ли выходило за рамки того, чему его научили в коллеже, но, после того как он достиг определенных познаний в поэзии, ему показалось стыдным пребывать в неведении относительно прекрасных открытий, прославивших нынешний век. Он постарался войти в курс дела, и с некоторых пор с ним можно было поговорить об астрономии, космогонии14, электричестве, паре, фотографии, химии, микрографии15 и самозарождении жизни16. Он разбирался во всем и иногда поражал собеседника неожиданным остроумным замечанием.
Таким был Ги де Маливер на двадцать девятом году своей жизни. Его лоб с небольшими залысинами, честное и открытое выражение лица производили приятное впечатление. Нос не отличался греческой правильностью, но выглядел вполне благородно, взгляд карих глаз казался уверенным, а полноватые губы свидетельствовали о доброте и дружелюбии. Золотисто-рыжие усы оттеняли верхнюю губу, а непослушные тонкие кудри теплого каштанового цвета не поддавались щипцам парикмахера. Короче, Маливер был, что называется, красивым малым и с самого своего появления в свете пользовался успехом, к которому ничуть не стремился. Матери, обремененные девицами на выданье, естественно, окружали его всяческими заботами, ведь у него имелись сорок тысяч франков земельной ренты и престарелый дядюшка-мультимиллионер, который отписал ему все свое состояние. Восхитительное положение! Но Ги до сих пор не женился. Выслушав очередную сонату, которую исполнила для него очередная девица, он ограничивался одобрительным кивком, после контрданса17 вежливо провожал партнершу на место, а во время паузы между фигурами танца произносил нечто вроде «Здесь очень жарко» или другую банальность, не дававшую даже крохотной надежды на брак. И дело не в том, что Ги де Маливеру не хватало духу, нет, он запросто произнес бы что-нибудь менее избитое, если бы не боялся запутаться в тонких, как паутина, сетях, растянутых вокруг великовозрастных прелестниц, лишенных сколько-нибудь значительного приданого.
Если в каком-либо доме ему оказывали особенно радушный прием, он переставал там бывать или уезжал в далекое путешествие, а когда возвращался, с удовлетворением замечал, что о нем совершенно забыли. Кое-кто подумает, что Ги вступал в мимолетные сомнительные связи с дамами полусвета и тем самым избегал необходимости жениться. Ничего подобного. Он не мог похвастать какими-то особенными для своих лет принципами, просто ему не нравились набеленные и причесанные под пуделей красотки в необъятных вычурных кринолинах18. Таковы уж были его вкусы. Как и все, он пережил несколько приятных приключений. Две-три не оцененные по достоинству женщины, жившие более или менее отдельно от своих мужей, признались, что нашли в нем свой идеал. Он отвечал: «Вы очень любезны», но, будучи человеком хорошо воспитанным, не осмеливался добавить, что они-то его идеалом не являются. А одна маленькая фигурантка19 Комического театра, которой он подарил несколько луидоров и бархатную пелерину, сочла, что он предал ее, и даже попыталась удавиться из любви к нему. Однако, несмотря на эти галантные приключения, Ги де Маливер, будучи честен сам с собою, признавал, что, дожив до двадцати восьми лет – возраста, в котором человек просто молодой становится человеком довольно молодым, – он не ведал, что такое любовь. По крайней мере, ему не довелось испытать чувств, о которых рассказывают поэмы, драмы, романы или приятели в минуты откровения или бахвальства. Впрочем, Ги утешал себя тем, что страсть сопряжена с треволнениями, бедами и катастрофами, и потому терпеливо ждал того дня, когда волею случая появится «предмет», который наконец его устроит.
Известно, что свет распоряжается вами по своему усмотрению и сообразно своей фантазии. И общество, в котором преимущественно вращался Ги де Маливер, решило, что, раз Ги часто наносит визиты недавно овдовевшей госпоже д’Эмберкур, значит, он в нее влюблен. Земли госпожи д’Эмберкур соседствовали с землями Ги, она имела шестьдесят тысяч франков дохода, и ей было всего двадцать два года. Соблюдая приличия, она какое-то время сильно горевала о господине д’Эмберкуре, довольно угрюмом старике, но теперь положение позволяло ей выбрать молодого и привлекательного мужа, равного ей по происхождению и состоянию. Итак, свет уже поженил их. Все надеялись, что в доме этой пары сложится приятная обстановка и он станет удобным местом для встреч и времяпрепровождения. Госпожа д’Эмберкур молчаливо соглашалась на этот брак и уже считала себя почти женой Ги, а он вовсе не торопился объясниться и даже подумывал о том, чтобы перестать ходить к прекрасной вдове, которую находил слегка назойливой.
В тот вечер Ги пригласили на чай к госпоже д’Эмберкур, но после ужина он разомлел и ему стало так хорошо дома, что он наотрез отказался одеваться и выезжать в восьмиградусный мороз, хотя бы даже и в шубе и с баком кипятка в карете. Предлогом послужило то, что у его коня еще не было зимних подков с шипами, а потому он рисковал поскользнуться и упасть на обледеневшей мостовой. Кроме того, Ги совсем не хотелось, чтобы жеребец, которого Кремьё20, знаменитый торговец с Елисейских полей, продал ему за пять тысяч франков, два или три часа мерз на холодном ветру. Как видим, Ги не был страстно влюблен, и госпоже д’Эмберкур предстояло еще очень долго дожидаться церемонии, которая позволила бы ей сменить фамилию.
Приятное тепло, голубоватый и ароматный дым двух-трех гаванских сигар, постепенно заполнявших пеплом старинный китайский бронзовый кубок на подставке из орлиного дерева21, который стоял рядом с лампой на круглом одноногом столике, окончательно разморили Маливера. Глаза его уже начали слипаться, как вдруг дверь комнаты тихонько отворилась и появился слуга с серебряным подносом, на котором лежал крошечный надушенный конвертик с хорошо знакомой печатью. Настроение Маливера сразу же испортилось, а запах мускуса, который источала бумага, показался ему тошнотворным. То была записка от госпожи д’Эмберкур: графиня напоминала, что он обещал прийти к ней на чай.
– Черт бы ее побрал, – без всякого почтения вскричал Маливер, – вместе с ее записочками, от которых начинается мигрень! Хорошенькое удовольствие – катить через весь город, чтобы выпить чашку чуть теплой водицы, в которой плавают несколько листиков, подкрашенных то ли берлинской лазурью, то ли ярью-медянкой22, в то время как у меня в лакированной коробке коромандель23 лежит настоящий китайский чай. На ней даже сохранился штемпель таможни в Кяхте – последней российской заставе на границе с Китаем24. Нет, решено, никуда не поеду!
Последние остатки вежливости заставили Маливера передумать. Он велел камердинеру принести одежду, но едва увидел панталоны, жалобно повисшие на спинке кресла, сорочку, жесткую и белую, будто мелованный картон, черный фрак с покачивающимися рукавами, блестящие лаковые ботинки, перчатки, словно только что вышедшие из недр прокатного стана, как им тут же овладело отчаяние, и он с силой вжался в спинку кресла.
– Все, я остаюсь. Джек, приготовь постель!
Как мы уже говорили, Ги получил хорошее воспитание. Мало того, у него было доброе сердце. Испытывая легкие угрызения совести, он направился в любимую уютную спальню, но остановился на пороге и подумал, что из элементарной учтивости надо бы послать госпоже д’Эмберкур извинения, сославшись на мигрень, важное дело или еще какое-нибудь досадное обстоятельство, которое свалилось на его голову в самую последнюю минуту. Однако Маливер, который, хоть и не был профессиональным литератором, мог с легкостью сочинить путевые заметки или новеллу для «Обозрения Старого и Нового Света»25, ненавидел писать письма, в особенности вежливые и ничего не значащие записки. Только женщины строчат их десятками, одну за другой, на уголке туалетного столика, пока какая-нибудь Клотильда или Роза колдует над их прической.
Куда проще придумать сонет с редкими и трудными рифмами! В общем, в этом отношении он был абсолютно бесплоден и, случалось, отправлялся на другой конец города, лишь бы не мучиться над двумя строчками. От отвращения и отчаяния Ги де Маливер вновь начал склоняться к мысли поехать к госпоже д’Эмберкур. Он подошел к окну, отодвинул занавеску и сквозь запотевшее стекло увидел непроглядную темень. Густые снежные хлопья покрывали ее пятнами, словно спину цесарки. Ги тут же представил себе, как его конь Греймокин26 стряхивает снежную шапку со своей блестящей попоны. Затем вообразил неприятнейший переход от кареты до вестибюля дома, сквозняк на лестнице, с которым не справляется калорифер, и в особенности госпожу д’Эмберкур, стоящую спиной к камину в парадном платье с глубоким декольте – точь-в-точь героиня Диккенса по прозвищу Бюст, чья белая грудь служила ее мужу-банкиру витриной для драгоценностей27. Он вспомнил великолепные белые зубы графини в оправе неизменной улыбки, идеальный изгиб бровей, словно нарисованных китайской тушью, хотя на самом деле они были даны ей самой природой, восхитительные глаза, правильный нос, который вполне мог удостоиться места в альбомах по основам рисунка28, а также фигуру, превозносимую всеми модистками. И все эти прелести, которые свет предназначал ему, обручив против воли с молоденькой вдовой, внушили Ги такую глубокую тоску, что он направился прямиком к своему бюро, решив, – о, ужас! – что лучше написать десять строк, чем пить чай с этой очаровательной женщиной.
Чувствуя себя чуть ли не героем, Маливер положил перед собою листок бумаги верже29 с вензелем из причудливо переплетенных Г и М, обмакнул в чернила тонкое стальное перо, вставленное в иглу дикобраза, и, отступив сверху как можно больше, чтобы сократить объем сочинения, решительно начертал: «Сударыня!» Тут он остановился и подпер голову левой ладонью, поскольку запас его красноречия неожиданно иссяк. Несколько минут он стоял, сжимая перо, а в голове его теснились мысли, совершенно не связанные с темой письма. В ожидании фразы, которая никак не шла на ум, его тело заскучало, а рука задрожала от нетерпения, словно желала выполнить свою задачу, не дожидаясь приказа.
Пальцы вытягивались и снова сгибались, словно выводили буквы, и, наконец, Ги с удивлением обнаружил, что, сам того не сознавая, набросал несколько строк приблизительно такого содержания:
«Вы хороши собою и окружены целым роем поклонников, поэтому Вас не оскорбит, если я скажу, что не люблю Вас. Подобное признание не делает чести вкусу того, кто на него отваживается… только и всего. К чему продолжать отношения, которые свяжут две так мало подходящие друг другу души и обрекут их на вечные страдания? Простите меня, я уезжаю. Вы легко забудете меня!»
– Вот это да! – Еще раз перечитав написанное, Маливер стукнул кулаком по столу. – Я спятил или превратился в сомнамбулу? Что за странная записка! Совсем как литографии Гаварни30, на подписях к которым мы видим и то, что говорят, и то, что думают их персонажи, ложь и правду. Только здесь все правда. Моя рука, которую я хотел склонить к маленькой учтивой лжи, не поддалась, и вопреки обыкновению письмо получилось искренним.
Ги внимательно вгляделся в записку, и ему показалось, что буквы выглядят не так, как всегда.
«Если бы мое эпистолярное наследие представляло хоть какой-то интерес, – подумал он, – то этот автограф вызвал бы большое сомнение у экспертов. Но как, черт возьми, такое возможно? Я не курил опиум, не глотал гашиша, а те два-три стакана бордо, что я выпил, не могли ударить мне в голову. Не так уж я слаб. И что же будет дальше, если правда против воли начнет стекать с моего пера? Слава богу, что, опасаясь наделать ошибок в столь поздний час, я перечитал это послание. Какие последствия могли бы повлечь эти невероятные строчки и сколь возмущена и потрясена была бы госпожа д’Эмберкур! Впрочем, лучше бы я отправил письмо как есть: ну, сошел бы за чудовище, за дикаря в татуировках, недостойного носить белый галстук, зато надоевшая мне связь разлетелась бы вдребезги, как стекло, и точка. Стекло не восстановишь, даже если склеить осколки бумагой. Будь я хоть капельку суеверен, то непременно увидел бы тут знак свыше, а не чрезмерную рассеянность».
Через несколько минут Ги скрепя сердце все-таки принял решение: «Поеду к госпоже д’Эмберкур, раз уж я не в состоянии переписать это письмо». Он оделся, дрожа от негодования, а когда подошел к дверям, вдруг услышал вздох, такой слабый, легкий и воздушный, что только глубокая ночная тишина позволила уловить его.
Вздох остановил Маливера на пороге комнаты, произведя на него то неприятное впечатление, какое производит все сверхъестественное даже на самых смелых и отважных. В этой неясной, бессмысленной и жалобной ноте не было ничего страшного, и, однако, Ги был напуган сильнее, чем думал.
– Ба, да это мой кот мяукнул во сне, – успокоил себя Маливер, взял из рук камердинера шубу, завернулся в нее тщательно, как человек, который много путешествовал по России31, и в самом дурном расположении духа спустился к поджидавшей его карете.
Глава II
Маливер плотно запахнул шубу, забился в угол кареты и поставил ноги на бак с кипятком. Невидящими глазами он смотрел на причудливую игру света и тени, которая разыгрывалась на слегка запотевшем стекле от проносившихся мимо фонарей и еще открытых лавочек, освещенных газом.
Вскоре карета переехала по мосту Согласия темную Сену, в которой смутно отражались уличные огни. Всю дорогу Маливер не мог отделаться от воспоминания о таинственном вздохе, который почудился ему на пороге спальни. Он перебирал все разумные объяснения из тех, что скептики находят для непонятных явлений. Наверное, говорил он себе, это сквозняк в камине или коридоре, или отголосок какого-нибудь шума с улицы, или заныла струна фортепиано, отозвавшись на стук колес, или, как он решил в самом начале, зевнул кот, спавший у огня. В общем, твердил здравый смысл, тут нет ничего странного. И однако, невзирая на убедительность этих предположений, Маливер не мог их принять. Некий сокровенный инстинкт внушал ему, что слабый вздох не связан ни с одной из причин, подсказанных здравым смыслом, он просто чувствовал, что стон издала чья-то душа, ибо в нем слышались и дыхание, и боль. Так откуда же он взялся? Ги думал об этом с тревогой, которую испытывают даже самые стойкие натуры, оказавшиеся лицом к лицу с неизвестным. В комнате не было никого, кроме Джека, создания толстокожего, да и, вне всякого сомнения, столь мелодичный, гармоничный, нежный, легкий, словно шепот ветерка в листьях осины, звук могла издать только женщина. Отрицать сие было невозможно.
И еще одно обстоятельство беспокоило Маливера: письмо, которое, так сказать, написалось само собой, как если бы чья-то чужая воля водила его рукой. Рассеянность, которой он поначалу оправдывал происшедшее, вряд ли могла служить серьезным объяснением. Движения души, прежде чем излиться на бумагу, повинуются разуму, и потом, нельзя писать, думая о чем-то другом. Кто-то неведомый завладел им, пока его душа витала в облаках, и действовал вместо него, ибо теперь он был абсолютно уверен, что не задремал даже на мгновение. Да, весь вечер он был рассеян, сонлив, умиротворен и безмятежен, но в тот роковой момент сна у него не было ни в одном глазу. Досадный выбор между визитом к госпоже д’Эмберкур и запиской с отказом от приглашения привел его в состояние нервного возбуждения. И потому загадочные строки, столь точно и правдиво передававшие тайные помыслы, в которых он сам еще не отваживался себе признаться, надлежит приписать некоему вмешательству, каковое надо признать сверхъестественным, до тех пор пока ему не найдется другого объяснения или названия.
Пока Ги де Маливер терзался этими вопросами, экипаж катил по почти опустевшим из-за мороза и снега улицам, хотя обычно в фешенебельных кварталах ночная жизнь замирает только под утро. Вскоре позади остались площадь Согласия, улица Риволи, Вандомская площадь, и, выехав на бульвар, карета свернула на улицу Шоссе д’Антен, где жила госпожа д’Эмберкур.
Едва завидев двор, Ги был неприятно поражен: на песчаной площадке в два ряда стояли кареты, кучера кутались в меховые накидки, а скучающие лошади покусывали удила, роняя на заснеженную мостовую хлопья пены.
– И это называется скромный прием, чай у камина! По-другому у нее не бывает! Да тут весь Париж, а я без белого галстука!1 – ворчал Маливер. – Лег бы лучше спать, так вот нет, оделся, помчался на ночь глядя! Тоже мне Талейран, хитрая лиса: не прислушался к первому побуждению, а зря2.
Медленно поднявшись по ступеням, Ги сбросил шубу и направился в гостиную. Лакей распахнул перед ним двери с особым заискивающим раболепием, словно перед человеком, который вскоре станет в доме хозяином и в чьем услужении он хотел бы остаться.
– Вот как! – прошептал Маливер, заметив эту подчеркнутую услужливость. – Даже лакеи распоряжаются моим будущим и по собственному почину женят на своей госпоже, а ведь нашу помолвку еще даже не оглашали!
Госпожа д’Эмберкур заметила Ги, который приближался к ней, низко опустив голову и сгорбив спину, ибо такова нынешняя манера кланяться. Она вскрикнула от радости, но тут же попыталась изобразить на лице обиду. Однако ее губы привыкли к широкой улыбке, открывающей не только перламутровые зубы, но и розовые десны, и толком надуться не сумели. Краешком глаза заметив в зеркале, что выглядит не лучшим образом, графиня, которая была женщиной умной и понимала, что нельзя слишком многого требовать от современных мужчин, решила разыграть пай-девочку.
– Как вы поздно, господин Ги! – Она протянула ему ладошку, которая на ощупь казалась деревянной, ибо была затянута в чересчур узкую перчатку. – Вы, конечно, задержались в вашем гадком клубе за сигарами и картами. Так вот вам наказание: вы пропустили выступление великого немецкого пианиста Крейслера3, который сыграл нам хроматический галоп Листа4, и не слышали очаровательной графини Сальварозы, исполнившей арию «Ива»5 так, как не снилось самой Малибран!6
В нескольких вежливых фразах Ги выразил сожаление, которого на самом деле почти не испытывал, по поводу пропущенного виртуозного галопа и арии в исполнении светской дамы. Посреди разряженных гостей он чувствовал смущение оттого, что вокруг шеи у него вместо двух дюймов положенного белого муслина было два дюйма черного шелка. Ему хотелось забиться в какой-нибудь менее освещенный уголок, где в относительном полумраке его невольная ошибка не бросалась бы в глаза. Однако едва он удалялся на несколько шагов, как госпожа д’Эмберкур тут же словом или взглядом подзывала его и задавала какой-нибудь вопрос, на который Ги старался ответить как можно короче. В итоге ему все-таки удалось добраться до двери, которая вела из большой гостиной в малую, представлявшую собой оранжерею со шпалерами, сплошь увитыми камелиями.
Бело-золотая гостиная госпожи д’Эмберкур была обита ярко-красным индийским шелком и обставлена дорогими креслами, очень мягкими и просторными. В позолоченной люстре с хрустальными подвесками в форме листьев горели свечи. Светильники, кубки и большие часы в духе Барбедьена7 украшали беломраморный камин. Прекрасный, пушистый, как газон, ковер устилал пол. Длинные пышные шторы свисали с окон, а в центре великолепно обрамленного панно, с портрета кисти Винтерхальтера8, еще старательнее, чем в жизни, улыбалась графиня.
Что сказать о гостиной, украшенной дорогой мебелью, которую может раздобыть всякий, кому толстый кошелек позволяет не бояться длинных счетов от оформителя и обойщика? Ее банальная роскошь не отставала от моды и при этом была совершенно безликой. Ни одна деталь не выдавала вкуса хозяйки, и если бы не присутствие госпожи д’Эмберкур, то можно было подумать, что находишься в гостиной банкира, адвоката или заезжего американца. Комнате не хватало души и неповторимости, поэтому Ги, художник по натуре, находил ее ужасающе мещанской и отталкивающей. Впрочем, для госпожи д’Эмберкур этот фон был весьма подходящим, поскольку ее красота также состояла исключительно из общепризнанных прелестей.
В середине комнаты возвышалась огромная китайская ваза с редким экзотическим цветком, который посадил садовник госпожи д’Эмберкур, а она даже не поинтересовалась, как он называется. Вазу окружал пуф, на котором восседали в поднимающихся до плеч пенистых волнах газа, тюля, кружев, атласа и бархата женщины, по большей части молодые и красивые. Их причудливые и экстравагантные наряды свидетельствовали о неисчерпаемой и дорогостоящей фантазии Уорта9, а каштановые, русые, рыжие или же напудренные волосы своей пышностью даже у самых снисходительных недоброжелателей вызывали подозрение, что здесь, вопреки арии господина Планара, не обошлось без искусства, которое приукрасило природу10. И в этих волосах сверкали бриллианты, торчали перья, зеленели венки, усеянные каплями росы, распускались живые и сказочные цветы, блестели цепочки из цехинов, переплетались нитки жемчуга, светились стрелы, кинжалы, заколки с шариками, переливались украшения в виде крылышек скарабея, закручивались золотые ленточки, торчали красные бархатные банты, подрагивали драгоценные звездочки на кончиках спиралек – в общем, там было все, что только можно нагромоздить на голову моднице, не считая виноградных гроздьев, кистей смородины и других ярких ягод из тех, что Помона одалживает Флоре11, чтобы дополнить вечернюю прическу, если только в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году от Рождества Христова писателю дозволительно поминать сии мифологические имена.
Прислонившись к дверному косяку, Ги разглядывал атласные плечи под флером рисовой пудры, шеи с выбившимися колечками непослушных волос и белые груди, порой почти обнаженные из-за слишком глубоких декольте. Впрочем, женщины, уверенные в собственной неотразимости, легко мирятся с подобными мелочами. В самом деле, что может быть грациознее легкого движения, которым они возвращают на место сползающий рукав? Да и пальчик, кокетливо подправляющий корсаж, дает возможность принять красивую позу. Наш герой предавался этим наблюдениям и размышлениям, которые, в отличие от пустых разговоров, его действительно интересовали. По мнению Ги, только ради этого зрелища стоило бывать на званых вечерах и балах. Он рассеянно листал страницы живых альбомов с красавицами, этих одушевленных кипсеков12, разбросанных по светским гостиным, подобно стереоскопам13, альбомам и журналам, которые кладут на столики для застенчивых и малообщительных гостей. Он мог безбоязненно предаваться сему приятному развлечению, так как благодаря слухам о его скорой женитьбе на госпоже д’Эмберкур ему не приходилось таиться от бдительных матерей, желающих пристроить своих дочек. От него ничего не ждали. Его пристроили, он уже не представлял интереса, и хотя многие in petto[2]считали, что его выбор оставляет желать лучшего, вопрос был решен. Как жениху госпожи д’Эмберкур, ему было позволительно даже обменяться с молоденькой девушкой двумя-тремя фразами подряд.
В том же дверном проеме устроился еще один молодой человек, с которым Ги частенько сталкивался в клубе. Маливеру нравился его особый, скандинавский образ мыслей. Это был барон Ферое, швед, весьма склонный, как и его соотечественник Сведенборг14, к мистицизму и интересовавшийся миром потусторонним чуть ли не больше, чем земным. Внешность его тоже отличалась своеобразием. Пшеничные, ниспадающие прямыми прядями волосы выглядели более светлыми, чем кожа, а золотистые усы – такими белесыми, что их хотелось назвать серебряными. Выражение его серо-голубых глаз обычно не поддавалось определению, но иногда под вуалью белых ресниц они вспыхивали ярким пламенем и, казалось, видели гораздо дальше людей обыкновенных. Во всем остальном барон Ферое вел себя как совершенный джентльмен и не позволял себе ничего эксцентричного. Он держался всегда холодно, по-английски корректно и никогда не выставлял себя в обществе духовидцем. После чая у госпожи д’Эмберкур он собирался на бал в австрийское посольство и потому заранее оделся по-парадному: под черным фраком, из-под лацкана которого выглядывала планка иностранного ордена, на золотой цепочке сверкали кресты орденов Слона и Даннеброга15, прусский орден, орден Александра Невского16 и другие награды северных дворов, которые свидетельствовали о его заслугах на дипломатическом поприще.
Барон Ферое был поистине странным человеком, но эта странность не бросалась в глаза, ибо, как настоящий дипломат, он умел прятать ее под бесстрастной маской. Его часто видели в свете, на официальных приемах, в клубе, в Опере, но под маской светского человека скрывался таинственный незнакомец. Никто не мог назвать себя его близким другом или приятелем. В доме барона, где все было поставлено на широкую ногу, никто не проникал дальше первой гостиной; дверь, ведущая в глубь дома, оставалась закрытой для всех. Подобно туркам, он допускал посторонних только в одну-единственную комнату, в которой сам явно не жил. Отпустив гостя, он покидал гостиную. Чем он занимался? Никто не знал. Порою барон надолго исчезал, и те, кто замечал это, связывали отсутствие шведа с какой-нибудь секретной миссией или поездкой на родину, где проживала его семья.
Однако, случись кому-нибудь в поздний час пройти по пустынной улице, на которой располагался дом барона, он смог бы заметить свет в окне или самого хозяина, облокотившегося на перила балкона и устремившего взгляд к звездам. Впрочем, ни у кого не возникало желания следить за бароном Ферое.
Он отдавал свету ровно столько, сколько положено, и свет не требовал большего. Что до женщин, то исключительная вежливость барона не переходила определенных границ, даже когда ему предоставлялась возможность, ничем не рискуя, зайти немного дальше. Несмотря на холодность, он не был неприятен.
Классическая чистота его черт напоминала греко-скандинавскую скульптуру Торвальдсена17. «Это ледяной Аполлон», – говорила о нем прелестная герцогиня де С***, которая, если верить злым языкам, пыталась сей лед растопить.
Ферое, как и Маливер, разглядывал чарующе белоснежную спину, восхитительно округлившуюся, благодаря тому что ее обладательница слегка наклонилась. К тому же изредка по телу женщины пробегала дрожь из-за того, что трен18 сине-зеленых листьев, спускавшийся с волос, слегка щекотал ее кожу.
– Прелестная особа! – сказал барон Ферое, проследив взгляд Ги. – Какая жалость, что у нее нет души! Того, кто ее полюбит, ждет судьба студента Натаниэля из «Песочного человека» Гофмана19. Он рискует пригласить на танец куклу – то-то веселенький вальсок для человека с сердцем.
– Не беспокойтесь, барон, – со смехом отвечал Ги де Маливер, – у меня нет ни малейшего желания влюбляться в эти прекрасные плечи, хотя сами по себе они достойны высочайших похвал. Откровенно говоря, в настоящий момент я ни к кому не испытываю даже намека на страсть.
– Как, даже к госпоже д’Эмберкур? Ведь говорят, вы женитесь на ней? – с иронией и недоверием возразил барон Ферое.
– На свете, – Маливеру кстати вспомнилась фраза Мольера, – есть такие люди, что самого турецкого султана женили б на республике венецианской20. Что до меня, то я очень надеюсь остаться холостяком.
– И правильно сделаете. – Барон внезапно сменил тон с дружеского на торжественно-мистический. – Никогда и ничем не связывайте себя на этой земле. Оставайтесь свободным для любви, которая может прийти к вам. Духи смотрят на вас, и, возможно, из-за ошибки, совершенной здесь, вам придется вечно каяться в мире ином.
Пока шведский барон произносил эту загадочную фразу, его стальные глаза странно вспыхнули, и Ги де Маливеру почудилось, будто его грудь пронзили два жгучих луча.
После необычайных событий этого вечера мистический совет барона не встретил в нем недоверия, которое возникло бы в его душе еще накануне. Он взглянул на шведа удивленными вопрошающими глазами, словно умоляя пояснить сказанное, но господин Ферое вынул часы и сказал:
– Я опаздываю в посольство.
Он крепко пожал Маливеру руку и с восхитительной ловкостью, доказывавшей привычку вращаться в свете, не помяв ни единого платья, не наступив на чей-либо шлейф и не задев ни одного волана, проложил себе дорогу к выходу.
– Ги, что же вы не идете пить чай? – Госпожа д’Эмберкур наконец отыскала своего мнимого обожателя, который с отрешенным видом стоял у двери в малую гостиную.
Пришлось ему последовать за хозяйкой дома к столу, на котором в серебряном кувшине, окруженном китайскими чашками, дымился горячий напиток.
Реальное пыталось отвоевать добычу у воображаемого.
Глава III
Странная фраза барона Ферое и его почти внезапное исчезновение взволновали Ги. Он думал о бароне всю дорогу, пока Греймокин крупной рысью вез его назад в Сен-Жерменское предместье. Ледяной ветер подгонял коня, и он радостно мчался в теплую конюшню с плетеной подстилкой. Впрочем, надо отдать ему должное: породистое создание работало в полную силу при любой погоде.
«Что, черт возьми, хотел сказать барон? Что за загадки, что за выспренний тон и повадки мистагога?1 – думал Ги де Маливер, сбрасывая шубу на руки Джека. – Ведь этот джентльмен – представитель самой неромантичной культуры. Он прост, блестящ и остер, точно английская бритва. По сравнению с его манерами, изысканными и выверенными, полярный ветер покажется теплым. И вряд ли он вознамерился меня разыграть. Над Ги де Маливером не шутят, даже будучи в десять раз отважнее, чем этот швед с белыми ресницами, да и в чем соль подобной шутки? Нет, он говорил серьезно и сразу же исчез, как тот, кто не хочет продолжать разговор. Вздор! Забудем эти глупости! Завтра я увижу барона в клубе, и он наверняка все объяснит. Лягу и попробую уснуть, невзирая ни на каких духов».
Ги в самом деле лег, но сон не шел к нему, хотя он усердно, правда несколько машинально, читал самые снотворные журналы. Против воли он прислушивался к неуловимым звукам, которые еще раздавались в полной тишине. Тикал механизм часов, прежде чем пробить час или половину, потрескивали угольки в золе, поскрипывали деревянные половицы, капало масло в лампе, сквозняк, несмотря на валики, прорывался под дверь и с тихим свистом уносился в очаг, шурша, неожиданно падала на пол газета – нервы Ги были так напряжены, что от каждого звука он вздрагивал, будто от выстрела. Он слышал даже, как пульсирует кровь в висках и бешено колотится сердце. Но среди всех этих глухих шумов он не смог различить ничего похожего на вздох.
Время от времени в надежде уснуть он закрывал глаза, но вскоре опять распахивал их и всматривался в угол комнаты с любопытством, смешанным с опаской. Ги и хотел что-нибудь увидеть, и в то же время боялся, что его желание исполнится. Порой его расширенные зрачки различали расплывчатую тень там, куда не падал свет от лампы, прикрытой зеленым абажуром, или занавески приобретали очертания женского платья и двигались, словно за ними кто-то прятался, но то была чистая иллюзия. Перед его утомленными глазами танцевали, дрожали, росли и уменьшались голубоватые искорки, светящиеся точки, пятна различных очертаний, мотыльки, волны и змейки, и больше ничего.
Ги возбудился сверх всякой меры. Ему так и не удалось что-либо услышать или увидеть, но он чувствовал чье-то невидимое присутствие и потому встал, накинул машлах2 из верблюжьей шерсти, который привез из Каира, бросил два-три полешка на угли и уселся рядом с камином в большое кресло, более удобное для бессонницы, чем развороченная жаркая постель. Рядом с креслом валялся смятый лист бумаги, Ги подобрал его и стал рассматривать. Это было письмо, которое он написал госпоже д’Эмберкур в таинственном и необъяснимом порыве. Теперь ему казалось, будто чья-то нетерпеливая рука, делая копию с его записей, не смогла заставить себя точно следовать образцу и добавила к буквам оригинала черточки и штрихи от своего собственного почерка. И почерк этот был более изящным, более красивым, более женственным.
Заметив эти детали, Ги де Маливер вспомнил «Золотого жука» Эдгара По и то, как благодаря своей чудесной проницательности Уильям Легран разгадал тайный смысл шифрованной записки капитана Кидда и нашел пиратский клад с сокровищами. Ах, как ему хотелось обладать глубокой интуицией, которая позволяет делать смелые и безошибочные предположения, заполнять пробелы и связывать воедино порванные нити! Но и знаменитому Леграну, даже если бы ему на помощь пришел сам Огюст Дюпен из «Похищенного письма» и «Убийства на улице Морг»3, не удалось бы разгадать, какая таинственная сила водила рукой Маливера.
Вскоре Ги забылся тем тяжелым, беспокойным сном, который приходит с рассветом на смену бессонной ночи. Он пробудился, когда Джек вошел в спальню, чтобы растопить камин и помочь хозяину умыться. Ги зяб и чувствовал себя не в своей тарелке. Он зевнул, потянулся, встряхнулся, обрызгался холодной водой и, взбодрившись, полностью очнулся. Утро с серыми глазами, как говорит Шекспир, спустилось не по склонам зеленых холмов4, а по белым заснеженным крышам и, проскользнув в комнаты через раскрытые Джеком шторы и ставни, вернуло каждой вещи ее реальный вид и прогнало ночные видения прочь. Ничто так не помогает обрести уверенность в своих силах, как солнечный свет, даже если бледное зимнее солнце заглядывает к вам сквозь морозные узоры на стеклах.
Маливер воспрял духом и поразился тому возбуждению, которое охватило его ночью. «Не знал, что я такой нервный», – подумал он. Затем Ги вскрыл пачку свежих газет, пробежал глазами фельетоны, просмотрел раздел «Разное», снова взялся за недочитанную накануне «Эванджелину» и выкурил сигару. Дождавшись одиннадцати часов, он оделся и, решив немного размяться, направился пешком в кафе «Биньон»5. Утренний холод подморозил выпавший за ночь снег, и, шагая по саду Тюильри, Ги с удовольствием рассматривал статуи античных богов и большие каштаны в серебристом инее. Он завтракал не торопясь, как человек, желающий восстановить силы после утомительного вчерашнего дня, и охотно болтал со своими веселыми знакомцами, цветом парижского острословия и скептицизма, девизом которых была греческая максима: «Воздерживаюсь от суждения»6. Однако порой на их слишком живые речи он отвечал натянутой улыбкой. Душа его противилась парадоксам неверия и похвальбам циников. Слова барона Ферое: «Духи смотрят на вас» – то и дело всплывали в его голове, и Ги казалось, что за его спиной стоит невидимый наблюдатель. Распрощавшись с собеседниками, Маливер отправился на бульвар, по которому за один день проходит столько же умных людей, сколько за год по всему остальному земному шару. Однако сегодня из-за студеной погоды и раннего часа на бульваре было пустынно. Ги машинально свернул на улицу Шоссе-д’Антен и через несколько минут оказался перед домом госпожи д’Эмберкур. Он уже собирался позвонить, как услышал вздох, и в этом вздохе ему послышались произнесенные шепотом слова: «Не ходите туда». Он живо оглянулся, но никого не увидел.
«Вот оно что! – подумал Маливер. – Я, значит, с ума схожу? Теперь у меня галлюцинации среди бела дня? Послушаться или нет этого странного приказа?»
Оглянувшись, Ги сделал резкое движение и нечаянно нажал на кнопку звонка. Пружина сработала, звонок прозвенел. Привратник отворил дверь, и Маливер нерешительно застыл у порога. После сверхъестественного вмешательства желание навестить госпожу д’Эмберкур почти совсем пропало, но Ги не нашел в себе мужества развернуться и уйти. Госпожа д’Эмберкур приняла его в своей малой гостиной, обитой яркими голубыми обоями в цветочек. Их расцветка до того не нравилась Ги, что он несколько раз умолял хозяйку поменять их на что-нибудь менее отвратительное.
«Но ведь желтый – это цвет брюнеток», – отвечала ему графиня.
На ней была юбка из черной тафты и яркая жакетка, густо покрытая сутажом и вышивкой, гагатом и позументами, словно юбка какой-нибудь махи7, идущей на праздник или бой быков. За этой светской женщиной водился один грешок: она заказывала себе некоторые из тех нелепых нарядов, что в журналах мод демонстрируют куклы с губками сердечком и розовыми щечками.
Против обыкновения госпожа д’Эмберкур была серьезна: облачко раздражения омрачало ее ясное чело, а уголки губ были слегка опущены. Только что она проводила одну из своих лучших подруг, и та, уходя, с деланым простодушием, свойственным женщинам в подобных ситуациях, поинтересовалась, на какое число назначена свадьба графини с Ги де Маливером. Госпожа д’Эмберкур покраснела и, запнувшись, ответила туманно, что, мол, ждать осталось недолго. Дело в том, что Ги, которого свет прочил ей в мужья, никогда не то что не просил ее руки, но даже ни разу не объяснился. Графиня относила это на счет его почтительной застенчивости, а также колебаний, которые каждый молодой человек испытывает перед тем, как расстаться с холостяцкой жизнью. При этом она твердо верила, что Маливер вот-вот решится, и уже до такой степени считала себя его женой, что продумала все перестановки, какие необходимо будет произвести в доме, когда у нее появится муж. «Здесь будет спальня Ги, здесь – кабинет, а здесь – курительная», – много раз говорила она, оглядывая свои апартаменты.
Хотя госпожа д’Эмберкур ему почти не нравилась, Ги нехотя признавал, что с общепринятой точки зрения она красива, обладает безупречной репутацией и приличным состоянием. Как все, чье сердце молчит, он безучастно привык к дому, в котором его принимали лучше, чем где бы то ни было. Стоило ему не показаться несколько дней, как настойчивая любезная записка вновь вынуждала его явиться на улицу Шоссе-д’Антен.
Впрочем, почему бы и не пойти? У госпожи д’Эмберкур собиралось избранное общество, порой он встречал там кое-кого из своих приятелей и тем самым избавлял себя от неудобств, связанных с поиском нужных людей в парижской неразберихе.
– У вас немного нездоровый вид, – заметил Ги. – Вы плохо спали этой ночью из-за бесенят зеленого чая?
– О нет! Я добавляю в него столько сливок, что он теряет всю свою силу. И потом, я же вроде Митридата – чай на меня не действует8. Дело не в этом, я просто раздражена.
– Мой визит пришелся некстати и нарушил ваши планы? Тогда я исчезаю, сделаем вид, будто я не застал вас дома и оставил свою визитную карточку у привратника.
– Вы нисколько меня не стесняете, я всегда вам рада, – ответила графиня. – Наверное, не стоит так говорить, но я считаю, что вы очень редко у меня бываете, хотя другим может казаться обратное.
– Разве вы не свободны, разве вас донимают строгие родители, надоедливый брат, вздорный дядя или тетка-компаньонка, которая сует нос во все ваши дела? Заботливая природа избавила вас от колючих зарослей из этих пренеприятных созданий, которые так часто встают стеной вокруг хорошеньких женщин, и любезно оставила за вами только их наследство. Вы можете принимать кого хотите, потому что ни от кого не зависите.
– И то правда, – вздохнула госпожа д’Эмберкур. – Но ведь можно не зависеть ни от кого конкретно и быть зависимой от всего света. Женщина никогда не чувствует себя по-настоящему свободной, даже если она вдова и на первый взгляд сама себе хозяйка.
Ее окружает толпа бескорыстных соглядатаев, которые живо интересуются ее делами. Так вот, мой дорогой Ги, вы меня компрометируете.
– Я вас?! – воскликнул Ги с искренним удивлением, свидетельствующим о скромности, редкой для молодого человека двадцати восьми лет, который одевается у Ренара и заказывает брюки в Англии. – Почему именно я, а не д’Аверсак, не Бомон, не Яновски…9 не Ферое, наконец, ведь они здесь тоже частые гости?!
– Даже не знаю, как сказать. Или вы опасны, сами того не сознавая, или свет считает, что вы обладаете силой, о которой не подозреваете. Никто ни разу не произносил имен этих господ, все находят совершенно естественным, что они навещают меня по четвергам, заглядывают между пятью и шестью часами после прогулки или заходят в мою ложу в Буффах10 и в Опере. Но те же самые невинные поступки, похоже, приобретают особый смысл, когда речь идет о вас.
– Я обычный холостяк, никто никогда не судачил на мой счет. У меня нет ни синего фрака, как у Вертера11, ни камзола с разрезами, как у Дон Жуана. Я никогда не играл на гитаре под балконом, не показывался на бегах с дамочками в скандальных туалетах, не вел на вечеринках душещипательных бесед с хорошенькими женщинами для того лишь, чтобы блеснуть собственной чувствительностью и нежностью. Неужто я стоял у колонны и молча, с мрачным видом взирал, засунув руку за жилет, на бледную красавицу с длинными буклями, похожую на Китти Белл из книги Альфреда де Виньи?12 Разве я ношу на пальцах колечки, сплетенные из волос, или вы видели у меня на груди мешочек с пармскими фиалками, подаренными ею? Поройтесь в моих самых секретных ящичках – вы не найдете там ни портрета какой-нибудь блондинки или брюнетки, ни надушенных писем, перевязанных шелковой ленточкой, ни расшитой туфельки, ни маски с кружевной вуалью, ни одной безделушки, из которых влюбленные составляют свой тайный музей. Ну, скажите честно, похож я на волокиту?
– Вы очень скромны, – отвечала госпожа д’Эмберкур, – или строите из себя невинность ради собственной забавы. Но, к несчастью, все придерживаются другого мнения. Все дружно осуждают вас за внимание ко мне, хотя я, со своей стороны, не вижу в нем ничего дурного.
– Хорошо! – вскричал Маливер. – Я стану реже ходить к вам, раз в две недели или раз в месяц, а потом уеду. Куда? Я уже посетил Испанию, Италию, Германию, Россию. О! Я не был в Греции! Это преступление – не побывать в Афинах, не увидеть своими глазами Акрополь и Парфенон13. Можно добраться до Марселя или до Триеста, сесть там на австрийский пароход Ллойда14, доплыть до Корфу, потом полюбоваться Итакой, которая, как и во времена Гомера, soli occidenti bene objacentem, то бишь лежит на самом западе15. Затем надо пройти в глубь залива Лепанто16, пересечь перешеек17 и посмотреть, что осталось от Коринфа, который не всякому суждено увидеть18. Там пересесть на другое судно, и через несколько часов вы уже в Пирее19. Все это мне Бомон рассказывал. До Афин он слыл отчаянным романтиком, а повидав Парфенон, и слышать не хочет о новом искусстве. Теперь он ярый поклонник классицизма. Утверждает, что после греков человечество вернулось в состояние варварства, а каждая из наших так называемых цивилизаций – всего лишь разновидность упадка.
Госпоже д’Эмберкур не польстили эти географические восторги. Уж слишком послушно стремился Маливер к тому, чтобы не компрометировать ее. Забота о ее репутации, грозившая бегством, не устраивала вдову.
– Полноте, кто же вас просит ехать в Грецию? – Она вспыхнула и добавила дрожащим голосом: – Разве нет более простого способа заставить умолкнуть недоброжелателей? Неужели надо бросать своих друзей и отправляться в страну, полную опасностей, если верить господину Эдмону Абу и его «Королю гор»?20
Испугавшись, что последняя фраза прозвучала слишком откровенно, графиня почувствовала, что покраснела еще сильнее. От участившегося дыхания засверкала и зашелестела гагатовая вышивка ее жакетки. Затем, взяв себя в руки, она вновь подняла на Маливера глаза, которые от волнения стали поистине прекрасными. Госпожа д’Эмберкур любила Ги, своего молчаливого поклонника, настолько, насколько способна любить женщина ее склада. Ей нравилась его несколько небрежная манера завязывать галстук. Следуя непостижимой женской логике, понять которую не удается даже самым утонченным философам, она пришла к заключению, что тот, кто завязывает галстук таким узлом, обладает всеми качествами превосходного мужа. Вот только будущий муж продвигался к алтарю очень медленно и, похоже, совсем не торопился зажечь факел Гименея.
Ги прекрасно понял, что хотела сказать госпожа д’Эмберкур, но более чем когда-либо остерегался связать себя неосторожным словом. Поэтому он произнес только:
– Конечно, конечно, но путешествие положит конец пересудам, а когда я вернусь, мы посмотрим, что тут можно сделать.
Услышав уклончивый и холодный ответ, графиня передернулась от досады и закусила губу. Ги, крайне смущенный, хранил молчание. Напряжение нарастало, но тут в гостиную вошел слуга и доложил:
– Господин барон де Ферое!
Глава IV
Увидев шведского барона, Маливер не удержался и облегченно вздохнул. Никогда еще новый гость не являлся так кстати, и потому Ги посмотрел на господина Ферое глазами, полными глубокой признательности. Без его своевременного вмешательства наш герой оказался бы в весьма затруднительном положении: надо было дать госпоже д’Эмберкур четкий ответ, а он терпеть не мог формальные объяснения. Держать слово он любил больше, чем давать, и предпочитал ничем себя не связывать даже по мелочам. Взгляд, которым госпожа д’Эмберкур наградила барона Ферое, не отличался добродушием, и, если бы свет не учил скрывать чувства, в этом взгляде можно было бы прочесть и упрек, и досаду, и ярость. Из-за несвоевременного появления этого персонажа она упустила случай, который дорого ей достался, и другой такой, возможно, не скоро представится, так как, без всякого сомнения, Ги будет избегать ее, и избегать старательно. Хотя в определенные моменты Ги проявлял решимость и отвагу, он в некотором роде опасался всего, что определило бы его жизнь раз и навсегда. Благодаря уму он мог преуспеть на любом поприще, но так ни одного и не выбрал, потому что боялся по ошибке отклониться от своего предназначения. Никто не знал за ним привязанностей, за исключением той привычки, что приводила его к графине чаще, чем к кому бы то ни было, наводя всех на мысль об их скорой свадьбе. Всякого рода связь или обязательство внушали ему опасение. Можно было подумать, что, повинуясь инстинкту, он пытается сохранить свободу ради какой-то никому не ведомой цели.
После обмена первыми фразами, этими осторожными аккордами, которые служат прелюдией к разговору, – так пианист пробует клавиши прежде, чем приступить к теме, – барон Ферое путем одного из тех переходов, что в два счета ведут вас от падения Ниневии к успеху Гладиатора1, завел речь, полную эстетических и трансцендентальных рассуждений об удивительных операх Вагнера – «Летучем голландце», «Лоэнгрине» и «Тристане и Изольде»2. Госпожа д’Эмберкур хорошо владела фортепиано, была одной из самых прилежных учениц Герца3 и все ж ничего не смыслила в музыке, особенно в такой глубокой, таинственной и сложной, какую сочинял автор «Тангейзера» и которая подняла у нас настоящую бурю4. Время от времени графиня отвечала на восторженные фразы барона банальными возражениями, которыми встречают обычно всякую новую музыку (точно так, как теперь Вагнера, когда-то и Россини упрекали за недостаточную ритмичность, отсутствие мелодии, непонятность, злоупотребление медными духовыми инструментами, запутанную оркестровку, оглушающий шум и, наконец, за техническую невозможность постановки), не забывая при этом добавить несколько стежков к вышивке, которую достала из корзины, стоявшей рядом с ее креслом у камина.
– Эта тема слишком сложна для меня, – заявил Маливер. – В музыке я полный невежда, нахожу прекрасным то, что мне нравится, люблю Бетховена и даже Верди, пусть они и не в моде, хоть нынче надо, как во времена глюкистов и пиччинистов, быть за королеву или за короля5. Засим покидаю поле боя, ибо не могу пролить свет на сей волнующий предмет. Я способен лишь кивать, произнося «хм!», «хм!», как тот монах-францисканец, которого пригласили судить философский спор между Мольером и Шапелем6.
С этими словами Ги де Маливер поднялся, намереваясь уйти. Госпожа д’Эмберкур, руку которой он на английский манер пожал, проводила его до двери взглядом, говорившим «Останьтесь» настолько ясно, насколько позволяла сдержанность светской дамы. В нем было столько грусти, что Маливер непременно растрогался бы, если бы заметил его, но Ги не мог оторваться от величественно-бесстрастной физиономии шведа, словно говорившей: «Не подвергайте себя снова опасности, от которой я вас избавил».
Выскочив на улицу, Ги с содроганием вспомнил о сверхъестественном предупреждении, которое прозвучало у дверей госпожи д’Эмберкур и которого он ослушался, и о бароне Ферое, чей визит так странно совпал с этим таинственным происшествием. Казалось, барон послан ему в помощь некими оккультными силами, и Ги почти ощущал их незримое присутствие. Не то чтобы Маливер был скептиком или Фомой неверующим, но и легковерием он тоже не отличался. Его никогда не интересовали ни сеансы магнетизеров, ни столоверчение, ни вызванные с того света духи. Он испытывал своего рода отвращение к экспериментам, подчиняющим чудо чьей-то власти, и даже отказался посмотреть на знаменитого Хьюма7, которым одно время увлекался весь Париж. Еще вчера он был беззаботным и довольным собой холостяком, радовался жизни, доверял собственным глазам, не обременяя себя мыслями о нашей планете и не задаваясь вопросом о том, увлекает она за собой в своем вращении вокруг Солнца целый сонм невидимых и неосязаемых существ или нет. Теперь он не мог заставить себя отмахнуться от этих мыслей, его жизнь изменилась: нечто новое, незваное стремилось вмешаться в его мирное существование, из которого он старательно изгнал все поводы для беспокойства. Пока ничего страшного не произошло – слабый, словно плач эоловой арфы8, вздох, непрошеные фразы в машинально написанном письме, три слова, прозвучавшие над ухом, встреча с бароном, последователем Сведенборга, и его торжественный и загадочный вид, – но было ясно: некий дух кружит возле него, quaerens quern devoret[3]9, как говорит с присущей ей вечной мудростью Библия.
Предаваясь подобным размышлениям, Ги дошел до начала Елисейских полей10, хотя и не стремился попасть именно туда. Ноги сами понесли его в этом направлении, он лишь повиновался. Народу было мало. В наколенниках, с посиневшими носами и багровыми щеками, редкие упрямцы из тех, что в любую погоду отправляются на тренировку и купаются в речных прорубях, верхом возвращались с прогулки по Булонскому лесу. Двое-трое из них приветственно помахали Ги рукой. И хотя Маливер шел пешком, он даже удостоился милой улыбки одной из сомнительных светских знаменитостей, которая ехала в открытой коляске, выставив напоказ роскошные меха, отвоеванные у России11.
«Я единственный зритель, – подумал Маливер, – им нужны мои восторги. Летом Кора меня бы и не заметила. Но какого черта я здесь оказался? Обедать с Марко12 или баронессой д’Анж13 на террасе в „Мулен Руже“ холодно, и вообще у меня не то настроение. Впрочем, солнце уже садится за Триумфальной аркой, пора, как говорит Рабле, подумать о том, чтобы заморить червячка»14.
В самом деле, сквозь громадную арку, обрамлявшую часть неба, виднелось странное нагромождение облаков, отороченных по краям пеной света. Вечерний ветер сообщал этим парящим массам легкую дрожь, словно оживляя их, и прохожий мог легко распознать в темных тучах, пронизанных лучами, отдельные фигуры или даже целые группы подобно тому, как на иллюстрациях Гюстава Доре мысли, волнующие героев, находят отражение в небе, и Вечный жид видит у дороги распятого Христа, а Дон Кихот – рыцарей, сражающихся с волшебниками15. Маливеру показалось, что он четко различает ангелов с огненными крылами, которые парят над сонмищем непонятных существ, суетящихся на слое черных облаков, похожем на залитый тенью острый мыс, прорезающий гладь фосфоресцирующего моря. Порой одна из нижних фигур отрывалась от толпы и поднималась к освещенным полям, пересекая солнечный диск. Там она какое-то время держалась рядом с ангелом, а затем растворялась в солнечном свете. Конечно, воображение не могло бесконечно удерживать этот изменчивый и нечеткий набросок. К тому же о любом облаке можно сказать, как Гамлет Полонию: «Это верблюд, если только не кит»16, и в обоих случаях позволительно дать утвердительный ответ, даже не будучи глупым придворным.
Наступившая ночь погасила воздушную фантасмагорию. Вскоре уличные фонари проложили от площади Согласия до Триумфальной арки две огненные нити, которые производят чарующее впечатление и изумляют иностранцев, въезжающих в Париж вечером. Ги подозвал фиакр и велел отвезти его на улицу Шуазёль, где находился клуб17, членом которого он состоял. В передней, бросив лакеям пальто, он пробежал глазами список записавшихся на ужин членов клуба и с удовлетворением увидел имя барона Ферое. Он поставил чуть ниже «Ги де Маливер», пересек бильярдную, где скучающий маркёр18 ждал, не соизволит ли кто-нибудь из господ сыграть партию, прошел сквозь анфиладу просторных залов, обставленных с современным комфортом и согреваемых теплом мощных калориферов, которые, впрочем, ничуть не мешали толстым поленьям превращаться в угли на монументальных подставках больших каминов. Четверо или пятеро членов клуба отдыхали на диванах или, облокотившись на большой зеленый стол читального зала, рассеянно просматривали газеты и журналы, разложенные в порядке, который постоянно нарушался и восстанавливался. Двое-трое, пользуясь клубной бумагой, занимались любовной или деловой перепиской.
Приближался час ужина, гости беседовали, ожидая, пока метрдотель пригласит их к столу. Ги уже начал беспокоиться, что барон не придет, но не успели все собраться в столовой, как Ферое появился и разместился рядом с господином де Маливером. Стол был роскошно сервирован посудой из хрусталя, серебряными приборами и подогревателями. Блюда были весьма изысканными, и каждый запивал их по своей сиюминутной прихоти или привычке: пили бордо, шампанское, светлое английское пиво. Кто-то на британский манер просил принести бокал шерри или портвейна, и рослые лакеи в коротких брюках церемонно вносили их на гильошированных подносах19 с эмблемой клуба. Каждый руководствовался собственной фантазией, не обращая внимания на соседа, потому что в клубе все чувствуют себя как дома.
Против обыкновения Ги не воздал еде должных почестей. Половина блюд осталась нетронутой, а бутылка шато-марго20 опустошалась на удивление медленно.
– Да, вам не придется, – промолвил барон Ферое, – услышать упрек, подобный тому, что однажды Сведенборг услышал в свой адрес от белого ангела: «Ты слишком много ешь!»21 Ваша умеренность достойна подражания, можно подумать, что путем голодания вы хотите достичь духовного озарения.
– Одним глотком больше, одним меньше, – ответил Ги, – не думаю, что это влияет на очищение души и делает более прозрачной завесу, отделяющую видимое от невидимого. Но как бы там ни было, аппетит у меня пропал. Вот уже второй день обстоятельства, которые вам, насколько мне кажется, небезызвестны, честно говоря, поражают и тревожат меня. Я к такому не привык. В нормальном состоянии я веду себя за столом совсем иначе, но сегодня я сам не свой. У вас есть какие-нибудь планы на этот вечер, барон? Если нет ничего срочного или приятного, то я позволил бы себе предложить вам после кофе покурить со мной на диване в малом музыкальном салоне. Там нас никто не побеспокоит, разве что кому-то из этих господ взбредет в голову помучить фортепиано, но это маловероятно. Никого из наших любителей музыки сегодня нет, все заняты генеральной репетицией новой оперы.
Барон Ферое самым любезным образом принял приглашение Маливера, сказав, что это лучшее времяпрепровождение, какое только можно придумать. Оба джентльмена устроились на диване и для начала закурили превосходные сигары «Вуэльта де Абахо»22. Они неторопливо выпускали ровные клубы дыма, и каждый думал о предстоящем непростом разговоре. Обменявшись несколькими замечаниями по поводу качества табака, они согласились, что лучше отдавать предпочтение рубашке23 темно-, а не светло-коричневой, и шведский барон сам перешел к теме, лишившей Маливера покоя:
– Прежде всего, приношу свои извинения за то, что вчера у госпожи д’Эмберкур позволил себе дать вам странный совет. Вы не откровенничали со мной, и с моей стороны было дерзостью без дозволения проникнуть в ваши мысли. Мне несвойственно менять роль светского человека на роль духовидца, и я никогда бы так не поступил, если бы вы не заинтриговали меня. По признакам, знакомым только посвященным, я понял, что вам явился дух или по меньшей мере невидимый мир пытался вступить с вами в контакт.
Ги заверил, что барон ничуть его не шокировал, что в такой новой для него ситуации он, напротив, весьма рад повстречать человека, который столь сведущ в сверхъестественных материях и чья серьезность ему хорошо известна.
– Вы, должно быть, догадываетесь, – продолжал барон, слегка кивнув в знак благодарности, – что мне непросто говорить об этом, но вы, наверное, уже достаточно повидали и не верите, что за границей наших чувств ничего нет, а потому я не боюсь, что, когда разговор пойдет о таинственных вещах, вы примете меня за ясновидца или визионера24. Мое положение ставит меня выше подозрений в шарлатанстве. Впрочем, стороннему глазу доступна лишь внешняя сторона моего существования. Я не спрашиваю, что с вами случилось, но вижу, что вы привлекли внимание тех, кто находится за пределами земной жизни.
– Да, – признался Ги, – что-то неуловимое витает вокруг меня, и я не думаю, что будет бестактностью по отношению к духам, с которыми вы на короткой ноге, если я расскажу в деталях то, что вы сами почувствовали благодаря вашей сверхчеловеческой интуиции.
И Ги поведал барону обо всех событиях вчерашнего вечера.
Шведский барон слушал с исключительным вниманием, покручивая кончик светлых усов и не выказывая ни малейших признаков удивления. Он немного помолчал, глубоко задумавшись, а затем, как бы завершив цепочку умозаключений, неожиданно сказал:
– Господин де Маливер, скажите, не умерла ли какая-нибудь девушка от любви к вам?
– Ни девушка, ни женщина, насколько мне известно, – ответил Маливер. – Мне даже в голову не приходило, что я способен внушить такое отчаяние. Моя любовь, если так вообще можно назвать рассеянный поцелуй двух прихотей25, всегда была очень мирной и совсем не романтичной. Я легко влюблялся и легко расставался, а чтобы избежать бурных сцен, которых я боюсь больше всего на свете, всякий раз поворачивал дело так, что изменяли мне и бросали меня. Мое самолюбие охотно шло на такие жертвы ради моего же покоя. Поэтому я не думаю, что где-то меня оплакивают безутешные Ариадны – в моих парижских похождениях появление Бахуса всегда предшествовало уходу Тесея26. К тому же, признаюсь честно, пусть даже вы сочтете меня бесчувственным, я никогда не испытывал страсти сильной, исключительной, безумной, о которой так много говорят, хотя, наверное, на самом деле мало кто знает, что это такое. Никто не внушил мне желания связать себя неразрывными узами, никто не породил во мне мечты о двух жизнях, соединенных в одну, о лазурном, полном света и свежести рае, который, как утверждают, дарит любовь даже в шалаше или на чердаке.
– Это вовсе не означает, мой дорогой Ги, что вы не способны любить. Любовь бывает разной, и, несомненно, там, где решается наша судьба, вам было уготовано более высокое предназначение. Но еще не поздно – только наше согласие и наша воля дают духам возможность завладеть нами. Вы стоите на пороге бесконечного, бездонного, таинственного мира, полного иллюзий и мрака. Там сражаются силы добра и зла, и надо уметь отличить одно от другого, там есть и чудеса, и ужасы, способные смутить человеческий разум. Никто не возвращается из этой бездны таким, как прежде, наши глаза не могут безнаказанно взирать на то, что предназначено только душам. Путешествия в мир иной вызывают страшную усталость и в то же время отчаянную тоску. Остановитесь на этой опасной грани, не переходите из одного мира в другой и не отвечайте на зов, который стремится увести вас за пределы видимого. Духовидцы чувствуют себя в безопасности внутри круга, который они чертят вокруг себя и который духи не могут преодолеть. Пусть реальность станет для вас таким кругом, не покидайте его пределы, не то ваша власть кончится. Как видите, я плохой служитель культа, ибо не стремлюсь обратить вас в свою веру.
– Иначе говоря, – спросил Маливер, – в этом невидимом мире, чье существование открывается лишь малому числу посвященных, мне грозят какие-то смертельно опасные приключения?
– Нет, – ответил барон Ферое, – с вами не случится ничего, что можно заметить простым глазом, но душа ваша может сильно пострадать и навсегда утратить покой.
– Так дух, что удостоил меня своим вниманием, опасен?
– Нет, это дух, полный сочувствия, доброжелательный и любящий. Я встречал его в горних сферах, но небо – это не только головокружительные высоты, но и бездонные пропасти. Вспомните историю пастуха, влюбленного в звезду27.
– Но мне показалось, что у госпожи д’Эмберкур вы остерегали меня от земных связей.
– Да, – отвечал барон, – я должен был предупредить вас, чтобы вы были свободны, коль скоро захотите ответить вашему потустороннему гостю. Но вы пока еще ничего не сделали и по-прежнему принадлежите только себе самому. Может, лучше оставить все как есть и продолжать жить обычной жизнью?
– Например, жениться на госпоже д’Эмберкур? – иронически усмехнулся Ги.
– А почему бы и нет? Она молода, хороша собой, любит вас. Когда вы уходили, я прочитал в ее глазах неподдельную печаль. И к ней никогда не явятся никакие духи.
– Я хочу рискнуть. Благодарю за заботу, дорогой барон, но не пытайтесь соблазнить меня обыденностью. Я не так сильно привязан к жизни, как может показаться на первый взгляд. Если на этой земле я и устроился приятным и удобным образом, это еще не доказывает, что я лишен всякой чувствительности. В глубине души благополучие мне совершенно безразлично. Просто я счел более подобающим казаться веселым и беззаботным, чем выставлять напоказ романтическую меланхолию дурного толка, но отсюда не следует, что мир, каков он есть, меня чарует и радует. Да, правда, в гостиных я не выступаю перед самодовольными дамами с речами в защиту любви и идеалов, но я сохранил свою душу гордой и чистой, свободной от вульгарного культа, в ожидании неведомого Бога28.
В то время, как Маливер произносил свою речь с горячностью, которую светские люди себе не позволяют, глаза обычно бесстрастного барона Ферое зажглись от восхищения. Он был явно доволен тем, что Ги не поддается ни на какие уговоры и твердо стоит на желании узнать, что за дух вторгается в его жизнь.
– Раз вы так решили, мой дорогой Ги, возвращайтесь домой, я не сомневаюсь, что вас ждут новые видения. Я остаюсь, вчера я выиграл у д’Аверсака сто луидоров и должен дать ему возможность отыграться.
– Репетиция в Опере, должно быть, закончилась, я слышу, как наши друзья идут сюда, самым фальшивым образом распевая понравившиеся мелодии.
– Поторопитесь. Эта какофония нарушит гармонию вашей души.
Ги пожал барону руку и сел в карету, которая поджидала его у ворот клуба.
Глава V
Ги де Маливер вернулся домой, полный решимости испытать судьбу. С виду он не был романтичной натурой, чистая и неодолимая стыдливость заставляла его прятать свои истинные чувства, и он не требовал от других больше, чем давал сам. Приятные, ни к чему не обязывающие отношения связывали его с обществом, но не лишали свободы: все эти связи можно было безболезненно порвать в любой момент. Однако душа его грезила о пока не найденном счастье.
Барон Ферое объяснил ему в клубе, что обитателя мира незримого можно вызвать только путем крайнего сосредоточения, и потому Маливер собрал все силы своей души и мысленно сказал, что хочет увидеть духа, который, как он чувствует, находится где-то рядом и который не должен противиться его призывам, потому что сам уже давал о себе знать.
Затем Маливер стал с напряженным вниманием смотреть и слушать. Он ждал, сидя в той же гостиной, что и в начале нашего повествования. Довольно долго он ничего не видел и не слышал, но ему почудилось, что все предметы в комнате – статуэтки, картины, старые резные шкафы, экзотические вещицы, оружие – изменились и выглядят не так, как всегда. Свет лампы и тени наделили их собственной, фантастической жизнью. Нефритовый китайский божок, растянув рот до ушей, хохотал одновременно как ребенок и как старик, а погруженная в тень Венера Милосская, чью темную грудь рассекал яркий луч света, с отвращением раздувала ноздри и презрительно поджимала губы. Создавалось впечатление, что китайский божок и греческая богиня не одобряют действий Маливера. Наконец, глаза Ги, повинуясь внутреннему зову, обратились к венецианскому зеркалу, висевшему на стене, обитой кордовской кожей. Это было одно из тех зеркал прошлого века, которые можно увидеть на картинах Лонги, этого Ватто венецианского декаданса1, нередко изображавшего утренний туалет дамы или сборы на бал. Такие зеркала до сих пор попадаются у некоторых старьевщиков в венецианском Гетто2