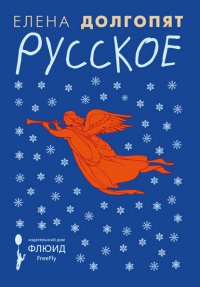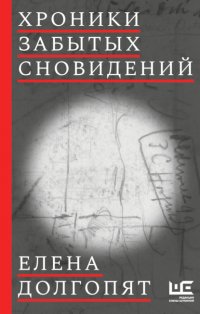
Читать онлайн Хроники забытых сновидений бесплатно
- Все книги автора: Елена Долгопят
© Долгопят Е.О., 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Часть I
Хроники Музея кино
Я сидела в номере отеля на берегу Средиземного моря, которое здесь называют Белым. За окном виднелись пальмы.
Я смотрела телевизор. «Улицы разбитых фонарей». Снег. Холодный питерский воздух. Сквозняки в арках и подъездах.
За окном гудели цикады. Гудели, как электрическая подстанция. Этот звук не прекращался.
Солнце скрылось за горами, и наступили сумерки. В Питере кто-то открыл створку, чтоб вдохнуть северный воздух. И вдруг экран погас.
Я переключилась на другой канал. Реклама. Французская. На третьем канале поляки крутили черно-белый фильм. Турки, немцы, итальянцы, все оставались, все дружно присутствовали в эфире, и только на месте русского канала зияла черная, точнее, серая, дыра. Я тут же подумала, что, наверное, больше нашей страны не существует.
Точнее, она существует, но только для себя самой, а для всех остальных стран и народов исчезла. Не ловятся сигналы ее спутников, молчат радиостанции, и из космоса на ее месте виднеется большое серое облако. Как будто ее проглотил огромный Бермудский треугольник.
И я подумала, что ведь это может быть надолго. И что тут, на турецком берегу, придется жить всю оставшуюся жизнь. Придется привыкать. Придется учить язык. Искать какую-то работу. Еще дня три покормят в отеле, а потом скажут – освобождайте номер.
России нет, думала я. И что мы сможем о ней рассказать нашим детям?
Я выключила телевизор. Гудели цикады. Звучали с улицы голоса. Люди неторопливо шли с пляжа и говорили по-русски. Следовало идти ужинать. Я вновь включила телевизор. Русский канал. Заключительные титры «Разбитых фонарей».
Россия исчезла не больше чем на минуту.
Когда через три дня я вернулась домой и наконец-то уселась пить чай на родной кухне, я услышала по радио о деле ЮКОСа. И с ужасом поняла, что за неделю совершенно о нем забыла. И не только о нем, я полагаю.
18 ноября 1998
В электричке я услышала, как старуха сказала, что в ноябре Бог Землю не видит.
Я смотрела в окно. Осеннее золото давно было смыто дождями. Земля лежала черная под низким небом. И Богу, с его высоты, конечно, она была не видна, сливаясь с чернотой космоса. И любое преступление оставалось безнаказанным в ноябре.
Академик Вернадский думал, что Земля из космоса зеленая, а я в детстве, как древний человек, думала, что Солнце не больше моей ладони.
29 ноября 1998
«Иван Грозный». Вторая серия (режиссер Сергей Эйзенштейн, 1945, вышла на экраны в 1958).
Вторая серия меня завораживает. Почему? Мне жаль – больше самой себя – этого мальчишку, которого толкает на трон безумная мать. Они оба безумны, но ее безумие – умного, расчетливого человека, пожираемого страстью, – конечно, страшнее, жутче. Она жаждет власти, так ей кажется, но мертвый сын ее пробуждает от морока, она видит, что власть – это мертвый сын. Глупый мальчишка сыграл царя в шутку, шут, но погиб-то он за-вместо царя по-настоящему. Так он и был настоящий царь?
Что мне до них? До власти мне нет дела. Меня трогает шут, идущий на гибель. Меня трогает одиночество – безмерное – несчастного царя (я думаю, как же одинок Бог?). Меня трогает мать, в ослеплении убившая своего сына. Я не задумываюсь, не слишком задумываюсь, как все это сделано, как выстроено действие. Его сжигает огнем цветной эпизод, герои остаются на пепелище. И я вместе с ними.
Я, такая-то, тогда-то рожденная, сижу на диване у себя в комнате, идут титры на черном экране… Я, кто – я?
20 января 1999
«Токио-га» (режиссер Вим Вендерс, 1985). Фильм о режиссере Ясудзиро Одзу (1903–1963) и о его Токио.
В Музее была пресс-конференция перед ретроспективой Одзу. О нем давали документальный фильм Вендерса. Журналистов было мало. Фильм – путешествие по Токио. Одзу любил Токио и снимал, но фокус в том, что нет уже не только Одзу, но и запечатленного им города. Как-то летним вечером я с родителями сидела в Муроме, в бабушкином саду. Прекрасный тихий вечер, относительно, конечно, тихий (слышен был ход маневровых, переговоры диспетчеров…) и относительно, как водится, прекрасный. Относительно и в том смысле, что относит его от меня все дальше и дальше… Мы сидели на скамейке под старой яблоней, на тропинке за забором появилась женщина. Забор у нас не глухой, доски к поперечным перекладинам прибиты редко, и всё насквозь видно. Женщина шла медленно, как сомнамбула из «Кабинета доктора Калигари». Уж не знаю, кто ей управлял. Она с нами поздоровалась и спросила о соседях. Мы сказали, что их уже нет давно. Она сказала: Боже мой, никого нет, никого не осталось. Она приехала в город, в котором ее не было много лет, в котором ее больше не было.
Фильм Вендерса – об утрате, о невозможности вернуть утраченное.
Современный Токио: приготовление (именно так!) муляжной еды для витрин ресторанов. Игра в гольф на крышах, без лунок; весь смысл в ударе, а не в попадании (не во что попадать). Игровые автоматы. Современные поезда. Чтобы показать далекое будущее, необязательно строить фантастические декорации, можно показать современный город (Тарковский, Годар). Будущее уже наступило. Дальнейшее – молчание в саду под яблоней, и голоса диспетчеров приносит ветер, или – голоса отзвучавшие, ушедшие и вернувшиеся, совершившие круг. Мы – свидетели замыкания круга.
Плакал, вспоминая Одзу, бывший его оператор, старик…
После пресс-конференции был фуршет, который мы, собственно, и готовили перед началом. Наша еда была съедобная, но тоже муляжная в своем роде, витринная.
31 января 1999
«Пора созревания пшеницы» (режиссер Ясудзиро Одзу, 1951).
В фильмах Одзу движение может потрясти. Как если бы дом, на который я сейчас смотрю из окна, вдруг тронулся; движение как предзнаменование катастрофы.
Объектив его камеры не движется практически никогда. И то, на что он смотрит, тоже почти не движется. Почти. Когда вдруг наклоняется трава под ветром, или падает на пол журнал, или вьется тонкой стружкой кожура яблока под острым лезвием – это незначительное, в общем-то, движение становится грандиозным событием, невероятным, значительным.
О чем он рассказывает? Дочь выросла, ей пора замуж, но она не хочет бросать отца одного. Ничего не происходит. Только проходит жизнь.
13 февраля 1999
«Машенька» (режиссер Юлий Райзман, 1942). В главной роли – Валентина Караваева.
После смерти Караваевой мы приехали забирать архив. Нас сопровождал милиционер. В ее однокомнатной квартире было мягко ходить, пол был устлан толстым слоем вонючих тряпок, бумаг, каких-то раздавленных коробок, вещей. Мы копались, выбирали документы, письма, обрезки пленок… Все это хранится сейчас в Музее, можно прийти и посмотреть, почитать: в письме от матери – листок отрывного календаря. «…в глазах твоих – небесный свет», – написано на листке.
Лет пятнадцать назад, когда я знать ничего не знала ни о Караваевой, ни о Музее кино, не помышляла даже о писательстве, моя подружка вышла замуж. Они сняли малюсенькую квартирку. Меня позвали помочь убраться. Человек, который недавно здесь жил, старик, умер, остались от него документы, записные книжки, письма, фотографии. Они никому не были нужны, абсолютно. Мы их собрали и снесли на помойку. Эти выброшенные бумаги наворожили мне мою жизнь. Я ничего из них не помню, ни строчки, ни лица (взгляда).
Валентина Караваева не забыта. Старика – как будто его и не было! Он исчез без следа. Он – трава, земля, никто, он – мой герой, человек без имени, человек без лица, без следов, без отпечатков пальцев. Никакой Шерлок Холмс его бы не вычислил! Он смотрит, но его никто не видит. Что страшнее – трагедия «Машеньки», всем известная, или невидимая, старика? Кто ж знает. Старик – зритель, зритель и должен быть невидим, «Машенька» была для него, для него одного предназначалась.
«Машенька» – фильм странный. Люди живут в казармах. Учебные военные тревоги. Любовь без поцелуев. Ждут войны. Дождались. Война все и поправила, все недоразумения разрешила. На самом деле все разрешила любовь, она – в Машеньке, в ней одной сосредоточена, сконцентрирована. Машенька – Караваева – сгусток любви, шаровая молния, небесный свет («в глазах твоих…»), осветивший углы и закоулки, темные и глухие без нее. Она, как это ни странно, вновь явившийся на землю, вновь – и иначе – воплотившийся образ Кроткой Достоевского; она – из «Дороги» Феллини. Кстати, Валентина Караваева родилась с Джульеттой Мазиной в один год, 1921‑й.
25 марта 1999
«Стеклянный зверинец» (режиссер Пол Ньюман, 1987).
Сегодня, 28 сентября 2006 года, когда я перечитываю (и переписываю) свой дневник, я ничего не помню из этого фильма. Ничего внятного, вразумительного. Он действительно превратился в сон, смутно вижу лицо мужчины, но удержать, рассмотреть не могу, оно распадается, и я остаюсь в полном недоумении – да было ли? Смотрела ли я на самом деле «Стеклянный зверинец» 24 марта 1999 года? Да было ли оно вообще, 24 марта? Не знаю.
Кстати, пьесу я тоже не помню. Искать и перечитывать сейчас нет охоты. Можно догадаться, что в фильме действуют стеклянные звери, их и сейчас делают во множестве, крохотные фигурки из разноцветного стекла, гладкие и холодные на ощупь, что-то вроде нетающего, вечного льда. Лед-то вечный, но фигурки из него – бьются.
Наверно, пришла пора объяснить, что для меня значит поход в кино.
Это событие, к которому я готовлюсь, на которое настраиваюсь, в каком-то смысле – обрекаю себя. Фильмы в Музее, а больше я никуда и не хожу, заканчиваются в девять-одиннадцать вечера. На электричку успеть можно, но автобуса от станции уже не будет. Приходится оставаться ночевать в Москве, у знакомых. Слава богу, дом, где меня примут, всегда, или почти всегда, находится; правда, ночевать в гостях я не люблю, стесняюсь. Такое вот бытовое обстоятельство, которое определяет мое душевное состояние. На поход в кино я должна настроиться заранее, собраться, как в путешествие, взять с собой зубную щетку… Мне рассказывали об одном художнике, его я не видела, его уже нет на свете, но я видела его работы, по-моему – замечательные; он был бродяга по натуре, когда на него находило, срывался и уезжал куда-нибудь. Зубная щетка всегда лежала в кармане его старенького пальто. Денег у него с собой, может быть, не было ни копейки, а зубная щетка была. Что-то вроде спасательного круга в прозрачном мире его грез. Когда-то, вдохновившись его печальным образом (еще не зная о его настоящем земном воплощении!), я написала о нем рассказ. Узнав об этом человеке, узнав подробности его существования, я к рассказу вернулась. В кармане моего героя тоже появилась зубная щетка.
Мир, в котором путешествую я, тоже вполне прозрачен, что-то я сквозь него прозреваю иногда. И даже если фильм оказывается так себе, поход в кино все равно остается событием. Видимо, моя жизнь так же неподвижна, бессобытийна, как фильмы Одзу, и малейшее в ней перемещение (пусть призрачное) отдается грохотом в моем сознании.
9 апреля 1999
«Шоу Трумана» (режиссер Питер Уир, 1998).
Герои живут в мире, которого на самом деле нет. Нет солнца, в реальности которого они так уверены, нет друзей, нет их самих. Почему нам порой кажется, что наш мир – это сон, мираж, морок? И все, что с нами происходит, неправда? Но что же тогда есть на самом деле? Что стоит за всем этим зримым и слышимым?
И меня не раз охватывало чувство иллюзорности происходящего, и мне хотелось разглядеть настоящее за мнимым, и даже казалось иногда, что я вижу. Но дело не в этом. Сомнение как таковое меня занимает.
Последние дни бабьего лета, летят сухие листья, трава еще зеленая, лежат в траве яблоки, яблони посадил когда-то Александр Довженко; мы выбираем яблоки из травы, это «Мосфильм», фабрика наших грез, тихий прозрачный воздух, неподвижная вода в пруду… Покой, вечный покой, мне представляется таким вот осенним днем, тихим, пустым, и вечер не наступит никогда. А в павильонах снимают драки, драмы, страсти, смерти. Действие будет разворачиваться на экране. За стенами кинотеатра пахнет прелыми листьями, хочется присесть на скамейку и никуда не двигаться, паутина покрыта росой, паука не видно. Я с изумлением слышу разговор:
– Я решила покончить собой.
– Не глупи, смотри, какая погода хорошая.
Может быть, кто-то репетирует? Впрочем, это ведь уже не «Мосфильм», это лесок возле станции Зеленоградская, жизнь, чья-то жизнь, не моя. Жизнь есть сон, так?
25 апреля 1999
«Фауст. Народная сага» (режиссер Фридрих Мурнау, 1926).
Фильм немой, черно-белый, давали под живую музыку.
Кричит женщина, огромное лицо, рот, в который летит все – дороги, горы, города. На экране любая травинка может оказаться равной по величине – значению – человеку. Или небоскребу, или молекуле; экран все может сделать равновеликим. Телевидение устанавливает другое тождество. Квартирная кража, военные действия, цунами, авария на железной дороге, открытие выставки… На телевизионном экране события равны, и всё – событие.
У Мефистофеля шпага приподнимает сзади плащ; шпага – хвост. Он – нечистый – человечнее всех в этом фильме. Крутит шашни с тетушкой, выпивает с удовольствием, вообще живет с удовольствием. Интересно, для него земной мир тоже сон? Чей? Его черные крылья закрывают город черной ночной тенью.
Музыка, которую в подобных случаях называют живой, то есть реальной, происходящей в реальном времени, неповторимой, мне мешала. Она не имела никакого отношения к фильму, жила сама по себе. Кстати, когда еще ничего не началось и в полумраке пятого зала музыканты настраивали инструменты, одному из них, в шелковой переливчатой рубашке, кто-то сказал:
– Какая рубашка! Сама по себе живет!
На этот раз я ночевала у Светы, у меня был ключ от квартиры, а в квартире ждала меня маленькая собака Терка (ее уже нет на свете). Это была интеллигентная собака, немногословная, умная, вежливая. При ней невозможно было сказать грубое слово, даже в мыслях. Вообще, жить с существом, которому открыты твои мысли, невыносимо (так же, как и быть таким существом). Но Терке, очевидно, не было дела до моих мыслей, они ее не трогали, разве что грубость могла ее покоробить. В таких случаях собака просто выходила из комнаты.
17 мая 1999
«Последнее метро» (режиссер Франсуа Трюффо, 1980).
Почему этот фильм ассоциируется у меня с Музеем?
Я окончила ВГИК в 1993 году. Никому мои сценарии не были нужны, работы не было, денег не было, жила я за счет родителей. Во ВГИКе я дружила с сокурсником, мексиканцем, он носил яркие свитера, неплохо говорил по-русски, писал значительно хуже, я перепечатывала его тексты на машинке «Любава», фактически переводила с подстрочника, мне это нравилось. Мы бродили по Москве, болтали, целовались, смотрели кино. Я даже не думала, что он возьмет меня с собой в Мексику. Он тоже об этом не думал. Первое время мы переписывались, но все заглохло, как тропинка, по которой никто не ходит. Я осталась одна в 1993‑м. Надо было как-то устраиваться. Москва казалась чужой, темной, я в ней – ничтожной, никто меня не видел и не слышал, люди проходили сквозь меня. Я пыталась утвердиться, стать хотя бы кем-то. Впрочем, это хроническая моя болезнь – неполнота собственного существования, неопределенность собственной личности. Иногда болезнь затихает, и мне кажется, я тоже что-то значу (и тому старику, исчезнувшему без следа, канувшему в никуда, так, наверно, казалось). Время все усугубляло, закрывались предприятия, многие остались без работы, моя приятельница по МИИТу, программистка, окончила курсы по рисованию матрешек, она жила под Загорском. Мы ездили с ней на рынок в Измайлово. Иностранцы подходили к матрешкам, раскрывали, рассматривали. Покупали редко. Было сыро и холодно, золотые листья лежали в грязи. Мы улыбались прохожим, пересчитывали мелочь ледяными пальцами. Много смеялись. В электричке сидели тихо, устало.
Мой давний знакомый, тоже по МИИТу, дал мне телефон Высшей школы телевидения. Он занимался философией и кино, в институте у него была своя компания, они ходили в «Иллюзион», я с ними общалась мало, я жила сама по себе.
В Высшей школе меня попросили написать заявку на телепередачу об инвалидах. Заявка понравилась, под нее даже дали время на Первом канале. Денег мне за заявку не заплатили ни копейки, но предложили поработать редактором. Мама получила зарплату и купила мне сапоги.
Мы сидели в серой машине, что-то вроде «газели», машина была старая, продувалась сквозь щели, был вечер, режиссер рассуждал о литературе, о том, что это невозможное по нынешним временам занятие, в том смысле, что все уже написано, освоено, за что ни возьмешься, уже было-было. Я думала: но ведь никто еще не сидел в этой раздолбанной машине в этот именно миг, никто не проживал за меня мою жизнь и жизнь этого пожилого, усталого человека, который считает, что невозможно описать вечер в ноябре и любой другой вечер описать невозможно, но зачем тогда жить, тогда нужно лечь прямо здесь, в машине, сложить руки на груди, закрыть глаза и уснуть под шорох ветра. Лечь, правда, особенно негде, не развернешься.
Не было еще ничего, не было и не будет, если ты не возьмешь ручку и не попытаешься описать, остановить, как бедный Фауст, мгновение. Глядишь, и не канет в небытие этот человек в сером коротком, как будто он из него вырос за это лето, плаще. И шофер с папиросой в пальцах – останется, и сама дымящаяся папироса, умирающая на глазах.
Общество глухонемых располагалось в подвале кирпичной пятиэтажки. У них было чисто и тихо. Тишина казалась сама собой разумеющейся. Многие понимали, что мы говорим, по губам. Некоторые отвечали механическими голосами без интонаций, они себя не могли слышать. У них был небольшой буфет, по вечерам там устраивались танцы. Глухонемые чувствовали музыку как вибрацию воздуха, пола, собственного тела. У них был свой театр, свой часовой мастер, свой сапожник. Многие работали на заводе, там стоял чудовищный грохот, они его не слышали. Я записывала имена и фамилии тех, кого мы снимали, должности, страшно боялась напутать. Расшифровывала видеозаписи (диалоги, описание видеоряда). На той же серой машине мы ездили под Рузу, в санаторий для инвалидов-афганцев. Санаторий был пуст: то ли его только что построили, то ли отремонтировали. Директор водил нас безлюдными коридорами. Режиссер тосковал, что некого снимать. Стоял октябрь, чудесный, светлый; из автобуса – он вез меня ранним утром на станцию – я видела поле, вся трава была в белом инее, хотелось спать; набитый людьми автобус тащился медленно по узкой дороге, за речкой Скалбой начинался лесок, из него выходили прямо на обочину старые дачи, на веревках в облетевших садах висело белье, на застекленных верандах кто-то пил чай и смотрел на наш автобус, который скоро исчезал за поворотом.
Возвращалась я часто автобусом от ВДНХ. Он шел по Ярославке прямо до нашего поселка. В этом вечернем автобусе я услышала – кто-то говорил в толпе – о новом перевороте, о захвате Телецентра. Услышанное меня не взволновало. К счастью, толпа меня притиснула к ветровому стеклу, и я видела, как дорога бежит нам навстречу, дорога меня завораживала; и голоса, и все, что происходило в автобусе, не имело ко мне отношения, было где-то далеко, в другом каком-то измерении. Я и себя не чувствовала.
Передачу монтировали ночью. Там был сюжет с Гердтом, мы снимали в его квартире в «красных домах»; дома, действительно красные, стоят огромным замкнутым прямоугольником, внутри – чудесный зеленый двор, с фонтаном, аллеями, детским городком, баскетбольными площадками; на улицы из двора ведут арки, и кажется, что на ночь опускаются решетки, поднимаются на цепях мосты, выходят с алебардами караульные… Через этот чудесный зеленый двор я потом – очень потом, в другой жизни – ходила от метро к Свете ночевать после сеанса в Музее. Гердт говорил печально, что государство, которому не нужны инвалиды и старики, – плохое государство. Я тоже не чувствовала себя особенно нужной. И я видела таких людей, таких же, как я, узнавала по глазам, по мгновенному взгляду в толпе, по походке, по манере держаться и разговаривать. Мы были не лишние люди, мы были ненужные люди, новый тип, который я пыталась описать, который один мне описать удается. Моя приятельница, все по тому же МИИТу, прочитав мою первую книжку, сказала: «У меня даже снег падает по-другому». Она окончила бухгалтерские курсы, курсы по ценным бумагам, сейчас трудится финансовым директором, бог его знает, как у нее, за ее окном, падает снег, может быть, его вообще не бывает, вечно цветут розы, вечно поют соловьи, и молодые люди – серенады.
Передачу смонтировали без особого моего участия. За редакторские труды заплатили; сапоги, которые купила мне мама, стоили дороже. Философ спросил: «Ты не хочешь поработать в Музее кино?» К стыду своему, я не знала, что он существует, мы с моим мексиканцем как-то его проворонили.
В «Последнем метро» герой вынужден скрываться в подвале собственного театра. Идет война, он еврей. Жена его готовит ему побег из оккупированной фашистами Франции, но, главное, становится посредником – медиумом своего рода – между ним и труппой: она ставит спектакль, следуя советам и указаниям мужа. Очевидно, театр, игра, любовь – для них всех убежище от войны. Как для меня Музей – убежище от мира, что-то вроде монастыря, только не надо забывать, что это Музей кино, Музей иллюзий, Музей иллюзорный, что и будет впоследствии прояснено.
Мне близки все герои Трюффо, не только из «Последнего метро», мне кажется, они, как и я, пытаются воплотиться.
Я работаю в Музее двенадцать лет. Он для меня – ненужного человека – как для глухонемых их клуб. Они – там – среди своих, в крепости, защищенные от шума и грохота своей глухотой, я – здесь.
29 мая 1999
«Виридиана» (режиссер Луис Бунюэль, 1961).
Крупно, во весь экран, ноги девочки. Она прыгает через скакалку.
Ноги ее дяди на пыльной тропинке.
Босые ноги девочки.
Ноги дяди словно парящие над землей. И если ноги девочки оказывались над землей лишь на секунду, во время прыжка, то ноги дяди так и остаются над землей и обратно на нее не опускаются. Дядя повесился.
Выходит, пока ты на земле, пока жив, оторваться от земли, воспарить – не можешь. А если воспаришь, то это верный признак того, что ты мертв.
По-моему, это формула фильма. Невозможно быть живым и святым одновременно. Виридиана пытается. Для нее, с ее точки зрения, ее жизнь – цепь трагических несоответствий. Для зрителя эти несоответствия комичны.
Возможно, если бы Виридиана не была столь привлекательна и желанна, жить ей было бы проще. Но это на первый взгляд. И нежеланные желают.
Помнится, мы сидели в Музее, на шестом этаже, наверное, была зима, падал снег, крупный, в сиреневых сумерках. И вдруг Б.Д. запел по-французски: «Tombe la neige…» («Падает снег…») Сальвадора Адамо. Мы все смотрели за окно, снег падал, песня была про него, про нас, про колокольный перезвон, он доносился из переулка. Бог его знает, как все совмещается, наверно, в церкви стояли люди в полумраке, шипели маленькие свечи, женщины в платочках, мужчины без головных уборов, зрители уже ехали в Музей, уже брали билеты в кассе, и все они брели под снегом – в церковь, в Музей, в метро, в магазин… Мне нравится, как поет Адамо, и как поет эту песню Гарик Сукачев, мне нравится, но песня Б.Д. была мне ближе, в ней снег падал совсем уже по-моему.
Еще посмотрела «Мы и наши горы» Мамуляна, кино шестидесятых. В нем есть что-то вроде пролога: хроника безумного западного мира, затем – спокойствие (наверно, вечное) гор, иной мир, иной взгляд на мир, иная философия.
Почему-то у многих до сих пор не вызывает сомнения, что близость к природе дарует человеку спокойствие и гармонию. Я люблю тишину, но она не всегда успокаивает. «Природный» человек так же нелеп, как и цивилизованный. Человек вообще существо неправильное, «символическое животное», как сказал один знаменитый философ. Мы ищем смысл, значение, во всем: в горах, в тишине, в реве машин за окном, в трещине на потолке, в снеге, в тенях на экране. Самое смешное, что мы его находим. Находим то, чего нет.
22 июля 1999
Фильм о женщине, с которой ничего особенного не происходит, которая живет самой обыкновенной жизнью. За одним исключением. Ей кажется, что за ней кто-то наблюдает. С первого кадра.
Ей кажется, что за ней наблюдают даже ночью, когда она спит, даже когда она сидит в туалете.
Врач спрашивает:
– Это постоянное ощущение?
– Да. С недавнего времени.
– И сейчас?
– И сейчас наблюдают.
– Откуда?
Она указывает рукой – на зрительный зал. И зрители догадываются, что это их взгляды чувствует женщина на экране, от их взглядов она не знает, куда спрятаться, куда сбежать, и пытается покончить с жизнью.
1 августа 1999
В Музее закончился сезон, настали каникулы, и я, как водится, собралась на родину, в Муром, старинный город над Окой, в котором живут мои боги, вполне языческие, в котором ничего не меняется – для меня. Мне даже кажется, что я там есть, когда меня нет. И, когда возвращаюсь туда, возвращаюсь к себе. То есть мое местоположение, несмотря на ежедневные перемещения в поездах-электричках, определенно, устойчиво, несомненно. Я возвращаюсь, чтобы вспомнить, как паук ползет по рассохшемуся серебристо-серому дереву, какое низкое, близкое небо над рынком, как звучит в воздухе слово «Казанка» и как грязно на этой Казанке; грусть во всем, почти что небытие. И все, что было старинного, полустерто. Это вроде древней многослойной картины, по старому слою пишут новый, иные детали проступают; до прошлого, ушедшего в глубину слоя можно добраться, лишь уничтожив слои близкие, истребив настоящее.
В Музее, на фестиваль, давали старые фильмы. Я посмотрела довольно много (потому что дневные сеансы).
Фильм Кулешова про электрификацию (электрификацию с мультипликацией); монтеры накидывают провода на столбы, как ковбои, половиной лошадиной силы оказывается жеребенок, пропасть – буквальная – между городом и деревней успешно преодолевается, выпрямляется покосившаяся изба. Так что пафос этого фильма противоположен пафосу «Наших гор». Здесь лучшая жизнь – цивилизованная.
Хроника «Вскрытие мощей Сергия Радонежского». Земля не разверзлась, и гром не грянул. Именно это – неслучившееся – смысл и цель вскрытия и хроники.
«Поездка ВЦИК по Тверской губернии». Хроника, но постановочная. На самом деле, разница небольшая. Ставили то, что могли представить.
«Лесные люди» и «Экспедиция по Амуру» Литвинова. Первое гораздо интереснее, так как – про людей. Они – соответственно названию – живут в лесу, хижины строят из коры (огромные куски, видимо снятые с очень мощных деревьев, первобытных; почему-то первобытное для цивилизованного человека – это всегда мощь, сила, недоступная ему, но как будто исчезающая, тающая под его взглядом, не выдерживающая его взгляда, взгляда из будущего). Роженице ставят отдельную хижину, и никто туда не входит. Женщины, даже не заглядывая, ставят внутрь еду. (Увидеть – помешать!) На лодках плавают по рекам, лодки выдалбливают из стволов, рыбу бьют острогой, лакомство – сырая. Женщины и мужчины – все курят папиросы и трубочки. Шаман показан незначительным лицом, как фокусник, развлекатель. Припасы хранят в доме на сваях. Пушнину продают государству. В их цельную жизнь проникает цивилизация (она смотрит на них глазами зрителей в кинозале). В конце фильма один из племени видит себя на экране. Это его потрясает. Он вскакивает, смеется, оглядывается, показывает на себя и на другого себя, экранного.
«Лесные люди» – фильм тридцатых. В шестидесятые снимали документальный фильм о женщине, ветеране войны. Она смотрела военную хронику, и в это время ее снимали скрытой камерой, затем ей показали саму себя. И реакция женщины была не менее острой и непосредственной, чем реакция «лесного» человека.
Они увидели обретшие свободу собственные тени.
Этих людей давно нет, а их тени живут себе – на экране. Тени не главнее «хозяев» (и даже не всегда долговечнее), но они независимы и отдельны. Это пугает.
Фильм «Мотря» Габая, тоже шестидесятых. Входил в альманах «Начало неведомого века» с «Родиной электричества» Шепитько и «Ангелом» Смирнова. Мотре нужна семья, дом, а тут – бесконечная война, одни войска сменяют другие. И мне, зрителю, неважно, кто в конце концов возьмет власть, белые, зеленые, красные… Летит пестрый клубок, лишь бы остановился, и Мотря бы наконец нашла свое счастье.
Любовь в «Ледоломе» Барнета. В начале – река, песчаный берег, белый песок, на котором в обнимку он и она; бакенщик плывет по реке и зажигает огни. Поэзия, одним словом. Мираж.
«К счастливой гавани» Владимира Ерофеева (1930) о тогдашней жизни Германии.
Берлин – город из фантастического романа (так что будущее началось давным-давно). Транспорт перемещается и по земле и по небу; сложное переплетение мостов; воздушная дорога, по которой поезда идут как бы вверх ногами; дорога над ними, колеса на крыше, внизу – пустота, за пустотой мерещится город. Фантастика – это цивилизация. Впрочем, первобытная жизнь – это тоже фантастика. Во многих современных фильмах, где показывают далекое будущее, это далекое будущее весьма смахивает на далекое прошлое; люди ходят в каких-то домотканых рубахах, плавают на утлых деревянных суденышках, космические корабли похожи на избушки-развалюхи, ученые – на алхимиков и колдунов. Так что будущее и прошлое смыкаются (как город с деревней) в нашем простодушном сознании. И время – не спираль, а круг. И не выбраться из этого круга.
«Три дня Виктора Чернышева», 1967‑й. Я уже была на свете, четыре года как. Мы жили в Чите (перед тем как папу перевели в Забайкальск, а затем снова в Читу), на улице Бутина, и я помню, родители ходили иногда в кино, в кинотеатр «Родина». Оставить меня было не с кем, меня брали с собой, я соскучивалась в темноте, черно-белые события на экране меня не увлекали, я выбиралась из зала, торчала в коридоре, глазела из окна на улицу… Видели они тогда «Чернышева»?
Главный герой – молодой человек. Беспокойный, неуютный, никак не вписывающийся, выбивающийся. Он мало похож на героев из «Трех товарищей» Хуциева (то есть – «Мне двадцать лет»). Они там, прости господи, элементарны (чего не скажешь о людях из «Июльского дождя»). Характер Чернышева не поддается классификации. Может быть, это и не характер. Человеческая сущность? Состояние души?
Он не плохой, не хороший, и мир вокруг него не плохой и не хороший, равнодушный, скорее.
Я помню, мы шли втроем по улице, кажется, был светло-серый вечер, пыльный асфальт под ногами, мама поссорилась с папой, и мы шли молча, я от них отстала, я шла и старалась не наступить на трещину в асфальте, в Чите весь асфальт был в трещинах – не выдерживал разницы между жарким летом и суровой зимой, растрескивался. Вдруг низко пролетел-налетел сизый тяжелый голубь, он задел крылом мамину шляпку, мама вскрикнула. Шляпка была черная, круглая, с маленькими полями. Родители заговорили, ссора забылась.
Можно, конечно, считать этого голубя голубем мира, но вряд ли он сбился с курса, чтобы нарушить наше молчание. Впрочем, кто знает?
5 сентября 1999
«Ноль за поведение» (режиссер Жан Виго, 1933).
Директор – бородатый мальчик. Люди в черных похоронных костюмах, Чаплин и свобода решать, что означают вещи. Чаплина изображает новый надзиратель. Он же изображает покойника. Он же стоит на голове – свобода решать, где верх, где низ. Революция – по Виго – это когда люди отказываются играть свои роли: мальчик выходит из роли тихого и покорного. Революция – это мир кверху ногами. В «Виридиане» ноги в воздухе означали смерть; ноги в воздухе – попытка оторваться от земли, воспарить; у Виго ноги в воздухе – это свобода, ее миг длится чуть дольше мига святости. Нельзя быть святым и нельзя быть свободным – на земле. А чего там, на небе, кроме облаков и космонавтов, мы не знаем.
23 сентября 1999
«Хрусталев, машину!» (режиссер Алексей Герман, 1998).
Наваждение, от которого хочется освободиться.
Легко дать одновременное звучание: радио, воды из крана, криков за окном, разговора в комнате, разговора в соседней комнате, внутреннего монолога немого человека… И так далее и тому подобное. Мало ли что звучит одновременно на этом свете. Наша черепная коробка не раскалывается, так как мы улавливаем из этого хаоса самую малость. Можно, конечно, провести эксперимент и дать нам хотя бы часть этих звуков в их одновременности. Проверить нас на прочность. Но сможем ли мы это осмыслить? (Если выживем.)
Одновременно происходит множество разных событий. Нет другого способа их представить, кроме как представить их последовательно. Выбор последовательности и есть самый главный выбор. Показать их одновременно невозможно (полиэкран проблему не решает, мы все равно не смотрим на все эти маленькие экранчики одновременно). Можно дать изображение одного события, а звуки другого и третьего.
Мне подумалось, что зрителя «Хрусталева» раздавливает не столько содержание, смысл происходящих событий, сколько одновременность их. Все они разом на тебя обрушиваются.
Как если бы небо на тебя обрушилось, но не «крылатыми кусочками мрамора», а огненным ливнем. Неизбежная гибель.
Как если бы житель глухой деревни, чуть ли не единственный ее житель, оказался бы вдруг в переходе под Пушкинской площадью в час пик. С одной стороны, пространство очень ограничено (стены, потолок), с другой, перенасыщено – лицами, звуками, товарами за светящимися окошками витрин. И не выбраться из этого узкого коридора-лабиринта.
Особенно во время взрыва.
Я неизменно помню об этом взрыве, когда иду по переходу под Пушкинской площадью, вглядываясь в тесные расцвеченные витрины.
8 октября 1999
«Как зелена была моя долина» (режиссер Джон Форд, 1941).
Очень старая копия, трофейная. Титры – черные полосы с белыми буквами – чуть не в пол-экрана.
Со временем иллюзия становится материальной, так как пленка, на которой она запечатлена, материализуется, приобретает, так сказать, индивидуальность. По идее, конечно, носитель иллюзии никак не должен на эту иллюзию влиять, вмешиваться в нее, он сам должен быть иллюзорным, он должен быть невидимым и неслышимым, только носителем и ничем больше; но со временем он покрывается царапинами, пятнами, как старческое лицо – морщинами. В конце концов иллюзию уже и не разглядеть за сетью трещин, за черными полосами титров. Пленка сама по себе становится чуть ли не главнее изображения. Во всяком случае, она становится его автором (по крайней мере, соавтором), она переписывает сюжет, меняет интонацию актеров, от ее дряхлого старческого дыхания невозможно отмахнуться.
Реставрированная копия теряет индивидуальность, как теряет ее лицо старой актрисы после пластической операции. Достойнее хрип, и морщины, и постепенное угасание, погружение в небытие.
23 октября 1999
«Доктор Мабузе, игрок» (режиссер Фриц Ланг, 1922).
Доктор Мабузе – часовщик. Его мир отлажен, все действия в этом мире согласованы, колесики вертятся, стрелки бегут, портфель, выброшенный из поезда, попадает прямо в бегущую машину, две машины сталкиваются, господину предлагают пересесть; всё точно, всё вовремя, по плану. Он сверхчеловек, потому что управляет не людьми, а колесиками в часовом механизме.
От Калигари – через Мабузе – к Гитлеру.
Кто выбрал этот маршрут? И был ли выбор?
Заведенный механизм тикал-тикал и взорвался, точно по расписанию.
Кто его составлял?
16 января 2000
«Корабль дураков» (режиссер Стэнли Крамер, 1965).
В 1933 году плывет по морю немецкий корабль, на нем – немцы, евреи, карлик, американцы, испанцы, цыгане, собака, она ест за одним столом с людьми.
Насколько я поняла, все пассажиры (наверно, исключая собаку и карлика) больше всего на свете, больше смерти, страшатся выйти дураками, показаться глупцами в глазах других людей, показаться не такими, как они, не как все, выбиться из ряда.
Люди толпы.
У Эдгара По есть потрясающий рассказ «Человек толпы», в нем эпиграф: «Ужасное несчастье – не иметь возможности остаться наедине с самим собой».
Герой рассказа мешается с толпой, ищет толпу, чтобы исчезнуть в ней, раствориться, успокоиться тем самым. Для него «ужасное несчастье» – остаться наедине с собой. Он себя не вынесет. Душа его отягощена.
Так что не винтиками управлял Калигари-Мабузе-Гитлер, а людьми, не выносящими одиночества.
У По человек не мог остаться с собой, так как на душе его была неимоверная тяжесть, что-то такое, чем нельзя даже поделиться, что и вымолвить невозможно. Но ведь большинство самых обыкновенных людей не терпит одиночества! Какое страшное зло таят их сердца? Скорее всего, на их сердцах пусто. И боятся они именно этой пустоты.
Все измеряется временем: путь, ожидание, болезнь, жизнь, любовь… Чем измеряется время? Жизнью, любовью, болезнью…
Мне приснилась смешная фраза: «Вирус горячей воды столкнулся с железной дорогой».
12 февраля 2000
«Витгенштейн» (режиссер Дерек Джармен, 1993).
Из полной темноты, из небытия выходят лица и предметы. И существуют в этой темноте сами по себе, без связи с другими предметами и лицами.
Философы – люди ущербные в восприятии мира, инвалиды. Они как будто лишены какого-то чувства. Они это понимают и жаждут почувствовать то, чего не могут. Выясняют механизм чувства, пытаются чувство заменить этим механизмом (протез безногого). Но не только философы лишенцы.
Не все понимают, что они лишенцы, и не все понимающие этим мучаются.
Говорят, что Россия покоряла не народы, а пространство. Что значит покорить пространство? Пройти как можно дальше? Заселить? Изменить ландшафт? Уменьшить? Но пространство не уменьшается, полет на самолете – иллюзия, такая же, как киносеанс. Когда летишь на самолете, пространство становится сном, ты открываешь глаза – и сон исчезает. Ты просыпаешься, выходишь из темноты на свет, вдыхаешь непривычный воздух. Пространства нет, оно исчезло вместе со временем. Когда-нибудь оно отомстит и вновь материализуется, станет явью, станет непреодолимым, понадобится больше жизни, чтобы дойти до границы. Оно потребует всю твою жизнь и не насытится.
8 октября 2000
Боевик по-американски и по-русски.
Американский герой побеждает врагов, остается жив, здоров, с любимой женщиной, деньгами, славой. Русский герой врагов победить не может, он погибнет. Но на его месте тут же появится другой. И продолжит борьбу. И тоже погибнет. Но встанет третий. Русский герой – как трава. И потому тоже неистребим.
7 августа 2009
Красивые пухлые кресла, этакие губы, которые тебя прихватывают. Очень неудобно из них выбираться. К тому же проходы между сиденьями узкие.
Это я описываю зал в Доме кино – там во время Московского международного фестиваля я смотрела последний фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», антирождественскую историю. Зал был полон, но люди стали его покидать, поглядев начало. Впрочем, как ни странно, совсем немногие. История все-таки затянула.
Брат и сестра ищут своих отцов. Мать у них общая. Она умерла, их распределили в разные детские дома, мальчика – в спецучреждение для детей с замедленным развитием.
Они не хотят жить друг без друга, сбегают, добираются до большого города под Рождество. Город алчный, равнодушный, спешащий, заснеженный, елки нарядные за окнами, там тепло, светло и сытно, а на улице холодно, голодно и бесприютно. Взрослые персонажи фантастические, феерические, гротескные и – абсолютно узнаваемые, реальные. Каждый персонаж – отдельная история, трагикомическая, как правило. Я очень ценю это у Муратовой – живых, полнокровных героев даже на самой обочине основного сюжета. Впрочем, у нее все основное.
Дети здесь – существа невинные и беспорочные. Не все дети, а главные герои, мальчик и девочка. Надо сказать, это понимаешь не сразу. Постепенно, по ходу истории, ты убеждаешься, что они не могут взять чужое, украсть, органически не могут. Не могут, не умеют солгать. И это не по наивности, а по чистоте душевной. Эти дети – агнцы. Таких вот невинных и приносили в жертву. И принесут.
Взрослый мир над ними. Они в него опустились с высоты и идут по его дну. Снято с их точки зрения, снизу вверх, детскими глазами – во взрослый мир. Дети не могут выбраться со дна, всплыть, подняться.
Нельзя сказать, чтобы взрослые были злы к этим детям (но все равнодушны по большому счету). И случай на их стороне (то деньги найдутся, то тетка пожалеет на секунду и яйцо даст). Случай на их стороне. Случай, но не судьба. И деньгами они не умеют распорядиться, и яйцо не возьмут, и до нужной улицы не дойдут двух шагов, потому что не судьба им жить-выжить в этом мире.
Они слишком хороши, их место не здесь внизу, а на небесах. (Недаром у замерзшего мальчика в руке – связка воздушных шаров.)
Так что наше кино про несудьбу.
А вот индийское – про судьбу.
«Миллионер из трущоб» снят западными людьми, но в Индии, с индийскими актерами, по книжке индийского автора, под музыку индийского композитора. Западное восточное кино, что-то в этом роде.
Здесь герой тоже из невинных, с чистой душой. Но ему удается и повзрослеть, и выжить, и с незапятнанной душой. Хотя чуть не весь мир против него. Но ему – судьба.
Он выигрывает свой миллион по случайности. На самом деле – по судьбе.
Быть может, в этом фильме совпадают Запад и Восток? В том, что судьба на стороне невинных.
А в нашей стороне нет им такой судьбы. Мы не Запад и не Восток, мы между ними пропасть. Так, что ли?
18 августа 2009
От Мытищ мы въехали в грозу. И я вспомнила одну женщину, она уверяла, что может уговорить тучи, остановить дождь, – что-то в этом роде. Уговаривала она, правда, давно, в 1990‑м, это надо учитывать. Время было специфическое, тучи поддавались уговорам. Я серьезно. Бывают времена, когда стихии разного рода поддаются. Но это очень недолго, надо ловить момент. А сейчас, сколько ни проси, так и будет лить, а зонтик в сумке куцый, и башмаки протекают, правда, дома есть коньяк, и я переоденусь и выпью коньяку. Всё к лучшему в этом лучшем из миров.
С женщиной, повелительницей туч, я познакомилась в Томске. В 1990 году, как уже было сказано. Я туда приехала на практику на местное телевидение. Места в общежитии не нашлось, и меня пристроили к знакомым. Дом недалеко от вокзала (деревянные крашеные половицы, скрипучие конечно). Хозяйка дома, кроме того что управляла погодой, торговала в палатке музыкой. Магазины были пусты, люди отоваривались по талонам, я привезла с собой в рюкзаке тушенку и пакеты с манной «Гурьевской» кашей, завариваешь и ешь. Хозяйка была довольна. Если бы я ничего не привезла, она бы тоже не обиделась. Она была добрая. Вечером, уже после трудового дня, мы отправились в местный видеосалон. Я, хозяйка и двое ее ребят-подростков.
Комната, телевизор с видеоплеером, стулья. Кому места не досталось, сидит на полу.
Мы смотрели фильм ужасов. Названия не помню. Сюжет – смутно. Вроде бы человек превращается в муху. Или (и?) растение, которое пожирает мух и прочих насекомых, начинает пожирать людей и разрастаться с бешеной скоростью.
Нам очень понравилось. И ей, и мне, и ее ребятам. Мы просто-таки остались на второй сеанс. И возвращались домой прекрасной летней ночью. И ничуть не было страшно, и казалось, что мир прекрасен и движется под звездами в самом наилучшем направлении. (Мне помнится, на местной телестудии в одной из комнат висел на стене плакатик, с него смотрели на нас ребята из «Взгляда».)
Мне сейчас подумалось, что в тридцатые, сороковые и до середины пятидесятых годов в советском кино не было детективов. Зато шпионские фильмы процветали. В них, разумеется, показывали расследование (разоблачение), но расследование само по себе еще не детектив. Детектив – это прежде всего тайна. Тайна для зрителя. Не только для сыщика.
В советских шпионских фильмах зритель всегда был в курсе, кто шпион. Сыщик не знал, а зритель знал. Знал, переживал за героев, отсюда и напряжение (саспенс). Приведу известный пример. Фильм 1939 года «Ошибка инженера Кочина» (режиссер Александр Мачерет). «На одном из авиационных заводов инженер-конструктор Кочин получает разрешение начальника отдела Мурзина взять домой на ночь секретные чертежи и внести последние исправления. Этим обстоятельством пользуется агент иностранной разведки Тривош…»[1] Зрителю ясно, кто виноват. Не тайна держит его у экрана.
Но главное отличие от детектива (в классическом его виде) даже не в этом. Главное, что преступление в шпионском фильме совершается против государства, а не против частного лица (люди страдают лишь потому, что оказываются помехой к главной цели – ничего личного). Судьба частного лица по большому счету мало интересна.
И вот 8 марта 1956-го (через три года после смерти вождя) на экраны выходит фильм «Дети Румянцева» (режиссер Иосиф Хейфиц). Тоже не совсем детектив – мы знаем, кто преступник; но основное внимание (основной интерес) зрителя направлено не на судьбы государства (или коллектива), а на судьбу обычного парня – шофера Румянцева. Люди становятся важны. Становятся объемны (обретают внутренний мир). 22 мая того же 1956 года выходит на экраны уже классический детектив «Дело № 306» (режиссер Анатолий Рыбаков); классический детектив со шпионскими корнями.
Мир движется под звездным небом.
21 августа 2009
«Сын коматозника» («Доктор Хаус». Сезон 3. Эпизод 7, режиссер Дэниэл Аттиас, 2006).
Эпизод называется «Сын…». Но мне кажется, что это про сон.
В сказке царевна спала мертвым сном. Ее разбудил принц, поцелуем. Коматозника разбудил Хаус – уколом. Хаус в роли принца.
Пробудил он коматозника не к жизни, а к смерти в конечном счете. Препроводил из сна временного в сон вечный.
Мне в этой серии все нравится, начиная с этого фантастического укола-поцелуя.
Но больше всего мне нравится дорога к вечному сну, дорога, по которой Хаус ведет коматозника. Правда, коматознику кажется, что это он руководит движением, задает цель. И машина едет, повинуясь его указаниям. Ну, да мало ли что нам всем кажется.
В дороге сказочный мотив продолжает звучать. Он в вопросах-ответах, загадках-разгадках. От правильного ответа зависит жизнь. На самом деле, жизнь зависит от правильного вопроса. Если Хаус сумеет поставить правильный вопрос, сын коматозника останется жить.
С другой стороны, если коматознику удастся задать правильный вопрос, мы узнаем про Хауса что-то очень-очень важное.
Дорога и отель.
Отель как место действия – прекрасный выбор. В отеле нет ничего привычного, твоего, нет фотографии на стене (лицо на снимке одно, быть может, смогло бы тебя удержать по эту сторону). Отель – безликое место, никакое, самое замечательное место для перехода из мира живых в царство мертвых. Не хуже больничной палаты в этом смысле.
Хаус пытается восстановить прошлое коматозника, чтобы у его сына возникло будущее.
Коматозник пытается узнать прошлое Хауса… Зачем? Зачем ему это? Зрителю (мне, к примеру) это интересно очень. Уилсону интересно. Но коматознику? Что ему Хаус…
На этот вопрос у меня ответа нет.
Правильный вопрос коматозник нашел: «Почему (как) вы решили стать врачом?»
Долгое время ответ Хауса мне не нравился. Казался слишком экзотическим, слишком… японским. Я была неправа (что случается часто, и я с этим давно смирилась).
Я вдумалась в историю, которую рассказал Хаус. О том парне-уборщике, отверженном, изгое, который знал врачебную науку лучше всех дипломированных и уважаемых врачей в больнице. До меня дошло, чем этот парень так приглянулся Хаусу-подростку. Далеко не только тем, что знал врачебную науку лучше всех и каждого. Это важно, но это лишь половина дела. Вторая половина – отверженность. Парень был лучше всех, будучи хуже всех.
Это точно самоощущение Хауса: я лучше всех, будучи хуже всех. Это ключ к нему. Скорее всего, не единственный и не все дверцы открывающий.
Хаус тоже задал свой правильный вопрос. Сын был спасен (надолго ли?), отец обречен.
Меня потрясла сцена в узком коридоре отеля. Хаус сидит у стены, вытянув ноги в проход. Он прислушивается к тому, что происходит за стеной, в номере. Хаус ждет. Слышит стук тела – коматозник покончил с собой. И взгляд Хауса меняется. Он точно сам уходит из жизни на секунду. Не знаю, как это вышло у Хью Лори, как ему это удалось.
И еще. Хаус сам похож на заколдованного принца. Иногда кажется, что чей-нибудь поцелуй способен его пробудить.
8 сентября 2009
«К северу через северо-запад» (режиссер Альфред Хичкок, 1959).
Человек на пустынном шоссе. Желтая ослепительная земля. Серая ослепительная дорога. И он – черная мишень.
Черная точка – пулевое отверстие.
Приближается машина. Человек настораживается, напружинивается, ждет. Машина пролетает.
Ожидание затягивается. С боковой дороги выруливает автомобиль. Он останавливается на той стороне шоссе. Уезжает, оставив на обочине мужчину. Теперь их двое. Стоят друг против друга, только шоссе их разделяет. Второго подбирает автобус. Первый остается. У него здесь свидание. Он только не знает с кем.
Ждет.
Мы-то знаем, что смерти.
Удивительно, но она валится на него с неба.
Поначалу это кажется абсурдом. Человек на пустынной дороге – легкая мишень. Спокойно можно застрелить его из машины. Зачем поднимать в воздух самолет? Зачем гнать человека по полю?
Небеса обрушились на него. Кара небесная. Вот в чем дело. Вот что олицетворяет самолет. Гнев Божий.
За что?
Человек этот не должен был существовать. Он – фантом, вымысел. У него есть имя и биография, есть номер в отеле, в шкафу висят его рубашки и костюмы. У него есть привычки и особые приметы. Но самого его нет. Его придумали спецслужбы. Он призрачная пешка в настоящей игре. Но призрачная пешка вдруг материализуется. Выходит из-под контроля. Играет против своих создателей. Так что фильм Хичкока своего рода экранизация мифа. Спецслужбы – Пигмалион. Главный герой – его ожившая статуя, забравшая над создателем власть.
19 сентября 2009
Здесь мальчик живет во вселенной. С заглавной буквы, пожалуй, – Вселенная. Это как у Бунина в «Жизни Арсеньева»: герой никак не может начать писать, все думает, с чего бы начать, то есть на самом деле он думает о собственном начале, о том, с чего же начался он. Я родился тогда-то, в таком-то месте, в таком-то году. Он думает, что надо бы описать то захолустье (или столицу – неважно), в котором он появился на свет, тот угол. Затем он думает, что надо начать не с угла, а со страны, описать Россию. Описать ее историю. Чтобы было понятно, откуда он – такой – произошел. В конце концов он решает написать: я родился во Вселенной.
У Платонова это само собой разумеется: прежде всего его герой родился и живет во Вселенной. И устройство этой Вселенной известно: степь, переезд, поезд, дом на переезде, сарай, корова, школа за семь километров. Африка и Австралия в этом мире тоже присутствуют. На уроке географии.
Герой Платонова пытается вместить в себя Вселенную целиком, без остатка. Вместе с Африкой, Австралией, звездами, ветром, коровой, теленком… и с самим собой – ее частью.
Но Вселенная – это не просто перечень или список (кораблей, паровозов или элементов, которые все умещаются в таблицу Менделеева). Есть что-то еще, кроме таблицы Менделеева, из элементов которой составлено все на свете.
Рассказ называется «Корова», а не «Вселенная». Корова пахала вместо лошади, давала людям молоко, родила теленка, люди его сдали на мясо, она затосковала и попала под поезд… Корова состояла из мяса, костей, шкуры, молока, теленка. На самом деле состав коровы неисчислим. Как неисчислим состав Вселенной (ни в какую таблицу ее не запихнуть). «Она была доброй» – напишет о корове мальчик. И еще: «Корова отдала нам все». В глаголе «отдала» и заключается неисчислимая компонента ее состава. Во Вселенной – каждый – отдает. Пашет, ведет паровоз, рожает. Умирает – и тело (тело коровы, растения или человека) тоже не пропадает впустую, тоже идет в дело.
Мальчик, герой рассказа, прекрасно знает устройство паровоза и понимает его работу. Он и сам принимает участие в этой работе. В общей работе Вселенной.
Вселенной движет отдача, деятельность – добро.
Так – по Платонову.
27 сентября 2009
Мама уверяет, что кукла была выше меня ростом, но я ее никому не отдавала и тащила из магазина сама по читинскому морозу. Белокурая немочка с голубыми прозрачными глазами. Кукла-младенец, она умела только проплакать «ма-ма».
Я звала ее Наташкой, шила одежду из лоскутов, подстригала волосы (пока были), мыла в ванне. После одного из купаний она онемела.
У меня были солдатики. Пластмассовые рыбки. Кубики. Конструктор. Пупс. Собака с отрывающимся носом. Но я могла играть и с шариковой ручкой, и с коробком спичек. Со стеклянным осколком. С флаконом из-под духов.
Неодушевленные предметы во время игры становятся вполне одушевленными. Ребенок, как Бог, вдыхает в них душу. И? Они есть образ его и подобие? Кукла Наташка была моим образом и подобием в тот момент, когда я с ней говорила?
Был сериал на ТВ, давно, то ли бразильский, то ли мексиканский, в нем старуха тоже разговаривала с куклой. У старухи не было детей, кажется. Или они были, но жили своей жизнью. И в ее жизни не осталось никого, и она завела себе не собаку, не живое существо, а мертвый предмет, куклу. И вдохнула в нее душу. И кукла ожила и стала ей другом. Они даже ссорились.
Прекрасная статуя, в которую влюбился создатель, это про другое. В прекрасную статую может влюбиться и случайный прохожий. Не он ее создавал, не он вкладывал в нее свою душу, но он влюбился. Потому что статуя действительно прекрасна. Она практически идеальна. Или напоминает об идеале. О том, что он все-таки существует. Возможен по крайней мере. Эта встреча с возможным идеалом может перевернуть жизнь.
В куклу Наташку никто не влюбится. Ничего в ней прекрасного нет и не было. Пластмассовые прозрачные глаза. Толстые щеки. Таких Наташек тридцать тысяч было по всему Советскому Союзу, их на фабрике производили. В ГДР.
Зеркало само по себе пусто. Все, что в нем, в нем не существует. Зеркало отражает мир, но в самом зеркале этого мира нет. Хотя иногда кажется, что это не так. И тогда рождаются истории про зазеркалье, параллельный мир, ожившее отражение… Но нет – отражение – всего лишь тень. Зеркальная наша тень. И без нас она не существует.
Кукла Наташка – вроде этой тени. Точнее, зеркала, в котором отражена тень – моя. Я разговариваю с Наташкой – разговариваю сама с собой. Но не совсем. Я разговариваю с проекцией себя, так скажем. С некоей своей частью. Ведь я человек, существо хотя и простое, но сложное, хотя и цельное, но дробное. Во мне много «я». Так говорят психологи. Да я и без них это знаю. Во мне много «я». С некоторыми я незнакома. И слава богу. То есть могла бы познакомиться в каких-то обстоятельствах, но очень надеюсь, что таких обстоятельств не случится и это мое «я» так и останется в тени, на самом дне. Так и умрет, не родившись.
Кукла Наташка, оловянный солдатик, шариковая ручка, текст, который я пишу, – это всего лишь зеркала, в которых я отражаюсь. Человеку нужно посмотреть на себя со стороны. Увидеть себя со стороны. Не только как он выглядит. Но и что из себя представляет. Кукла очень удобное зеркало в этом смысле. Для ребенка. Хотя он этого не понимает. Рассказ, который я сочиняю, подходящее зеркало для меня взрослой. И я это понимаю.
Наташка лежит на антресолях. Один глаз уже не открывается. На щеке вмятина. Наташка приобрела индивидуальность. Я давно с ней не разговаривала. Даже не знаю, о чем бы мы с ней могли поговорить.
В старости темы найдутся.
4 октября 2009
В прекрасном школьном детстве я думала, что «утопия» и «утопленник» одного корня.
Страна Утопия была подводным царством, где утопленник, мертвец, продолжал себя осознавать. Не дышал, не пускал пузыри и прекрасно себя чувствовал. Русалки пели в подводных дворцах грустные песни.
Возможно, он скучал по оставленной земле. Но вернуться никакой возможности не было. В конце концов, русалки пели прекрасно, на морском дне лежали корабли с золотом, оно ничего здесь не стоило, золото или камень – разницы уже не было. Утопленник заплывал в кают-компанию, находил чашку, совершенно целую, белую, из нее выскальзывала рыбка, она не могла исполнить его желаний, ни одного. У него и было одно только желание – выпить из этой чашки горячего чаю. Или сигарету выкурить на вечерней улице.
Утопленник поднимал зеркальный осколок и не видел в нем своего отражения. Он проводил осколком по руке – ни следа.
Вот что такое Утопия – страна, где ты не оставляешь следов, где ты – бесследен. И все, что вокруг, не может тебя отметить, заметить, запомнить. Даже русалки тебя не видят. И разницы нет между золотом, камнем и тобой.
Утопия – вера в прекрасное будущее. То ли люди в нем будут летать, то ли жить без смерти, проводя время в мирных беседах о древних стихах. Ночью, на веранде, покачиваться в кресле-качалке и взирать на звезды. Или стеклянная капсула лифта вознесет их на 112 этаж. Но и там будет сад и веранда, и кресло-качалка, и звездное небо над головой. Куда же без него в прекрасном будущем.
Как-то раз мне пришла на ум странная фантазия о будущем. В моем прекрасном далёке были и грабители, и убийцы. Но если убийцу находили и – согласно закону! – казнили, то воскресали все, им убитые. Воздаяние. Торжество справедливости. Следователю не следовало ошибаться. За ошибку он расплачивался жизнью.
В таком прекрасно устроенном обществе люди должны себя вести крайне осторожно. Так мне это представлялось.
Затем я представила чудесно воскресшего лет так через двадцать после своей насильственной смерти. Возвращается он домой, а там все чужие и всё чужое. Друзья состарились или умерли – своей смертью, и, значит, их не воскресить. Жена давно нашла себе другого. Мир ушел вперед. Он вернулся, но куда? Где его улица, где его дом? Никто его не ждет.
Я даже рассказ написала на эту тему, но он мне не нравится. Идея все еще кажется занятной.
Утопию от антиутопии отличает самая малость. Антиутопия – это пристальный взгляд на утопию. Это подробности жизни, превращающие утопию в кошмар. Неизменно.
18 октября 2009
«Черный Петр» (режиссер Милош Форман, 1964).
Черные мысли. Черный человек. Черный день. Черная полоса. Черный юмор.
Черный Петр (Černý Petr) работает в магазине самообслуживания шпионом. Он должен ходить по залу и наблюдать за покупателями. Ловить воришек. Ему семнадцать лет.
Ситуация великолепная для сюжетного кино.
У нас магазины такого рода появились значительно позже, лет на десять мы точно отставали. Я помню жуткую историю про такой магазин. Девочка-школьница расплатилась на кассе, но кассирша залезла ей в сумку и нашла неоплаченный товар. Девочка уверяла, что просто забыла его оплатить. Кассирша устроила скандал, девочка дома повесилась. Но мальчик из фильма ничего не предпринимает, когда замечает воришку (пожилую женщину). Он просто наблюдает, как она торопливо запихивает в сумку пакетики со сладостями. Он не поднимает тревоги, он дает ей уйти. Он ее отпускает. Это кажется самым мудрым шагом.
Не хочется никакого сюжета. Он и не развивается.
В одной из сцен мальчик идет по дороге вдоль реки. Пейзаж идиллический, он как будто украден из музея, как будто не раз уже виден и пережит, и заново пережить его невозможно. Но мальчик вдруг пинает землю – и поднимается столб белой пыли, и пейзаж становится живым, словно заново рожденным.
В магазин присылают картины, репродукции. Действительно музейные, сто раз виденные картинки, даже если, как я, не помнишь авторов. Обнаженная женщина на одной из них. В рамке под стеклом. Ее поставили на возвышение, прислонили к стене. Мальчик ее рассматривает издалека. Картина вдруг обрушивается, стекло разбивается. Пару сцен спустя мальчик сидит на берегу реки и разглядывает мятый, продранный лист. Мы даже не видим, что на нем изображено, только догадываемся. Женщина упала, разбилась и ожила. Для мальчика. И для нас.
Собственно кража случается уже под конец фильма. Почему герой ее пропускает и не исполняет свой долг? Что его останавливает?
«Жил певчий дрозд» (режиссер Отар Иоселиани, 1971).
Музыкант Гия постарше Черного Петра. Он живет странной жизнью. Она кажется нелепой и бессмысленной, она как будто не имеет отношения к реальности. Не может к реальности прирасти. Герой пропускает реальность мимо себя. Или она его пропускает. Реальность ведь всех и все пожирает и переламывает, но только не этого героя. Он не может начать жить как все, вставать ровно в семь, пить кофе, успевать на трамвай, ехать в толпе на работу, в обеденный перерыв обсуждать футбол… Ничего страшного в такой жизни нет, ведем же мы ее. Беда в том, что мы этой жизни не замечаем. Мы и себя не замечаем. Жизнь захватывает тебя, усыпляет и уносит. Ее течение однообразно. Это не жизнь, это механический процесс. Но герой Иоселиани в этот процесс не вступает. Он не может стать элементом жизненного конвейера. Не потому, что он лучше или хуже нас. Он другой, он никогда не состарится. Потому и погибает.
Говорят, что фильм не об этом. Говорят, музыкант Гия слишком рассеян и подвержен соблазнам и никуда не успевает, хотя все время торопится. Он не исполняет своего предназначения в этом мире. Но мне так не кажется.
Черный Петр дает уйти вору.
Музыкант Гия дает уйти времени.
У человека есть предназначение?
И в чем оно?
27 октября 2009
«Седьмая встреча» (выдуманный мной эпизод сериала «Доктор Хаус»).
Хаус берет в магазине пиво, чипсы, арахисовое масло, хлеб. Бросает все в тележку для покупок.
Женщина (пусть ее играет приглашенная звезда Эмма Т.) степенно загружает в свою тележку молоко, торт, шоколад, туалетную бумагу…
Две тележки едут в узком проходе навстречу друг другу.
Хаус сдвигает свою, чтобы дама проехала свободно. Но дама, завидев его и рассмотрев, останавливается (тележка толкает тележку) и восклицает:
– Майкл! Зачем ты взял тележку? Нам что, одной не хватит?
– Что? – изумляется Хаус.
Она вдруг начинает перекладывать покупки Хауса в свою тележку. Он наблюдает с возрастающим любопытством. Женщина явно не в себе. Дождавшись, когда дама закончит, Хаус спокойно забирает свои покупки из ее тележки и – перекладывает в свою.
– Майкл, что с тобой? – пугается дама.
– Ничего, – отвечает Хаус.
– Что ты делаешь?
– Хочу оплатить покупки.
– Каким образом?
– Наверное, суну кассирше кредитку. Пистолет я забыл дома.
Женщина качает головой:
– Твоя кредитка у меня, Майкл.
– Да? – говорит он и смотрит на нее все с тем же холодным любопытством.
Хаус толкает тележку к кассе, женщина со своей тележкой растерянно спешит за ним.
С тревогой женщина следит, как кассирша сканирует штрихкоды с покупок Хауса (аппарат пикает очень тревожно), как берет его кредитку (женщина даже на цыпочки становится в этот момент).
Хаус проходит кассу. Женщина бросает свою тележку и бежит за ним. Нагоняет, хватает за руку:
– Майкл! Майкл! Это же я, Дженни! Почему ты меня игнорируешь? Что я сделала тебе плохого?
Посетители оглядываются на шум. У женщины истерика. Она падает.
И, разумеется, оказывается в тихой палате со стеклянными стенами (все-таки фантастическая находка, эти стеклянные стены).
Кэмерон (да простят меня любители новой команды, но у меня действует старая, так как К. посадили в тюрьму за мошенничество, Т. уехал на Аляску, а Тринадцатая вылечилась и ушла работать моделью)… В общем, старушка Кэм говорит, что у пациентки психическое заболевание. Дама никак не может осознать, что ее муж Майкл умер, и время от времени «видит» его в ком-то. Причем, как ни странно, внешность не имеет значения. Шесть самых разных мужчин она принимала за своего мужа, разговаривала с ними как со своим мужем. Хаус оказался седьмым. Кроме того, у бедной женщины еще целый букет физических недугов, ее состояние ухудшается, но что именно с ней происходит, непонятно, данные противоречат друг другу.
Команда проводит тесты, Хаус относится к этому несколько отстраненно. Состояние больной тем временем резко ухудшается, и все диагностические идеи ведут в тупик. Кэм злится на Хауса, что он не участвует в диагностике.
Хаус отсылает команду проводить очередные лабораторные исследования. Оставшись один, о чем-то думает, что-то про себя решает. И не то чтобы решив, но решившись, выходит из кабинета.
Он подходит к палате, смотрит на лежащую за стеклянной стеной пациентку и – открывает стеклянную дверь.
Хаус входит в палату, садится рядом с пациенткой, смотрит на нее, спящую, трогает за плечо. Женщина просыпается, смотрит на него тревожно. Вдруг тревога ее отпускает. Она говорит с облегчением:
– Майкл, это ты, привет.
– Привет, – отвечает Хаус.
– Как ты?
– Нормально.
Она рассматривает Хауса.
– У тебя усталый вид, Майкл. Тебе надо отдохнуть. Я вылечусь, и мы обязательно съездим в Европу… Ты же всегда мечтал в Европе побывать.
– Лететь долго. (Хаус отвечает осторожно, боясь попасть не в тон, сказать что-то такое, что встревожит женщину, разрушит ее иллюзию, – он хочет эту иллюзию сохранить…)
День за днем он играет роль Майкла. Иногда возникают каверзные ситуации: речь заходит о работе Майкла, а Хаус понятия не имеет, кем работал этот Майкл, Форману и Чейзу приходится узнавать.
И Кэм, и Кадди возмущены поведением Хауса:
– Человек умирает, а ты проводишь над ним психологические эксперименты, эгоист, засранец, для тебя люди – пешки!
– Идиотки, – отвечает им Хаус (может он сказать женщине «идиотка»? – я не помню). В общем, он говорит, что просто успокаивает пациентку, снимает душевное напряжение, смятение, ведь именно это смятение воздействует на ее физическое состояние, путает симптомы… (С медицинской точки зрения всё туфта – сорри.)
Как бы то ни было, пациентка действительно успокаивается, картина проясняется, и диагноз удается поставить. Он оказывается убийственным. Увы, женщина обречена. И осталось ей совсем недолго.
Странно, что Хаус продолжает ходить к ней. Она говорит с ним как с Майклом. И он ей отвечает как Майкл. Болтают о всякой всячине, о том, как познакомились, о том, как Майкл подрался из-за нее… Женщина умирает в полной уверенности, что это муж держит ее за руку.
Занавес. Все рыдают. Кэм уверена, что Хаус совершил жертвенный подвиг, говорит ему, что тронута чрезвычайно… Но Хаус охлаждает ее пыл. Он объясняет, что ему просто было любопытно пожить жизнью другого человека. Ведь каждому дана только его жизнь, а тут такая возможность побыть кем-то другим, отдохнуть от себя любимого.
Кэм возмущена таким цинизмом.
– Я пережил смерть жены, – говорит Хаус, – а у тебя ни слова сочувствия. Какой эгоизм.
Титры и музыка.
29 октября 2009
Сухая трава, сухой воздух, далекие горы. Ливень. Пирамидальные тополя.
Нет ничего, что бы могло меня туда вернуть. Да я и не хочу.
По чему я хоть немного скучаю? По черному винограду? Он рос во дворе. По черешне? По твердым и сладким яблокам? По внезапному ливню? По деревянному столу под черным небом? По треску цикад? Или это кузнечики стрекотали в траве? – а мне казалось, что трава горит и не сгорает.
По чему я скучаю? По стуку плашек домино в беседке возле гаражей? По себе двенадцатилетней?
По самой себе – всего меньше. Нет, нет и нет.
Ни по чему я не скучаю, все, что было, при мне и осталось. Я оживляю картинку, это легко. Я вспоминаю мальчика с коричневыми от загара руками. Он говорит, что ловит ящериц в горах. Мы сидим в комнате и пьем компот. Родители на работе. У нас впереди куча времени, целая жизнь.
Олеша – человек, который без часов знал, сколько времени.
Человек-часы или человек-время?
22 ноября 2009
Роберто Росселлини с 1960‑х годов стал работать в основном на ТВ.
В аннотации к фильму «Германия, год нулевой» сказано, что Росселлини ушел на ТВ, так как «кино, по его мнению, утратило всякое чувство реальности».
«Германия, год нулевой» вышел в 1948 году, значит, снимали его в 1946–1947‑м. В разрушенном Берлине. Разрушенном, впрочем, не до конца, не до основания. В развалинах живут люди и пытаются жить, как люди.
(Мой отец родом из Бердичева, его отец, мой дед, погиб под Харьковом, точнее пропал без вести; его мать, моя бабушка, с четырьмя детьми бежала в Среднюю Азию, эшелон бомбили, старший сын потерялся, после войны нашелся. Ничего экстраординарного во всех этих событиях нет. Типичная история. Я ее так, к слову, рассказываю, к слову о том, что в Бердичеве не осталось ни одного целого строения, все было сметено.)
И самое страшное в Берлине не развалины, это только поначалу кажется, что это самое страшное. Невыносимо жить в чужом доме, полуразрушенном, на птичьих правах, впроголодь, с больным отцом на руках, с братом, скрывающимся от властей. Но нет, самое страшное не это. Самое страшное то, что происходит у людей в голове. Идеи – вот что главное. Идеи, которые управляют людьми. «Чувство реальности».
Я сюжет не буду пересказывать. Если кто не видел, очень советую посмотреть. Антифашистское кино. Такой, кажется, обладает этот фильм силой, что может остановить войну. Остановить время и начать все с начала. С нуля.
Но нет. Почему-то – нет.
Чувство реальности. Разве ТВ его не утратило? Разве литература имеет к реальности хотя бы какое-то отношение?
Реальность ускользает сквозь пальцы не как песок даже, но как что-то совершенно неуловимое, что-то вроде воздуха.
22 декабря 2009
Если помните, действие в фильме «Гараж» развивается в помещении. В замкнутом пространстве. Почему-то мне это мешало, когда я видела фильм впервые. Я буквально чувствовала замкнутость. Мне безумно хотелось, чтобы действие вырвалось за стены здания. Свежего воздуха хотелось, неба. Я почти задыхалась.
В сериале «Хаус» действие в основном также замкнуто в помещении. И когда герой выходит на воздух, в открытое пространство, становится легче дышать. Порой больница воспринимается как тюрьма, и хочется, чтобы герой ее покинул.
В фильме «Догвилль» герои существуют в условном мире. Нет ни городка, ни домов, ни стен, ни гор. Все только обозначено, задано. Место действия (условие существования) – сценическая площадка. То есть в конечном счете тоже замкнутое пространство. Но, как ни странно, этой замкнутости не чувствуется. Дело в том, что я, как зритель, принимаю условия игры режиссера. И буквально вижу горы. Которых на самом деле нет, а есть камни на сцене.
Что там говорить, когда я смотрю на реальное вроде бы небо в «Хаусе» или в очень неплохом фильме «Коктебель», я ведь тоже всего лишь принимаю условия игры. Никакого неба на самом деле нет. На самом деле я сижу в комнате и смотрю в экран телевизора. Воображения достаточно, оказывается.
У меня нет клаустрофобии. Я не боюсь спускаться в метро. Не боюсь лифта. Так что, по-видимому, замкнутое пространство в больших дозах подавляет и здорового человека. И объясняется это, наверно, просто. Страхом смерти. Замкнутое пространство – это склеп, могила. Это особенно верно, если знаешь, что неба уже не будет.
Быть заживо погребенным – ужас Гоголя. Кажется, сбывшийся. Герой одного из рассказов Эдгара По боится того же. По и Гоголь родились в один год, 1809‑й. По умер в 1849‑м, Гоголь – в 1852‑м, на три года дольше видел небо. Или уже не видел.
14 февраля 2010
Я не знаю почему, но тема двойников – это моя тема. Она мне как будто на роду написана.
Каждый второй рассказ так или иначе с ней связан.
Надо заметить, что в моих фантазиях речь не идет о расщеплении личности на добрую и злую составляющие, как в «Джекилле и Хайде» Стивенсона или в «Скандале» современного японского писателя Сюсаку Эндо. У меня – расщепление судьбы, а не личности. Другой вариант жизни того же самого человека. И, конечно, это ближе к «Саду расходящихся тропок». К Борхесу.
Другое дело, что перемена судьбы – это тоже перемена личности в своем роде.
Разве нет?
Разве да?
Но больше я люблю не Борхеса, а другого мастера раздвоений и отражений, чаще всего перевернутых, обратных и необратимых. Эдгара Аллана По.
И самый завораживающий рассказ – это, конечно, «Вильям Вильсон».
Действие разворачивается в Англии. Видимо, Америка для такого рода истории не годилась. Нужна была фантастическая древность, древность рода, домов, деревьев, тумана, сумрака. Древность как вечность.
В пансионе, где учится Вильям Вильсон, появляется новый ученик. Зовут его ровно так же – Вильям Вильсон. И родились оба Вильяма Вильсона в один день – 19 января 1813 года. Кстати, автор рассказа тоже родился 19 января, но года 1809‑го.
Новый ученик ни в чем не уступает герою. Он даже подвергает сомнению его суждения. Он становится его соперником. И вот какие вызывает в герое (он же рассказчик) чувства: «…доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства».
Всего помаленьку и помножку, но тревожного любопытства – бездна.
Отражение Вильсона – его близнец, его точная копия.
У Вильяма Вильсона была возможность увидеть себя со стороны, в большом зеркале. Увидеть и ужаснуться – самому себе.
Вильям Вильсон убил своего двойника.
«Мною ты был жив» – так сказал умирающий.
Пересказывать бессмысленно.
В моем сознании этот рассказ По перекликается с «Выстрелом» Пушкина.
Сильвио отложил выстрел. Отложенный выстрел – это как возможность выбора другой судьбы. В самом деле! На дуэль Сильвио вызвал своего двойника – соперника, точно такого же повесу, как он.
Но выстрел отложен, и точно такой же становится совсем другим. Он как бы оставляет Сильвио на развилке и идет другой дорогой.
Другого Сильвио не убивает, хотя всю жизнь положил на точный выстрел! Но другой оказался ему не нужен.
Повесть Пушкина написана в 1830 году. Рассказ По опубликован в 1839‑м. Можно добавить, что «Вильям Вильсон» основан на рассказе Вашингтона Ирвинга и вообще европейский романтизм. Что у всего и всех есть предшественники и корни.
Не мы первые живем на этой земле, были и до нас люди. Но что-то мы видим и свое в вечных сюжетах. Свое собственное в них отражение. Свое лицо.
26 февраля 2010
Книга не живет сама по себе, в безвоздушном пространстве.
К примеру, Гайдар, «Чук и Гек».
Это значит поздний вечер, я дома одна, родители на работе, книга освещена желтоватым светом настольной лампы, окно не занавешено, в черном стекле мое отражение, а на белой странице с почти что живыми буквами – капля варенья. Скорей всего, брусничного. Я таскала варенье из банки.
Я отлично помню и Чука, и Гека, и всю их историю. Но эта история как будто отчасти и мной сочинена: в ней черное окно, сладкие пальцы и темные углы в квартире.
Кстати, также в одиночестве под настольной лампой я читала истории о Шерлоке Холмсе. И без того одиночества, и без той лампы их невозможно перечитывать – это уже другие истории, гораздо более пресные. Мои, с темными углами, были страшные, настоящие, а эти – как будто картонные.
Обстоятельства – великая вещь!
Диккенса, «Пиквикский клуб», я читала зимой у бабушки, прямо перед печкой. Дрова прогорали, бабушка приоткрывала дверцу и разбивала их кочергой. Сыпались красные искры, было тепло у печки, а за черными окнами стоял зимний сад. Другой Диккенс мне и не нужен, ей-богу.
В первый раз я читала «Войну и мир» в шестнадцать, летом, у бабушки. Приходила подружка, я откладывала книгу, мы болтали, роман перемежался ее историями, смешивался с горьковатым вкусом лесной земляники, с вопросами, куда я решила все-таки поступать и пойти ли вечером в клуб им. Ленина в кино. Долгие летние вечера. Когда убили Петю Ростова, я спряталась ото всех в сарай и там ревела.
Я перечитывала «Войну и мир» несколько раз, чаще всего кусками. В последний раз в больнице, от корки до корки. Тусклый, бледный свет. Больничные разговоры. Иконка над столом дежурной медсестры. Очередь за уколами. И совсем другой роман. В огромных окнах были огромные щели. Мы их затыкали газетами, но дуло все равно. Так вот, в тексте романа как будто появился этот ночной воздух из щелей, из космоса морозной ночи. Примерно так.
Post Scriptum
Я когда-то готовила публикацию писем Гладкова (по его пьесе «Давным-давно» Рязанов снял фильм, наверно, все помнят). Гладков (он, кстати, мой земляк, из Мурома) вспоминал, что мать читала ему «Войну и мир» в детстве вслух. И он помнил роман как что-то реально пережитое, видел краски, слышал звуки и запахи. И мне думается, это ощущение романа помогло ему написать пьесу.
18 марта 2011
Как делается кино (глазами волка)
Начало этой истории – в 1993 году. Я заканчивала ВГИК и уже написала дипломный сценарий. Образовалась пустота, которая всегда образуется, когда завершаешь работу, когда она тебя отпускает, и ты остаешься как будто сиротой, не знаешь, куда себя деть, чем занять. Звонишь людям, которым сто лет не звонила, и говоришь, давай встретимся. Бродишь по городу, как после болезни, город кажется новым, а ты в нем – бессмысленной и ненужной. Читаешь книги и не можешь сосредоточиться. Вдруг приходит в голову мысль: а что, если. Что, если идет снег, человек сидит в доме, ночь, дом деревянный, с печкой, как у нас в Муроме, дрова прогорают и потрескивают, сыплются красные искры на жестяной лист под приоткрытой дверцей. Старый дом, огонь, печь, кошка, старик, метель метет. И это будущее, и космические корабли стали обыденностью.
Вот с этого началась история, с этой буквально сцены, и вышел в конце концов текст, фантастика и триллер, всё вместе. Текст я показала друзьям, они одобрили.
Я защитила диплом, поработала на съемках телепередачи про инвалидов, устроилась в Музей, напечатала в «Юности» рассказы, затем рассказ, затем еще рассказ, вспомнила про сочиненную во ВГИКе фантастику, достала, перечитала – а что, подумала, ничего, отнесла в ту же «Юность», и они напечатали. И это уже был, дай Бог памяти, 1997 год. Как бежит время! Я подарила журнал даме, которая заведовала Центральной сценарной студией, я думала, что вполне можно сделать из этого рассказа кино, хотя и не так просто это, как может показаться на первый взгляд.
Прошло года три. Я работала в Музее, в дверь постучали, и в комнату вошел молодой человек с чудесной рыжей шевелюрой. Он сказал, что хочет купить у меня этот рассказ. В смысле – права на экранизацию этого рассказа. И готов заплатить мне 10 тысяч баксов. Но не прямо сейчас, а когда найдет деньги на постановку. Он был очень-очень молодой, с розовыми пухлыми щеками.
– Удивительно, – сказала я, – откуда вы вообще про этот рассказ знаете.
Оказалось, что он сын заведующей сценарной студии, что подаренный мной журнал попал прямиком в его руки, что рассказ его зацепил, что он перечитывал его много раз и давным-давно мечтает снять по нему фильм.
Я растаяла.
Договор был маленький, уместился на страничку или на полторы. Я его подписала не глядя. Молодой человек исчез.
Он появился года через два. Сказал, что вместо кино решил заняться политикой и потому передал права на мой рассказ другим людям. Молодая женщина и молодой мужчина, с которыми он меня тут же познакомил, сказали, что уже нашли режиссера, что рассказ гениальный и им даже непонятно, как он пришел мне в голову. Прямо так и сказали:
– Непонятно, как он пришел вам в голову.
– Не знаю.
– А не желаете сами написать сценарий? – спросили они. – Но только надо переменить финал, он у вас пессимистичный, а надо, чтобы был оптимистичный.
Я сказала, что финал оптимальный. Что в каком-то смысле он даже оптимистичный. Потому что он лучший из всех возможных вариантов, которые только можно представить.
– Нет, финал надо переделать.
– Не согласна.
– Ну что ж. Думаю, мы найдем сценариста.
Они ушли, я расстроилась. Нашла дома договор, перечитала, поняла, что все права у них и будет большая удача, если они заплатят хотя бы что-нибудь.
Про финал попробую объяснить.
Главный герой, семнадцатилетний мальчик, был поэт. Стихов он не писал и даже читать их не любил, он был поэт по мироощущению. Поэт в моем тогдашнем понимании. Он был настолько чуток к миру, к состоянию мира, что предвидел смерть. Его невозможно было убить, невозможно было застать врасплох, он уклонялся от пули. Но выходило так, что вместо мальчика погибал другой человек. Мальчик уклонялся от пули, но пуля убивала другого. Не одного, многих, – на мальчика охотились, так уж развивался сюжет. И решено было – на самом высшем уровне, – что мальчика нужно убить, чтобы предотвратить гибель других. Чтобы предотвратить саму возможность их гибели. Потому что назревала паника.
Но как убить того, кого убить невозможно?
Старик, который слушал метель, нашел выход. Мальчика отправили в космическом корабле в далекое путешествие. Он вернется лет через десять, но на Земле пройдет пять сотен лет. И пусть с ним в будущем разбираются. После нас – хоть потоп.
Примерно так.
Прошла пара лет (на Земле). Я получила письмо по электронной почте: «Здравствуйте, Елена, мы нашли деньги, режиссер уже написал сценарий, скоро съемки, не могли бы Вы прочитать сценарий, сказать свое мнение».
К письму был приложен сценарий. В двадцать страниц.
Двадцать страниц, из-за которых я потеряла сон и едва не схватила инфаркт или инсульт.
Я много чего написала в ответ. И что двадцать убогих страниц – это двадцать минут действия – в лучшем случае. И что это самый дерьмовый сценарий из всех возможных. И что герой не может остаться в живых в финале. В живых и на Земле. Либо в живых и далеко от Земли. Либо на Земле и мертвый. Иначе – история теряет всякий смысл. Просто не нужна.
Ответа не было.
Через год они появились, молодая женщина и молодой мужчина. Сказали, что съемки должны начаться через четыре дня. Но сценария у них нет. И если я не напишу сценарий за эти четыре дня, они просто не знают, что делать.
Но договор, но деньги?
Обязательно! И договор! И деньги! Но сценарий. Сначала – сценарий.
Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что легко переделать рассказ в сценарий. Даже если в рассказе все очень зримо описано. Эта «зримость» достигается чисто литературными средствами. В кино литературные средства не очень-то работают. Надо придумать действие, которое передавало бы то, что рождается сочетанием слов. Или не надо. Возможно, нужно ввести нового героя. Или новый сюжетный поворот. И при этом не потерять смысл истории. Постараться его донести чисто драматургическими средствами. И чтобы старик так же смотрел на огонь, как в рассказе, и так же сыпались бы на жестяной лист красные искры. И маленькая девочка стояла бы точно так же на картофельном поле, как стоит она в рассказе. И чтобы невозможно было не поверить, что так оно все и было на самом деле. В альтернативной реальности.
Я написала сценарий. За четыре дня. Сейчас бы не рискнула перечитать.
Написала, отправила.
Ответа не было.
Примерно через год…
На самом деле, это смешно.
Жизнь – смешная штука. Хотя и смахивает на плохую литературу.
Примерно через год они позвонили и сказали, что фильм в принципе готов. Режиссера, правда, они выгнали, он снял одну только сцену, а все остальное доснимал лично он, продюсер. Они же были продюсеры, этот молодой человек и эта молодая женщина.
Завтра у них начинается озвучка. Ночные смены. И было бы классно, если бы я приехала. Потому что там понадобится моя помощь как сценариста.
Я спросила про деньги.
– Да-да, – они сказали.
– И за сценарий?
– Конечно.
Актеры были неплохими, Тихонов, Филозов, Санаева. Фильм – ужасным. От сценария остались ошметки. Какие-то куски моих диалогов вдруг звучали. Перемежались невнятным бредом. Финал был, конечно, оптимистичным. Радостным и бессмысленным. Просто тупым.
Надо сказать, что услышать, как актеры произносят придуманные тобой слова, это очень круто. И странно. И страшно. И те вроде бы слова, но звучат иначе. И меняется смысл. Иногда к лучшему. Актеры живут чужой жизнью. Они вдыхают жизнь в придуманных героев. Порой в плохо придуманных. Удивительные, волшебные существа.
Выяснилось, что переозвучивать надо практически весь фильм. Настолько плохо записали звук. Дело происходило по ночам на студии имени Горького, которая тогда очень походила на зону из «Сталкера».
На экране идет сцена, актер стоит за стеклянной стеной в наушниках, он говорит то, что произносит в данный момент его персонаж. Говорит в том же ритме, с теми же паузами и придыханиями, так, чтобы записанная фраза «легла» персонажу в губы. Процесс долгий и утомительный. Особенно на старой технике.
Но ведь не только затем, чтобы поручкаться с самим Штирлицем, меня туда позвали?
Дело в том, что режиссер (он же продюсер) снял несколько сцен, как бы это сказать, сам не зная о чем. Мальчишки куда-то идут. Куда? Зачем? Неизвестно. Режиссер не знает. Лезут через забор. О чем-то говорят. Вроде бы спорят. Лезут в подвал. Для чего? Кому нужна эта сцена? Отвратительно снятая, бессмысленная, пустая.
– Придумайте им реплики, – говорит режиссер. – Придумайте, куда они лезут и зачем. Эта сцена должна быть в фильме.
Актеры со своими родителями уже в студии, надо писать срочно. Так что я беру ручку и пишу. Они встают к микрофону и говорят мои слова с бумажки. Что-то более или менее ясно становится с этой сценой. Правда, лучше она от этого не становится.
Иногда актеру не удается выговорить слово. И я придумываю новое взамен.
Какой там огонь, какие искры, какая метель! Хоть что-то выстроить.
После смены меня ждет серая «Волга». Водитель-чеченец везет меня домой по Ярославскому шоссе. Шоссе ночное, свободное, мы летим, как во сне, водитель рассказывает, что сегодня подвозил Штирлица, рассказывает о жене и детях. Мы проскакиваем поворот на поселок.
– А что? – смеется водитель. – Рванули до Ярославля?
– Рванули.
Мы пятимся по Ярославке до поворота, он подвозит меня к подъезду.
Удивительно, но деньги мне заплатили. Правда, не за сценарий. За рассказ, за право экранизации. Компьютер, на котором я пишу сейчас этот текст, куплен именно на эти деньги. И за границу я съездила на эти деньги и жила потом на остатки.
Но это еще не конец истории.
Примерно год назад мне написал в личку один из моих виртуальных френдов.
«Вы знаете, – написал он, – а я ведь тот самый человек, который пришел к Вам когда-то покупать рассказ. Я теперь живу в Израиле. И не занимаюсь политикой. А не могли бы Вы выслать мне текст этого рассказа? Очень надо».
Примерно такое письмо.
Рассказ я выслала.
Виртуальный френд испарился.
11 мая 2011
Вообще, конечно, совершенно непонятно, куда все это исчезает. Жизнь. Была – и нету.
Не умещается в голове. Куда?
Вчерашний день, где ты, ау?
Нет, правда, что остается от вчерашнего дня? Запись в дневнике? Может быть. Конфетная бумажка? Автобусный билет? Огрызок от яблока? Растаявший снег? Выпитый чай? Усталость? Вы помните, что было вчера? Я – с трудом. Электричка, работа, за обедом чего-то говорили. Да, придумала, как сделать сцену, завтра попробую записать. И то спасибо.
Но день, вчерашний день, он был велик и полон смысла, и были секунды, когда я это чувствовала.
Но я его не разгадала, вчерашний день. Он был мне дан, а я его профукала.
18 июля 2011
Вообще говоря, есть два вида кино.
Первый, это когда сидишь у окна (скажем, на кухне), пьешь чай и глядишь, что за окном происходит. Ты сидишь, а мир за окном-кадром движется. Хотя порой и кажется, что движения нет. Или же оно столь микроскопично, что ты не придаешь ему значения. Но чем дольше сидишь, тем больше значения обретает любая перемена. Смещение тени, к примеру.
Другое кино, это тоже сидение у окна, но у окна поезда. Причем идущего. Так что все перемены за окном – за счет движения поезда, а что там происходит с миром, ты замечать не успеваешь.
Тут вспоминается одно наблюдение Газданова (из романа «Ночные дороги») о специфическом взгляде таксиста. Таксист успевает за мгновенье заметить кучу подробностей. Картинка едва промелькнула перед глазами, а он заметил и женщину, и шляпку, и папиросу, и дым от папиросы, и пепел. И даже узор платья. Примерно так.
Выходит, что когда ты едешь, то видишь остановленный мир.
А когда стоишь, то видишь движение мира.
4 декабря 2011
Электричка шла ровно, старики разговаривали. Наверно, они давно не виделись.
– А Константин Михайлов, помнишь? Как он?
– Умер весной.
– А Леша Никонов?
– Какой Леша?
– Никонов. Он в детстве под машину попал. С палкой ходил.
– Умер, год назад. Погоди, сейчас декабрь? Нет, уже полтора года. Что-то с сердцем.
– Да, жалко. Ну а твои как?
– Ничего, нормально. Сын работает. Кредит взял. Не знаю, не нравится мне, как он живет, как-то глупо. Какой-то человек к нему пристал, уговорил деньги вложить, так легко уговорил, удивительно.
– Ничего удивительного. Как сказал Абдулов в этом фильме, как его, сказал, что Россия – страна непуганых идиотов.
– Абдулов тоже умер, – помолчав, вспомнил собеседник.
10 января 2012
Однажды я подошла к окну на кухне, выглянула и увидела гроб. И в гробу – покойника.
Совершенно неожиданно.