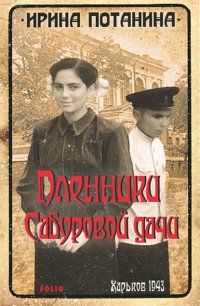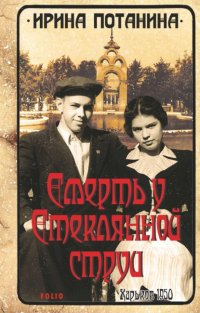
Читать онлайн Смерть у стеклянной струи бесплатно
- Все книги автора: Ирина Потанина
© И. С. Потанина, 2021
© М. С. Мендор, художественное оформление, 2021
© Издательство «Фолио», марка серии, 2015
* * *
День Дурака 1 апреля 1950 года Харьков отмечал с особым размахом.
«2+2=5!» – кричали агитки, напоминая, что послевоенную пятилетку доблестный советский народ собирался выполнить в четыре года и как бы пора уже заканчивать[1]. «Мы – Они. Те же годы, да разные погоды!» – информировали о страшном экономическом кризисе капиталистов календари, наклеенные на окна магазинов с пустыми прилавками. «Нет НАТО!» – вещали газеты, пугая новой войной и призывая не расслабляться.
Люди внимали, гордились, сосредотачивались, обещали гигантским портретам вождей «не подвести»… Но всякий раз предпочитали посвятить свой единственный выходной (у многих это была суббота) делам личным, к строительству вожделенного коммунизма отношения не имеющим.
Переполненные троллейбусы с повязанными на манер медицинских масок алыми транспарантами «Советское – значит отличное» везли к центру частично выпадающих в открытые окна харьковчан. Тем, у кого водились деньги, нужно было на рынок, другим мечталось пробежаться по знакомым за свежими сплетнями, еще кому-то просто хотелось пройтись…
И планы на вечер у горожан тоже были весьма фривольные. Цирк предлагал спортивную программу борцов в сопровождении клоунов, кинотеатры отважно сменили репертуар и крутили теперь комедии даже в вечернее время, театры не отставали, а в каждом клубе после обязательной лекции сотрудников политпросвещения обещали выступления артистов эстрады с юмористическими вставками.
Афишная тумба у замурованного в строительные леса здания горсовета пестрела заманчивыми предложениями. Яркий плакат, по задумке славящий лесорубов девизом «Даем сверх плана», кокетливо прикрывался листовкой, призывающей провести веселый вечер с ансамблем доярок-ударниц.
Но усмотреть во всем этом крамолу могли только вконец испорченные умы, коих в Харькове уже почти не осталось. Даже самые саркастично настроенные граждане, измотанные войной и последовавшим за ней голодом, пережившие карточную систему и изуверскую денежную реформу, понимающие, что живут в эпоху новой волны репрессий и уже даже как-то привыкшие к этому, предпочитали нынче самовольно ни над чем не иронизировать, а, смешавшись с толпой, довольствоваться навязываемыми со сцены разрешенными шутками. Часто, между прочим, весьма неплохими.
И город им в этом вполне покровительствовал. Он поименно помнил ушедших, прекрасно знал, что список ими не ограничится, и искренне желал наполнить дни оставшихся горожан легкомысленной радостью. Особенно тех, для кого эти дни по странным причудам судьбы должны были стать последними…
Глава 1. Происки «Летучей мыши»
«Граждане из очереди к кассам! Просьба загибать хвост в противоположную от входа в ипподром сторону!» – несколько раз повторил репродуктор, прерывая и без того разрушаемую всевозможными техническими хрипами бодренькую утреннюю мелодию.
– Пчхи! – резко выкрикнул стоящий перед Морским юноша и мощными короткими залпами начал прочищать нос.
– Будьте здоровы! – заботливо отозвалась очередь, а старушка уборщица, лихо снующая между кассами, даже протянула бедолаге большой носовой платок.
– Спасибо, ерунда, справлюсь! Лишь бы не было войны! – заученно ответил чихавший, прижимая платок к лицу. И пояснил: – Чертова аллергия! Болезнь редкая, но меткая, как мне доктор в студенческой разъяснил. Пчха-пчхи-пчху! – снова завелся он. – Всем раннее тепло в радость, а я вот, едва что-то цвести начинает, прямо жить не могу. И главное, так неожиданно! Утром еще, когда из дома выезжал, никаких цветов и в помине не было. А тут – на тебе! Непонятная она какая-то, эта нынешняя весна…
Очередь сочувственно загудела, а Владимир Морской – бывший журналист и театральный критик, а ныне не пойми кто – подумал, что более странной весны в его жизни действительно еще не было. А ведь началось-то все с мелочи. Если конкретней – с летучей мыши. Кто б мог подумать, что этот маленький нелепый зверек может принести столько неприятностей!
Морской вздохнул, в очередной раз огляделся в поисках опаздывающей дочери и, удостоверившись, что Ларисы еще нет, а значит можно не притворяться и хандрить в свое удовольствие, погрузился в воспоминания.
Первый звонок громыхнул больше года назад – 25 февраля. Рецензия Морского на оперетту «Летучая мышь» внезапно вызвала бурное осуждение в прессе. Родное «Красное знамя», в котором он работал с самого основания газеты (более 10 лет, на секундочку!), выпустило разгромный текст про «низкопоклонника перед западноевропейской культурой» и «убогого завистника, намеренно и злобно принижающего советское искусство». Что примечательно, с цепи сорвались из-за фразы, под каждым словом которой Морской и сейчас готов был подписаться. «На сцене оперетты должны выступать артисты, которые умеют хорошо петь и тонко чувствуют природу смешного». Что тут не так? Ну, может, перед этим не стоило упоминать, что «старая венская оперетта отличается от современной, как роза от бурьяна, и предъявляет особые требования к театру», но ведь труппа действительно замахнулась на то, что ей не по зубам. И между прочим, в багаже Морского имелось достаточно поощрительных и откровенно хвалебных рецензий о советском театре, но они почему-то ревностными защитниками культуры не учитывались.
Ясное дело, досталось тогда не одному Морскому. Поливались грязью все талантливые театральные критики УССР. Но то ли из-за должности (Владимир заведовал в газете отделом культуры), то ли из-за хорошо запоминающихся фраз, к которым собирались придираться, в начале той памятной первой обвинительной статьи привели именно цитату из отзыва Морского на «Летучую мышь». А дальше понеслось: унизительные собрания с осуждениями от коллег, изгнание из «Красного знамени», исключение из партии, увольнение еще и из театрального института, где Морской несколько лет преподавал театральную критику…
Чего только ни было, а Морской, как дурак, задумываясь о нынешнем своем положении, всегда дословно вспоминал именно ту первую статью.
Хотя задумываться, собственно, было не о чем. Никакого положения у него нынче не наблюдалось. В этом и заключалась нелепость текущей весны. Прошлый год был наполнен борьбой, попытками воззвать если не к справедливости, то хотя бы к здравому смыслу, страхами (куда уж без них!), поисками нового места службы…
После нескольких дежурных визитов участкового Морской был готов пойти и в дворники. Беззлобные, но однозначно насмешливые нотации изрядно действовали на нервы. «Что же вы, товарищ Морской, нигде не работаете? – вздыхал служака, охотно соглашаясь пройти на кухню и чем-нибудь угоститься. – У нас, между прочим, в Конституции прописано, что труд – обязанность и дело чести каждого гражданина. Что значит «не берут»? Должны. У нас право на труд гарантировано. Не берут туда, куда вы хотите! Не время сейчас носом крутить. Идите уже туда, где стране пользу можете принести. Пользу, а не вред!»
Хорошо, старый друг – директор харьковской кинофабрики – вовремя пришел на помощь, не побоявшись взять Морского под крыло и устроить к себе контролером копий.
И вот сейчас, когда травля поутихла и все вроде бы немного наладилось, наступил период полного болотообразного затишья. 50-летний, энергичный, здоровый и способный сделать еще очень многое опытный газетчик обязан был полностью перестроиться: научиться жить тихой, размеренной жизнью, ни во что не вмешиваться и ни к чему не стремиться. А это было настолько тяжело, что Морской, сам того не желая, все чаще, поддавшись порыву злого азарта, совершал глупости и, как говорила всепрощающая и всё понимающая жена Галочка, «рвал зубами в клочья ту тряпочку, в которую надо было бы молчать».
Впрочем, нет худа без добра. Лишившись ответственных должностей, он обрел определенную степень свободы. Кроме того – совесть наконец-то была чиста не вопреки обстоятельствам и благодаря постоянным усилиям не замараться, а по-настоящему. Об этом во времена работы на главный партийный рупор[2] Харькова приходилось только мечтать…
Приятным бонусом нынешнего положения были люди. Как оказалось, ореол неблагонадежного гражданина помогает тщательно отфильтровать круг общения. Отпали подхалимы и лицемеры, появились интересные собеседники, которых ранее отпугивал статус Морского. Те, с кем раньше приходилось, пересиливая себя, общаться по долгу службы, сейчас, едва завидев Морского сами переходили на другую сторону улицы, А те, с кем раньше и хотел бы обняться, да нельзя было, – искали встреч и выражали поддержку. Не все конечно, но…
– Смотри, смотри, – вдруг, не особо скрываясь, громко зашептал кто-то в конце очереди, отвлекая Морского от раздумий. – Вот этот, в шляпе! Точно говорю: он! Мордкович его настоящая фамилия, а никакой не Морской. Он у нас в институте журналистики на научной сессии доклад про довоенные рецензии читал. Я как узнала потом из газет, каким подлецом оказался, аж за сердце схватилась. Это же моя Люська его к нам звала выступить! Как бы чего не вышло! Но обошлось. Мы-то тут при чем? Редактор «Красного знамени» пусть угрызается, что таким либералом оказался недальнозорким. В такой должности, а пригрел на груди буржуазного националиста!
Морскому стало любопытно, кто это так распинается.
– Прошу прощения, – обернулся он и кивнул в знак приветствия. – С «националистом» явный перебор. – Шептавший оказался миловидной гражданкой, запеленатой на матрешечий манер мощным клетчатым платком, покрывающим одновременно и плечи, и шею, и голову. Морской ее не знал, но все-таки продолжил: – Непростительный перебор для представителя института журналистики. «Люська», как вы изволили выразиться, а как по мне, так все-таки заведующая Людмила Ивановна, вашего поверхностного знакомства с терминологией не одобрила бы.
«Матрешка» в изумлении замерла с открытом ртом. Она, конечно, понимала, что Морской все слышал, но удивилась, что он вступил в разговор. Так не ожидают ответного удара от трибуны, по которой стучат кулаком в запале горячего выступления, поддерживаемого всеобщим одобрением зала.
Морской тем временем невозмутимо гнул свое, подсказывая с любезной улыбкой:
– Нынче говорят не «националист», а «космополит». Вообще-то это два противоположных понятия, вы в курсе?
– Какая разница! – фыркнула гражданка и, резко схватив за руку своего немного смутившегося спутника, оттащила его в соседнюю очередь.
Морскому оставалось лишь жалеть, что столь сознательные элементы общества оказались в очереди позади, а не впереди него. Среди отделяющих его от кассы людей проявила бдительность только уборщица, недовольно вырвавшая свой платок из рук все еще чихающего студента и умчавшаяся от греха подальше вместе с метлой и облаком пыли, которое развела вокруг себя. Впрочем, обслуживали на ипподроме быстро, потому стоять оставалось недолго.
– Папа, салют! – раздался в этот момент знакомый голос, и Морской увидел торопящуюся к нему дочь, выкрикивающую слова приветствия больше для оправдания перед людьми, сквозь которых она прорывалась. Любой новоявленный элемент, движущийся вперед, вызывает у очереди неприязнь и автоматическое: «Вас здесь не стояло!», но Лариса раздражала особенно – потому что выглядела словно с обложки журнала.
Гордо вскинутый подбородок и растерянная улыбка кинозвезды, случайно оказавшейся без авто, в сочетании с затянутым в талии жакетом и длиннющей юбкой смотрелись откровенно вызывающе. Образ завершала небольшая шляпка причудливой многослойной конструкции. Морской мог поклясться, что эта штука в последний раз служила головным убором еще Ларисиной прабабке, а с тех пор использовалась в доме как игольница, но расспрашивать не решился.
– Еще не купил билеты? – В мгновение ока дочь оказалась рядом и легонько чмокнула отца в щеку. Несмотря на высоченные каблуки, для этого ей пришлось приподняться на цыпочки. – Хорошо, что не купил. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Давай сбежим!
– Ну… – Морской нахмурился. Ему не столько хотелось посмотреть скачки, сколько важно было соблюсти ритуал.
Морской развелся с матерью Ларочки, когда дочери был всего год, и с тех пор испытывал понятные комплексы и повышенное желание быть хорошим родителем. Отношения с первой женой остались нормальными, потому он имел возможность забирать дочь, когда хотел. Все детство Лариса ходила с отцом то в театр, то в цирк, то на экскурсии по городу, устраивать которые Морской когда-то был мастер, то еще по каким-нибудь «злачным местам». Когда Лара оканчивала школу, любимым воскресным развлечением стали бега на ипподроме. Особенно с тех пор, как выяснилось, что при дожде или сразу после него у Ларочки – хотя она и была, как сама любила говорить, «полный профан», – часто получалось сделать правильные ставки.
А потом была война. Дочь посерьезнела, выросла. Вышла замуж, родила себе невозможно голубоглазую девочку Лену, ушла с головой в свою новую жизнь и долгое время встречалась с отцом только по делам или на семейных праздниках. В свои двадцать семь она многого достигла: работала врачом-психиатром в одном из лучших психоневрологических институтов страны, ходила на курсы повышения квалификации… Но недавно все в одночасье развалилось: Лариса оказалась одновременно дочерью «антипатриотичного критика» и падчерицей «врага народа» – Яков, второй муж ее матери Веры и близкий друг Морского, был недавно арестован за какие-то старые, еще довоенные дела. Лару уволили с работы и ничего, кроме должности медработника в пригородных санаториях не предлагали. Отец примчался утешать, и среди прочих разговоров о житие-бытие, было решено хотя бы пару раз в месяц выбираться куда-то, чтобы провести время вдвоем. Лариса предлагала на футбол, но если матчи проводились на восстановленной совсем недавно арене «Металлиста», билеты раскупались настолько заранее, что даже более или менее вольно распоряжающийся теперь своей жизнью Морской пугался от необходимости загадывать так далеко. Сошлись на ипподроме – не слишком долго, зато весьма эмоционально и захватывающе. Морской по-прежнему играл не ради выигрыша, а ради яркого времяпровождения, и, кажется, Лариса тоже была готова вспомнить давнюю любовь к скачкам.
– Там и поговорим! – Морской кивнул в сторону входа на трибуны.
– Как скажешь, – кротко согласилась дочь, и стало ясно, что разговор будет тяжелым: в обычных обстоятельствах покорностью Лариса не грешила.
«Что могло произойти?» – заволновался Морской. Честно говоря, он давно ожидал, что у дочери начнутся личные, никак не связанные с проблемами родителей, неприятности. В рабочее время Ларочка вроде была безупречна, но стоило ей ступить за порог учреждения, все менялось. Джаз – это ладно, это хорошо. Туда же книги, поиски по кинотеатрам чего-то стоящего и старые иностранные журналы, скупаемые у аферистов, которым все досталось по дешевке в послевоенном голоде. Но бесконечная погоня за одеждой и открытое подражание западным киноактрисам раздражали даже Морского. «Надо свою жизнь строить, а не равняться на картинку с экрана», – безрезультатно напутствовал он. Тем более, что в обществе теперь картинку эту осуждали. К тому же Олег – муж Ларисы – хоть и был личностью вполне приятной, но все равно благонадежным не считался. Работал скромным инженером на ТЭЦ, но вечно говорил какие-то вольности, играл на саксофоне и водил опасные знакомства с той самой необузданной аполитичной молодежью, которая нынче активно клеймилась в печати. Причем в компании у них все были сплошь сынки ответственных работников. То есть чуть что, чтобы не трогать остальных, ударили бы ровно по Ларисе и Олегу.
Предвидя это, Морской переживал, но гнал дурные мысли прочь. И вот дочь заявляет о серьезном разговоре. Неужто началось?
– Пойдем уже скорее, сядем! – потребовала Лара, нервно тарабаня тонкими пальцами по только что купленным билетам. – Кричать не хочется, а на бегу ты шепот не услышишь…
Она взяла отца под руку и настойчиво подтолкнула в толпу у входа. Морской представил, как они смотрятся со стороны, и усмехнулся:
– Мы с тобой прямо как с обложки «Крокодила». Убойная парочка. Космополит и стиляга.
Прошлогодняя статья журнала «Крокодил», породившая термин «стиляга», была вообще-то не особо и смешной, но хлесткое словечко тиражировалось в прессе, и Морской подхватил его как заурядный обыватель.
– Стиляга? – Ларочка презрительно дернула плечом. Потом огляделась, поймала пару осуждающих взглядов и, бросив чуть более громкое, чем следует: – А, плевать! – еще решительнее устремилась к контролерам.
Пробираясь к барьеру – Морской всегда усаживал там дочь смотреть на пробежку перед забегом, – она то и дело натыкалась на обрывки чьих-то разговоров и с удивлением вскидывала брови, требуя от отца разъяснений.
Журнал «Крокодил», №7, 1949 год, иллюстрация к фельетону «Стиляги»
– Дубина! Кто ж папиросу тушит о скамью? – кричала кому-то полненькая особа добродушного вида, – Хочешь, как в Москве на Беговой, среди трамваев фаворитов высматривать?
Морской все понимал и – лаконично, тихо, стараясь не выдавать радости от возможности снова открывать дочери нечто новое – разъяснял смысл обсуждаемых вещей:
– В прошлом году Московский ипподром пережил страшный пожар и до сих пор закрыт на ремонт. Но игрокам без будоражащего азарта уже никак. Говорят, они собираются у депо и делают ставки на номера трамвайных вагонов. Какой первым приедет, тот и победил.
Не успевала Ларочка отреагировать, как тут же удивлялась новому диалогу:
– Извинтеляюсь! – пробравшись сквозь толпу, Морского настиг тот самый спутник беспардонной гражданки из очереди. – И за то, что отвлекаю, и за поведение моей невесты. Она человек впечатлительный, увидела знакомый по газетам образ, распереживалась…
Морской поискал взглядом обсуждаемую особу. «Матрешка» уже сидела на трибуне в окружении нервно перешептывающихся граждан и старательно делала вид, что не знает, о чем ее жених говорит с опальным журналистом.
– Ипподром по-прежнему лихорадит от всяческих интриг, – шепнул Морской дочери. – Завсегдатаи знают, что я это не люблю, и уже не попытаются втянуть меня в свои схемы, а эти, видимо, новенькие.
– Тут такое дело… – продолжил мужчина. – Мы знаем, что фаворит сегодня первым не придет… – Он кивнул на как раз хорошо видного роскошного рысака. – И даже знаем точно, кому повезет. Потому решили сделать ставку в складчину, объединившись с мудрыми людьми… Подбросите рублишек? А?
Морской уже почти добрался до своей излюбленной скамьи, где собирался усадить Ларису размечать программку. Просильщика он слушал лишь вполуха и собирался вежливо отказаться. Но тут товарищ принялся аргументировать:
– Помимо прочего моя невеста рекомендовала вас как человека, несмотря ни на что, умного и в силу, так сказать, национальных качеств, бережливого, расчетливого и хитрого… Ну, вы понимаете. Поэтому я и решил, что вы заинтересуетесь…
– Она ошиблась. – резко перебил Морской, немного сам пугаясь металла, вдруг зазвучавшего в голосе. – Я транжира и дурак! И забияка! Бью в лицо, невзирая на национальность…
Лариса, не сказав ни слова, подыграла: вцепилась в отцовскую правую руку с таким видом, будто регулярно оттаскивает бешеного папеньку от несчастных жертв. Нахал немедля отступил, нелепо бормоча:
– Да что я такого сказал? За Нину я ведь извинился… Шуток не понимают…
Через миг он уже приставал со своим страшно секретным уникальным предложением к следующему посетителю, а Морской весело подмигнул дочери:
– Отличный способ распугивать идиотов! Я хорохорюсь, а ты громко волнуешься, мол, «отец, не надо! Ты только что за драку отсидел, и хорошо еще, что обидчик твой просто в больнице, а не в морге…» В следующий раз, если что, повторим более слаженно…
– Следующего раза не будет, – твердо произнесла дочь. – Об этом я и хотела поговорить. Послушай…
Морской инстинктивно вскинул ладони в знак протеста. Сейчас по плану был не разговор, а ставки. Он протянул Ларисе карандаш, она, не глядя, что-то начеркала. Потом не выдержала:
– Я так не могу! Сначала разговор. А то пойдешь делать ставки, и тебя снова перехватит какой-нибудь антисемит. Они сейчас повсюду, и сами, в общем-то, не замечают, что несут… – Она вдруг глянула отцу в глаза и быстро выпалила: – Папа Морской… Я… Я уезжаю. Навсегда и далеко. В Заполярье. Точнее – в Воркуту. Не бойся, добровольно. Ты слышал ведь, что туда сейчас идет набор специалистов? Вот мы с Олегом и решили…
Морской три раза мысленно повторил услышанное, чтоб хоть как-то осознать.
– Но… Но зачем? – только и смог вымолвить он.
Лариса фыркнула, будто отец спросил нелепость, но спохватилась и принялась разжевывать, как маленькому.
– Там обещают работу, приличные надбавки и… свободу.
– Свободу в лагере? – Морской о Воркуте, конечно, слышал. Точнее – о Воркутлаге, куда свозили заключенных всех мастей. О том, что туда требуются вольнонаемные гражданских профессий, он даже не подозревал.
– Зачем ты так категорично? – расстроилась Лариса. – Сейчас начнешь еще причитать, как мама, что там ужасный климат, цинга и мало кислорода. Да, город закрытый, но перспективный. Дает уголь всему Союзу, между прочим. На некоторые должности спецдопуск не требуется, а профессионалы нужны. Тем, кто согласится поехать, обещают хорошее снабжение и то, что называется, почет, – она усмехнулась. – Ну, то есть в ЖЭКе, если он там есть, будут посылать по матери не в первый же визит, а, скажем, во второй. Зато тем, что я падчерица зэка, в Воркуте точно никого не фраппируешь, – заметив, что отец все еще не понимает, Лариса зашла с другой стороны: – Я хороший специалист, папа Морской. И мне надоело унижаться, выпрашивая хотя бы четверть ставки в институте, где все всё понимают, но не могут… Да и прожить на эту четверть невозможно. Я докатилась до того, что занимаю деньги у собственной швеи на оплату ее же работы. Хотя мы, как ты знаешь, очень дружим, и она и так ко мне весьма лояльна. Вот, перешила мне твой свадебный пиджак за копейки. Но и копейки тоже надо где-то брать…
Морской с пристрастием оглядел Ларисину одежду, своего в ней ничего не узнал, но понял главное:
– Так это из-за денег? – Сейчас, конечно, это был вопрос для всех критичный, но пессимизма Морской не разделял. – Дочь, деньги – штука временная. Да, в меньшей степени приходящая, чем нам хотелось бы, и в большей преходящая, но… Знаешь, мне ставку редактора монтажа утвердили. Какая-никакая, а прибавка. Я подстрахую вас с Олегом и Леночкой. И пиджаки ведь можно не перешивать. Ходи как все – другие как-то же справляются без денег. – Тут Морской вспомнил свои предыдущие споры с дочерью и понял, что зря повторяется. – Да, знаю, ты считаешь, что современный человек должен делать этот мир лучше и украшать реальность, начиная с себя. Но…
– Все это мелочи и дурость, я согласна, – второй раз за день Лариса проявила неожиданную покладистость. Явно копила силы, дабы крепко спорить в главном.
Кругом шумели и улюлюкали, гонка началась, но Морскому было уже не до чужих соревнований. Чтобы не выделяться, они с Ларисой облокотились на перила и, тесно прижавшись друг к другу, невидящими глазами смотрели на дорожки.
А сами продолжали разговор.
– Как ты не понимаешь! – После короткой паузы Лариса заговорила резко и тяжело. – Так дальше жить нельзя! Ты в опале, я растоптана, на Олега в его ТЭЦ тоже все косо смотрят. И из-за меня, и из-за наших друзей. Уже, наверное, месяц, не слишком-то таясь, за Олегом все время ходят двое в штатском… Это плохо кончится. Даже соседи понимают, что нам конец. Усердно строчат жалобы, чтобы лишить нас комнаты. Мне черновик попался на глаза. Дословно: «У этих евреев всего 9 метров, а антипатриотичная зараза распространилась на всю квартиру: они скупляются всяким импортом, и саксофон у них – иностранный, как, наверно, и они сами в душе». Такие опусы, ты представляешь?
– Дочь, я прошу, не обращай внимания и не драматизируй, – Морской сдаваться не спешил. – Сейчас такие времена. За всеми ходят, на всех строчат, всем несладко. Но это же пустое. Мы сильны, потому что мы ни в чем не виноваты. Бросать свой город? Уезжать из-за того, что кто-то в нем подвинулся умом? Да слишком много чести этим людям, которые в душе-то – барахло…
Тут он вспомнил, что подобная паника с Ларисой уже однажды приключалась. На следующее утро после ареста Ларочкиного отчима Якова, когда Веру забрали для дачи показаний и было неясно, отпустят ее или тоже арестуют, Лариса примчалась к отцу, рассказала о случившемся и попросила… нет, не хлопотать в инстанциях, а позаботиться о внучке, когда саму Ларису «загребут». Так и твердила убежденно: не «если», а «когда».
Но все ведь обошлось. Даже Яков в итоге попал не в какой-то страшный лагерь, а в НИИ тюремного типа – в простонародье «на шарашку»…
– В конце концов, – начал Морской, – в прошлый раз, когда у тебя были подобные настроения, все закончилось относительно спокойно.
– Ничего еще не закончилось, – упрямо прошептала Лариса. – Именно поэтому я уезжаю. Через неделю. У нас уже билеты и бумаги на руках. Прости, я ничего не говорила раньше, пока было неясно, одобрят ли наши кандидатуры в Сыктывкаре – это столица Коми АССР, той автономии, где Воркута… Но теперь все решено. И я не о благословении тебя прошу, а об одолжении. Поговори, пожалуйста, с мамой Верой. Она не хочет отпускать с нами Леночку! И не отпустит, ты же ее знаешь. – Она говорила четко и без эмоций, как заведенный автомат. Тем яснее было, что каждое слово стоит ей гигантских сил. – Я понимаю, что сейчас, пока мы едем в никуда и не устроены, ребенку лучше жить у бабушки. Но потом, когда мы обживемся, я хочу забрать дочь. А мама говорит «никогда не отпущу». Повлияй на нее, прошу…
Повлиять на Веру? Морскому вдруг представилось, что ради блага Ларисы он должен зайти в клетку с тигром. Зашел бы? Скорее всего, да: понимать, что дочь раз в жизни о чем-то попросила, а ты отказал – себе дороже. Но ничего хорошего это точно не принесло бы. Вера и раньше-то особо никого не слушала, а в последнее время и вовсе при попытках завести с ней разговор закатывала глаза, говоря: «Только не начинай!»… Как можно было думать, что Морской сможет ее в чем-то убедить? Тем более, так думать не могла прекрасно знающая мать Лариса…
Теперь все это выглядело словно какой-то глупый розыгрыш. Морской неуверенно покосился на дочь.
– Первое апреля – никому не верю? – спросил он с ужасом от того, что Лариса может так жестоко шутить. И пришел в еще больший ужас, когда она отрицательно замотала головой.
– То есть, – он еще на что-то надеялся, – ты собралась уезжать, и я должен убедить Веру согласиться в будущем отпустить с тобой Леночку? А если мне не удастся, то…
– Я все равно уеду, – отчеканила дочь, и в глазах ее появились слезы. – Но с вдребезги разбитым сердцем. Ты за?
Это был запрещенный прием, и Морской, конечно, не выдержал.
– Хорошо, я поговорю с твоей матерью. Толку не будет, но я приложу все усилия…
В этот момент часть ипподрома синхронно подскочила с мощным радостным криком. Краем сознания Морской не без удовольствия отметил, что «матрешка» к ликующим не относилась, и тут же не без сожаления осознал, что Лара верно все разметила в программке. М-да, выигрыш, сделай Морской ставку, а не отвлекаясь на разговоры, мог оказаться неплохим…
Впрочем, теперь все это было не важно.
– Пойдем, тут шумно и обидно, – подумав о том же, сказала Лариса, и они устремились к выходу.
Традиция воскресного похода на бега, похоже, была обречена погибнуть, так толком и не возродившись.
* * *
От ипподрома решили прогуляться пешком. Ларисе нужно было по делам в другую часть центра. Путь неблизкий – но время позволяло, и отец согласился ее проводить. Он вообще, похоже, выбрал тактику во всем мягко соглашаться – сумасшедшим ведь не противоречат. Наверное, непросто применять это правило, когда безумные поступки совершает твоя дочь. Когда-нибудь, когда Леночка вырастет и решится на что-нибудь отчаянное, Ларисе тоже нужно будет сделать выбор: ставить палки в колеса, пытаясь защитить ее по собственному разумению, или отпустить, поверив в то, что взрослой дочери виднее, как жить. Лара надеялась, что, как сейчас у Морского, у нее хватит сил и доброты выбрать второе.
Отца хотелось похвалить, но как-то прямо не поворачивался язык.
– Сильно расстроился? – осторожно спросила она вместо этого.
– Есть немножко, – кивнул Морской, ускоряя шаг.
С детства привыкшая приноравливаться под стремительную походку отца, Лариса легко опередила его на полшага и незаметно заглянула в лицо. Высокий лоб, чеканный гордый полупрофиль, миндалевидные полуприкрытые глаза – как всегда, когда он был чем-то недоволен, но пытался сдержаться и не выдать себя гневным взглядом, – и страшные мешки под глазами. За последний год Морской, конечно, очень сдал, но все еще оставался импозантным и, как говорили, «видным мужчиной».
– А как дела на фабрике? – Лариса решила разрядить обстановку.
– Все путем, но скучно, – пожал плечами отец. – «Джордж из Динки-джаза» больше не попадался.
На нынешней работе Морскому приходилось отсматривать киноленты про успехи производства или про очередное собрание какого-нибудь завода. Причем смотреть надлежало внимательно: брак мог всплыть на любой минуте, и его необходимо было задокументировать. Но иногда попадались приятные смены. Например, когда фабрика копировала развлекательные картины для кинотеатров. Лариса с жадностью выспрашивала малейшие подробности сюжета, пытаясь выяснить, похожа ли картина на культовую «Серенаду Солнечной долины», или и говорить о ней в приличной компании не стоит.
– Ты расскажи все толком, – вернулся к наболевшему Морской. – Кто вас завербовал? Им можно вообще верить? Что нужно взять в дорогу?
Лариса даже не решилась осмеивать его «завербовал». Послушно объяснила, что они с Олегом сами напросились, что это правильно и важно. А еще важнее – чтобы отец поговорил с мамой Верой. Ну вдруг и впрямь поможет?
«Шансов, конечно, мало, – думала Лариса. – Но я должна привлечь все возможные меры влияния. Ах, как же все-таки печально, что Женька сейчас далеко…»
Лариса точно знала, что младший брат сумел бы ей помочь. Его ведь мама отпустила без скандалов! Правда, учиться. И не на Север, а наоборот. Едва в 1944-м в Одесской мореходке объявили прием, Женька сказал, что станет капитаном дальнего плавания и ушел в самостоятельную жизнь. Капитаном, правда, он не стал – писал, что это впереди, но жизнь свою с морем связал крепко. С одной стороны – хорошо, с другой – Ларисе теперь приходилось привлекать бедного папу Морского к задачам, с которыми Женька справился бы куда легче. Он всегда знал, как подобрать ключ к сердцу матери.
– Каким путем пойдем? – спросил отец, когда они остановились у развилки. – Я знаю минимум три тайные тропинки и две дороги. И на каждой есть на что посмотреть и про что рассказать…
– Только не через кладбище[3]! – попросила Лариса.
– Боишься ограбления? – не совсем верно понял Морской. – Согласен… Там, говорят, сейчас раздолье для бандитов.
– Да нет, – отмахнулась Ларочка. – Что с нас брать? Не тронут. Я знаю, что так ближе, и с тех пор, как мародеры разломали забор, стало удобно так срезать путь… Но у надгробья я, конечно, разревусь, а мне еще с людьми сейчас встречаться…
К бабушке Зисле и дедушке Хаиму, могила которых, так уж получилось, располагалась в самом проходном месте закрытого год назад и потому теперь неохраняемого и многолюдного Первого городского кладбища, Ларочка хотела зайти перед отъездом отдельно.
– Я им попозже поклонюсь.
– Как скажешь. – Тут Морской не удержался от укола: – Обоим Хаимам кланяться будешь?
Лариса пропустила иронию мимо ушей. Когда дедушка скончался, перед семьей встал нелегкий вопрос: где хоронить? Логичнее было там, где уже покоилась бабушка. Но двадцать последних лет дед Хаим жил с другой женой, что не мешало ему общаться с дочерями и их семьями, всем помогать, всех обожать, всех баловать. Сам он, разумеется, хотел быть похоронен вместе со своей обожаемой Фаней Павловной, которая умерла сразу после реэвакуации и покоилась далеко за городом. Но семье было сподручнее и интереснее проведывать могилу в Харькове: бродить среди роскошных дореволюционных склепов высотой с добротный дом и целых аллей со знаменитыми фамилиями это не то же самое, что ездить на ветхое деревенское кладбище раз в год. В общем, захоронили, где удобнее. Но позже устыдились и на камне Фани Павловны – ведь дед место и для себя там оставлял! – тоже вписали имя «Хаим». Так получилось сразу две могилы… Папа Морской был против. Вроде атеист, а усмотрел во всей этой житейской истории разделение души и тела: душой-то Хаим был с Фаиной! Впрочем, Морской был всего лишь бывшим зятем, а обе дочери решили, что так можно. Да и Лара с Женей не возражали.
– Между прочим, – Лариса перевела разговор на другую тему. – Я сейчас иду не куда-нибудь, а к знакомой даме-микробиологу. У них на работе почти даром можно купить вываренную перекрученную говядину, остававшуюся после приготовления питательных бульонов для выращивания бактерий. Сейчас многие так питаются. Могу вам с Галочкой по наследству это знакомство передать. Хочешь?
– Не знаю, может, и хочу, – Морской ответил осторожно. – Хотя… Лучше не надо.
Он, видно, был не в курсе, как обрадовалась бы Галочка, узнай про такую возможность. Лариса даже не была уверена, что отец понимает, как сложно нынче с продуктами. В этом смысле папе Морскому повезло – жена и теща решали все бытовые проблемы, особо главу семейства ни во что не посвящая.
– Если б ты не уезжала, то я, конечно, был бы рад с тобою разделить любые знакомства, – он снова вернулся к болезненной теме.
– Послушай! – Ларочке очень хотелось улучшить ему настроение. – Ничего трагичного не происходит. Считай, что у меня командировка. Да, длительная. Но отпуск будет уже через год. Увидишь, я приеду совсем другим человеком. – Она заметила блестящую «Победу» с шашечками на боку, высаживающую кого-то на углу с Бассейной[4], и принялась фантазировать: – При встрече я первым делом усажу тебя в такси и будем колесить по твоему любимому Харькову сколько хочешь.
– Ты правда думаешь, что я так обнищаю, что буду принимать поездку на такси за праздник? – скривился Морской.
– Нет конечно! Но ты порадуешься, что сможешь рассказать мне сразу все свои байки про город, а я не буду отбиваться и стану покорно слушать…
Папа Морской был одержим историей города, и над ним подшучивали за то, что он не может пройти и полквартала без обязательного: «На этом месте много лет назад…»
– И даже не начнешь перебивать стихами собственного сочинения? – парировал он.
Лариса не обиделась. У каждого в семье было подвергаемое общим благодушным насмешкам хобби. Она, кстати, сочиняла сейчас все реже и до сих пор искренне не понимала, почему отец не любит, когда она читает свои стихи.
– Потому что с точки зрения искусства это слишком сыро, а с точки зрения приличий – слишком откровенно, – по глазам прочел ее вопрос Морской и неожиданно решил объясниться: – Стихи можно писать в трех случаях: если ты гений, если ты молод или если это входит в круг твоих профессиональных обязанностей.
Лариса даже поперхнулась, но тут же взяла себя в руки.
– Не молода и не гений, каюсь, – ехидно улыбнулась она. – Но хотя бы не боюсь признаваться в своих чувствах и пытаюсь формулировать, а не строю из себя образец равнодушного хладнокровия.
– Глобально ты преувеличиваешь, но кое в чем права, – поняв, что переборщил, отец попытался подлизаться.
– И знаешь, – Ларочка уже вошла во вкус, – я потому и прошу тебя поговорить с мамой, что вы с ней одинаковые. Оба так боитесь избаловать близких похвалой и позволить им расслабиться, что все время говорите гадости. Кстати! – Тут она придумала идеальный вариант мести. Они как раз дошли до поворота. – Раз у нас есть время, может, сделаем крюк, заглянем к маме на работу, и ты прямо сейчас поговоришь с ней?
По иронии судьбы из-за ареста Якова вылетела с работы только Лариса. Хотя она была всего лишь его падчерицей. Но жена арестованного оказалась работником слишком видным, а сын – слишком незаметным, и их не тронули. Без Веры Дубецкой ее туберкулезный диспансер и впрямь пропал бы, поэтому все обошлось беседой на собрании. А Женькина служба, судя по всему, и так считалась сплошным наказанием, поэтому ухудшать его жизнь в связи с неприятностями отца было некуда.
– Да, да, – продолжила Лариса. – На работе мама, возможно, будет сговорчивее. Пойдем?
– Ну нет! – Морской аж побледнел. – Ругаться в доме еще куда ни шло, а прилюдного скандала я тебе не обещал. Не дави! Я зайду к твоей матери вечером…
– Но почему сразу скандала? – продолжала подначивать Лариса, а потом вдруг поняла: – Постой! Так ты же ничего не знаешь! Мама позавчера виделась с Яковом. Они объяснились, и ей полегчало. Вчера, отчитывая меня, она даже говорила что-то в том духе, мол, «Лара, твой отец затею с поездкой не одобрил бы». Говорила таким тоном, будто ты – большой авторитет. Она, конечно, все равно будет язвить, но, кажется, теперь она была бы тебе рада.
Морской опешил, и Ларочка представила, какая каша творится в отцовской голове. Он знал только, что с момента ареста Якова прошло больше года, и за это время Вера не получила ни единой весточки от мужа. Сама писала с разрешенной по правилам частотой, отсылала передачи, но долгожданных ответных писем не было. Ни одно из логичных объяснений происходящего Веру не устраивало, потому, опасаясь, что кто-то начнет ей о них говорить, она попросту перестала общаться с людьми. Контактировала только по делу, сухо и на бегу. Все это Морской знал. А вот о том, что Яков два дня назад был в Харькове, услышал впервые. Необходимо было все объяснить, но тут впереди показались две знакомые фигуры.
Ицик Шрайбер и Алик Басюк были в Харькове чем-то вроде достопримечательностей. Считалось, что они поэты, хотя никаких стихов их авторства Ларочка отродясь не встречала. Считалось, что филологи, но специалисты после окончания Университета должны были бы работать по специальности, однако Алик, по слухам, из сельской школы убежал, перебрался обратно в Харьков и чем тут занимался – непонятно. По крайней мере в любое время дня и ночи, когда бы ты ни повстречал этих веселых шалопаев, они, перебивая друг друга, вещали что-то о литературе, красиво декламировали рифмованный бред и цеплялись к прохожим с вопросами о смысле жизни. Эту странную парочку в городе обсуждали все, включая музыкантов, с которыми дружил муж Лары Олег. Собственно, из-за его друзей она и была в курсе дела. Сейчас Лариса заранее сердилась, понимая, что Морский, конечно, отвлечется на приветствия и разговоры.
Но произошло странное. Увидев Морского, чернявый Басюк замер, потом круто развернулся и перешел на другую сторону улицы. Несколько растерянный Ицик неуверенно пожал плечами, но последовал за другом.
Ларочка почувствовала себя так, будто ей дали пощечину, и демонстративно нежно взяла отца за локоть.
– Это не то, о чем ты думаешь! – величественно глядя прямо перед собой, проговорил Морской, не в силах скрыть улыбку. – По-настоящему мы подружились с Аликом в последний год. Пока я был при должности, он, хоть и приносил статьи в «Красное знамя», но теплых чувств ко мне не испытывал. А как меня уволили, так оказалось, что у нас много общих интересов. Так что дело не в том, что он, как ты могла подумать, боится афишировать знакомство с «космополитом». Он и в гостях у нас бывает часто.
– Мне Галя говорила, – сообщила Лариса.
– Просто у нас с ним с недавнего времени уговор, – продолжил Морской: – Мы друзья, только когда он трезв. Напившись, Алик становится сплошным несчастьем. Нет, он не буйный. Просто начинает плакать и каяться… Мне это надоело, и он – надо понимать, из уважения к моему возрасту и былому авторитету – дал обещание со мною говорить лишь в здравом состоянии.
– То есть теперь вы не общаетесь? – фыркнула Ларочка, но, поймав осуждающий взгляд отца, осеклась: – Хочешь сказать, что он бывает трезвым?
– Еще как! – серьезно проговорил Морской. – И поверь, этот юноша весьма эрудирован и может быть очень интересным собеседником. Он знает наизусть, наверное, всех поэтов Серебряного века. Да и прочие прекрасные стихи.
Словно нарочно с другого конца улицы раздался в этот момент восхищенный женский визг, разрываемый громкими раскатами голоса Басюка:
- В голубом далеком Аяччо
- Проживает Алеко Басючио,
- Хороша его жизнь босячья —
- Много он потребляет горючего.
Похоже, горе-поэт встретил подружек или пытался познакомиться. Для пущего эффекта он взобрался на высокий парапет и норовил с него свалиться.
– Я не вполне об этом, – не унимался Морской. – Но сия тирада в пессимистическом варианте заканчивается у Алика строками: «Тяжела его жизнь собачья – Мало он потребляет горючего», и тогда с этим человеком можно и нужно разговаривать. А пока – пусть дурачится, но без нас. Забудем про него сейчас, годится? Ты, кажется, сказала, что Яков в Харькове? Его освободили?
Они пошли дальше.
– Нет, не освободили, – торопливо разъясняла Лариса. – Произошла дичайшая история. В Харьков явилась важная делегация каких-то инженеров. Мама не сказала откуда, но это были иностранцы, причем ужасно уважаемые. Один из них вроде бы в войну подружился с Яковом. Ты же знаешь, папа Яков хороший медик и многих спас. – Лариса поняла, что за разговором они незаметно дошли аж до сквера Победы, и потащила отца вглубь. Там, под шум включенного в честь хорошей погоды фонтана «Стеклянная струя» можно было спокойно пошептаться. – Члены делегации, – продолжила она, – изъявили желание поужинать с Яковом и его женой в честь своего приезда. И что ты думаешь? К маме заявились МГБшники и потребовали выдать парадный костюм Якова. И самой ей тоже приказали принарядиться и быть готовой в нужное время приехать в ресторан. Ей приказали ничего лишнего, включая информацию про арест Якова, не говорить, а вести себя спокойно, как на обычном ужине с высокопоставленными друзьями. Представляешь? Папу Якова срочно разыскали и доставили в Харьков! – Лариса осторожно покрутила головой и утащила отца подальше от посторонних глаз на боковую аллею. – Его привели в порядок, свозили к ужину и… увезли обратно. Но за эту встречу мама успела выяснить, что он жив, почти здоров и любит нас, как прежде. Сказал, что все непросто, но жить можно. А отсутствие писем – это скорее всего блажь администрации. Они имеют право наказывать лишением переписки и, видимо, чтобы не возиться с проверкой почты, пользуются этим правом слишком часто. У многих заключенных такая же ситуация с письмами. Но теперь, когда, благодаря милым иностранцам, выяснилось, что Яков – важная персона, его положение должно улучшиться…
– Новость прекрасная, – отреагировал Морской. – Но ты же понимаешь, что Вера не должна была тебе все это говорить?
– А я – тебе, – кивнула Лара. – Но как иначе мне было убедить тебя, что мама больше не кусается?
– Тоже верно, – согласился отец. – Я рад, что Яков нашелся. Я не писал ему, чтобы не навредить – моя фамилия на конверте, как ты понимаешь, ничего хорошего респонденту не сулит. Но справки наводил и тоже волновался… А знаешь! – Тут глаза папы Морского загорелись озорным огоньком. – Вот ты сказала: «Не кусается», и я сразу захотел перекусить. Раз уж мы тут, и раз такое дело, заскочим в нашу булочную?
Он кивнул на булочную-кафетерий в полуподвале на углу Сердюковского[5] переулка и Сумской улицы. В раннем Ларочкином детстве там пекли ароматнейшие хрустящие бублики и наливали из большого самовара вкусный кофе с молоком. Морской в те годы обожал это место, и они с Ларочкой по дороге в оперный театр обязательно заходили перекусить. Сейчас за утоление народной жажды в булочной отвечал отдел «Соки-воды», а выпечка осталась почти прежней. И даже еще лучше, потому что ассортимент расширился. Нежнейшие малюсенькие пирожки с рисом и яйцом были знамениты на весь город. Как раз недавно, будучи там с подругой, Лариса вспоминала, что это бывшая любимая бубличная отца.
– Зачем ты мне напомнил! Прямо сюда запахло! – весело подхватила она. – Вперед!
Но сразу за беседкой их перехватили. Местный фотограф, которого Ларочка с момента открытия сквера считала чем-то наподобие неотъемлемой части пейзажа, бросился наперерез.
– Товарищ Морской, добрый день! Прекрасно смотритесь! – Он ловко выскочил вперед, присел и прицелился, пытаясь, кажется, поместить в кадр и «клиентов», и растянутый на всю боковую часть верхушки Альтанки[6] портрет Ильича. – Улыбочку!
Морской изогнулся, прячась за дочь в знак отказа позировать, но протянутую через миг руку фотографа пожал, пробормотав при этом глупое: «Спасибо!»
Фотограф окинул Ларису оценивающим взглядом и вдруг многозначительно подмигнул:
– Самая большая проблема преподавателя в том, что жена стареет, а студентки первого курса – никогда, да?
Лара вспыхнула, но наглец тут же пошел на попятную:
– Шучу-шучу, – затараторил он, – Это старая реприза, товарищ Морской знает. Не хотел вгонять вас в краску. Что ж, до свидания и хорошей прогулки!
На шутовской манер выставив вперед живот, он водрузил на него фотоаппарат и широкими шагами пустился вдогонку за кем-то следующим: «Улыбочку!»
– Ишь какой смельчак, – тихонько фыркнула Лариса вслед.
По другую сторону сквера в уютном двухэтажном домике бывшего музыкального училища располагался театральный институт. Все три года, что существовала «Стеклянная струя», студенты и преподаватели считали этот комплекс чем-то вроде собственной придомовой территории. Сперва они активно помогали стройке (сквер возводился при участии горожан), а позже не только выскакивали прогуляться на каждой перемене, но и, усевшись на кирпичном заборчике, ограждавшем бассейн фонтана, могли половину ночи после занятий пережевывать начатую на лекции дискуссию. Морского здесь действительно знал каждый камень, поэтому фотограф наверняка был осведомлен о том, что здороваться с этим человеком нынче означает потакать веянием космополитизма. И тем не менее…
– Да, это удивляет, – согласился бывший преподаватель. – Он тоже из тех, кто раньше не общался, а как узнал, что я уволен из газеты и из института, – так вот. Не в первый раз уже «здрасьте-мордасте». Сейчас-то ты его спугнула, а обычно прям видно, что хочет поддержать. Болтаем весело о нашем невеселом бытие. Приятно.
– Может, провокатор? – насторожилась Лариса.
– Может, – легко согласился Морской. – Но, знаешь, провокаторы и стукачи встречаются сейчас на каждом шагу, а люди, с которыми интересно поговорить, – редкость. Потому если обе эти ипостаси совмещаются в одном человеке, то второе куда ценнее и важнее.
– Глупости! – возмутилась Лара. – Постарайся впредь с посторонними не разговаривать, побереги себя. И кстати! – тут она вспомнила начало разговора с фотографом. – Зачем ты даешь повод глупым сплетням? Нельзя было сказать, что я твоя дочь? А так ты промолчал, и получилось… Фу! Фотограф обязательно кому-нибудь ляпнет, по городу пойдут сплетни и Галочке будет неприятно.
– Ой, перестань, – отмахнулся Морской. – Галочка человек мудрый и с отличным чувством юмора. Она лишь посмеется. Все эти душещипательные драмы и уколы ревности, к счастью, не ее стиль. Это же не Ирина! Был бы я все еще женат на твоей прошлой мачехе, конечно, опасался бы подобных шуток. Но я счастливчик!
Морской был женат целых четыре раза. При этом ни о чем не жалел и утверждал, что с каждой прошлой женой нажил себе что-то значимое. С Ларочкиной мамой – любимую дочь. Со второй женой – стойкое убеждение, что брак, заключенный впопыхах и по дружбе, быстро распадется и, в общем, не считается. С третьей – головную боль, раскуроченную душу и тягу к одиночеству, к которому он неминуемо пришел и был бы им доволен по гроб жизни, если бы неожиданно не встретил лучшую женщину на Земле – то есть свою нынешнюю жену Галину.
– Да, с Галочкой тебе, конечно, повезло, – согласилась дочь. – Хотя вообще-то я любила и Ирину.
За разговором они не заметили, что вокруг творится нечто странное. Милицейскую машину через дорогу и паренька в форме у входа Лариса увидела, только когда была уже в двух шагах от спуска в булочную. Прикидывая, можно ли еще сделать вид, что они с отцом просто проходят мимо, она замерла.
И тут из подвальчика стремительно вылетела… бывшая мачеха Ларочки, Ирина Онуфриева собственной персоной. Прошло больше пятнадцати лет с тех пор, как она бросила и Харьков, и Морского, но балерина, кажется, ничуть не изменилась. Такая же красавица, словно сошедшая с иллюстраций к книге о греческих богинях. Разве что стала еще бледнее, тоньше и еще более похожей на существо с другой планеты.
– Спасибо, что вы здесь! – трагичным шепотом ошарашила она, замерев перед бывшим мужем, словно натянутая струна. – Я увидела издалека, узнала по походке, но засомневалась… Вы лысый, вам уже про это говорили? О! – тут она узнала Ларису и на миг даже тепло улыбнулась. – Детка! Я знала, что ты вырастешь красоткой, но чтоб настолько… – И тут же, без перехода, мелко задрожав от рыданий, бросилась на шею Морскому: – Помогите! Это я, я! Я его убила!
Глава 2. Заклятый друг
– Ну ты, мать, даешь! – выслушивала примерно в то же время на собственной кухне Галина Воскресенская-Морская. – 30 лет в обед! Cолидный возраст, а все еще веришь в чудеса!
– Верю, – улыбнулась она. – Но только в те, которые способна сделать собственными руками.
В сложившейся ситуации ее действительно все смешило. И то, что мама окончательно заразилась от коллег прогрессивным стилем общения и даже собственную дочь именовала теперь «матерью», и то, что кот Минька, царственной походкой подойдя к миске, величаво выудил оттуда лапой пару рыбьих голов, а потом не выдержал, схватил добычу зубами и пулей умчался из кухни.
А ведь вся эта рыбья кото-катавасия была затеяна ради того, чтобы Минька не убегал, а ел себе спокойно, когда хочется! Соседка по квартире недавно умерла, и ее кот остался сиротой. В освободившуюся комнату вселили тихую испуганную учительницу, которая вела во Дворце пионеров кружок выразительного чтения, жила работой и совершенно не хотела иметь отношения к чужому животному. Изгнанный Минька выбрал своим новым местом жительства закуток между кухней и уборной, опустошал наполняемую Галочкой объедками со стола миску крайне редко и вообще категорически не шел на контакт. Огромный черный с белым галстуком, он и раньше относился к соседям с некоторой долей презрения, а сейчас и подавно считал окружающих тюремщиками и виновниками всех своих бед. При попытках погладить, вырывался и брезгливо отряхивался, при стараниях заговорить – шарахался. А те, кто случайно заставали Миньку восседающим на углу ванной и лакающим воду из подтекающего крана, сталкивались с его полным осуждения взглядом, сообщающим: «Мало того, что хозяйку у меня отняли и из родной комнаты выгнали, так еще и выпить не даете, сволочи!» Оставалось только радоваться, что ванна у Морских находилась на кухне и что трижды вызываемый слесарь так и не соизволил явиться чинить кран – иначе Минька не получал бы достаточно жидкости.
Сегодня Галочка решила все же покорить сердце бедного кота: специально спустилась к реке и разыскала сижу того самого рыбака, который продавал прежней хозяйке любимую еду Миньки. План не сработал на все 100 %, но маленькое чудо все же произошло – кот в первый раз после смерти хозяйки вошел на кухню, когда там находился кто-то еще.
– Не старайся! – продолжала наставлять Галочку мама. – Минька не понимает, что не может вернуться домой из-за новой жилички. Думает, все из-за вас. Вы лишили его жилплощади, он никогда вас не полюбит!
– Но ты же полюбила! – парировала Галочка.
– Это другое! Ты, мать, не сравнивай животное и человека, – Галочкина мама любила пофилософствовать. – Зверушки не умеют обманывать, тем более сами себя. А человек ко всему привыкает. Если понимает, что выхода нет, предпочитает расслабиться и внушить себе, что получает удовольствие. – Она поняла, что перегнула палку, и добавила, спеша извиниться: – Но твоя правда – я действительно вас полюбила. Да и раньше любила, чего уж там…
Галочка обняла маму и, хотя та поморщилась от запаха рыбы и гневно стрельнула глазами в сторону раковины – помой, мол, руки после возни с этими ужасными головами! – дочь все равно ощутила прилив нежности. Они с Морским и правда были ужасно виноваты. Шутка ли – пообещать человеку дворец, а поселить в тесной комнатушке!
По-настоящему Галочка сблизилась с мамой только во время войны. Так вышло, что в детстве контакта у них не было: родители уехали работать в Азию, когда Галочка была совсем ребенком, и растил ее дедушка. Переписка и редкие приезды ничего не меняли, но много позже, когда во время эвакуации Галочка попала в Андижан, и Ксения Ильинична (так звали Галину родительницу) разыскала их с Морским там, стало ясно, что мама – это важно и здорово.
После войны была черная полоса. Умер дедушка (Галочка до сих пор не могла справиться с горем и попросту запрещала себе думать об этой потере), на отца пришла похоронка (эта тема была табу для мамы – видимо, тоже из-за невозможности вспоминать, не сходя с ума от боли). Все как у всех, с той лишь разницей, что остальным чаще всего было на кого опереться, а мама жила в далекой Азии совсем одна. Галочка уговорила ее переехать. Опытный специалист везде на вес золота, поэтому подобрать для Ксении Ильиничны работу в Харькове было довольно просто. Тем более, организация не обязана была обеспечивать новую сотрудницу жильем: жить Ксения Ильинична собиралась то на даче Морских (благо электрички ходили исправно), то в просторных двухкомнатных хоромах дочери (ордер на первую в жизни изолированную квартиру Морской должен был вот-вот получить).
Когда в конце января 1949-го в газете «Правда» вышла злополучная статья «Про одну антипатриотичную группу театральных критиков»[7], трудоустроенный бухгалтер Ксения Ильинична уже ехала в Харьков, обрубив все связи с Андижаном. Сказать ей: «Уезжай, тут, может, будет жарко» ни Галя, ни Морской не решились. Тем более, была надежда, что грозные московские веяния до Харькова не дойдут. Дошли. И к наступлению весны у Гали и Морского уже не было ни дачи, ни работы (уволили обоих), ни, разумеется, перспектив улучшения жилищных условий (хорошо хоть имеющиеся две комнаты в коммуналке не отобрали). Зато была мама, которая перенесла все новости довольно стойко, но, как человек остроязыкий, прямой и увлекающийся, периодически язвила на счет сложившихся обстоятельств весьма безжалостно. Хорошо, что Морской воспринимал эти моменты с юмором и все заканчивалось шуточками о его «еврейском счастье».
А Галочка? Что Галочка? На все оставшиеся от последней выплаты в редакции деньги накупила «Красного знамени» с очередной очерняющей Морского статьей, изодрала ненавистную кипу газет в клочья, утопила в слезах и… успокоилась. В конце концов в наличии рядом мамы в любом случае было больше плюсов, чем минусов. Сейчас Галочка даже не понимала, как раньше справлялась со всеми домашними делами без нее.
А Минька между тем – явный прогресс! – крадучись, отважился на новую вылазку.
– Зачем вообще нам нужен этот кот! – пробурчала мама и, выудив из-под ванной тряпку, ловко принялась замывать оставленную рыбьей головой полоску на полу. Минька обиженно отвернулся, так и не добравшись до миски, и вдруг деловито засеменил в прихожую.
– Да хотя бы за этим! – улыбнулась Галочка.
Каждый раз, когда кто-то из жильцов квартиры приближался к подъезду, невесть откуда узнающий про это Минька усаживался напротив входной двери и принимался сверлить её полным ожидания взглядом. Пока идущий поднимался по лестнице на четвертый этаж, пока искал ключи – у встречающих дома было время подготовиться.
Вот и сейчас мама с дочкой, не сговариваясь, принялись в четыре руки накрывать на стол.
– В данном случае ты права, – нехотя согласилась Ксения Ильинична. – Знать, когда муж идет домой, и впрямь удобно. Хоть обычно ты, мать, любишь искать хорошести там, где ими и не пахнет.
– Везде пахнет, – спокойно возразила Галина. – Красота в глазах смотрящего.
Как опытный ретушер фотографий – а с момента реэвакуции «Красного знамени» до увольнения Воскресенская занималась в редакции именно этой работой – Галочка знала, что даже из самого унылого снимка можно сделать красоту. В газетной жизни за это отвечали специалисты, а в реальности – каждый сам себе ретушер.
В замке завозился ключ, и женщины на кухне моментально преобразились, выпрямляя спины и освещая все вокруг светскими улыбками.
– Я дома! – привычно прокричал Морской.
– Как мило! Ты как раз к обеду, иди к нам!
– Здравствуй, кот! – Первым делом вошедший склонился к Миньке, но тот возмущенно зашипел, ощетинился и, оттолкнувшись от паркета сразу четырьмя лапами, прыгнул прочь. – Я тоже рад тебя видеть, – хмыкнул непризнанный хозяин и переключился на людей: – Мое почтение, пани Ильинична! Уже соскучился по тебе, дорогая! – Поздоровавшись как всегда, он сел на свою табуретку у окна и, неожиданно вздохнув, замер, прикрыв веки.
– Что-то случилось? – заподозрила неладное Галочка.
Не меняя позы, Морской поднял на жену странные, светящиеся как-то по-особенному глаза и быстро произнес:
– Ты и не представляешь, сколько всего сразу! Ирина в Харькове. Лариса же, напротив, едет прочь. Ирина вылетела из булочной с криком: «Это я его убила!», но Ларочка успела убежать. При этом я случайно, кажется, стал подозреваемым в деле о смерти иностранца.
Немая пауза затянулась бы навечно, но, к счастью, в компании был один практичный человек:
– Так «случайно стал» или «кажется, стал»? – переспросила Ксения Ильинична. – Ты же, батенька, понимаешь, что это две большие разницы? И кто такая Ирина?
Морской начал объяснять, и чем дольше он говорил, тем непонятнее и запутаннее выглядело происшедшее для слушавших.
Ирина – бывшая супруга Морского, а ныне жена (вернее уже вдова) чехославацкого инженера-конструктора Ярослава Гроха, – как выяснилось, уже несколько дней находилась в Харькове. Она, насколько знала Галочка, уехала из города еще в 1934-м. Уезжала в Киев, а оказалась почему-то в Чехословакии. Морской не выяснил пока, каким путем, но знал, что Ирина давно мечтала об отъезде за границу.
– Сразу после революции ее мать эмигрировала, оставив двенадцатилетнюю Ирину в Харькове в институте благородных девиц. Институт тоже эвакуировался в конечном итоге, но без Ирины – ее в самом начале опасных времен удочерила и поставила на ноги другая женщина, их бывшая кухарка. Чудесный человек и… В общем, мир ее праху! – Морской шептал, склонившись к уху тещи, потому что Галина эту историю и так знала, а вслух подобные вещи все давно уже приучились не говорить. – С родной матерью Ирина долго не общалась. Той сообщили, будто дочь погибла, а Ирина была уверена, что ее бросили. Позже, уже став подающей надежды советской балериной, Ирина узнала, что мать живет в Париже… С тех пор ее словно подменили. Она решила, что хочет воссоединиться с семьей и готова ради этого на любые жертвы. Короче, это глупая и долгая история…
– Тогда они с Владимиром и развелись, – пояснила маме Галочка, – Он, как ты понимаешь, уезжать из своего Харькова никуда и ни из-за кого не собирался и не собирается.
– Не будем столь категоричны, – галантно ввернул Морской. – Из-за тебя, дорогая, уехал бы и глазом не моргнув… Впрочем, давайте я не буду отвлекаться от сегодняшней истории.
Он вернулся к теме, а Галочка еще какое-то время глупо улыбалась, тронутая этим мимолетным, но все же очень важным «из-за тебя, дорогая, уехал бы»…
– Так вот, – продолжал Морской. – Сейчас муж Ирины был в Харькове с каким-то ответственным визитом. Она сопровождала. Их делегация уже собиралась уезжать, но – ох! – эта женщина не может жить спокойно…
Перед отъездом Ирина захотела пройтись по милому ее сердцу Харькову и посмотреть на жизнь настоящих харьковчан, ради чего уговорила мужа и его сотрудницу потихоньку сбежать от вежливых сопровождающих в штатском.
– Она говорила: «Улизнуть из-под надзора», – хмыкнул Морской. – Но мы-то понимаем, что речь шла об охране. Конечно, выбранные Ириной для экскурсии места сплошь оказались злачными. Впрочем, где у нас сейчас безопасно для наивных и, главное, обеспеченных иностранцев? Подобное знакомство с аборигенами – это как… – Он запнулся, подбирая подходящее сравнение.
– Как чеховское ружье, – подсказала знающая мужа Галина и пояснила для мамы: – Закон драматургии: если на сцене висит ружье, то рано или поздно оно должно выстрелить, или вся пьеса насмарку.
– Как решение глупого мышонка позвать для колыбельной тетю кошку, – дополнил Морской.
– Как верх дегенератства! – резюмировала пани Ильинична.
Галочка с мужем многозначительно переглянулись, но возражать не стали.
– В конце прогулки Ирина потащила компанию в нашу булочную, – продолжал Морской. – Та закрывалась на переучет, но Ирина каким-то чудом уговорила продавщицу разрешить им остаться в зале да еще и подать кофейник. Ирина выпила чашечку кофе, нахваливая заказанную тут же гору пирожков, и… грохнулась в обморок. Пришла в себя и обнаружила вокруг милицию. Рядом прямо на полу сидела коллега мужа. Она с ужасом сообщила, что осталась без кошелька, без бус, без кольца и бог знает без чего еще. А Ярослав Грох, – Морской не стал делать театральную паузу, потому что развязку все уже и так понимали, – лежал рядом в луже крови. Он был убит. Ирине наказали отойти от тела. Она пыталась спорить – оттащили. В общем, похоже, с целью ограбления компанию чем-то опоили, а Ярослав Грох, к сожалению, очнулся до того, как преступники ушли. Он вроде бы пытался оказать сопротивление – вокруг зафиксированы следы драки – и погиб. Череп пробит, глаз заплыл…
– Какой ужас! – еле смогла вымолвить Галочка. – Значит, не несчастный случай, а жестокое убийство. Бедная Ирина. Как она держится?
– Я, честно говоря, не знаю… Когда она мне все это рассказывала, то рыдала на моем плече безутешно. А с докторами говорила вполне спокойно. Ее и вторую пострадавшую забрали в больницу. Но, кажется, вот-вот должны вернуть в гостиницу. Я это знаю от Горленко. Он будет вести дело.
– Наш Коля? – ахнула Галочка.
Николай Горленко, так уж получилось, рассорился с Морским год назад. И Галочка, конечно, была бы рада, если б обстоятельства помирили бывших закадычных друзей. Она считала, что настоящие люди должны уметь прощать. И верила в Морского…
– Ваш Коля, – подтвердил Владимир нервно. – Бедняге чистоплюю пришлось со мной заговорить, куда деваться. И да, я тоже нарушил обет и тоже говорил с ним. Итог: мне велено явиться завтра утром для дачи показаний. Но нет худа без добра – явиться на работу смогу уже после обеда, – Морской попытался разрядить обстановку: – Ради опроса моей скромной персоны милиция лишит кинофабрику специалиста на целых полдня! Немудрено – пока в этом деле ничего не понятно, а внимание от всех контролирующих органов огромное. Николаю важно сейчас изображать усиленную деятельность. А кого могли, всех уже опросили. Продавщица клянется, что поставила кофейник на стойку, приказала посетителям последить за порядком в помещении, а сама вышла принимать товар, да еще и осталась там на перекур со знакомым водителем. Больше ничего не видела. О трагедии узнала только от милиции.
– А кто вызвал милицию?
– Сознательные граждане, – ответил Морской. – Причем задолго до убийства. В каждом месте, где видели компанию Ирины, находился кто-то, кто звонил по 02 заявить о подозрительных личностях, шпионящих в пользу Америки и высматривающих, куда бы лучше скинуть атомную бомбу.
– Типун тебе на язык! – возмутилась пани Ильинична. – Нашел чем шутить!
– Какие уж тут шутки, – развел руками Морской, но иронизировать по поводу тревожащей всех угрозы перестал. – Вроде после первого же звонка бдительный дежурный принял меры, выслал ребят, те проверили у иностранцев документы, вернулись и доложили куда следует. В ответ получили приказ установить за беглыми иностранцами слежку, пока не прибудет положенное им сопровождение. Задание было несложным: звонки от неравнодушных продолжались и установить место нахождения троицы было проще простого. Наряд особо не спешил. Увы, зайдя в булочную, ребята обнаружили три трупа. Через миг, правда, два из них ожили, но серьезности происшедшего это уже не меняло. Всех поставили на уши, примчался Коля, который там как раз напротив ошивался в МГБ по каким-то другим делам, но сразу же переключился на дело Гроха – он же у нас нынче главный центровой спец по расследованию убийств. И в это самое время нам с Ларочкой стукнуло в голову поесть булок… Нелепость совпадения удручает. Я, понимаете ли, бывший муж, случайно оказавшийся на месте убийства нынешнего. Роль подозрительна.
– Но ты же не дурак, чтоб, совершив убийство, остаться на месте преступления? – удивилась пани Ильинична.
– Я – нет, – заверил Морской. – Но об умственных способностях следственной группы мы не осведомлены…
– Не выдумывай! – Из-за этих слов Галочка расстроилась еще больше. – Ты прекрасно знаешь, что Коля во всем разберется. Ты сам тоже на его месте взял бы у себя показания!
– Конечно взял бы, – не стал спорить Морской. – Но это не лишает меня права поворчать. Ты же понимаешь, как я не люблю визиты в подобные заведения. Знал бы, что так обернется, обошел бы нашу булочную за сто верст…
– Да что за глупости! – рассердилась Галочка. – Такое горе у близкого человека, а ты – «обошел бы за сто верст». Как не стыдно! Надо срочно узнать, не нужна ли Ирине твоя помощь. В какую гостиницу позвонить? Впрочем, я обзвоню все…
– Ты, мать, – насторожилась Галочкина мама, – знакома, что ли, с этой Ириной?
– Нет, но Владимир… – Уже срывающееся с губ «ее любил» Галина предусмотрительно не произнесла, дабы не давать маме повода для дурацких мыслей. Вместо этого она сказала: —…Владимир говорил о ней как о хорошем и душевном человеке… Я считаю, мы обязаны ее разыскать, и если помочь нечем, то хотя бы выразить соболезнования по-человечески. Вернее не мы – а ты, Владимир…
– Я? Не-е-ет, – Морской понимал, что Галочка права, но все равно ринулся спорить. – По крайней мере не сегодня. Вечером я обещал зайти к Двойре пообщаться по поводу Ларочкиного отъезда. – Он сделался вдруг растерянным и непривычно жалобным тоном произнес: – Да-да, отъезда… Я зря так долго рассказывал про Ирину. Главная-то новость не о ней. Лариса уезжает.
– Согласилась работать в санатории медсестрой? – Галочка, как ей казалось, уже догадалась, в чем дело, – Конечно, понижение квалификации, но какая-никакая работа. Еще и на природе. Красота! Будем ездить к ней по выходным на пикники и по грибы. Да?
– Увы, – остановил ее Морской. – Уезжает она не пойми куда. В Воркуту. Крошечный город на Крайнем Севере. В важном для тех краев городе Сыктывкаре всё утвердили, и вот… Убедить ее остаться, кажется, невозможно…
Через миг Морской уже взял себя в руки и принялся подробно пересказывать свой разговор с дочерью.
Галочка слушала, слышала, но никак не могла поверить. Зачем такие решительные меры? Почему именно сейчас? Лариса, хоть никогда и не жила вместе с Морскими, была безусловной частью их семьи, и вдруг такая долгая и бессмысленная разлука…
– В этой истории все по крайней мере ясно, хоть и невесело. – Пани Ильинична, тем временем, новости про Ларису восприняла спокойно, ограничившись дежурными ахами, а историю с Ириной оставлять в покое не хотела. – А вот с убийством есть вопросы. Почему эта ваша балерина сначала сказала, что это она убила мужа?
– Откуда мне знать? – рассердился Морской. – Ирина – женщина-загадка, ход ее мыслей – пьеса, сотканная из абсурда, который, как вы знаете, я уважаю, но интерпретировать не умею…
– Что же тут непонятного? Она винит себя в случившемся, потому что уговорила друзей гулять без сопровождения, – автоматически ответила маме Галина и, чтобы разрядить обстановку, улыбнувшись, обратилась к Морскому: – Да, Лара уезжает, но зато… – Тут она с ужасом поняла, что не придумала продолжение фразы. – Зато… Зато…
Впервые за многие годы внутренний ретушер Галины растерялся и не знал, как представить ситуацию в добром свете.
* * *
Ближе к вечеру Морской, как и обещал дочери, отправился навестить ее мать. Старый дом Веры и Якова, который после войны так и не удалось подключить к коммуникациям, был отдан под снос, поэтому семью переселили на улицу Революции в дом, ничуть не менее старый, но куда более жизнеспособный. Поначалу Вера ворчала, недовольная отношением соседей по коммуналке и не менее хамским поведением хозяйствующих в квартире мышей, но потом спасла малыша из дальней комнаты от пневмонии, заслужила авторитет и ввела чуть ли не во всем подъезде необходимые санитарные правила. Мышей от этого не убавилось, но возмущаться Вера перестала, понимая, что делается все возможное. Успокоилась, обжилась, даже традицию наполнять дом гостями возобновила. Еще до ареста Якова, разумеется.
Морской шел по утопающим в весенней свежести улочкам – модные нынче кадки с пальмами еще не выставили из зимних садов, но кругом и без них было довольно зелено – и невольно пытался додумать, какие эмоции современный Харьков мог вызвать у давно не встречавшейся с городом Ирины. Самого Владимира, конечно, несколько раздражали затянувшиеся повсеместно стройки, но в целом все было хорошо: оставшиеся после войны пустоглазые коробки зданий уже не портили пейзаж (вписались, заплелись – кто ветками, кто лозунгами), дворники работали на совесть даже вечером, самые опасные дыры на тротуарах были окружены предупреждающими табличками… Но Ирина с непривычки наверняка имела другое видение. Хотя ей сейчас, наверное, было не до города. Как и Морскому, по-хорошему, должно было бы быть вовсе не до размышлений о бывшей жене.
Кстати, свою значимость в деле об убийстве Ирининого мужа Морской преувеличил. То ли ради красного словца, то ли из желания подчеркнуть собственную важность в глазах жены и тещи – само как-то вышло. Вообще-то он не думал, что его в чем-то подозревают. О своих сегодняшних перемещениях по городу Морской перед милицией отчитался, и проверить его слова с точностью до минуты не представляло труда. А в отделение для повторной дачи показаний его позвали, скорее, просто из-за плохого характера Николая Горленко, которому захотелось продемонстрировать свое всемогущество.
Впрочем, и сам Морской тоже вел себя безобразно.
В первые минуты, пока Ирина рыдала и пыталась что-то объяснять, он был в шоке, понимая только, что нужно спровадить Ларочку подальше от сомнительных обстоятельств, пока дежурящий у входа милиционер ею не заинтересовался. Дочь оценила риски верно и, то и дело оглядываясь и как бы спрашивая взглядом, не нужно ли ей вернуться, все же двинулась прочь по Сумской. Потом Ирину увели. Морской топтался у ступенек, совсем не понимая, чем можно пригодиться. Когда приехала скорая, из подвальчика вывели всхлипывающую и сгорбившуюся – то ли от горя, то ли от тяжести невесть откуда взявшегося толстого, но дырявого верблюжьего одеяла – бледную черноволосую даму с перепачканным от потекшей косметики лицом. Выходящая за ней Ирина явно хотела подойти к Морскому, но некто в штатском, почтительно склонившись, прошептал ей что-то, указывая на карету скорой помощи, и Ирина пошла туда.
Краснощекая медсестра, считая, видимо, что чем громче говоришь, тем понятнее твоя речь зарубежным гостям, кричала на пол-улицы: – Не волнуйтесь, гражданочки! Пройдемте! Если все будет хорошо, то вечером уже будете в гостинице!
Ирина о чем-то с ней поговорила вполне спокойно, махнула рукой Морскому и села в машину.
Потом опять царила суматоха:
– Гражданке снова нужно в туалет! И дайте еще молока от отравления! Хотя, боюсь, у жертвы от ушиба при падении случилось сотрясение! – кричала медичка.
Морской рванулся было спасать, но оказалось, речь не об Ирине, а о второй пострадавшей. Даму снова повели в булочную, но воспользоваться паузой для разговора с бывшей женой Морской не смог, поскольку его остановили два милиционера и, не представившись, принялись задавать одни и те же вопросы по нескольку раз, что-то записывать и бегать по очереди в булочную, для консультаций с начальством. Все это Морскому страшно не нравилось. И тут вдобавок из подвальчика вышел Горленко.
– Мне доложили, что ты тут, но вырваться сразу не смог – там черт-те что творится! – возбужденно сообщил он вместе приветствия, указывая на булочную. – Ничего себе совпаденьице. Ты, выходит, проходил мимо, и вот… Что думаешь? – Морской невразумительно пожал плечами, и Коля, со свойственной ему и в былые годы одержимостью и страстью к нелепым сравнениям, продолжил: – То-то и оно! История ясна, как валенок, но настолько дурна, что как-то в эту простоту не верится. Скажи? Сами напросились, сами подставились… Как нарочно! К тому же имя убийцы нам все равно неизвестно! Все просто, но для закрытия дела я должен буду поработать как волк…
Горленко принялся, чеканя слоги, излагать факты, а Морскому стало обидно. За двадцать лет тесной дружбы (точнее девятнадцать, ведь последний год никакого общения не было) он прекрасно изучил Колю и знал, что мыслительный процесс в этой буйной голове запускается лучше, если формулировать идеи вслух. А значит, будь на месте Владимира кто угодно другой, Коля точно так же делился бы сейчас мыслями, внимательно заглядывал в глаза и проверял реакцию.
– Не напомните, товарищ Горленко, почему мы с вами уже почти год не разговариваем? – не сдержавшись, перебил Морской.
Коля осекся и, кажется, тоже все вспомнив, разразился гневной тирадой:
– Черт! Как я не подумал, что вас и смерть мужа жены не отвлечет от собственной персоны? Но я отвечу! Мы разругались, потому что вы, – обращение на «вы» к особе своего пола в Колиной системе ценностей означало верх презрения, – вы назвали меня трусом и предателем. И главное, за что? – В его интонации проскочила детская обида. – За то, что я ответил честно на ваш вопрос и сообщил собственное мнение.
– Сообщили прилюдно! – как можно хладнокровнее безжалостно напомнил Морской. – К тому же мнение это удивительным образом совпало с безопасным мнением большинства!
– Что же тут удивительного? – окончательно завелся Горленко. – Глядя на белое, нормальный человек черным называть его не станет… И вообще! – Коля вдруг скис. – Короче, товарищ Морской, давайте временно забудем разногласия! Нам еще убийство раскрывать, а вы капризничаете….
Владимир внезапно увидел, как Горленко изменился за прошедший год. Нет, вроде бы все то же – бравый фронтовик, по сей день щеголяющий в военной гимнастерке, легенда угрозыска, окруженная восхищенными подчиненными, громадина, словно вырезанная скупящимся на изгибы монументалистом из камня… Но все же на лице теперь было полно морщин, и взгляд как будто тоже поменялся: уже не жег, а вроде как напряженно сверлил.
Морской был старше Коли на десять лет, а мудрее вроде бы на сто. Но сейчас, как ни странно, Горленко проявлял чудеса дипломатии, а старший товарищ, напротив, лез на рожон. Надо было взять себя в руки, но согласиться на перемирие Владимир не успел. Только собрался, как Коля обернулся к стоящему рядом мальчишке-милиционеру и буркнул:
– Все ясно. Вызовите товарища Морского к нам на завтра для дачи показаний. Сейчас он бесполезен. Расспросим, когда будем точно знать о чем.
Так, собственно, Морской и заработал вызов в отделение милиции.
Вспоминая это сейчас, он был собою недоволен, но что поделаешь…
В подобных рассуждениях Морской поднялся на второй этаж к Вериной двери и трижды ударил по кнопке звонка, которая, как назло, заела, из-за чего последние сигналы слились в один, и соседи, к которым нужно было звонить два раза, могли принять пришедшего на свой счет. К счастью, их не было дома.
– Какие люди! – усмехнулась Вера, распахивая дверь.
Памятуя, что в прошлые два визита его не пустили дальше лестничной клетки, Морской поспешил просочиться в квартиру.
– С чем пожаловал? Беглянка-дочь таки решилась сообщить тебе о своих планах и ты кинулся жаловаться мамочке? – Бывшая жена была все так же величава, большегруда и иронична. И вроде даже хороша собой. Не знай Морской о ее встрече с Яковом, он, может, не заметил бы, но сейчас мог поклясться, что Вера вся сияла.
– Нужно поговорить, – издалека начал Морской и направился в кухню.
– Там белье! – рявкнула Вера. Морской вспомнил, что в этой квартире соседи по графику делили время использования кухни для глобальных хозяйственных нужд, и в часы масштабных постирушек Вера, развесив сушку, чутко охраняла свои панталоны и простыни от посторонних глаз. – Иди пока в гостиную, поздоровайся с внучкой.
Морской пошел и первым делом увидел в комнате сидящую спиной ко входу старшую сестру Якова – Дору. К присутствию здесь худой до желания отвести глаза старушки с детским лицом он почти привык, но все же всякий раз, видя скрюченные лагерным артритом пальцы, испытывал острый приступ стыда. Не уберегли, не помогли, много лет не вспоминали даже…
Морской знал Дору уже почти лет тридцать. Остроумная красавица была в Харькове подающей надежды оперной певицей. В хрупком теле помещались огромное сердце и мощнейший голос. Когда Дора вышла замуж за перспективного партийного деятеля и переехала в Москву, все радовались: помощник самого Серго Орджоникидзе – отличная партия, и ведь как любит нашу девочку, понятно теперь, почему Дорочка так долго в девках сидела, ждала, выходит, правильно… Жили супруги в столице славно, широко, весело… А в 37-м Орджоникидзе не стало. Когда мужа пришли арестовывать, Дора в приступе безумия вцепилась в его руку и не отпускала, пока не стали оттаскивать. Оторвала в горячке рукав пиджака, да так и носила этот глупый кусок ткани с собой все следующие годы. С рукавом пошла в тюрьму, с рукавом отправилась на 10 лет в лагерь, в рукав плакала, узнав о расстреле мужа, с рукавом – растерянная и напуганная – скиталась после освобождения по стране, не имея ни возможности, ни права, ни навыков, чтобы получить работу. Вера – даром что всегда пыталась строить из себя законченного циника – выхлопотала миллион разрешений и забрала сестру мужа в Харьков. С тех пор жили вместе. Дора помогала по хозяйству. Непонятно, как можно рукодельничать с такими больными пальцами, но она приноровилась и шила забавных тряпичных кукол для Леночки. А еще пугала соседей отборным лагерным матом, если лезли на рожон. Отличная нянька, почти в своем уме, но совершенно больная и непригодная к самостоятельной жизни.
Появление Морского заметили не сразу. Дора с Леночкой рассматривали яркую детскую книгу. Розовощекая трехлетка сидела на столе (ее тут явно баловали!) и с важностью перелистывала страницы.
– А кто это? А это? – без устали спрашивала она, забавно вертя круглым, как репка, личиком с коротенькой ровно подстриженной челочкой.
Морской тихонько подошел и глянул на картинки.
– Клим Ворошилов! – шептала Дора в ответ, глядя на портрет давно разоблаченного и расстрелянного Льва Каменева.
– Дора! – осторожно вступил Морской, выхватывая книгу. – Как можно?
Издание называлось «Твои наркомы у тебя дома». Стихи для детей про руководство страны. С портретами. К счастью, без подписей! Морской быстро полистал страницы. Так и есть, вышедшая в середине 20-х книга нынче годилась лишь для иллюстрации списка «Враги народа». Наверняка ведь запрещенное издание!
– Дора, дорогая, зачем? – только и смог вымолвить Морской.
– Душка Владимир! – Радостный возглас, комично сокращавшей официальное слово «дедушка» малышки-Леночки, разрядил обстановку. – Как ты вырос!
Морской автоматически втянул живот, хоть понимал, что ребенок просто знает, что после разлуки должны звучать подобные слова, вот и говорит, не вдумываясь.
– Леночка книжку нашла в подвале, попросила почитать, – оправдываясь, захрипела Морскому на ухо Дора. Еще в тюрьме у нее что-то случилось с гортанью, и говорить нормально бывшая певица больше не могла. – Она шустрая у нас: куда ни прячь, все достанет. Да, я домой забрала… Выкидывать жалко. Я их почти всех, – Дора кивнула на книгу, – хорошо помню. Мы у них дома бывали, вместе в санатории отдыхали… Глядишь, и моего кто-нибудь тоже не выкинет.
Детская литература 1926 года, «Твои наркомы у тебя дома», глава про Льва Каменева
Морской со вздохом махнул рукой. Все бумаги Доры куда-то испарились после обысков, а муж был не настолько знаменит, чтобы смотреть с иллюстраций старых книг. Может, где-то в газете снимки и остались, но где их теперь искать? Так Дора и осталась без портрета мужа. Зато с рукавом… Ну что поделаешь? Пусть с библиографическими пристрастиями золовки Вера сама разбирается…
– Душка Владимир! – Леночка подошла вплотную, дернула за штанину и протянула ручку: – Показывай, что принес!
Морской смутился. Вспомнил, что ни разу не гулял с внучкой и что давным-давно, когда Ларочка так же доверчиво вкладывала свою маленькую пухлую ладонь в его руку, он был по-настоящему счастлив. Может, и правильно, что Леночка останется в Харькове. Она уже в том возрасте, когда ей многое можно показать, поводить по городу, добыть билеты в театр кукол…
– Ну? – требовательно склонила бантик набок внучка.
Тут в комнату вошла с подносом Вера.
– Вы пейте чай, Морской принес конфеты и баранки, – с широкой улыбкой соврала она. – А мы пока поговорим на кухне. Я там как раз зачистила пространство.
Морской осторожно двинулся на выход.
– А Райкин – такой пупочка! – подмигнула Дора напоследок. Пару лет назад Морской достал им с Верой проходки на выступление гастролирующих артистов, и Дора – то ли из вежливости, то ли и впрямь проникшись – всегда с тех пор при встрече это вспоминала.
– Фуух, – закрывая дверь в комнату, Морской демонстративно промокнул платком лоб. – Спасибо за баранки! Я так спешил, что ничего не взял с собой! С вами не соскучишься! Я – душка, Райкин – пупочка.
– Не жалуемся, – усмехнулась Вера. – Рассказывай, что ты хотел…
– Да, собственно, про Ларочкин отъезд… Она переживает из-за Лены. Пойми, ты не можешь отобрать ребенка у родителей…
– Напомню: я могу все, что угодно, – насмешливо ответила мать Лары. – Кроме того, я что, похожа на ненормальную?
– Ну-у, в некотором смысле…
– Ах да! – Вера уже откровенно смеялась. – Я ведь скомпрометирована навек. Нормальный человек за тебя замуж никогда бы не пошел, я теперь точно знаю. Связь с тобой – как клеймо на бутылках или кирпичах: когда бы ни ставилось, все равно свидетельствует об определенном качестве. В данном случае о странностях…
– Ты это к чему? – не понял Морской.
– Да так, – Вера быстро отвернулась и сделала вид, что увлеченно возится с кухонной утварью. Морской решил не расспрашивать. – Как, кстати, Галя? – нарушила молчание Вера. – Еще не сбежала? Не кусает локти, что выходила за знаменитость, а осталась у разбитого корыта?
Морской хотел съязвить, мол, шутка не по адресу, и даже кивнул уже на настоящее мокрое корыто со стиральной доской и наполовину стертым куском хозяйственного мыла (в отличие от жилища Морских, в квартире Веры не имелось ванны, а дом не был подключен к газоснабжению), но решил не уподобляться, ограничившись вежливым: – Спасибо, у нас все хорошо.
– Если серьезно, – Вера смирилась с тем, что поругаться не удастся, – можешь с чистой совестью отчитаться Ларисе, что беседа со мной проведена. На самом деле я, конечно, отпущу Леночку, если ее безалаберные родители нормально обустроятся на новом месте.
– Когда обустроятся, – с нажимом на первое слово поправил Морской, потому что никакое «если» Ларису не устроило бы.
– Посмотрим! – отмахнулась Вера и снова переключилась на примус.
В принципе, все прояснилось, и говорить дальше было не о чем. Морской хотел уже спросить о ком-нибудь из общих знакомых, чтобы просто праздно поболтать, как вдруг в дверь позвонили.
– Кого еще нелегкая? – забормотала Вера и пошла открывать. – Какие люди! – раздалось через миг из коридора. – Морской, подозреваю, что к тебе.
В кухню стремительно влетел Горленко. И нагло сделал вид, что удивлен:
– Вы тут? Надо же! А у меня в деле как раз новые обстоятельства.
Морской разозлился:
– Проходу от вас нет! Ваше ведомство хоть бы не демонстрировало слежку так явно… Вам вроде как положено все делать тайно…
– Я пришел к Вере, – нахмурился Коля. – Только что узнал о ее ужине с Ириной и товарищем Грохом. Хочу еще раз, уже лично, уточнить все обстоятельства. На кой черт чехословацкому конструктору понадобилось срочно выпить с Яковом, и без того было непонятно, а сейчас, когда товарищ Грох убит, у нас, естественно, возникли дополнительные вопросы…
– Но я уже давно все рассказала, – встрепенулась Вера. – Да и ваши там запись вели… Что нового я могу открыть? Постойте! – Она с ужасом схватилась за сердце. – Ярослав Грох убит? Бедняга…
– Так, значит, вот кому Яков обязан передышкой от лагеря! – догадался Морской и с возмущением повернулся к Вере: – Ты виделась с Ириной и ничего мне не сказала? Я даже не знал, что она в городе! Лариса описала вашу встречу с Яковом очень расплывчато. Она, что ли, тоже была в курсе?
– Нет, не была. Подробностей я ей не говорила, – отвела глаза Вера. – О Якове сказала по секрету, и то, как вижу, зря… Я, между прочим, подписку давала о неразглашении. – Тут она осознала полную картину и накинулась с упреками: – Ты знал, что у Ирины умер муж, и не удосужился со мною поделиться?
– Да он только что умер! – начал оправдываться Морской. – Когда бы я успел?
– А по какому поводу, – вмешался Николай, – вы двое вообще сейчас решили встретиться? Насколько мне известно из отчетов, вы в последний год не очень-то контактировали…
– Ах из отчетов! – хором повторили Морской и Вера.
Все трое обиженно замолчали, и кухня наполнилась напряженными, полными неприятных подозрений взглядами.
Глава 3. Не в дружбу, а в службу
Утром к себе в отделение Николай Горленко ехал в препаршивом настроении: мало того, что в поломанном трамвае, так еще и с полной кашей в голове. К трамваю претензий быть не могло. Он гортанно рычал, дрожал и иногда жалобно вскрипывал, но ехал. Табличку «В ДЕПО» ответственная вагоновожатая выставила еще в районе родной Колиной Плехановской улицы, а с маршрута состав не увела, видно, из жалости: надо же людям ехать. На каждой остановке она зычно предупреждала: – Трамвай неисправен! В любой момент встанем! За проезд компостируем, не жульничаем! – но пассажиров набивалось все больше. Колю 5-я марка довозила до самой работы, потому, конечно, ему очень хотелось, чтобы героический трамвай продолжал движение. Забыв о серьезности, положенной «лицу при исполнении», он вместе со всеми вслух подбадривал двигатель, когда тот издавал что-то похожее на предсмертные хрипы, а в перерывах между нервными «Только не сейчас! Давай!» тихо чертыхался себе под нос, косясь на часы.
Все это отвлекало от раздумий, что, в общем, даже было хорошо. Решение отстраниться от дела об убийстве Гроха уже было принято, а лишние обдумывания могли только прибавить угрызений совести, от которых Коля и так отбивался всю ночь. Не надо ему браться за это расследование, и точка. Следователь должен быть объективен, а этого Горленко гарантировать не мог, ведь речь шла об убийстве мужа Ирины, бывшей жены Морского и в прошлом доброй приятельницы Колиной семьи.
Вообще-то всё вчера вечером прошло гладко. Морской и Вера четко повторили данные ранее показания: он просто мимо проходил, она же про убийство ничего не знала, а встречалась с семьей Гроха несколькими днями ранее по запросу органов и понятия не имела, почему чехословацкому специалисту вдруг взбрендило поужинать в компании старого знакомого и его жены. Яков действительно несколько раз виделся с Грохом и тепло общался с ним во время войны, так что подозрений рассказы Веры не вызвали. Даже Морской вчера к концу беседы перестал крыситься и отвечал, с какой стороны ни подступись, разумно и вежливо. Ему, похоже, искренне хотелось помочь Ирине найти убийцу мужа. И даже причину своей встречи Морской и Вера объяснили правдоподобно. Известие о переезде дочери Морского в Воркуту Коля воспринял спокойно, а вот Света (даром что Колина жена и мать двоих детей), когда муж ночью рассказал новости, расплакалась, как глупая девчонка. Поди пойми почему. Коля тоже помнил Ларочку малышкой, ценил их со Светой дружбу, но ничего ужасного в отъезде не видел. Наоборот, романтика – северное сияние, полярники, белые ночи… Когда Лариса приедет в отпуск, будет о чем расспросить…
И в гостинице, кстати, все вчера тоже было нормально. Туда Горленко ездил, чтобы лично поговорить с Ириной и еще с одной участницей событий – коллегой ее мужа гражданкой Кларой Бржихачек, фамилию которой Коля никак не мог выговорить правильно. Иностранка не обижалась, сообщая через переводчика, что извинения излишни, но Коле все равно было неловко. Убитые горем, но, к счастью, не убитые преступником, женщины держались довольно стойко: согласились на разговор, не сердились, что Коля лезет с теми же вопросами, что уже были заданы его коллегами… О результатах медицинской экспертизы они ничего еще не знали, но обе снова повторили, что ощутили острое головокружение и потеряли сознание после кофе и выпечки в булочной, а до этого ничего не пили и не ели, кроме газировки, купленной в будочке возле ротонды в саду Шевченко. Все это Коля уже знал, все это уже было в разработке вместе со списком других мест, куда перед убийством заглянули сбежавшие от охраны иностранцы, но уточнить, поговорив с глазу на глаз (вернее с глазу на глаза – ведь собеседниц было две) все равно хотелось. Ирина, хоть и смотрела сквозь пелену слез и постоянно вспоминала, что это она подбила всех гулять, а значит она и убила мужа, все же нашла силы переключиться и на Колины дела. Сказала, что частенько думала про их семью, просила передать Свете самые теплые приветы и… подарок – небольшую коробочку с изображением женских ног, оказавшуюся в итоге упаковкой с чулками.
– Сам ты «чулки»! – позже воскликнула раскрасневшаяся Света, когда Коля после рассказов о случившемся таки вспомнил про подарок Ирины. За поздним ужином они всегда делились новостями. – Это – чулковые рейтузы! Их еще «калготки»[8] называют. У нас их не бывает, я лишь читала, что такое чудо где-то кто-то изобрел! Какой изысканный капрон! Прямо как дорогущие чулочки! Только представь – чулки сразу со штанишками! Вот прогресс дошел! Огромное Ирине человеческое и женское спасибо! Найди убийцу ее мужа обязательно! – Тут Света покраснела еще больше. – Неприменительно к рейтузам, разумеется. Подарки – это хорошо, но мы и без них нашли бы негодяя!
Тут Коля и признался, что хочет отказаться от расследования.
– Понимаешь, – осторожно начал он, – если в этом деле все так, как кажется, то преступник – мелкий воришка, которому просто не повезло и пришлось стать убийцей. Такого найдут или не найдут с равным успехом – что со мной, что без меня. С той разницей, что если буду работать я, то – ты же меня знаешь – копать буду так, будто дело позаковыристей. И придется цепляться со всякими вопросами что к Морскому, что к Ирине, что к Вере. Скорее всего это ни к чему не приведет, но я обязан… Морской и так меня ненавидит, а тут…
– Но… разве есть повод цепляться? – удивилась Света.
– Ты будто бы не знаешь! – ухмыльнулся Коля. – Само собой, там, где Ирина и Морской, всегда есть риск наткнуться на какую-нибудь тайну. В расследовании это не поможет, но придется выводить на чистую воду… – Тут Коля понял, что повторяется, и переключился на примеры: – Мне, допустим, не нравится, что маршрут, которым гуляли пострадавшие в день убийства, на самом деле был продиктован Верой. Посуди сама: весь ужин Ирина мило щебечет с Верой об общих знакомых, как бы случайно выясняет, что Морской женился, но не расстраивается, не удивляется и ни о чем не расспрашивает, а просто переводит разговор на то, куда, мол, нынче ходят в Харькове приличные творческие люди… Да, собственно, и неприличные ее тоже интересуют. Вопросы сводятся к «Что нового? Куда сходить? И что посмотреть советовал бы нам, ну, например, Морской?»
– Откуда тебе знать, расстраивается или нет? – удивилась Света.
– Ладно, по крайней мере вслух эмоций не проявляла, – поправился Коля. – Я трижды запись разговора прокрутил. – Он продолжил, одновременно с рассказом сам для себя вслух формулируя нестыковки. – Смотри, Ирина выслушивает ответ Веры, а потом ведет мужа ровно по описанным местам. Причем в последней точке загадочным образом оказывается Морской, и Гроха убивают.
– Сначала убивают, – Света снова не удержалась, – а потом уже появляется Морской. Ты так рассказывал… И, между прочим, ничего удивительного тут нет. Я тоже узнала бы у знакомых, куда сходить, и тоже пошла бы… Помнишь, я перед поездкой в Сочи опросила всех знакомых, кто там бывал, и лишь потом составила маршруты для прогулок.
Конечно, Коля помнил. Прошлым летом он первый раз в жизни не стал спокойно наблюдать, как коллеги интригуют из-за самых вкусных профсоюзных путевок, а тоже влез в борьбу, ну и повез семью на море. Смешнее всего было вместе с детьми перелазить через забор, чтобы тайно вырываться в город для самостоятельных вылазок.
– И мы ведь тоже сбегали, – Света вспомнила о том же. – Да, не от надзора, а просто потому, что ты не любишь массовиков-затейников и хотел гулять без них, а администрация санатория считала, что отдыхать надо как положено, гуляя со всеми и по расписанию… Но это тоже был побег и тоже по продуманным заранее маршрутам, которые нам насоветовали друзья.
– То-то и оно, – хмурился Коля. – Придраться не к чему, а я цепляюсь. Сторонний следователь это совпадение маршрутов тут же забудет, а я не могу. У меня тут, – Коля несколько раз стукнул себя по голове, – прямо записано, что в этом деле будет все с подвыподвертом и надо докопаться.
– Не тут, а тут, – Светлана нежно переместила руку мужа ему на грудь, – Признайся, ты скучаешь по временам, когда работал с Морским вместе? Грандиозное было дело в 34-м[9], да? И заметь, творилось ведь почти один в один все то же, что сейчас. Тоже иностранцы, окруженные повышенным вниманием, и вдруг – убийство.
– Ни капли не скучаю! – соврал Коля. – Ты помнишь, сколько нервов мне стоили тогдашние секреты Морского и Ирины? Друзья, а столько тайн и испанских страстей. А сейчас, когда мы уже и не друзья вовсе, будет еще больше! Вернее, может, будет, может, нет… Короче, лучше с этим делом пусть возятся другие.
– Но ведь Ирина верит, что ты поможешь! Она обрадовалась, что ты будешь вести дело.
– Да! – Коля в сердцах стукнул чашкой об стол. – И это еще больше раздражает! Только представь, как, если все подстроено, они с Морским сейчас смеются надо мной. «Пусть Горленко расследует! Он дурак, нам верит, и никогда не заподозрит».
– Да-а-а… – Света встала, обошла стол и сочувственно погладила мужа по волосам, – тебе и впрямь не стоит браться. Обида на Морского и твоя богатая фантазия сводят тебя с ума. Но это даже мило…
– Угу! – послушно кивнул Коля, глядя в такие же волшебные, как двадцать лет назад, Светланины глаза, успокаиваясь в лучах ее взгляда. Еще чуть-чуть, и Коля забыл бы рабочие заботы и притянул жену к себе на колени… Но Света все испортила: взяла и сказанула ту же фразу, которой охарактеризовала поведение Коли год назад сразу после фееричной ссоры с Морским:
– Ты поступаешь честно, но ужасно…
Прокручивая в мыслях вчерашние события (а еще думал, что отвлекся на дорогу и ни о чем не сможет размышлять!), Коля чуть не пропустил свою остановку. Надо же, трамвай доехал!
– Спасибо! – гаркнул он в сторону водительской кабины, чем вызвал дружный переполох среди выходящих, которые по его примеру тоже решили отблагодарить трамвайщицу и начали соревноваться в вежливости.
Закончилось все возмущенным общественным:
– Вот нахалка! Я ей: «благодарю», а она: «не задерживайте двери». Под суд таких надо!
Отголоски вспыхнувшего на остановке обсуждения долетали до Горленко, даже когда он скрылся за массивной дверью родного 17-го отделения милиции.
В тесном вестибюле переминался с ноги на ногу грустный водитель Егоров.
– Приветствую! – первым кивнул Коля, любивший быть на равных с молодежью. Особенно с такими полезными, как Егоров. Водитель жил неподалеку от Горленко, и если забирал машину на ночь, то всякий раз за Николаем утром заезжал.
– Здравья желаю! – прогавкал парень и вдруг схватил Горленко за рукав: – Вас мне судьба послала, не иначе!
Коля вспомнил, что у Егорова сейчас неприятности: выговор за вождение в нетрезвом виде. Вообще, с учетом специфики службы, на такие мелочи внимания обычно не обращали: работа напряженная, мало ли кто как лечит нервы… Тем паче, если ты водитель годный, то никакая водка не помеха. Но в случае с Егоровым начальству почему-то понадобилась показательная взбучка.
– Можете Глебу Викторовичу передать, что я извиниться хочу? Я б сам сказал, но страшно обращаться… Меня, похоже, того-этого… Выгонят к чертям. Но, может, Глеб Викторович сжалится?
– Ого! – присвистнул Коля. – Все так серьезно? Конечно, порядок есть порядок, но некоторые, вон, без ста грамм вообще за порог отделения не выходят, и ничего…
– Да тут не в пьянке дело! – вздохнул парень. – Я просто неудачно выразился! Скажите Глебу Викторовичу, я не то имел в виду… – И, не дав Николаю возможности отказаться от выслушивания подробностей, забормотал: – Я глупость сказанул. Ну, был выпимши, с кем не бывает. Я Глеба Викторовича отвозил домой с банкета, и он тоже был ну очень на подпитии. И документы в отделении забыл. И стал просить, мол, высади меня, я сам пешком дойду. А я возьми и ляпни, мол, не пущу его самого идти: «И как вы не боитесь? – говорю. – Сейчас, вы же в курсе, рейды очищают улицы от калек-попрошаек. А вы в штатском, без бумаг, пьяный и хромоногий. Загребут еще…» Он сразу протрезвел и как давай орать…
– Это сколько ж ты выпил, – нахмурился Коля, – что такое сказанул?
– Да я не то имел в виду! – принялся оправдываться Егоров. – Да, не «очищают и загребут», а перевозят в интернаты для инвалидов, чтобы медицинский уход был и условия… Да, не «хромоногий» он, а немного ногу тянет из-за врожденной травмы, и это, когда он трезвый, никому и не заметно. Но… Слушайте, ну разве я не прав? Ему без документов одному ходить нельзя! У меня сосед безногий, ездит на дощечке. Так он, хоть и офицер-фронтовик с квартирой, женой и дочкой, все равно один за калитку двора выезжать боится – загребут, если без сопровождения, а пенсию себе присвоят… С его товарищем такое приключилось. Ой, ну, в смысле, переведут в медицинский интернат и…
– Ты вот что, – не выдержал Коля, – жди себе и помалкивай. Глеб на «хромоногого», конечно, обиделся, но он отходчивый и не сволочь. Не станет он о твоих провокационных разговорчиках выше докладывать. Но это только если ты их впредь вести не будешь. Знаешь же, в чем проштрафился, и снова продолжаешь…
– Да я только вам! – заверил Егоров. – Я же знаю: вы могила и никому не скажете. Поговорите с Глебом Викторовичем?
– Ты лучше сам, – после секундного раздумья сказал Николай. – В таких делах лишние уши и лишний рот только накаляют обстановку. Ну, если уж совсем у тебя духу не хватит, то посмотрим. А пока – ты мне ничего не говорил, я ничего не знаю… Да ладно, не кисни! Все не так плохо…
– Вроде и не так, да только что теперь будет, непонятно… – Парень не слишком-то взбодрился, но все же постарался улыбнуться и произнес: – В конце концов ведь не война же. Как-то образуется, согласен.
Под дверью Глеба, как часто бывало, топталась очередь из подчиненных. Викторович – даром что начальник – так и не обзавелся секретаршей, потому все время был обязан решать какие-то бумажные дела.
– Мне срочно! – буркнул Коля и рванул к кабинету. Ребята потеснились без возражений: знали, что Горленко просто так словами не разбрасывается и раз идет без очереди, значит надо.
– Ты говорил оперативно сообщать про новости по делу Гроха! – сказал Николай, просовывая голову в кабинет. Обычно он, хоть и был на короткой ноге с начальником, в кабинет без стука не врывался, но сейчас нужно было продемонстрировать решительность.
– Я слушаю! – Глеб ничем не выдал удивления и указал рукой на стул. С недавних пор он стал носить очки, и если бы Горленко самолично не видел шефа при опасных задержаниях, сейчас решил бы, что смотрит на типичного кабинетного работника, просиживающего штаны в то время, как подчиненные рискуют жизнью на оперативных выездах. – Ты только не горячись, пожалуйста. Говори взвешенно!
Последний пассаж начальника Коля не понял и решил не обращать внимания. Мало ли какая муха вежливости Глеба укусила, «распожалуйстался» и ладно… Шеф был примерно одного возраста с Колей, но на фронт в свое время не попал, как ни просился. Официально из-за врожденной хромоты, на самом деле потому, что больше пользы приносил в тылу, искореняя бандитизм. После Победы, когда для прочих наступила передышка, Глеб продолжал свой бой (порой еще более опасный, чем у других на фронте), достиг больших успехов и настоял, чтобы Горленко, до войны служивший в угрозыске, работал под его началом. С тех пор и были в одной связке. Глеб поднаторел в дипломатии и прикрывал его, когда приходилось вести переговоры с другими отделами и высоким начальством, при этом в настоящие дела не лез, если его специально не просили. Короче, Колю все устраивало.
– Такое дело, – начал Горленко, передвигая стул к шляпке Т-образного стола, чтоб быть поближе к собеседнику. – Помнишь, ты вчера вещал о «Черной кошке»? Я все перепроверил и обдумал…
– Не начинай! – сквозь зубы произнес Глеб, задрав очки на лоб. Наверно, чтобы было удобнее сверлить Колю взглядом. Горленко все же не сдавался:
– Я понимаю и уважаю твое желание прищучить гадов, но они тут ни при чем!
«Кошачьи» мотивы в преступной жизни СССР вошли в моду сразу после войны. Какой-то умник после ограбления магазина под Москвой нарисовал углем котенка на двери, и началось. В 46-м Горленко лично задержал трех малолетних вымогателей, считавших себя робин-гудами и «Черной кошкой». Пацанва запугивала мирных граждан, которые будто бы обогащались в тылу, в то время как порядочные люди проливали кровь на войне, и требовала выкуп за недонесение. Да и в докладах по всему Союзу то тут, то там всплывали «Кошки» – название казалось романтичным всем, от суровых криминальных элементов до глупой шпаны. Но в этом году все изменилось. В феврале организация, именующая себя «Черной кошкой», попала на страницы газет в связи с убийством оперуполномоченного в Химках. Парень попросил подозрительного типа предъявить документы, завязалась стрельба и… Весть разлетелась по всей стране. Слыть душегубом не хотелось никому, и среди мелких бандитов автограф «Черной кошки» мгновенно вышел из моды. Увы, из поля зрения милиции он не пропал. Буквально на днях мерзавцы вынесли из промтоварного магазина в Москве 68 тысяч рублей. И снова не обошлось без жертв. Кому-то из верхов стукнуло в голову, что такие негодяи не могут жить под носом у образцовой столичной милиции, и стала прорабатываться версия, что гады для налетов приезжают в столицу из другого города. И тут как раз на месте убийства Гроха в булочной у Стеклянной струи обнаружили свеженарисованный силуэт черной кошки…
Вчера, услышав о «Черной кошке» в Харькове, Глеб пришел в ярость: «Не позволю этой сволоте орудовать в нашем городе!», но хорошо знавший начальника Коля слышал в его тоне и нотки ликования. Кто ж не хочет, чтоб под его чутким руководством отделение накрыло самую опасную банду Советского Союза? За несколько часов, прошедших после убийства Гроха, Глеб лег костьми, обзвонил всех, кого можно и нельзя, дернул ниточки, к которым с войны, уважая субординацию, не прикасался… В итоге все-таки добился, чтобы его ребят, между прочим, оказавшихся на месте убийства первыми, не только не отстранили от дела, но и на равных правах допустили к расследованию – несмотря на все политические подоплеки дела, связанные с тем, что погибший был иностранцем.
Конечно, сообщение Горленко о том, что «Кошка» ни при чем, станет ударом для тщеславного Глеба. Но что поделаешь? Работа есть работа.
– Во-первых, я проверил сам рисунок – на метку московских палачей он не похож, – начал Коля. – Каракуля и близко не такая, как в секретке из Москвы. Еще и подпись! Метка настоящей «Черной кошки» текстами обычно не сопровождается.
– Допустим, это был другой художник, – не уступал Глеб. – И, кстати, ты, может, уже не помнишь, но еще два года назад при ограблении квартиры одной высокопоставленной особы в Москве налетчики не только нарисовали метку, но и подписали: «Черная кошка из Харькова!». Именно так, как подписали сейчас на нашем месте преступления. Да, в 48-м было время, когда «кошачьи» банды работали без убийств. Но с чего мы взяли, что нынешние твари – это не одна из прежних банд, переступившая теперь черту? Поверь, дружище, моя бдительность – это не просто так. У нас тут, может, филиал «Кошки», или не знаю…
– А я знаю, – беспощадно продолжил Горленко. – Конкретно в деле Гроха преступники – обычные простофили-неудачники. К деньгам из кассы не притронулись – в то время как настоящая «Кошка» выгребает все подчистую. Никаких насмешек в наш адрес, а во время последних налетов «Кошка», вспомни, выдавала себя за сотрудников МГБ. «Наши» действовали без жестокости, а ведь «Кошка» нынче не усыпляет, а убивает.
– Ну почему же, – парировал начальник. – В последний раз они убили двоих, а в магазине было двадцать человек. – Глеб вдруг взял с тумбочки фуражку и приложил к груди – он иногда бывал сентиментальным. – Директор, бывший фронтовик, мужественный человек, кинулся в рукопашную, ну а в ответ пуля… Но жальче всех студенточку. Зашла, на свою голову, в промтовары. Шальная пуля никого не щадит…
– Свидетелей оставили, – согласился Коля, вспоминая. – Но согнали их, как скот, в подсобку. Открой глаза! У «Кошки» другой почерк! У нас просто обчистили карманы и стырили портфель у иностранцев и хотели убежать. Ты же читал вчера отчет от медиков. Как я понял, убитый всю жизнь принимал таблетки успокаивающего действия из-за какого-то наследственного подвоха в организме. Поэтому к снотворному, которое применяли, оказался более стоек, чем остальные. Вот и очухался на свою беду раньше времени. Причина смерти – разбитая об угол стола голова. Была драка. Даже огнестрел в деле не фигурирует! Никакая это не «Кошка».
– Да мало ли, – не сдавался начальник. – Грох, говорят, не доверял советским гостиницам и все ценное всегда носил с собой… Там достаточно большая сумма была в карманах. С такой добычей в кассу можно было и не лезть.
На такую глупость Коля даже не стал отвечать, а вернулся к аргументам по прошлым пунктам.
– И, кстати, харьковский след 48-го года я тоже изучил – опять же: кот не тот. Да, надпись совпадает, но сразу видно, что почерк другой, и рисунок совершенно не такой.
– Тьфу! – в сердцах гаркнул Глеб. – Ладно, ступай. Потом поговорим. Вот потому, Горленко, и считаю, что ты мой лучший следователь – все, шельмец, успел…
– Еще не все, – Коля почувствовал подвох и постарался сделать, что хотел, пока не отговорили. – Хочу сказать, что раз дело не такое серьезное, раз это не «Кошка», то я тебе для него не нужен. Не вправе я заниматься этим расследованием – слишком близко знаком с женой жертвы. Она бывшая харьковчанка, мы со Светланой с ней тесно дружили когда-то. Она и на свадьбе у нас была. Нельзя мне в это дело – будут подозрения…
– Эх… – растерялся Глеб. – Я знал, что она бывшая жена твоего бывшего приятеля, и ожидал чего-нибудь такого, но… Ключевым для меня было, что если кто раскроет это дело быстрее всех, так ты… А ты, выходит, вот как… Даже не знаю…
– Не переживайте, все в порядке, – вдруг раздалось из-за стоящей в углу вешалки. Коля резко обернулся. Высокий бледный тип с военной выправкой, но в штатском, вышел из укрытия и коротко кивнул в знак приветствия.
– Ну, знаете! – Глеб обиженно подскочил. – Вы, товарищ, уж определитесь. Хотите оставаться незамеченным для моих посетителей – так прячьтесь, нам скрывать нечего. Хотите здороваться – так выходите с самого начала. Теперь я из-за вас в глазах Горленко выгляжу скотиной…
– Вовсе не из-за него! – с укором выпалил Коля. Глеб должен был предупредить! Ерунда какая-то…
– Говорю же, все в порядке, – с нажимом повторил таинственный визитер. – Я зря, конечно, конспирацию затеял и за плащ ваш спрятался… Привычка подвела. А сейчас я понял, что ваш подчиненный вполне подходит для нашего дела… И мы, пожалуй, можем быть откровенны.
Незнакомец сел, по-бабьи скрестив ноги, и, сложив руки на груди, принялся дробно стучать пальцами. Колю это ужасно отвлекало.
– Знакомься, Горленко. Это… – Тут Глеб растерянно поморщился, словно не зная, может ли назвать имя длинного. – Это представитель заводской общественности Изюма. Их предприятие и вызвало чехословацкую делегацию в Харьков. Вернее в область. А в Харьков они уже на завершающем этапе приехали. Чтобы, как я понимаю, закрепить успех совместной деятельности и город посмотреть…
– Скорее, чтобы утвердить планы с кем следует, – поправил незнакомец. – И утвердили. И мы с вами должны сделать так, чтобы происшедшее наших партнерских связей с Чехословакией не отменило. Эта делегация много значит для нашего завода. Я не могу компетентно рассказать о технических подробностях, мои обязанности лежат немного в другой сфере, но просто знайте – эти люди нам важны. Жизненно необходимо, чтобы оставшиеся члены делегации уехали от нас в добром здравии и без страха вернуться снова. Покажите класс советской милиции! Найдите преступников поскорее!
«Он из Первого отдела завода, – смекнул Коля. – Секретчик, причем явно не из простых. Вот «счастье» привалило!»
– В общем, – Глеб взглядом спросил у посетителя разрешения продолжать и, получив добро, выпалил: – Пока ты осматривал место преступления, мне позвонили и очень попросили добиться права вести это дело. Нам оно, конечно, сто раз еще аукнется и поперек горла встанет, но раз нужна наша помощь, отказать мы не можем. Как сказал Максим Горький: «Личный эгоизм – родной отец подлости». – После недавних курсов профпереподготовки Глеб стал повсюду вставлять красивые цитаты, и Коля, который курсы тоже посещал, немного завидовал, что у шефа оказалась такая всеобъемлющая память.
Глеб продолжал: – Я хорошим людям подлянку подкладывать не хочу, поэтому согласился. Нам повезло, что грабители накалякали кошачью метку – раз я считаю, что на вверенной мне территории орудуют преступники такого масштаба, я могу поднять скандал и возмутиться, что нас хотели отстранить от дела. Имею право требовать причастности, так сказать. И потребовал. На самом деле я отчеты-то читал и понимаю, что это убийство – дело дилетантов. Но нужно было сделать вид, что я поверил в «Кошку». А дальше – разберемся. Вернее – ты разберешься. Завод просил привлечь к расследованию лучших спецов. Я и привлек. И тут ты со своим «слишком хорошо знаком»…
– И это радует! – вмешался незнакомец. – Я ведь вам говорил, Глеб Викторович, как важна в этом деле деликатность. Иностранные гости, несмотря на ужас сложившейся ситуации, должны остаться довольны не только профессионализмом, но и человечностью советских органов милиции. Мы, конечно, распространили это мнение по всем инстанциям, но будет спокойнее, если лично вы… Впрочем, я вчера вам уже все объяснил…
Коля еле сдержал вырывающееся: «А мне не объяснили!»
– А вам, – заметил посетитель, будто прочитав его мысли, – Глеб Викторович сам все растолкует, если сочтет нужным. Я, собственно, пришел сейчас осведомиться, кто будет вести дело и, так сказать, взглянуть опытным взглядом. Взглянул, доволен. Это очень хорошо, что вы с Ириной Грох знакомы. Тем больше у нее поводов доверять нам и не нервничать попусту. О вашем отстранении от дела речи быть не может!
Коля уже предчувствовал, что пропал, но все же обернулся с надеждой и возмущением к Глебу.
– Что? – буркнул тот. – И мог бы, ничего не стал бы делать. У нас ответственное дело с повышенным контролем. В том числе от производства – от ключевой опоры государства, которое, между прочим, окружено врагами и нуждается сейчас в защите каждого спеца. – Глеб говорил четко, словно на партсобрании. – Естественно, что ты, Горленко, должен расследовать… Гордись…
За спиной тихонько скрипнула дверь. Таинственный представитель завода вышел не прощаясь, и сразу стало ясно, что Глеб его присутствием ужасно тяготился. Он тут же оживился, выскочил из-за стола и потащил Колю в глубь кабинета. Несмотря на хромоту, небольшой рост и очки хлюпика-интеллигента, лапища у Глеба Викторовича была крепкая. Горленко через миг уже торчал у распахнутого окна.
– Кто его знает, что он после себя оставил, – шепнул Глеб, явно опасаясь прослушки. – А тут шум с улицы. Хоть каплю, да надежней. – Он тяжело дышал и делал «страшное» лицо. – Меня про этого типа с са-а-амого верха предупредили, – Глеб показал рукой на потолок. – Мол, слушайся и цени, что обратится именно к тебе. Но я и сам помогал бы ему. Ты же знаешь, у меня отец в Изюме не последний человек. Наверное, потому к нам и обратились. Похоже, недоверие назрело у заводчан к кое-кому из наших. Там, – тут он указал рукой на дальний угол потолка, – не хотят скандала и мечтают всё быстренько раскрыть и вернуть трех оставшихся в живых инженеров на родину, чтобы те потом, как и планировалось, приезжали вновь без камня за пазухой. А там, – другой рукой Глеб показал прицельно на карниз, – наших хлебом не корми – дай шпионов найти. И тут, – он указал на люстру, – всем наплевать, кто прав, кто виноват, а важно только, чтобы дело побыстрее рассосалось, и к майской демонстрации мы были истинным примером для остального соцлагеря – ни банд, ни попрошаек, ни пьяных рож, ни преступлений…
Коля давно привык, что в голове у Глеба разные части потолка означают разное начальство, но не запоминал, какое где, и даже разбираться в этом мракобесии не хотел.
Суть разговора уже была понятна. От дела не откажешься, хоть вой. И почему-то, вместо того, чтобы кричать, что Глеб ввязался в интриги, а всему отделению придется отдуваться, расшаркиваясь с пострадавшими иностранцами, Коля думал совсем о другом. И было это другое ничуть не менее болезненным и неприятным: сейчас придет Морской. С ним нужно будет как-то говорить…
Решив передать дело, Николай планировал и встречу с Морским перекинуть на коллег. Пусть расспросят еще раз, все запротоколируют да отпускают восвояси. А тут, выходит, снова нужно общаться лично. И ведь наверняка как вчера – достойно и по-деловому – уже не выйдет. Зря Коля радовался, что вроде пообщались спокойно, сыграли завершающий почти мажорный аккорд в многолетней дружбе, и можно, чтобы снова не испортить память руганью, на этом всё завершить и больше не общаться. Но нет!
«Вы многое уже мне рассказали, но сейчас нужно задокументировать», – мысленно проговорил Коля, продумывая правильное начало разговора.
«Ты трус и предатель, – отвечал в мыслях Николая голос Морского. – При Вере просто не хотелось об этом говорить».
Подобным образом Морской в воображении Коли давно уже отвечал на любые мысленные попытки пообщаться. Даже когда Коля хотел помириться и прокручивал в голове возможное извинение. Хотя ведь извиняться по сути было не за что!
Год назад Галина Морская устраивала, как обычно, пятничные посиделки. Светлана поехала сразу после работы, чтобы помочь накрыть на стол, а Коля прибыл позже, причем даже не переодевшись после отвратительного ареста маньяка. Ладно бы, после чего нормального – а тут… Обычный мотальщик[10] из сада Шевченко, на которого милиция закрывала глаза уже полгода – не хватать же всех извращенцев без разбора, – перешел черту и стал убийцей. И заподозрили его лишь после третьей жертвы… Нашлись свидетели, Коля с ребятами гада задержал. Потом в мерзейшем настроении после такого дела все же поехал за женой в гости и чуть ли не с порога услышал от Морского каверзный вопрос: «Вот вы, прогрессивная общественность, охранники порядка, что думаете о критических статьях в адрес советского театра? И даже – плевать на остальных – что лично ты, Коля, считаешь? Надо бранить или пускай халтурят?» Горленко и сказал, как думал: «Критиковать – проще всего и, главное, бессмысленно, не по-товарищески и не по-советски. Особенно, когда речь о театре. Люди пошли в деятели культуры, а не в бандиты и убийцы, как многие после войны. Им хотя бы за это надо сказать спасибо, а не тыкать носом в успехи чужих постановок, особенно, если постановки эти были давным-давно, показывались только богачам и угнетателям народа». Коля действительно с некоторых пор стал думать о работе друга плохо. Пусть лучше бы Морской писал в газетах на другие темы, а в институте преподавал не критику, а… ну… историю театра, например. Раньше просто не было повода высказаться, а тут ведь попросили. «Но смысл искусства критики в том, чтобы, указывая на недостатки, искоренять их», – пролепетал кто-то из присутствующих. «Газеты и журналы – не искусство, а ответственная работа, призванная укреплять патриотизм и искоренять упаднические настроения!» – неожиданно для самого себя выпалил Коля услышанную недавно по радио мысль. И добавил для полноты картины фразу приглашенного оратора, выступавшего недавно на закрытом совещании в отделении: «Сейчас нельзя жить и работать, не ощущая гордости за успехи советского народа. Так может поступать только вредитель»… Да, не свои слова сказал, но мысль-то подходящая. И этой честной мыслью Коля, похоже, Морского и добил. Тот побледнел и перешел на «вы»: «Не может быть, что… Впрочем, да… Мне говорили, что от вас и надо ждать подобного. Трус и предатель! Я не ожидал…»
Все выяснилось позже, когда Светлана по дороге домой, всхлипывая, озвучила свое: «Честно, но ужасно». За мнение она, конечно, мужа не корила – у нас в конце концов свобода слова. Но вот за то, что не промолчал и не поддержал этим молчанием друга в трудный момент – ругала страшно. Оказалось, у Морского неприятности на работе: его снимают с должностей и песочат на собраниях, и разоблачение вредителей-критиканов, о котором говорят по радио, касается не только центральной прессы и тамошних деятелей, но и Харькова. Откуда Коля мог знать, что как раз сегодня Морскому устроили проволочку на работе? А знал бы, разве б на прямой вопрос стал другу врать? И, кстати, трое человек из тех, кто был тогда на вечере (всего их было шестеро), потом нашли Горленко и сказали спасибо, что не стал кривить душой, как они, поддерживая раздутое самомнение хозяина квартиры. С раздутостью самомнения они, конечно, перегнули – Морской действительно был умным и хорошим человеком, заслуживающим уважение своими знаниями… Просто запутался и забыл, что служить нужно, прежде всего, своей стране, а уж потом – искусству или еще чему-нибудь эдакому. А еще забыл, что друзья, если они настоящие, а не подхалимы какие-то, говорят правду, и обзывать их предателями по этому поводу – низко. Ну, в общем, вышла ссора, и бывшие друзья разошлись, как в небе журавли.
– Ты меня слушаешь? – Глеб Викторович даже стукнул задумавшегося Колю по плечу, чтобы растормошить. Тот вздрогнул, закивал и сделал вид, что пялится в окно. – А! Это же Морской? – воскликнул Глеб через миг, указывая на спешащего ко входу в отделение визитера. – Раз так, то ясно, отчего ты весь в раздумьях. И мой ответ: да, надо вербовать. Если у Ирины Грох имеются какие-то тайны, то Морскому, сделайся он с твоей подачи опять ей мил, она наверняка расскажет все, как есть. Так что ты уж постарайся, найди, чем надавить – пусть он ее расколет.
День становился для Коли Горленко все гаже и гаже.
Глава 4. От судьбы не уйдешь
Попытка поговорить с бывшей женой обернулась для Морского очередной нелепостью. Неудивительно – с Ириной все всегда было непросто. Накрученный увещеваниями Галочки о совести и удачно подвернувшейся «просьбой» Николая, Морской все же решил наведаться к гражданке Грох с соболезнованиями.
Нет, разумеется, он сказал, что ничего не обещает, в ответ на спутанные доводы Горленко. Все эти: «Я не хотел бы, но должен обязать вас поговорить с пострадавшими в неофициальной обстановке. Расценивайте это как призыв их успокоить…» попахивали четким «Станьте нашими ушами». Горленко напрямую не сказал, Морской не слишком внятно отказался, но все-таки пошел.
И вот, уже дойдя от площади Розы Люксембург до гостиницы «Интурист», Морской чуть не повстречался с собственной дочерью. Ларочку, судя по всему, бывшая мачеха взяла в оборот еще с утра. Сейчас Ирина и Лариса сидели на ступеньках входа в ресторан, которым Морской собирался воспользоваться по привычке. Бывший газетчик, по долгу службы частенько навещавший гастролеров, он знал, что это самый быстрый способ: администрация в вестибюле торопливостью не отличалась, а официанты в ресторане, предвидя чаевые, охотно соглашались телефонировать в нужный номер и спросить у постояльцев о желании перекусить с внезапным визитером.
Сперва, признаться, заслышав воодушевленное щебетание на крыльце, Морской решил, что это здешние кокетки-сердцеедки, коих в СССР гоняли почему-то везде, кроме гостиниц. Он быстро надвинул шляпу на нос и уже собирался уверенно пройти мимо, но тут приблизился настолько, что разобрал слова и голоса.
– А если сахара не жалко, то кудри крутишь на газету и закрепляешь сладкой водой. Держатся неделю, как железные. – говорила Лара. – И волосы завивкой не палишь, и выглядишь прилично. Если, конечно, осы не налетят и тополиный пух не налипнет. Хотя Олегу больше нравится, когда я, вот как ты, хожу с пучком. Но тебе идет. А мне, смотри, не очень… Олегу, может, потому и нравится, что на такую прилизанную крысу никто не посмотрит…
– Не выдумывай! Тебе по-всякому красиво, – серьезно вторила Ирина. – Кстати, я недавно читала в газете, что в Америке для закрепления кудрей придумали специальный спрей. Такая распыляющаяся паутина для волос. До нас это, конечно, не дошло. И не дойдет уже, в Чехословакии теперь все очень строго. В общем, пока у нас все крутят волосы на пиво.
– Фу-у-у! – перебила Ларочка. – Я пробовала. Запашище – жуть… Хотя, возможно, пиво пиву рознь…
– И кстати – только не надумай обижаться, – продолжала Ирина, – хочу сказать, что накладные плечи, которые у советских дам сейчас в ходу, нигде в мире уже не носят. Во всех парижских журналах пишут, что подплечники категорически устарели. Отпори их…
– Да уж, – хмыкнула в ответ Лариса. – Хорошенький у вас социализм: новости про Америку в газете оповещают не о загнивании, а о прическах, да еще и парижские журналы под рукой… У нас такого нет. И хорошо! Завидовать противно…
Собеседницы тихонько рассмеялись. Ирина – горько, Ларочка – задорно. Морской стоял к ним очень близко, но не выходил из-за колонны и оставался незамеченным. Сначала он оторопел: и оттого, как эти две болтуньи легкомысленны – услышать разговор мог кто угодно!) – и оттого, как с истинно женским талантом совмещать несовместимое они умудряются одновременно обсуждать и моду, и политику, и мужчин. И оттого, что два облака дыма и характерный запах сообщали, что и Лариса, и Ирина курят.
Морской, конечно, знал, что дочь уже большая, и даже удивлялся, если в своих кругах встречал светскую женщину Ларочкиного возраста без папирос. Но все же то были коллеги и чужие дети, а тут – своя… С Ириной тоже все отныне было ясно. Папироса в ее руках означала две вещи. Первая: мадам бросила балет – обладая слабыми легкими, она с детства боялась не справиться с дыханием в ритме танца и тщательно следила за здоровьем, сокрушаясь, что все коллеги, мол, еще с подросткового возраста смалят без остановки, а ей, увы, нельзя. Вторая: оказывается, давние Иринины рассказы о непереносимости табачного дыма были выдумкой. То есть Морской семь лет семейной жизни зря рисковал схватить воспаление легких, выходя для перекуров на балкон или распахивая окно кухни в лютый холод. Кругом обманы и напрасный риск!
– Как мило, Лара, что ты пришла со мною пообедать, – вздохнула между тем Ирина. – Мне правда было очень одиноко и страшно. Но теперь уже лучше. Спасибо!
– Я не могла не прийти, ты же знаешь. Вчера я растерялась и не успела ничего сказать… Конечно, глупо, что и сегодня все так на бегу и до отъезда обо всем не поговоришь.
– До отъезда? – Ирина удивилась, но тут же со свойственным ей эгоизмом истолковала Ларочкину мысль по-своему: – Почему ты так уверена, что я уезжаю? То есть по планам мы действительно должны были завтра покинуть Харьков. Но ведь все вместе, понимаешь? А теперь спешить некуда. Или есть куда, я уже не понимаю. Я не могу решить, уехать или нет, и значит, буду придерживаться уже намеченного плана. Вернее, перенамеченного заново. Вчера я уговорила руководителя делегации в память о Ярославе продлить командировку и остаться всем тут, пока убийцу не найдут. Нельзя же уезжать, оставив тело Ярослава тут. А следователи его пока не… ну… не отдают. Значит остаемся. Но так рискованно… Мне страшно. Нет, все же уезжаем… Я немедленно скажу, что передумала и надо уехать. Правильно? – Разговаривала она явно сама с собой, но Ларочка решила вмешаться.
– Ты говоришь так, будто нездорова. Или сосредоточься и все четко объясни, или давай спишем все на переутомление, и ты пообещаешь, что станешь разбираться с этой путаницей, только когда отдохнешь.
– Решение-то я должна принять сейчас! – вздохнула Ирина с явным отчаянием в голосе. – Но если сосредоточиться, то оно очевидно. Но ведь помимо всего прочего еще важно, что пристальное внимание нашей делегации ускорит дело. Наших у вас ценят. Хотя без Ярослава, наверное, уже и не так сильно. – Тут она сменила тональность и повторила нараспев: – Бе-ез Яро-слава… Дикость какая-то! Никак не могу поверить, что это случилось…
– Сочувствую, – осторожно подала голос Ларочка.
– Только больше не расспрашивай, – резко перебила Ирина. – Я попросту не справлюсь отвечая. Прости. Я соберусь с духом и все тебе расскажу. Кому как не тебе можно раскрыться?
Морской скривился от презрения к себе. Горленко был бы счастлив! Его посланник, мол, не только сам пришел просить откровенного разговора, но и не гнушается подслушивать чужие беседы… Но что же делать? Выйти из-за колонны – значит показать, что ты стоял в засаде. Удалиться – слишком рискованно: кто знает этих сплетниц, может, сначала не заметили, а на любое новое движение отреагируют. Вот незадача! Он продолжал стоять как истукан, изображая прилипшего к колонне идиота.
– Расскажи лучше побольше о себе, – просила в это время Ларочку Ирина. – Или опять про Леночку… Ты так чудесно говоришь о ней, я таю…
Своих детей у Ирины быть не могло по медицинским причинам. Она не признавалась, но, конечно, переживала. Как грубо и глупо в этой ситуации вела себя Лариса, хвастаясь Еленой! Морскому немедля захотелось отчитать дочь за бестактность. Что было, в общем-то, смешно, с учетом его нынешнего куда более неприличного поведения.
– А лучше, – не унималась Ирина, – опиши-ка мне Олега. Насколько он похож на твоего отца? Такой же пижон или скромняга? Ты в детстве заявляла, что выйдешь замуж только за Морского. Помнишь?
– Не помню, – призналась Лариса. – Мне говорили, что я была умненькой, а выходит, нет… – Снова раздался приглушенный смех. – А про Олега и не знаю, что сказать. Мы вместе счастливы. Надеюсь, так будет и дальше. Но начиналось все, конечно, со скандала, – по тону чувствовалось, что Ларочке нравится это вспоминать. – Познакомились мы в гостях, причем нас все друзья давно уже настойчиво хотели видеть парой, потому при мне все беспрерывно говорили об Олеге, а при нем – обо мне… В общем, еще до встречи мы друг другу изрядно надоели.
Морской затаил дыхание, осознав, что не знал эту историю. Причем не потому, что дочь что-то скрывала – просто он сам ни разу не спросил.
– Я к тому времени три года, как оплакивала Митю – свою первую настоящую любовь, – продолжала Лариса. – Думала, никогда не справлюсь с горем. Жених-не жених – не важно. На самом деле я и не знала его толком. Хотя в любви друг другу признавались… Он был приписан к восстановителям Харькова, но в 44-м их внезапно отправили на фронт. И… похоронка. Вокруг таких историй очень много, и я, конечно, понимала, что негоже уподобляться мрачным вдовам, – Лариса допустила очередную бестактность, но снова не заметила, – и ставить крест на будущем. Но поделать ничего не могла. Злилась ужасно, когда в институте политрук твердил: каждая советская женщина обязана создать ячейку общества, родить советскому народу новых граждан… Далее по тексту. Ты знаешь наверняка, что они там говорят, – у них у всех одно и то же в методичках…
– Не знаю, – поправила Ирина. – Но и не удивлена.
– Ах да, – опомнилась Лариса. – Все время забываю, какая пропасть между нами… Короче, я была совсем дикарка и ненавидела заранее любого, с кем меня хотели познакомить подруги. А они у меня очень активные. Так что со временем, можно сказать, я возненавидела весь род мужской. По крайней мере холостую его часть. Олег тогда только пришел с фронта. Его жена погибла в оккупацию. И он терпеть не мог вертихвосток, которые пытались заставить его забыть свою потерю. Зато его друзья только и делали, что пытались вернуть его к жизни… – Лариса ненадолго сбилась с мысли.
– Могу вообразить! – не к месту добавила Ирина, и по тону Морской понял, что мыслями она сейчас совсем не здесь.
– В итоге нас все же познакомили, – Лариса, кажется, почувствовала, что слишком долго говорит о себе, и скомкала остаток разговора. – Я дерзила, он осыпал меня холодным презрением. Так все и началось.
– А дальше?
– В том же духе… Общение превратилось в странный поединок – кто кого больше невзлюбил. А мы стали видеться подозрительно часто, думаю, не без вмешательства окружающих. Я даже просыпалась среди ночи и вскакивала записать, что едкое скажу ему при встрече. А он потом признался, что однажды гнался за трамваем, в который я зашла, чтобы в него ворваться и сказать, что он уже устал повсюду на меня натыкаться… Когда мечтающие нас объединить любопытные друзья все же сообразили хоть на миг оставить нас наедине, мы уже были по уши влюблены и, не имея зрителей для бравад, наконец объяснились. – Лариса снова замялась. – Пожалуй, хватит обо мне. Ты уже собралась с духом?
Ирина промолчала.
– Послушай, – посерьезнела Лара. – Все это выглядит немножко странно. Ты сказала, что не можешь говорить внутри гостиницы. Что хочешь быть уверена в отсутствии вокруг лишних ушей. Мы вышли. Но ведь ты мне по существу так ничего и не сказала. Все светские темы мы уже исчерпали, а ты так и не объясняешь суть своей просьбы….
Ах, ну конечно, просьба! Морской, выходит, не ошибся, когда решил, что Ирина позвала Ларочку для какого-то одолжения, а вовсе не из-за теплых чувств к дочери бывшего мужа.
– Да, не объясняю, – вздохнула Ирина. – Все слишком сложно… – Тут она явно приняла решение, и было оно, кажется, не в пользу откровений с Ларой. – Мне что-то зябко, – выдала вдруг. – Ну их, эти уши! Больших секретов у меня нет. Только терзания, а в них никто мне не поможет. И просьба несерьезная. Так, мелочь. Вернемся? Выпьем еще кофе в ресторане? Давай, пошли скорее!
Дверь хлопнула, и Морской застыл в нерешительности. Идти за ними? Но зачем? Ирина уже нашла себе поддержку и опору. И Галочке, и Коле можно будет честно сказать, что чуда не случилось: Ирина была не одна, и затевать разговор бессмысленно.
– Ну, значит не судьба! – шепнул Морской, активно убеждая самого себя, что даже рад подобному стечению обстоятельств. Резко развернувшись, он прошмыгнул мимо центрального входа в гостиницу и лишь напротив старейшего в городе, да и во всей Восточной Европе, кинотеатра, принадлежавшего некогда легендарным братьям Боммер, перестал прятать лицо в воротник и спокойно пошел к трамваю.
* * *
Примерно в это же время Коля Горленко обедал с женой. Была у них со Светой такая добрая традиция: если один по делам должен был оказаться возле места работы другого, поездку обязательно подгадывали под перерыв и шли в столовую, как парочка влюбленных. В этот раз Светлану – как опытного работника библиотеки им. Короленко – отправили в недавно открывшийся возле Колиного управления филиал отдела детской книги. Для обучения сотрудников, как водится.
– Ну, то есть это только в командировочном написано: «Для обучения», – рассказывала Света, ловко передвигая и свой, и Колин поднос ближе к кассе. Очередь была довольно плотной, и Горленко с его комплекцией, чтобы подобраться к перилам для подносов, пришлось бы оттолкнуть пару слишком голодных и рвущихся к кассе граждан. Света толкаться не разрешала и, ловко проныривая туда-сюда под чьим-то локтем, то говорила с мужем, то руководила наполнением тарелок у линии раздачи. Желтые короткие кудри мелькали, словно кто-то играл в настольный теннис одуванчиком. – На самом деле, – продолжала разговор она, – в этой библиотеке и без меня все грамотные. Помогаю чем могу, но это именно помощь, а совсем не просветительство. Все утро клеили кармашки на вновь прибывшие книги. И отгадай, из чего их нынче предписано делать? Из продовольственных карточек на 1948 год! Такая радость сразу накатила! Ведь на весь Союз их печатали, на много лет. Думали, до конца пятилетки страна не оправится, а мы так быстро голод победили, что карточки уже в 47-м отменили. Помнишь? И вот теперь – не пропадать же бланкам – они в библиотеках пригодились, причем для добрых, с голодом не связанных целей. Хорошо же?
Параллельно Света расплачивалась на кассе – за Колину порцию талоном, который выдавали служакам, а за свою – наличными, конечно, без второго, только суп и компот, но всё равно – не без вздоха сожаления.
– Иногда можно и попировать, да?
Коля не имел права говорить в общественном месте о деле Гроха, а ни о чем другом думать сейчас не мог, потому слушал вполуха. Сказал только, когда встали за столик, что уйти от расследования не получилось, и значит теперь начнутся жаркие денечки.
Библиотечный карман из не пригодившихся продовольственных карточек на 1948 год. Фото современное, книга 1948-го года издания из архива ЦДБ Холодногорского района Харькова
– Ты снова говорил с Морским? – обрадовалась Света. – Ну и что, что лишь по делу! Это все равно большой прогресс. Так и подружитесь опять.
– Еще не хватало, – фыркнул Николай. – Чтоб он потом опять ни с того ни с сего меня последними словами обзывал? Нет! Теперь только официальное общение.
– Ой! – вскрикнула вдруг Света. – Смотри, кто здесь!
В столовой, растерянно оглядывая очередь, стояла Ларочка Морская. Решив, похоже, не занимать, она подошла к отделу «Соки-воды», заказала стакан томатного сока, взяла щепотку соли из общего граненого стакана на прилавке, насыпала себе… и только тут заметила Горленко.
– Иди к нам! – махала руками Света. – Лара, я так рада встрече! Я слышала, что ты переезжаешь, и даже попрощаться не зашла.
– Я собиралась! – Лариса подошла и, как всегда при встрече, обнявши Свету, уткнулась ей в плечо. Давным-давно для этих ритуальных приветственных объятий Ларочке приходилось вставать на цыпочки, а Свете – наклоняться. Сейчас же было все наоборот.
– Коля, привет! – улыбнулась Лара.
Николай понял, что забыл поздороваться, и быстро закивал. Наверное, очень глупо. Вот уже год, общаясь с Ларочкой, он опасался, что его заподозрят в ухудшении отношений из-за ссоры с Морским, потому вечно выглядел нелепо.
– Как дела? Как дети? – продолжала тормошить его Лариса.
– Один – вот так, – Коля привычно показал ладонью рост Вовчика чуть ниже уровня своей подмышки и переместил руку ближе к бедру: – Другая – где-то так.
– Понятно, – натянуто улыбнулась Ларочка. – А ты что настолько серьезный?
– Работа такая, – ответил он. – А ты? Вошла сюда расстроенная, я видел. Что-то случилось?
– Да, всякое, – Лариса отмахнулась. – Я только от Ирины. Так печально – она страдает, но не может поделиться. А из-за того, что держит все в себе, страдает еще больше. Не потому что у нее какие-то секреты, не думайте! Ей просто очень больно. Я как могла ее пыталась расшевелить, рассказывала всякие глупости, шутила… Она то реагирует, то впадает в прострацию. Это очень тяжело, когда близкие умирают. Тем более так…
Все трое помолчали. Женщины – из сострадания к подруге и уважения к погибшему. А Коля, если честно, выжидая, не добавит ли Лариса что-нибудь еще о разговоре: для следствия могла быть полезной любая мелочь.
– И этот переезд! – переключилась Лара. – Он меня доконает! Бумаги дооформила, но теперь борьба с вещами. Одни надо купить, чтобы прибыть на Север хоть немного подготовленными, другие, соответственно, продать. Но как назло все это так непросто! – Она грустно отпила свой сок. – Мы с Олегом все утро пытались пристроить саксофон, гитару, графин и вазочки. Все остальное разобрали друзья, а тут – простой. В комиссионках нужно ждать целую вечность, пока найдется покупатель, а перекупщики – сплошные шарлатаны, скупают за копейки. На базаре хоть с вазочками повезло – женщина взяла маме на подарок. И графин один мужик договорился вечером посмотреть, благо живет недалеко. Но саксофон и гитара! Они не то что прочая мелочь – ценные и очень любимые. И видно, не хотят нас покидать. Мы тоже ни за что с ними не расстались бы, но деньги, как известно, разлучают. – Она посмотрела на Свету умоляющим взглядом: – Прости меня, Светланка! Я потому не захожу прощаться, что, видишь, только жаловаться на жизнь сейчас и могу.