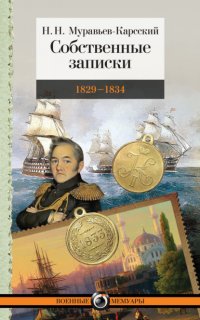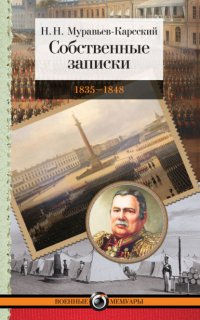
Читать онлайн Собственные записки. 1835–1848 бесплатно
- Все книги автора: Н. Н. Муравьев-Карсский
© ООО «Икс-Хистори», 2020
© ООО «Издательство «Кучково поле», 2020
Предисловие
Очередная часть дневниковых «Записок» боевого генерала Николая Николаевича Муравьева-Карсского (1794–1866), охватывающая период с 1835 по середину 1848 года, не похожа на все предыдущие. Прежде всего тем, что посвящена она отнюдь не окутанным клубами пороха победоносным боевым викториям и реляциям с полей сражений, а весьма подробному, нередко доходящему до занудства в своей мелочной детальности и рутинной обстоятельности описанию перипетий служебных и личных взаимоотношений автора с придворной элитой России, включая императора Николая I.
По сравнению с предыдущими частями многолетних «Записок» главного героя, стоит отметить и существенно бóльшую витиеватость слога их автора с многочисленными нагромождениями причастных и деепричастных оборотов. Даже делая скидку на своеобразие и особенности литературной речи второй четверти позапрошлого столетия по сравнению с современным русским языком, это обстоятельство (тем более, учитывая тот факт, что Н. Н. Муравьев хотя и писал свои «Записки» буквально по «горячим» следам, но обрабатывал и редактировал их в течение всей своей жизни) не может не затруднять для современного читателя восприятие смысла муравьевского дневника. Но, может быть, именно в этом и состоит прелесть повествования более чем полуторавековой давности: ведь жизнь состоит из мелочей. Пусть читатель, после вдумчивого и внимательного прочтения авторского текста, сам сделает свой обоснованный и взвешенный вывод.
Поступательное развитие карьеры перспективного генерала внезапно прервалось в 1837 году, когда Николай I, до того весьма благоволивший к генералу Муравьеву, внезапно, без видимых причин публично сделал ему жесткий разнос в ходе инспекционного смотра войск, после чего Николай Николаевич счел невозможным для себя дальнейшее нахождение на службе и оставил столь любимую им военную стезю, которой посвятил всю свою сознательную жизнь.
Выйдя в отставку, Н. Н. Муравьев поселился в имении Скорняково (Архангельское) Задонского уезда Воронежской губернии своей второй жены Натальи Григорьевны Чернышевой, которое принялся детально обустраивать. Собственно говоря, десять лет «Записок» и посвящены описанию пребывания автора в роли частного человека, просвещенного помещика на вольных хлебах, вплоть до того момента, когда он вновь был призван государем на военную службу и уезжает к месту назначения под начало генерала от инфантерии В. И. Тимофеева.
Честно говоря, как ни пытается автор убедить читателя и прежде всего себя (ибо Н. Н. Муравьев писал свои «Записки» в первую очередь и в основном для себя самого, в силу выработанной им с ранней юности многолетней привычки вести дневник, поверяя ему свои мысли и чувства, а огласку его мемуары, писавшиеся автором отнюдь не для их опубликования, получили лишь на исходе XIX столетия), что жизнь на природе, в деревне, этаким хлебосольным русским барином ему по душе и по вкусу, а больше и лучше ему ничего и не надо, у него это не получается. Да и сама действительность, казалось, восставала против превращения его в деревенского сибарита, провинциального помещика средней руки:
«В мае месяце 1839 года переехал я из Москвы с семейством сюда заняться хозяйством и до сих пор борюсь с бедствиями, поражающими в течение двух годов несчастных поселян. Два неурожая, пожары, скотский падеж на лошадей и рогатый скот, наконец, смертность в народе, от коей погибло много людей прошедшей весной – все эти обстоятельства соединились как бы для того, чтобы лишить меня всякой охоты к занятиям нового рода, за которые я принялся со времени отставки; но я вооружаюсь терпеньем и стараюсь устоять против этих бедствий в надежде на лучшее в будущем.
Вот в кратких словах как мы провели здесь время до сих пор»[1].
Мыслями и чувствами, делами и помыслами он постоянно возвращается туда, где привык быть: в действующую армию, в дипломатический корпус, в круг высших государственных чиновников, со многими из которых он за годы своего вынужденного, по сути, безделья (если называть вещи своими именами) неоднократно встречался и переписывался. Поверяя дневнику свои мысли и переживания, он неоднократно обращался к причинам резкого, во многом внезапного (прежде всего для него самого) изменения к нему в 1837 году в ходе инспекционного смотра войск отношения Николая I, в результате которого он был вынужден подать в отставку.
Что стало тому причиной: самодурство императора, подверженного резким перепадам настроения и вспышкам гнева (в дневнике, естественно, автор даже вскользь не упоминает о таком варианте, ибо это было бы явной крамолой с непредсказуемыми для него последствиями, хотя между строк чувствуется и читается глубокая обида на несправедливость тех монарших придирок); заговор придворных, желавших задвинуть подальше или вовсе свалить слишком уж выделявшегося на общем фоне независимостью своих суждений и мнений генерала; сам ли Николай Николаевич общим непорядком в вверенных ему частях дал повод царственному гневу, или же свойственная ему некоторая мнительность и неуверенность в себе заставила его подать в отставку (ведь Николай I, несмотря на публичный и жесткий разнос своего подчиненного, отнюдь не увольнял его со службы и даже не намекал на это), сейчас уже сказать невозможно. Высказывающееся порой в популярной (и не только) литературе мнение, что таким изощренным способом царь отомстил своему генералу за победу над собой в ходе Красносельских маневров 1835 года, на поверку не выдерживает никакой критики.
Во-первых, государь Николай Павлович, конечно, был далеко не ангелом во плоти и не отличался бросавшейся бы в глаза окружающим широтой чувств, но по образу своих мыслей и действий нередко был рыцарем, ощущая себя (и желая, чтобы его воспринимали) этаким последним рыцарем-монархом Европы в лучшем смысле этого понятия, и так мелочно мстить было точно не в его характере. Во-вторых, калейдоскоп событий, прошедших со времени Красносельских маневров до публично выраженного спустя два года царем Муравьеву неудовольствия за смотр войск, был столь значительным, что требовалась очень веская и глубокая причина, чтобы оставить столь глубокую душевную рану у императора или столь сильно уязвить его самолюбие. В-третьих, Красносельские маневры 1835 года априори таковыми быть не могли, ибо явились не столь образцово-показательными, сколь показушно-игровыми (сродни игре юного Петра I со своими живыми потешными солдатиками, только со значительной степенью понижения роли и смысла его царственным праправнуком). В-четвертых, Муравьев выиграл (если вообще можно так выразиться) Красносельские маневры у Николая I во многом случайно: никакой заранее детально разработанной стратегии действий у него не было и быть не могло, ибо диспозиция была ему предоставлена в самый последний момент. Ну и, наконец, при всей любви Николая I к елею царедворской лести, он был все-таки весьма здравомыслящим правителем и прекрасно отдавал себе отчет в том, что не является полководцем или военным стратегом, а потому легко может быть в реальности побежден на маневрах любым из имеющих боевой опыт его генералов (другое дело, что последние такового бы никогда не допустили).
Думается тут сложилось все вместе, и для нашего героя цепь неблагоприятных причинно-следственных связей образовалась, так сказать, в ненужное время в ненужном месте. А вот что действительно могло вызвать сильное неудовольствие государя и надолго остаться в его памяти (хотя, конечно же, это всего лишь предположение), так это поданная в 1834 году Николаю I Муравьевым записка «О причинах побегов и средствах к исправлению недостатков армии».
В ней он без обиняков и прикрас указывает на царившее во многих частях николаевской армии морально-нравственное разложение, помыкание и рукоприкладство офицеров над рядовым составом, увлечение муштрой и парадами вместо реальной военной выучки и прочее: «…я составил записку, в коей изложил горестное состояние, в коем находятся войска в нравственном отношении. В записке сей были показаны причины упадка духа в армии, побегов, слабости людей, заключающиеся большей частью в непомерных требованиях начальства, частых смотрах, поспешности, с коей старались образовать молодых солдат и, наконец, в равнодушии ближайших начальников к благосостоянию людей, им вверенных. Тут же излагал я мнение свое о мерах, которые бы считал нужными для поправления сего дела, погубляющего войска год от году. Я предлагал не делать смотров, коими войска не образуются, не переменять часто начальников, не переводить (как ныне делается) людей ежечасно из одной части в другую и дать войскам несколько покоя».
К чести боевого генерала отметим, что Н. Н. Муравьев добился (хотя это было очень и очень непросто), чтобы его записка попала на стол адресата. Однако, как с горечью констатировал автор в своем дневнике, он «узнал о мнении государя на сей предмет и мог, невзирая на его приветливое обхождение, судить, сколько она ему была неприятна». И это несмотря на то, что Николай I, сделавший на полях муравьевской записки массу пометок и замечаний, неоднократно против целого ряда указанных автором положений написал «справедливо».
…Хотя, положа руку на сердце, немалая толика вины в вынужденном десятилетнем безделии, в котором автор «Записок» страдал и маялся, лежит на самом Н. Н. Муравьеве, на особенностях его характера и натуры: неоднократно за эти годы у автора дневника были шансы и возможности (о чем он сам прямо пишет) устроиться вновь на столь милую его сердцу военную или иную (отметим, не менее почетную) службу, на хорошую должность, при помощи своих влиятельных, вхожих к царю и его ближний круг друзей и родственников. Но он их (эти возможности) раз за разом почему-то упорно отметал.
Ведь складывалась же просто-таки блестящим образом у его младшего брата Михаила карьера государственного чиновника высшего пошиба, о чем рассказывает нам сам его старший брат: при этом Михаил Николаевич в молодости, в отличие от автора «Записок» не сочувствовал, не симпатизировал декабристам и их идеям, а реально состоял (пусть и на рядовых, низовых должностях) в декабристских организациях и сидел за это в 1826 году в казематах Петропавловской крепости. И потом отнюдь не был никогда царедворцем-лизоблюдом, а служил верой и правдой прежде всего Отечеству (а уж потом царю), неоднократно смел свое, отличное от государя, «суждение иметь» и публично его высказывать, отстаивая свои принципы и идеалы. И при этом умудрялся не вступать в те конфликты по службе, в которые неоднократно попадал автор «Записок» (в чем сам он много раз признавался за десятилетия ведения своего дневника). Или младший брат Николая и Михаила Муравьевых, духовный писатель Андрей Муравьев, карьера которого что в Синоде, что в МИДе была на редкость ровной, спокойной и последовательной.
А вот военную и гражданскую карьеру самого старшего из братьев Муравьевых, Александра, постоянно сотрясали различного рода скандалы (отголоски которых также содержатся в предлагаемой читателю нынешней части записок Н. Н. Муравьева-Карсского), из-за чего Александр Николаевич был вынужден неоднократно менять место службы. Особенности характера, наконец, темперамента родных братьев?! Вспыльчивость, неуживчивость старших и природная деликатность вкупе с разумной осторожностью и стремлением к компромиссу младших?! Может быть…
Счастливые и грустные события в жизни нашего героя перемежались друг с другом. Такова жизнь. После женитьбы в 1834 году на дочери графа Григория Чернышева Натальи, хотя первоначально автор испытывал больше душевной склонности к ее младшей сестре Надежде (Надине): у него родились три дочери: Антонина (1835), Александра (1837), Софья (1839), но умер сын Никита (1839) от первой жены и скончался горячо любимый им батюшка (1840).
Главное, что Николай Николаевич за годы отставки не потерял веру в себя, сумел сохранить свои лучшие душевные качества, и будучи вновь призванным на военную службу, оказавшись в родной для себя стихии, еще немало потрудился во славу российского Отечества.
В апреле 1848 года Муравьев был вновь принят на службу с назначением состоять по запасным войскам и прикомандирован к генералу от инфантерии В. И. Тимофееву главным начальником запасных батальонов 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов. В сентябре того же года он был назначен членом Военного совета, с декабря командовал Гренадерским корпусом, с которым выступил к границам Венгрии. Постепенно Муравьев вновь приобретал доверие императора, и в декабре 1853 года был произведен в генералы от инфантерии. В 1854 году он был пожалован в генерал-адъютанты и назначен Кавказским наместником и командиром Отдельного Кавказского корпуса. Впрочем, этот период деятельности главного героя лежит уже за временными рамками публикуемого в настоящем издании части его обширного эпистолярного наследия.
Впервые эта часть «Записок» Н. Н. Муравьева-Карсского была опубликована П. И. Бартеневым в издаваемом им журнале «Русский архив» в 18941895 годах. С тех пор эта часть воспоминаний Муравьева-Карсского ни разу не переиздавалась, став за прошедшее столетие подлинной библиографической редкостью.
В настоящей публикации текст «Записок» приведен в современной орфографии с сохранением своеобразия живого русского языка первой трети XIX столетия, исправлены имевшиеся в первом издании (журнальной публикации) опечатки. Встречающиеся в тексте сокращения, как правило, раскрыты. Восстановленные пропущенные слова или их элементы заключены в скобки.
Издание снабжено справочно-поисковым аппаратом. В комментариях к тексту «Записок» представлены следующие данные:
– приводится более подробное описание событий, о которых автор упоминает кратко, но без изложения которых непонятна суть этих событий;
– объясняется значение специальных терминов, а также устаревших, иноязычных и диалектных слов; при этом особое внимание было обращено на несовпадение используемых автором названий национальностей и других этнографических терминов с современными названиями и терминами;
– приводятся современные названия населенных пунктов и иных географических объектов, которые за прошедшее время были переименованы (порой даже неоднократно);
– указываются ошибки автора или публикатора (в целом ряде случаев установить, кто из них ошибся, не имея перед собой исходного, первоначального рукописного текста, вообще, возможно), но, очевидно, что многие ошибки были явно вызваны неправильным прочтением рукописного текста при его трансформации в печатный.
В именном указателе содержатся краткие биографические сведения об упоминаемых в книге лицах в описываемый автором «Записок» временной период. Здесь также зачастую имеется много разночтений в именах (иногда в нескольких вариантах).
Ценность настоящей части «Записок» Н. Н. Муравьева-Карсского заключается в том, что они написаны непосредственным участником и очевидцем практически неизвестной для широкого читателя «внутренней» истории России второй четверти XIX века. А учитывая то обстоятельство, что значительная часть публикуемого ныне обширного мемуарного наследия автора с конца позапрошлого века ни разу не переиздавалась, хочется верить, что предпринимаемое нами издание послужит источником сведений о весьма малоизученном периоде русской истории и будет как интересно, так и полезно как профессиональным исследователям-историкам, так и самому широкому кругу читателей, интересующихся судьбой нашей Отчизны.
Д. Д. Зелов, кандидат исторических наук
Собственные записки
1835–1848
1835 год
Киев, 5-го января
В дополнение к помещенным здесь известиям о деле Карпова с Понятовским дознано мною еще следующее. Левашов, подстрекавший, по-видимому, Понятовского, довел его до того, что когда Карпов послал Понятовскому отказ в принятии поединка от него, то Понятовский в присутствии некоторых дворян Киевской губернии объявил, что по таковой обиде, падающей на все сословие дворян, он не может более на себе носить звание предводителя дворянства, и послал по трем уездам циркуляры с приглашением, дабы все дворяне подали на высочайшее имя прошение и, как говорят, с предложением отмстить Карпову по собранию всех дворян во время контрактов. Левашов, узнавши о сем, пришел в опасение от последствий сего и, позвав к себе Понятовского, запретил ему продолжать иск сей на Карпова, чем и дело сие на время остановилось, но, по-видимому, не развязалось: ибо подобного рода дела обыкновенно возобновляются и имеют дурной исход, в чем совершенно будет виноват Левашов.
На днях фельдмаршал отдал мне записки свои. Адъютант мой Лауниц переписывает их для меня, и прочтенное мною сегодня описание Цюрихского сражения весьма занимательно[2]. В них видны ум, достоинство и высокие качества души человека сего, и при всей старости своей сохранившего еще те качества, которые его всегда отличали.
Киев 7-го
6-го, в день Крещения, была церемония водосвятия на Днепре, на коей был сам митрополит[3] и присутствовал Левашов. После сего были все приглашены на обед, который город давал в контрактовом зале, причем находилась также оставленная по привилегии, данной Киеву, парадная дружина, состоящая из нескольких всадников в польских старинных кафтанах, и нескольких граждан, вооруженных старыми ружьями, а также и орудие с прислугой, от граждан. За сие мнимое войско жители Киева освобождены от рекрутской повинности, почему они и соблюдают обычай, состоящий в том, что они по цехам собираются, таким образом, два раза в год, в Крещение и в Спас, в августе месяце. Милиция сия не есть войско и не может оным быть; однако же, говорят, что в 1812 году и во время Польской войны она содержала в городе караулы.
Митрополит и мы все дожидались близ часа Левашова к обеду. Обед был очень дурен и скучен; граждане, представлявшие слуг, были с нахмуренными лицами, чему причиной полагать можно сбор денег, который с них делают для сего празднества: ибо, как мне сказывал митрополит, старшины градские обыкновенно еще три дня празднуют на сии деньги, что довольно накладно для граждан, между коими нет богатых.
За обедом пили за здоровье государя, митрополита и Левашова. После второго тоста, сидя подле митрополита, я просил его позволения провозгласить тост за фельдмаршала; но он, вероятно из осторожности, не допустил сего и отвечал мне: «отсутствующий», ибо он по душе своей дружески расположен к фельдмаршалу.
После обеда Левашов занялся с кем-то разговором, а митрополит немедленно уехал, не простившись ни с кем. Вслед за ним и я уехал, и за мной последовали все военные, оставив Левашова с его служащими, чего он совершенно заслуживал по невежливости, оказанной им пред обедом, когда его так долго ждали. Сам я показал ему, что если я дожидался, то не его лица, а не хотев оставить митрополита одного в зале.
Во время церемонии я заметил Левашову, что собралось довольно значительное число граждан и в вооружении.
– Да, – отвечал он, – сие от того произошло в нынешний раз, что они себе было завели совершенные мундиры со своей формой, и как я хотел уничтожить сие, то разрешил всем быть, кто хочет. Они слишком дорожат данной городу привилегией не ставить рекрут, и потому охотно собираются два раза в год, и как ныне мундиры с них не требуются, то и пришло их более, чем в прошлые годы.
Я узнал, однако же, после, что в течение прошлого года Левашов поощрил их сам сделать себе мундиры, что они изобрели их с генерал-адъютантским шитьем на воротнике, и что Левашов сам принимал их и представлял фельдмаршалу в таком виде; когда же государь узнал о сем, то он был сим недоволен и приказал о сем спросить его, вследствие сего Левашов письменным повелением спросил старшину города, с какого повода и разрешения они изобрели и завели сии мундиры? Не знаю, какой был ответ и конец дела сего, совершенно соответствующий неосновательным поступкам Левашова во многих случаях.
Киев, 13 января
Побочный сын фельдмаршала генерал-майор Гостомилов был несколько раз представляем им состоять при нем; но государь, вероятно зная о развратном поведении, дурных правилах, малоспособности и беспечности сего человека, довольно известного в армии по дурной службе его и в военное время, отказывал фельдмаршалу в сем, а назначил его, более года тому назад, состоять при Кавказском корпусе, дабы удалить его. Гостомилов был уже женат и отправлялся к своему месту; но, пробывши там несколько времени, уехал в отпуск в Курск и Киев и прибыл недавно сюда, не располагая более возвращаться в Грузию, куда и жену не отпустили родители ее, вероятно знавши о его неблагонадежности.
Фельдмаршал много заботился о возвращении сына своего и хотел возобновить ходатайство свое об оставлении его при себе, но был отклоняем от сего Карповым и мною; наконец, по желанию его, я написал письмо к начальнику штаба Кавказского корпуса, коим просил уведомить о занятиях Гостомилова, и имеется ли для него в виду какое-либо место. Между тем фельдмаршал ежедневно почти повторял мне о желании своем, дабы просить опять государя о назначении Гостомилова к нему и, наконец, написал своеручную записку, которую передал мне с поручением написать по сему письмо к графу Чернышеву. Склонившись на настоятельные убеждения старца, повторяющего, сколько ему было бы усладительно в преклонных летах иметь при себе сына своего, и в надежде, что уважут слабости его, наконец, что в случае отказа соблюдут все уважение к лицу его, я написал от него письмо к военному министру, в коем, излагая просьбу его к государю, в исполнении коей он бы признал особенную милость императора к нему, я употребил собственные выражения фельдмаршала, помещенные в записке его, в коей он изъявлял сие желание, как «близкое к сердцу его». Я подал письмо к подписи его и отправил, как партикулярное, к военному министру без номера.
Третьего дня получен от военного министра ответ в весьма оскорбительных выражениях: ибо он пишет форменной бумагой с номером, что докладывал государю о просьбе фельдмаршала, и что его величество изволил отозваться, что военные чиновники в генеральских чинах назначаются только состоять при лице императора и при государях великих князьях, а потому, прежде принятия какой-либо меры для сего, государю угодно знать, каким поручением фельдмаршал располагает занять генерал-майора Гостомилова?
Бумага сия была подписана в собственные руки фельдмаршалу, и он, по вскрытии оной, не мог скрыть своего огорчения, причем повторил опять все поступки Левашова относительно его… и сказал в заключение:
– Пускай они не беспокоятся, я скоро умру, недолго им терпеть; мне и жизнь уже в тягость, я чувствую, что я скоро умру, не хотят мне на конце дней моих покою дать.
Слова ли, сказанные заслуженным старцем, были трогательны, и в самом деле я не вижу надобности, если отказ уже необходим, отвечать на партикулярное письмо официальной бумагой в насмешливых выражениях. К счастью еще, что он не заметил сравнения с государями великими князьями, что его бы еще более огорчило.
Вместе с сим отзывом получен мной и ответ от Вальховского, начальника штаба Кавказского корпуса, коим ничего определительного не пишут, но уведомляют о данных поручениях Гостомилову и обнадеживают, что при усердии к службе в краю сем всегда представляются случаи отличиться.
Фельдмаршал приказал ничего не писать к графу Чернышеву в ответ на бумагу его, и точно по содержанию оной нельзя иного решения положить сему делу.
Киев, 14 января
Фельдмаршал пробежал книгу Данилевского о походе 1813 года, о коей было вышеупомянуто, и надписал в оной собственноручно следующее:
«Ежели кто хочет иметь совершенно ложное понятие о последней войне россиян с французами, к стыду человеческого ума и сердца, тот читай только партизанские стихотворения Чернышева или записки его друга Данилевского».
Вчера был у меня проезжающий из Петербурга для следования в Кирасирский полк принца Альберта Прусского, в который он назначен командиром, флигель-адъютант полковник граф Ржевуский. Человек сей, родом поляк, служил в последнюю войну против соотчичей своих. Если бы он сие сделал с убеждением в правильности поведения своего и для сохранения присяги, то сие бы ему извинительно было; но он делал сие с наглостью, служа более лазутчиком, чем военным человеком и продавая, может быть, обе стороны; ибо он до сих пор, пользуясь всеми преимуществами российской службы, не перестает относиться с порицаниями о русских и в сем отношении ведет себя самым презрительным образом. Не знаю, можно ли дать полную веру словам его; но он уверял меня, что был сам очевидцем в прошлом году следующих двух случаев.
На маневрах государь командовал одной частью гвардии, а великий князь, командовавший другою, обошел государя и отрезал его от Царского Села. Тогда государь, обратясь к войску, закричал людям:
– Ну, ребята, теперь мы все пропали. Спасайте меня и всю армию, – перекрестился, – и с Богом, ура! – закричал сам «Ура!» и, бросившись с полком, пробился сквозь неприятеля к Царскому Селу.
6 декабря был маскарад во дворце в костюмах павловского времени; великий князь Константин Николаевич был одет Павлом Петровичем, государь сам оделся каким-то лицом из тогдашних придворных, и все члены императорской фамилии и многие придворные также надели костюмы того времени, подражая лицам, которых они представляли. 3-го числа декабря была еще предварительная репетиция сему маскараду.
Киев, 17 января
На днях фельдмаршал отдал мне грамоты, полученные им на ордена, письма от королей прусского и французского, разновременно им полученные, и разные бумаги, полученные им от французского правительства во время пребывания его в Париже военным губернатором для внесения некоторых из них в формулярный его список. Бумаги сии я списал для себя и храню со своими записками. Между оными нашел я одно письмо, писанное собственноручно ныне царствующим государем по окончании Польской войны. Список здесь прилагаю:
«Mon cher maréchal.
Une époque de penibles epreuves, une époque critique vient de passer; elle est remplacée par des souvenirs immortels d’une nouvelle gloire acquise par nos braves armées.
Si votre age, mon cher maréchal, ne vous a pas appellé sur les champs de bataille pour recueillir de nouveaux lauriers, vos sages dispositions et votre constante activité a su arręter le feu de la rébellion qui menacait si gravement les derričres de notre armée; surtout dans tout ce qui fut confié ŕ vos soins, vous avez su porter męme sollicitude. Vous ne serez donc point surpris, si, privé du plaisir de vous le dire de vive voix, je le fais par écrit dans ce moment. Je désire vous persuader de ma vive et sincčre reconnaissance; recevez la au nom de 1a Patrie que nous servons et ŕ laquelle le service présentement rendu n’est pas le moindre de votre longue et glorieuse carričre.
Croyez ŕ la sincerité du motif qui me dicte ces lignes, ainsi qu’a l’inaltérable estime et amitié que vous porte votre sincčrement affectionné Nicolas.
Moscou, le 29 Octobre 1831»[4].
Когда я, на спрос фельдмаршала отвечал, что прочел письмо сие, то он сказал, что должно бы показать оное ныне графу Чернышеву. Он очень чувствителен к оскорблениям, которые ему делал Чернышев, и втайне признает их, вероятно, происходящими от воли государя, но не говорит сего.
Киев, 19 января
17-го приехал сюда фельдмаршал граф Витгенштейн и остановился в доме у нашего фельдмаршала. Так как он старее нашего, то и были ему отданы все военные почести, а за обедом у нашего фельдмаршала ему уступлено первое место: зрелище довольно странное видеть кого-либо старее званием князя Сакена.
20-го числа, в день именин фельдмаршала и в день Бриенского сражения, дан бал по складке, сделанной генералами Главного штаба и адъютантами главнокомандующего, обед, на коем присутствовали митрополит, Витгенштейн, Левашов; всего 110 особ, как военного, так и гражданского звания. Для торжествования же Бриенского сражения, в коем победу одержал наш фельдмаршал в 1814 году над Наполеоном, я отыскал четверых солдат, служивших тогда и находившихся в сем сражении и, одевши их в мундиры того времени, поставил к себе ко входу у дома и к бюсту фельдмаршала, украшенному военным арматуром.
Во время тостов наш фельдмаршал, обратившись ко всем, возгласил здравие 1-й армии. Левашов, который подле него сидел, обратился тогда ко мне и также провозгласил мое здоровье. Поступок сей был неправилен, и тем более в присутствии фельдмаршалов. Я не принял сего тоста и знаками головы обратил Левашова к фельдмаршалу.
Ввечеру был у Левашова бал…
Киев, 26 января
24-го я заходил к Левашову, дабы показать ему полученное мной письмо от брата Александра, коим он изъявляет ему признательность свою за участие, принятое в положении одного ссыльного поляка. Окончив дело свое, я хотел идти, как он начал меня расспрашивать о неудовольствиях фельдмаршала на Чернышева, говоря, что фельдмаршал сам просил его ходатайствовать в Петербурге о назначении Гостомилова к нему. Так как фельдмаршал сам говорил мне несколько дней тому назад, что Левашов предлагал себя на сие ходатайство и спрашивал даже совета моего, как поступить, принять ли его предложение или самому писать к военному министру: то я мог видеть, что Левашов говорил неправду, будто фельдмаршал его о сем просил. Я дал ему рассказать все, что он хотел.
Выслушав предложение его, но не принял оного и не обещался даже сообщить слышанного фельдмаршалу, а рассказал ему, в чем дело состояло.
– Я это все обработаю, – сказал Левашов своим хвастливым тоном, – не пишите более ничего.
Слова его, однако же, не могли никак служить мне основанием.
За сим Левашов стал мне рассказывать происшествие его с фельдмаршалом, случившееся весной, за которое они поссорились.
– Дежурный генерал, – говорил он, – был прислан ко мне фельдмаршалом, дабы объясниться на счет слухов о затруднениях, встречающихся в преобразовании армии, по случаю тому, что фельдмаршал службы не хочет оставить. Я приехал, – продолжал он, – к фельдмаршалу и объяснил ему о том, что слышал от государя на сей счет, и по ответу, им мне данному, я предложил ему тогда же написать к государю письмо с изложением ответа его. Я хотел письмо сие при нем же написать и прочесть ему для поверки, и я писал письмо сие к государю; вот оно.
И достав письмо сие из-под бумаг, перед ним лежавших, он прочитал мне оное. В письме сем, по-французски писанном, как видно с умыслом, чтобы предупредить всякие известия, которые бы могли дойти к государю о его нескромном поступке относительно фельдмаршала, были совершенно скрыты причины, возродившие все сии толки, а только было сказано, что фельдмаршал, не считая себя не в состоянии служить, хотел продолжать службу до конца дней своих; но что если бы государю угодно было сделать какие-либо преобразования в армии, то он бы весьма сожалел быть препятствием исполнить волю его величества.
– Я послал письмо сие тогда же, – сказал Левашов, – и оно много послужило в пользу фельдмаршалу; ибо государь увидел готовность его оставить место сие по желанию его. Но государь положительно сказал, и то будет сохраняемо, что пока сей старец жив, то его не оскорбят удалением от места.
Все сие было сказано с грубо скрытым умыслом польстить нам и поправить свои сношения с нами, к чему его, может быть, понуждали какие-либо замечания, полученные от государя на счет его поступков.
– Показывали ли вы письмо сие фельдмаршалу? – спросил я.
– Показывал, – отвечал Левашов.
Но фельдмаршал мне вчера сказывал, что он ему никогда не показывал письма, и что он ничего не знает об оном, как равно никогда не просил его ходатайства по делу о Гостомилове и только сообщил ему оное в разговоре.
Левашов говорил мне, что не должно было принимать фельдмаршалу столь к сердцу отзыв военного министра, происшедший не от государя, но, вероятно, от министра; ибо все, без сомнения, зависело от того, как дело было представлено государю. Я заключил из сего, что его собственные сношения с министром должны были находиться в дурном положении, и сие подтвердилось еще полученным мной вчера напечатанным и циркулярно разосланным отношением военного министра к нему, в коем излагался род замечания, сделанного государем по случаю самопроизвольного смещения Левашовым киевского полицеймейстера, и отказ на назначение по особым поручениям к военному губернатору.
Я сказал Левашову, что меня беспокоила мысль, что неудовольствиям, получаемым от министра, может быть, я причиною; что сие не попрепятствует мне исполнять обязанность свою и, по приказанию, лично мне отданному государем, я буду всегда стараться угодить ему, но что с концом его, вероятно, и я кончу службу, и, наконец, что оскорбления, получаемые фельдмаршалом, я не могу не принимать к сердцу, как по душевному уважению, которое я к нему имею, так и по званию его, как начальника, которого привык уважать, а потому и останусь ему всегда верным.
Может быть, память изменила фельдмаршалу; но он утвердительно отверг слова Левашова и сказал, что не видел писанного им письма к государю и не просил ходатайства его о Гостомилове.
Я не советовал ему принять ходатайство Левашова.
– Ты мне зла не желаешь, – сказал он, – мне все равно, как бы сие ни случилось. Я стар, слаб, мне Гостомилов нужен перед концом моим, и я желаю только сего назначения.
Он подписал изготовленное по приказанию его формальное представление о назначении Гостомилова к состоянию при армии; в представлении сем давалось без упрека чувствовать поступок Чернышева и неуместный отзыв его.
– По крайней мере, – сказал он, подписав бумагу сию, – не моя вина будет; я все сделал, что мог, и ему после сего останется только выйти в отставку.
26-го ввечеру приехал сюда Дмитрий Ерофеевич Сакен с сыном своим, для определения его в университет, и остановился на квартире у меня.
30-го числа выехал отсюда Корсаков, губернатор Волынский, квартировавший у меня в доме, а 31-го выехал Сакен.
7-го проездом через Киев в Петербург был у меня генерал-адъютант Киселев, который в тот же день поехал далее. Надобно полагать, что он призван государем для занятия какой-либо важной должности, и что он уже примирился с происшествием, которое с ним в Орле случилось. Он теперь все хвалится приятностью, с коей он провел четыре месяца в деревне, и будто устранил от себя совершенно все виды честолюбия; но при всем уме его видны тайные удовольствия и надежды. Так и должно действовать человеку, чувствующему свои достоинства для достижения видов своих.
Киев, 18 марта
В течение сего времени не произошло ничего особенного. Замечено мной только то, что фельдмаршал ежедневно возрастал в умственных силах своих, в коих он было ослаб зимою. Он ныне обращает внимание на подписываемые им бумаги более чем когда-либо, со времени поступления моего в должность начальника штаба, и уже не так часто и не с таким жаром отзывается на счет военного министра Чернышева и графа Левашова. Разговор его чрезвычайно занимателен, и он стал гораздо бодрее и веселее. Ему недостает только ног, чтобы в полноте соответствовать званию своему и обязанностям, на нем возлегающим.
23-го, около четырех часов пополудни, граф Левашов послал просить меня к себе. Когда я прибыл к нему, он показал мне полученное им от военного министра письмо, в коем тот излагает волю государя, дабы он по совещанию со мной избрал лучшие средства для объявления фельдмаршалу о сделанных государем распоряжениях для упразднения 1-й армии, в намерении сократить сим государственные расходы, причем поручено ему в сем случае поступить с самой большой осторожностью, и приложена копия с рескрипта на имя фельдмаршала, в коем его приглашают прибыть в Петербург, где для него будет приготовлено помещение в одном из дворцов. Рескрипт сей написан в весьма лестных выражениях.
Сколько такая мера ни справедлива (ибо штаб сей армии стоит весьма дорого и совершенно излишен в мирное время), но не менее того должно бы сохранить более приличия в изъявлении воли государя и не мешать никого посторонних в отношениях государя к фельдмаршалу, и отнюдь не Левашова, известного врага князю.
По прочтении мною сих бумаг, Левашов позвал фельдъегеря. Тот вручил мне точно такое же письмо от военного министра, коим мне предложено также переговорить сперва с Левашовым о лучших средствах для доклада фельдмаршалу об уничтожении армии; при оном была копия с рескрипта, и сверх того копия с рапорта военного министра в собственные руки (фельдъегерю, как я после узнал, было приказано от военного министра таким образом вручить бумаги).
Рапорт сей заключал подробности касательно расформирования армии, и в нем было сказано, что фельдмаршал остается в своем звании до 1 сентября, с которого времени расформировывается армия.
По совещанию с Левашовым, я просил его оставить оное до вечера, дабы иметь время подумать. Ввечеру же, приехав к нему опять, я изложил мнение свое, что, так как фельдмаршал на него был в неудовольствии (что и сам Левашов говорил), то я полагал бы всего приличнее, чтобы я на себя взял объявление ему рескрипта, ибо присутствие Левашова могло бы только причинить ему вящее огорчение. На это Левашов согласился, и как он меня спрашивал о подробностях, с коими я приступлю к исполнению сего, то я сказал ему, что передам все, как было и упомяну о полученных нами письмах. С этим я и вышел.
Во все время разговора сего Левашов не успел скрыть радости, которая блистала на лице его, и свидетельствовала в нем, как и в разговорах его чувства, не делающие ему чести, ибо он хвалился несколько раз какими-то важными одолжениями, которые он оказывал фельдмаршалу. Я ему сказал, наконец:
– Mais vous devriez faire valoir vos services auprčs du maréchal.
– Non, je ne voudrais pas les faire valoir. Je ne sais pas vraiment pourquoi il m‘en veut.
– La raison en est celle que vous connaissez bien, ce sont les bruits que vous avez répandus cet automne sur sa prochaine déchéance[5].
Тут он стал оправдываться и, между прочим, сказал мне, что я не должен представлять дела сего фельдмаршалу в виде немилости.
Le maréchal n’a pas de disgrace ŕ craindre, – отвечал я ему, – il n’a que la mort devant lui, et sa réputation est au-dessus de toute atteinte[6].
Возвратившись домой, я послал за Карповым и сообщил ему известия, мною полученные, поручив ему на другой день, то есть сегодня, сходить к фельдмаршалу поранее и предупредить его, что приехал ночью фельдъегерь, который привез бумаги в штаб, и что в сих бумагах заметны распоряжения, как бы относящиеся к расформированию армии, давно ожидаемому (как ему самому то было известно, ибо в бумагах сих все ссылаются на какой-то рапорт, который, вероятно, я уж получил). Приготовительную меру сию считал я необходимой, дабы не поразить вдруг старика, и Карпов принял на себя поручение сие, но просил меня не сообщать ему подробностей о мерах, предписанных министром для объявления ему рескрипта; ибо фельдмаршал, по мнению его, примет с благоговением всякое повеление государя, лично к нему обращенное, но оскорбится каким-либо участием в сем деле, особливо Левашова и министра. Сие признал я справедливым, а потому и отправился часу уже в 12-м ночи к Левашову, дабы объявить ему об изменениях, которые я положил сделать в условленном нами обряде объявления фельдмаршалу об уничтожении армии. Я застал его уже спящим, а потому отложил сие до будущего дня.
Киев, 25 марта
24-го поутру я отправился к Левашову и сообщил ему мысли мои. Он противился им, говоря, что надобно непременно сообщить фельдмаршалу предписанные нам меры, дабы он видел, сколь великодушен государь, предвидевший, как подобные меры могли тронуть фельдмаршала. Но я не согласился на сие и, напротив того, говорил, что государь никакой не имел надобности выставлять сего великодушия, знаменующегося в других поступках его, и что именно благотворность сей цели не была бы достигнута, если бы ему сообщить обстоятельства сии, которые бы он принял за оскорбление, как участие сторонних лиц в деле, ему столь близком. Я просил его еще сверх того не ездить в тот же день к фельдмаршалу, и он согласился отложить посещение свое до другого дня; насчет первого же сказал, что поступит, смотря по тому, в каком найдет фельдмаршала расположении духа. Я хотел даже, чтобы он и совсем не ходил к нему; но он не согласился на сие, говоря, что ему надобно же отвечать министру, и что он не может сего сделать, не видев сам фельдмаршала, причем он мне советовал писать к министру. Я сказал ему, что мне нечего писать, ибо меня ни о чем не спрашивают, а только поручают дело, которое я и исполнил.
– Но из вежливости надобно бы сделать сие, – сказал он, – и дать ответ на письмо с отчетом.
– Отчетом я обязан только словесно государю, – сказал я, – ибо и приказания я получил от него изустно.
Ответ сей приостановил его.
Тут он стал опять распространяться на счет деланных им угождений фельдмаршалу.
– Я выхлопотал ему назначение сына его Гостомилова, который точно был назначен, вопреки первому отзыву министра, состоять при фельдмаршале (о чем почти в одно время получены были высочайший приказ и письмо Левашова, с месяц тому назад, когда Левашов ездил в Петербург). Но фельдмаршал тогда же заметил, что Левашов напрасно к себе относил сии заслугу, тогда как все было сделано по собственному ходатайству фельдмаршала. Я сказал Левашову, что сие назначение последовало по представлению фельдмаршала.
– Фельдмаршалу отказали, – сказал он (не знавши, что было вторичное представление). – Я четыре раза просил государя, и государь сказал мне, что он, собственно, для меня исполняет желание.
Я тогда объявил Левашову, что князь входил с вторичным представлением и полагает, что его именно государь уважил.
В то время Карпов проехал мимо окна Левашова, который, увидев сие, несколько встревожился.
– Он едет к фельдмаршалу, – сказал я, – для предварения его о полученных бумагах.
Я возвратился домой; а за тем вслед проехал ко мне Карпов и сказал, что он предварил князя о каких-то полученных бумагах, в коих ссылались на рескрипт, вероятно, мною полученный, и в коем, как можно было полагать, содержались распоряжения для упразднения армии. Фельдмаршал принял сие равнодушно и сказал, что сия цель государя еще вероятно с давнего времени и со времени его свидания с австрийским императором, и стал говорить о политике. Когда же Карпов спросил его, не угодно ли ему, чтобы я тотчас пришел, то он отвечал: «когда ему будет угодно», весьма хладнокровно.
Я не замедлил к нему явиться.
– Фельдъегерь приехал, – сказал он, – какие новости?
– Вас уже предупредил дежурный генерал о полученных бумагах. Я получил такие же и полагаю, что рескрипт сей заключает что-либо о расформировании армии.
Он не взял его в руки и приказал распечатать и прочитать. Когда я дошел до места, где его приглашают в Петербург в один из дворцов государя, дабы пользоваться его советами и опытностью, он улыбнулся и сказал: «Гут морген!» (обыкновенная его поговорка в случаях, противоречащих его видам). Потом я вынул рапорт военного министра в собственные руки его. Он тоже велел мне его распечатать и прочесть. Когда же я дошел до места, где сказано, что 1-я армия остается в составе своем до 1 сентября под его начальством, то он с сожалением сказал, что надеялся завтра выехать. Дошедши до места, где меня назначали начальником комитета, после 1 сентября учреждающегося, для окончания передачи интендантства и Тульчинской комиссии, он сказал:
– Ну, я тебя с сим не поздравляю.
– Я не останусь здесь после вашего сиятельства, – сказал я.
– Нет, брат, на что это? – отвечал он. – Ты продолжай служить.
Потом он несколько задумался, но вообще показывал много твердости духа при выслушании чтения и нисколько не изменился в лице. Я старался всячески убедить его, что перемена сия нисколько не относилась к лицу его, что доказывалось тем, что армия остается в своем составе до 1 сентября, а что сие было только исполнение давнишней цели государя, что доказывалось и тем, что армия сия сохранила номер свой, тогда как другая называлась действующею; что предположение сие давно ему самому было известно, и тому подобное. Он на все отвечал со спокойствием духа, не изъявлял ничего определительного, но спросил, однако же, куда денутся его адъютанты.
– Вероятно, при вас останутся те, которых вы пожелаете иметь.
– Нет, я не хочу сего, если сего не должно быть, – сказал он. – Пускай они к своим местам отправляются в таком случае.
Когда я уходил от него, он приказал мне списать копию с рапорта военного министра и доставить ему оную, но спросил меня (как то было в воскресенье), был ли я уже у обедни.
– Нет.
– Да ты уже ездил со двора сегодня?
– Я не был у обедни.
– Да где ж ты был?
– Я был у Левашова.
И он более ничего не спрашивал. Не знаю, кто ему сообщил сие известие; может быть, люди, может быть, Карпов, который, проезжая мимо Левашова, видел дрожки мои у дверей его; но Карпов уверял меня, что он ему не говорил.
Мне после сказывали, что фельдмаршал выходил к собравшимся чиновникам штаба и, прощаясь с ними, объявил, что армия расформировывается. Он был несколько встревожен, но крепился. Он также говорил наедине Карпову, что поедет в Митаву.
Я остался обедать у него. Он был по обыкновенному и скрывал, как видно, огорчение свое. Человек сей, высоких качеств и дарований, замечателен в сии минуты скорби.
Если нужно было уничтожить армию, то должно бы исполнить сие с большим уважением к летам и недугам его.
25-го фельдмаршал изъявил желание написать письмо к государю и потому поручил мне составить оное. Я изготовил их пять различного содержания, с тем, чтобы он мог избрать лучшее, и притом пригласил его самому переписать письмо, на что он и согласился. Но письмо сие не поспело вчера поутру, почему я отложил дело сие до сегодняшнего дня. Я предупредил фельдмаршала, что Левашов хотел у него быть, на что он сказал:
– Как он хочет, это от него зависит.
Оттуда я поехал к Левашову и повторил ему опять просьбу мою не упоминать при свидании с князем о письмах военного министра, и нашел его совершенно иным: он на все соглашался и был очень предупредителен; согласился даже сказать, что фельдъегерь к нему являлся только по званию его генерал-губернатора, но что он был адресован в штаб армии. Но сего не было, ибо фельдмаршал вскоре узнает через приближенных своих, вероятно, что фельдъегерь был адресован к Левашову, а не к нему, что и было причиной тому, что когда я спросил его, угодно ли ему будет видеть фельдъегеря при отправлении, то он сказал, что нет, потому что фельдъегерь не к нему, а к Левашову послан.
Часу в 12 утра Левашов пошел к фельдмаршалу. Мне тотчас дали знать о сем (о чем я прежде приказывал, дабы присутствовать при их разговоре, с той целью, чтобы Левашов не оскорбил старика какими-либо нескромными речами, похвалою, от чего могла произойти неприятная встреча; ибо старик при всей слабости своей не вытерпел бы сего и попрал бы Левашова). Я их застал уже вместе, разговаривавшими скромно и о посторонних предметах. Князь первый начал тем, что объявил Левашову о расформировании армии, и Левашов не сообщил ему ничего о полученных им письмах. Когда Левашов уехал, фельдмаршал стал говорить об австрийском императоре.
– Странно, – сказал я, – видеть народ, подобно австрийскому, любящий государя своего и ненавидящий правление. Наследник его Фердинанд, – продолжал я, – невзирая на ограниченность его дарований, останется на престоле и будет царствовать[7].
Фельдмаршал, промолчав несколько, сказал:
– При сем случае я не могу не вспомнить двух стихов, найденных мной в одной французской книге:
Si l’homme veut régner, il faut que l’homme expire; Au délŕ du tombeau est placé son empire[8].
И я, – сказал он, – надписал сии стихи на вышине этой картины, изображающей монумент, поставленный в Петербурге в память покойного императора Александра.
Я встал и, обернув картину, нашел сию надпись, сделанную карандашом его собственной рукой 20 сентября 1834 года.
– Надпись сию – сказал я, – должно бы написать спереди картины.
– Ce serait trop d’affectation[9], – отвечал старик.
В течение дня сего все умственные и телесные силы его были напряжены, отчего он был очень бодр; но огорчение заметно было сквозь притворно-веселый вид его.
Левашов ознаменовал день сей нескромностью, ибо он поехал к князю Яшвилю и объявил о полученных им бумагах и копии с рескрипта. Известие сие вскоре и по всему городу разошлось, с различными несносными слухами, об изгнании отсюда главной квартиры по ходатайству Левашова. Между тем самое упразднение штаба погрузило в уныние всех чиновников оного, давно уже поселившихся здесь и принявших оседлость.
Так как письмо к государю не поспело, то я посылал адъютанта просить Левашова, чтобы задержать несколько фельдъегеря, на что он тотчас согласился, сказав, что фельдъегерь сей в совершенном моем распоряжении.
Киев, 27 марта
26-го я отнес фельдмаршалу пять писем к государю на выбор и прочитал их. Он отбросил из них одно за сухостью слога, три за узорливостью оного, а одно избрал и сам переписал оное рукой своей, хотя с большим трудом, но с помощью моей (ибо ему надобно было указывать почти каждую букву в словах длинных). По окончании письма он велел мне прочесть оное и посмотреть, нет ли ошибок, сказав обыкновенным своим жалобным в таком случае голосом:
– Ему, бедному, трудно будет разбирать мое писание.
Я заметил только, что в первых словах письма сего (писанных без меня, пока я в штаб ходил) он написал «всевысочайший» рескрипт вместо «высочайший».
– Ну, брат, – сказал он, улыбнувшись, – это не замай, так останется; в этом беды нет; за это ничего не будет, это никогда не лишнее.
Вот содержание письма сего:
«Всемилостивейший государь!
Всевысочайший рескрипт, которым вашему императорскому величеству благоугодно было меня удостоить 17-го сего марта, принял я со всегдашним моим беспредельным благоговением к священной монаршей воле. К точному оной выполнению я немедленно сделаю все нужные распоряжения.
Примите, ваше императорское величество, излияние чувств благодарности за всемилостивейшее внимание к моей службе, дарованием при конце дней моих приюта.
Чувствую, что скоро должен буду окончить поприще долголетней жизни моей. Мне остается только просить ваше императорское величество удостоить милостивого воззрения вашего тех из моих сотрудников, кои наиболее облегчали заботы мои по управлению армией.
С чувствами верноподданнической преданности имею счастие пребыть вашего императорского величества всеподданнейший князь Сакен.
1835 года 26 марта. г. Киев».
От князя пошел я к Левашову и сказал ему, что, так как фельдмаршал рассудил писать к государю, то и я решился писать к военному министру, и отозвался, что дабы он видел, что я пишу, я принес ему письмо сие для прочтения, и прочитал следующее:
«Ваше сиятельство, милостивый государь!
Я имел честь получить письмо вашего сиятельства от 19 марта за № 1093-м с приложенным при оном высочайшим рескриптом на имя господина главнокомандующего армией и донесением вашим его сиятельству, 23-го числа сего месяца. По совещании с генерал-адъютантом графом Левашовым, признав всякое постороннее в сем деле участие и предварительное сообщение воли государя императора оскорбительным для чувств князя Фабиана Вильгельмовича и зная твердость его характера и беспредельную покорность велениям государя императора, мы со взаимного согласия положили вручить прямо высочайший рескрипт его императорского величества, возобновив только в памяти господина генерала-фельдмаршала давно известное, по слухам, предположение о преобразовании армии, что и было мною исполнено. Он прочитал рескрипт с совершенным спокойствием духа, следствие благоговения к священной для него воле монаршей. Весть сия не имела явного влияния на его здоровье, находящееся в желаемом состоянии. Его сиятельство ныне же приказать мне изволил заняться приведением в исполнение оснований, на коих государю императору благоугодно было указать упразднение Главного штаба 1-й армии.
С истинным высокопочитанием и совершенной преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою. 26 марта».
Левашов отвечал, что это сущность дела, как оно происходило, и что он в письме своем к военному министру только уведомляет его, что известие сие не имело влияния на здоровье фельдмаршала, не объясняя подробностей; что он хотел бы мне показать письмо сие, которое, впрочем, уже запечатано. Я отказался от прочтения оного, говоря, что не имею в сем надобности, но предложил свое письмо в другой раз прочесть, дабы более вникнуть в содержание оного; но Левашов сказал, что он его хорошо понял, и что оно совершенно сообразно с делом.
Тогда я ему сказал, сколько мне прискорбно было узнать от самого фельдмаршала, что копия с рескрипта была прежде доставлена к нему; ибо сие очень огорчило князя. Левашов смешался, стал оправдываться, что не он довел сие до сведения князя, и рассказал мне все говоренное им с князем накануне, до моего прибытия. Я отвечал, что верил ему и что полагал в сем виновными людей фельдмаршала или самых близких его; но что если я услышу от князя, что он знает и о письмах, написанных министром к нему, Левашову, и ко мне, то расскажу все, как было, и доложу сей ответ министру.
Тут Левашов, чувствуя себя виновным в нескромном, с торжественным видом разглашении полученных им бумаг, сказал мне с изумлением, что он, однако же, не хотел скрывать от меня, что он говорил о сем накануне князю Яшвилю (что мне было известно…).
Возвратившись домой, я отправил фельдъегеря, вручил ему письмо фельдмаршала к государю и мое к министру и приказал ему на вопросы его величества или министра о состоянии фельдмаршала сказать, что его сиятельство остался в добром здоровье.
Киев, 28-го марта
27-го. Вышедши во время доклада от фельдмаршала, я был отозван живущей у него гувернанткой при его дочери. Мадам Метель, иностранка, женщина очень умная и имеющая влияние на образ мыслей фельдмаршала. Она сообщила мне, что попечитель здешнего университета граф Ильинский, по наущению Левашова, просил ее уведомления, примет ли князь депутацию от польского дворянства, коего целью было бы пригласить его остаться на жительство в Киеве; что Левашов хотел озаботиться исправлением дома для князя и попечениями своими приобрести звание приемного сына его, как человека, к коему он питает беспредельную преданность; но что, не желая получить отказ, дворянство поручило ему разведать, как князь примет подобное предложение, о чем он убедительнейше и просил мадам Метель, а она в ответ ему сказала, что не вмешивается в подобного рода дела, и сообщила мне о сем.
Видя, что в несообразном со здравым рассудком деле сем является какой-либо другой умысел, вероятно, старание разведать, куда фельдмаршал располагает ехать по упразднении армии, или происки Левашова, устрашившегося последствий от нескромного своего поведения и надеющегося сими нелепыми средствами понравиться фельдмаршалу, я отвечал, что, так как князь никогда со мной не говорил о домашних делах своих, то он, вероятно, и в сем случае не спросит ни моего, ни чьего совета, а поступит, как заблагорассудится; а что ей я советовал сделать такой же отзыв графу Ильинскому, сказав ему, что дело сие до нее не касается. А как она спрашивала моего мнения насчет того, чтобы фельдмаршалу здесь оставаться, то я отвечал ей, что не вижу препятствий к тому, если он сего пожелает…
28-го фельдмаршал был в бодром духе, весел и не говорил о случившейся перемене. Только когда я ему подал к подписанию одну бумагу к военному министру, то, прочитав конец, в коем было сказано:
«с истинным почтением и совершенной преданностью», он не хотел было подписывать ее.
– Как я подпишу сие, – говорил он, – когда я не имею к нему сих чувств и всего менее преданности? Это нелепо!
Я едва уговорил его подписать сию бумагу, представляя ему, что и выражение «покорного слуги» не имеет никакого смысла, и что вероятно со временем пустословные выражения сии отбросятся в обществе, но что теперь переменить сие в бумагах его к военному министру было бы слишком заметно. Он, подписав бумагу, сказал в шутку, что возлагает сие на мою совесть, и приказал подумать, как бы сие переменить.
Киев, 5 апреля
Недавно получен был от военного министра рапорт, коим он, по воле государя, уведомлял фельдмаршала о дошедших слухах, будто нижние чины, ходящие здесь в караул, вдаются в побеги с той целью, чтобы попасть после в арестантские роты, и что они к сему побуждены дурным содержанием, получаемым ими в Киеве, коего жители не дают приварка; а потому и спрашивалось мнение фельдмаршала, как поступить в таком случае для улучшения содержания нижних чинов, ходящих в караул, и на счет какого ведомства отнести расход сей.
Прежде сего спрашивали отзыва Левашова, могут ли жители Киева давать приварок солдатам, и не имеет ли он на сие каких-либо средств, на что Левашов и отозвался, что нет правила или закона давать приварок постояльцам, что жители слишком бедны для сего, и что он не имеет никаких на сие средств.
Сие было представлено министру, и испрашивалось отпуска круглый год караульным по 10 копеек в день из казны, как сие делается ныне только в осенние и весенние месяцы, с отнесением сего расхода на счет того ведомства, которое признается к сему подлежащим от военного министра.
Дня три тому назад получен рапорт военного министра, при коем приложена копия с рапорта, полученного им от Левашова по сему случаю. Левашов в рапорте своем излагает те же причины к отпуску, которые были им представлены фельдмаршалу, с прибавлением, что город и без того отягощен уже постоем, в особенности по случаю пребывания здесь главной квартиры армии, и в конце рапорта говорит, что доносит о сем на случае, если б фельдмаршал вошел с представлением о сем. Преждевременное донесение сие, которого от него не требовали, и предосторожность были совершенно неуместны; но почему военный министр сообщил их фельдмаршалу, тоже трудно было определить.
По докладу мною сего князю, он засмеялся и нашел, что донесение Левашова не основательно: ибо главная квартира не только не обременяет города, но, напротив того, служит к обогащению его, ибо чиновники издерживают здесь до миллиона рублей ежегодно, и квартиры все наемные, а не отводные; что же касается до причин, по коим министр ему сообщил рапорт Левашова, то он сказал, что министру хотелось, чтобы он побранился с Левашовым, но что ему в сем не удастся, и приказал оставить дело сие без внимания. Одним презрением можно достойно отвечать на подобные поступки.
Завтра, 14-го, я отправлюсь в Харьков для осмотра полков 13-й пехотной дивизии.
Харьков, 17 апреля
16-го я прибыл сюда и сего числа приступил к смотрам. Здесь я нашел из прежних знакомых губернатора князя Трубецкого, у коего сегодня обедал, Розена, коего я знал в Грузии разжалованным[10], Распопова, губернского почтмейстера, и прокурора Гриневича.
8 мая, Киев
Окончив смотр 13-й дивизии и навестив в городе Кобеляках больных Томского егерского полка, я возвратился чрез Кременчуг 25-го числа апреля в Киев.
На днях было у нас здесь одно забавное происшествие, ясно показывающее поведение Левашова относительно фельдмаршала.
Фельдмаршал приказал по вечерам играть полковой музыке, и для сего назначено ей было то место, где она собиралась в прошлом году, на берегу Днепра, неподалеку от гауптвахты (где ее нельзя было ставить, потому что музыканты задыхались от пыли). На другой день Левашов, проезжая мимо музыки, приказал находившемуся при музыке плац-адъютанту главной квартиры переставить музыку к гауптвахте или в казенный сад; но плац-адъютант, не исполнив сего, доложил мне о сем по команде. На другой день я сказал о сем фельдмаршалу и спросил его, как он прикажет сие сделать; что место при гауптвахте неудобно при чрезмерной пыли, почему князь и не приказал туда выводить музыку, а оставить ее, где прежде было назначено. Когда же я спросил на счет помещения ее в саду, то князь сказал, что, так как там никто не бывает, то и нет надобности туда посылать музыку.
– Если Левашов будет от меня требовать перемещения музыки, – спросил я, – то, как прикажете поступить?
– Тогда скажи ему, чтобы он мне о сем доложил.
Посему я приказал коменданту Главной квартиры майору Габелю поставить на другой день музыку на том же месте и если бы Левашов спросил у него, зачем она не переведена, то отвечать, что ему так от начальства приказано, в том предположении, что Левашов обратится с сим делом ко мне.
Все сие было исполнено, и когда Левашов, проезжая ввечеру мимо музыки с женой своей в кабриолете, спросил Габеля, зачем музыка не переставлена по его приказанию, то Габель отвечал ему, что ему так от начальства приказано. Левашов настаивал, но Габель не исполнял, невзирая на угрозы его, произнесенные с запальчивостью, с хлыстиком в руках.
– Я вас заставлю повиноваться, – кричал он на Габеля. – Как вы смеете не слушаться? Я вам приказываю переставить музыку, – и Габель, наконец, устрашенный сими угрозами, оробел и велел музыке перейти к гауптвахте, а сам прибежал ко мне совсем смущенный и объявил о сем происшествии.
Такой грубый и неуместный поступок Левашова не мог мне понравиться; но дабы приостановить дальнейший шум на сей день, я приказал музыку отпустить домой, а Габеля послал к Левашову сказать, что я ее сегодня отпустил во избежание дальнейших неудовольствий, но что она тут была поставлена по приказанию фельдмаршала и завтра также будет поставлена; а что если ему сие не угодно, то он может о сем доложить князю. Между тем сам я отправился в сад, в надежде его там найти, но уже не застал его. Возвратившись домой, я переоделся и поехал в концерт, в тот вечер даваемый, в строении близ сада; но как улица перемащивалась, то не мог я прямой дорогой туда попасть и поехал кругом мимо квартиры Левашова. Тут меня встретил дежурный генерал и сказал, что нельзя было и там проехать по той же причине, почему я приказал повернуть карету. Но Карпов слез с дрожек и подошел к карете доложить мне о случившемся с музыкой. К тому же времени подошел и Габель, который ходил к Левашову и не застал его дома, и я повторил Карпову то же приказание, которое отдал за полчаса Габелю, что слышали люди Левашова, стоявшие в то время на крыльце.
Ввечеру Габель возвратился ко мне с ответом от Левашова, что он, как военный губернатор города – начальник всего гарнизона и может располагать музыкой, как хочет, а потому и требовал, чтобы она была на назначенном им месте; что он завтра пошлет коменданта крепости генерала Трузсона поверить, исполнено ли его приказание и сам будет при музыке, и что если фельдмаршалу сие неугодно, то бы его сиятельство написал ему повеление, которое он исполнит и донесет о том военному министру для доклада государю. Получив ответ сей, я принял намерение сам отправиться к музыке на другой день, дабы не допустить его никоим образом к такому явному нарушению всех правил благочиния и изъявлению столь грубого неуважения к приказаниям фельдмаршала.
В следующее утро приехал ко мне комендант генерал-майор Трузсон с объявлением от имени военного губернатора, дабы музыка была на назначенном им месте, прося ответа. Я отвечал, что сему не бывать, пока фельдмаршал не прикажет, и поручил ему передать сие графу Левашову. Доложивши же о том фельдмаршалу, я опять спросил, не прикажет ли он музыке собираться в саду. Но князь решительно не хотел сего и приказал музыке быть на назначенном им месте, сам поехал посмотреть избираемое Левашовым и нашел его пыльным и неудобным, а потому, вызвав с гауптвахты караульного офицера, лично велел ему, чтобы музыка была на указанном им месте, приказал сие еще лично сам Габелю и послал его к Левашову сказать, что он не находит его место удобным. Левашов отвечал, что он велел поправить сие место и приготовить его со всеми удобствами для помещения музыки, а потому и просит, чтобы ее поставить по его желанию; но фельдмаршал, отдавший уже с твердостью приказания свои, соблюл при сем самую ловкую вежливость: он велел сказать Левашову, что он «просит» его о сем. Левашову ничего не оставалось более, как смириться, и он отвечал, что просьба фельдмаршала для него приказание, и не мешался более в сие дело. Он поручил нашему коменданту Габелю съездить к Трузсону и сообщить ему сие; но я не велел ему делать сего, ибо Трузсон от нас был независим, и Левашов не должен был и в сем случае принимать на себя сего повелительного обхождения. Музыка в тот вечер пришла, куда ей было назначено, там играла беспрепятственно и продолжает до сих пор играть всякий вечер там же.
Не менее того в то самое утро Левашов приезжал к фельдмаршалу и жаловался, что будто Карпов накануне под окошками его шумел на улице; но ничего не говорил о перемещении музыки. Мне сие сам говорил фельдмаршал, и я объяснил ему все дело, как оно случилось.
Киев, 20 мая
Левашов увидел из сего происшествия, что усилия его к показанию власти своей были тщетны. Он посрамил себя в глазах всех и своих, и посторонних, но… не переставал действовать в таком же роде. Например, он рапортом жаловался фельдмаршалу, что дивизионный начальник Шульгин под разными предлогами уклоняется от вывода из города одного полка по его требованию в селения. Ему ответствовали, что Шульгин на сие не имел права без распоряжения своего начальства.
На днях получен мною был рапорт Левашова с испрошением назначить людей для прислуги в госпиталь и лекарей. Рапорт был доложен фельдмаршалу, и по нему уже делались исполнения, как я получил на мое имя письменное отношение от Левашова, в коем он уведомляет об отправлении того рапорта и данной писарем Михайловым расписке в получении. Ныне же, говорит он, рапорт сей поднят на улице против моей квартиры, а потому препровождает его ко мне для доклада фельдмаршалу!
Я удивился, ибо уже исполнение было сделано по первому его требованию; но, посмотрев рапорт, им будто вторично препровожденный, увидел, что он прислал только один распечатанный куверт, который вероятно брошен без внимания и нечаянно попался ему на улице, а он, не разглядевши, послал его ко мне для упрека. Я возвратил ему тот же куверт с объяснением дела. Таким образом, он часто накупается на неудовольствия по… своей торопливости.
Киев, 21 мая
Фельдмаршал скрывает с твердостью, сколько его огорчает уничтожение армии и поступок, против него в сем отношении сделанный; но не всегда он в силах утмить огорчение свое. Так, например, на днях пил он за обедом за здоровье всех россиян, по обыкновению своему, и к сему присовокупил: «И врагу моему Чернышеву желаю по возможности быть полезным Отечеству нашему». На днях также, пришедши к нему с докладом, я застал его сидящим под окном в адъютантской комнате.
– Мне здесь приятно, – сказал он, – я люблю смотреть на рабочих, – (у него в то время перестраивали ворота наново с улицы на двор) и, пославши рабочим пять рублей, он присовокупил: – Скажи мне, Николай Николаевич, не удивительно ли это, в самом деле? Другим строят триумфальные ворота при торжественном въезде их, а мне для выезда!
Дня три тому он был за обедом в мундире полка своего, и князь Горчаков, сидевший подле него, сказал ему, что он его в первый раз видит в сем мундире.
– Да, – отвечал князь, – полка у меня не отняли.
Но вчера его истинно огорчил адъютант его Бларамберг, пришедший к нему просить рекомендательного письма к Левашову для помещения его к нему в адъютанты. Когда я к нему пришел, то он сказал мне:
– Разве не могу я оставить адъютантов при себе до последнего времени? Я всегда могу еще успеть в мерах, нужных для размещения их. Зачем они торопятся? Разве не могут они дождаться, пока я умру?
Я изъяснил ему, сколько Бларамберг заслуживает удаления от него безотлагательно; но князь по великодушию своему тут же приказал мне оставить случай сей и не говорить о нем.
31 мая с почтой получен на имя фельдмаршала рапорт от Адлерберга, следующего содержания:
«Киевский военный губернатор, генерал-адъютант Левашов донес господину военному министру, что он, объезжая 29 апреля караулы по городу, нашел при главной гауптвахте, пред вечерней зорей, музыку, поставленную вдали от фронта, близ отхожих мест гауптвахты. Находя помещения сие неприличным, тем более что музыка сия привлекала стечение публики, граф Левашов приказал переставить оную перед гауптвахтой, на месте, нарочно для сего спланированном. Вслед за сим дежурный генерал 1-й армии генерал-майор Карпов, прибыл туда, и хотя ему было объявлено, что изменение сделано по личному распоряжению военного губернатора, но он, при нем же, забыв всякое чинопочитание и уважение, приказал оную немедля переставить на прежнее место. По всеподданнейшему докладу о сем государь император изволил признать сей поступок генерал-майора Карпова совершенно противным всякому порядку службы: ибо, по уставу о гарнизонной службе, после пробития сбора, все караулы поступают в ведение военного губернатора или коменданта, которые одни могут оными распоряжаться. Сообразно с уставом, следуя сему, генерал-адъютант граф Левашов имел полное право переместить музыку, и генерал-майору Карпову не только не надлежало изменять распоряжение старшего генерала и главного начальника караулов, но, по званию дежурного генерала, он обязан наблюдать, дабы подобного нарушения дисциплины и порядка нигде не было допускаемо. По сему его величество высочайше повелеть соизволил генерал-майора Карпова за таковой поступок арестовать на 24 часа. О таковой высочайшей воле имею честь донести вашему сиятельству к зависящему распоряжению. Москва, 17 мая, № 162».
Такое ложное изложение обстоятельств не могло остаться без ответа, и Карпова нельзя было арестовать, когда дело было представлено в таком превратном виде. Фельдмаршал очень огорчился сим случаем и приказал приготовить письмо к государю. Сего числа подписал он письмо сие следующего содержания:
«Sir. L’aide-de-camp-général Adlerberg m’a communiqué l’ordre de Votre Majesté de mettre aux arręts pour vingt quatre heures le général de service Karpow, pour avoir entravé, comme il est dit dans son rapport, les dispositions du gouverneur-général, comte Lewachoff, concernant l’emplacement designé pour la musique.
Considérant que l’accusation portée par le comte Lewachow au sujet du général Karpow est inexacte, j’ai cru de mon devoir de soumettre ŕ Votre Majesté l’affaire mentionnée dans son véritable jour et de suspendre attendant jusqu’ŕ nouvel ordre l’arrestation prescrite.
J’ai longtemps et soignesement evité d’importuner Votre Majesté Impériale par la relation des mortifications que j’essuie au declin de mes jours, et que le comte Lewachow se plait ŕ accumuler, sans regarder ni ŕ mon age, ni au poste dont j’ai été honoré par Votre Majesté Impériale et dont je garderai l’integrité tant que je l’occuperai. Mais aujourd’hui, obligé de m’expliquer par la maničre peu véridique dont cette affaire est parvenue ŕ Votre Majeste Imperiale, j’ai cru devoir exposer, comme un exemple de la conduite peu conséquente du comte Lewachoff le[11] dans un office que j’adresse en męme temps au ministre de la guerre pour ętre soumis a Votre Majeste Imperiale, en la suppliant de daigner porter son attention a cette affaire, toute puerille qu’elle est. J’ai l’honneur d’ętre de Votre Majesté Impériale le trčs soumis sujet prince Sacken.