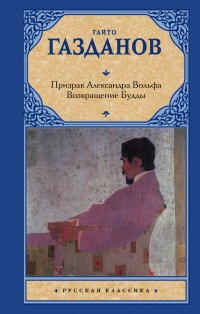Читать онлайн Ночные дороги. Возвращение Будды. Великий музыкант бесплатно
- Все книги автора: Гайто Газданов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Ассистент редакции: Мария Короченская
Корректоры: Ольга Петрова, Светлана Чупахина
Верстка: Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© А. Найман (наследники), 2024
© Художественное оформление и макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *
Предисловие
Гайто Газданов – осетинское имя. К началу ХХ столетия в России сложился весомый слой интеллектуально и творчески заметных фигур с кавказскими корнями. Поколениями эти семьи усваивали русскую культуру самой высокой пробы, достигали сродства с ней, чувства органической принадлежности ей, наконец, одаряли ее своим талантом и характером. Если и было когда-нибудь время, когда ни среда не ощущала инородца чужим, ни он себя чужим ей, то это период – по нарастающей – от Петра до революции 1917 года. Газданов родился в Петербурге, жил у Пяти Углов, читал книги, входившие в канон интеллигентного русского мальчика, учился в кадетском корпусе, в гимназии. Так что выглядит совершенно естественным, что в 16 лет он ушел в Добровольческую армию. «Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято». Как говорит один из его героев – «за белых, так как они побеждаемые».
Дальше крымский разгром, бегство в Турцию, лагерь в Галлиполи, Константинополь, Болгария, Париж. Рядовая судьба русского человека, потерпевшего поражение. (Победителям, впрочем, выпала, как оказалось, участь еще горшая.) Портовый грузчик, мойщик паровозов, рабочий на автозаводе, ночной таксист. И – студент Сорбонны. И – первые литературные опыты.
В 1929 году у него выходит роман, сразу сделавший ему имя, – «Вечер у Клэр». Это замечательное произведение. Написанное молодым, без оглядки на расстановку литературных сил, полнокровное, наглядно талантливое. Этот парижский вечер у прелестной, красивой, необычной, загадочной молодой женщины, в которую герой был влюблен гимназистом еще в России, – вместе с описанием горстки встреч и разговоров, словно бы подготовительных, – занимает в насыщенной 120-страничной книге семь страниц. Все происходящее укладывается в несколько часов, бóльшую часть которых возлюбленная проводит спящей. Но это техническое время появляется перед нами, читающими, наполненным предшествующей жизнью героя во всей ее полноте. Как шпиль – или, если угодно, как крест, – венчающий здание стометрового храма, едва заметный с земли.
Все, что вместили два с половиной десятилетия от рождения до этого вечера, свелось к коротким часам и так же, как они, превратилось в сбывшуюся мечту и прошло. Однажды мальчиком герой, «убежав из дому и гуляя по бурому полю, заметил в далеком овраге нерастаявший слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; но он слабо блестел сине-зеленым светом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без заглавных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки. И больше ничего? – спрашивал я себя. И жизнь мне показалась такой же: вот я проживу на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать. Как? И больше ничего?» Этот потемневший исчезающий пласт снега, это убийственное разочарование невпрямую трансформируется в другой образ: «Лежа на ее кровати, в ее постели в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими – и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами, – я жалел о том, что уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда».
Все, что написал Газданов, – об этом. О том, что ради этого вечера, ради этой несбыточной Клэр надо лишиться дома и родины, пройти через кровь и грязь войны, кровь и грязь парижского дна, стрелять и видеть вокруг себя застреленных, бедствовать, жить через силу, не давая себе забыть ее, чтобы, найдя, тотчас потерять, как все осуществившееся и невозобновимое.
Он принадлежал к поколению моих родителей (1903–1971), и к тому же кругу начитанных независимых людей, что они. До последнего времени я думал об этом поколении и этом круге со всем, на какое способен, состраданием, с печалью и горечью. Лишенное будущего, униженное, истребляемое, едва сводящее концы с концами, обреченное на издевательское порицание все более вульгарных потомков – в России. И с самого начала записанное в граждан второго сорта, в этническое гетто, старающееся имитировать коренных жителей, опускающееся, выкарабкивающееся – в эмиграции. Но чем теснее обступало меня племя новое, освободившееся от угнетения советского режима на родине, выезжающее за границу по своей воле, «для нормальной жизни», для карьеры, заработка и развлечений, тем существеннее менялось освещение судьбы «отцов», тех, кого я так жалел. Так ли сяк ли, с меньшей или большей изменой себе, они жили, ориентируясь на чувство собственного достоинства, а не выгоды. Не прославляя, как сказал поэт, «ни хищи, ни поденщины, ни лжи».
Когда же я стал перечитывать Газданова, роман за романом, от «Клэр» до «Эвелины», от 1929 до 1969 года, я укрепился в убеждении, что и те, кто попал в изгнание, предпочитали, насколько это было в их силах, руководствоваться понятиями русской чести и благородства. Образ ночного таксиста в Париже сделался – не без участия советской и буржуазной пропаганды – символом краха личности и стереотипом социального падения русского эмигранта. Подруга моих детей, отпрыск титулованной и одновременно священнической семьи, в революцию бежавшей из России, рассказывала, как после перестройки их беспрерывно просили об интервью и приглашали на всевозможные объединительные собрания. С очаровательным французским акцентом и милыми грамматическими неправильностями она говорила: «Они всегда начинали: "Вы – графы́, вы – графы́…" Мне хотелось сказать: а где вы были, когда мы водили такси?»
Герой Газданова, его автобиографический двойник, тоже водитель ночного такси, делает несколько признаний: «Бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание…
В отношении клиентов к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать?..
Об этих годах моей жизни у меня осталось впечатление, что я провел их в огромном и апокалипсически смрадном лабиринте. Но, как это ни странно, я не прошел сквозь все это без того, чтобы не связать – случайно и косвенно – свое существование с другими существованиями, как я прошел через фабрики, контору и университет…»
Не торопитесь сочувствовать этому призраку за рулем, ни тем более смотреть на него сверху вниз. Это не вы распоряжаетесь им, называя адрес и по прибытии немножко прибавляя к сумме, выбитой счетчиком. Это он, проницательный, изучивший разные стороны человеческой натуры, много больше вас образованный человек с пронзительным взглядом, видит подноготную – не только конкретно вашу, но и жизни в целом. «Было невозможно предположить, что все это только случайности. Только отступления от каких-то правил. И мне казалось, что та жизнь, которую вели мои ночные клиенты, не имела ни в чем никаких оправданий. На языке людей, живших этим, все это называлось работой. Но во Франции все называется работой: педерастия, сводничество, гадание, похороны, собирание окурков. Труды Пастеровского института, лекции в Сорбонне, концерты и литература, музыка и торговля молочными продуктами…» А у вас – у всех нас – что у нас за душой, чтобы противопоставить этому? Не торопитесь жалеть его: это Гайто Газданов, редкостный русский писатель.
И по поводу его судьбы, писателя, не получившего должного признания и славы, не сокрушайтесь. Не повторяйте тривиальных заклинаний о русском литераторе, задыхающемся в тесноте эмигрантской публики. Да, действительно, на то, что тогда писалось по-русски в Европе, откликались одни и те же: Ходасевич, Вейдле, Адамович, еще два-три критика с именем. А сколько нужно? Несколько дюжин серафимовичей и безыменских, как это было в советской России? В наше время, мерящее творчество человека исключительно успехом, а успех тиражами и частотой вызова на телевизор, неловко говорить о том, чтó в самом деле может принести ему удовлетворение и чтó не может никогда. Отзывы Ходасевича, Вейдле, Адамовича означали ауканье, перекличку ровни – независимо от того, содержалась в них похвала или упрек.
Вы скажете: Набоков добился большего, не так ли? Это как на чей вкус. Он добился большего в демонстрации своего превосходства над читателем. В демонстрации того, как он, писатель, распоряжается персонажами, как они покорны ему. В демонстрации читателю своего ума и таланта. В социальном статусе: он был университетский профессор, а не таксер. Он не забывал держать читательскую аудиторию на дистанции. В произведениях, не озабоченных этой стороной сочинительства, таких как «Дар» или «Другие берега», то есть в лучших своих вещах, он пребывает в том же ограниченном пространстве читательского меньшинства, что и Газданов. В массовом сознании Набоков – автор «Лолиты». В массовом сознании это – бесспорное достижение: экранизация, Голливуд, миллионные гонорары. Трудно сказать, выигрыш ли это Набокова и хотелось ли Газданову такой судьбы.
Ибо что такое превосходство одного человека над другим, умственное, эмоциональное, нравственное, социальное, и какой ценой оно дается, Газданов знал, как мало кто другой. Герою романа «Полет» всё, начиная от высокой интеллектуальности и физической крепости, кончая удачей и богатством, дается без усилий, как само собой разумеющееся. Он щедр, не отказывает просящим, хоть ему и видимы схемы применяемых ими обманов, предан жене, верен тем, кого любит. Пленительное остроумие, мужество, точные, всегда ироничные оценки людей, снисходительность к их слабостям, жизненная философия и позиция делают его неуязвимым для любой критики. Он должен вызывать восхищение, если бы не эта неуязвимость. Постепенно все, что составляет сердцевину его жизни, его тыл, то, чему его превосходство над другими дает вид незыблемости, превращается в груду руин.
Чем дальше, тем более европейцем становился этот писатель. Тем самым типом русского европейца, который формировался еще в Карамзине, которого искали современные Газданову евразийцы и о котором не прекращаются споры доныне. Какие национальные качества прибавляют к сложившемуся за тысячелетия образу русские, становясь подлинно гражданами этого древнего континента, чем обогащают этот образ? В последнем романе, «Эвелина и ее друзья», за непосредственным содержанием, поставленными нравственными вопросами и тонкими психологическими разработками, встает явление, по-видимому свойственное Европе первой половины прошлого столетия. Это верность мужской дружбе – начинающейся с ранней молодости, с осознания себя единой компанией, группой. На память приходят, прежде всего, «Три товарища» Ремарка: не ситуационным сходством – которого нет, как, впрочем, и никакого другого, ни подобия реакций, ни мотиваций, – а натянутой струной, звенящей в обоих произведениях в резонанс.
Русские привносят в эту дружбу достоевский излом, «самоедство», душевные, кажущиеся несовместимыми, противоречия, поэзию и кулацкую скаредность – да. Но и уже упомянутые офицерскую честь, дворянскую совестливость, разночинную самоотверженность, безоглядность поступков, готовность принимать удары судьбы так же, как ее дары, личную надежность. Словом, то, что в Средние века составляло на территории Европы кодекс трубадурской доблести. Венцом ее была Юность, Jóvenes. Почему и преданы с такой неизменностью герои Газданова юношеским идеалам. Почему, мужая, отравляясь ядом взрослости, ранясь о пружины человеческой безжалостности и низости, они остаются юны. Прибавим к этому томительно влекущую законсервированность вывезенной с собой культуры, как шкатулку с фамильными драгоценностями: серебряной чеканки, Cеребряного века.
Девять романов, около сорока рассказов. Красивое лицо на фотографии: мужчины, рыцаря, поэта, – расположенное ко всем, на кого смотрит. «Ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие жизни… Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь».
Анатолий Найман
Ночные дороги
Посвящается моей жене
Несколько дней тому назад во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади Св. Августина я увидел маленькую тележку типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроенная как передвижное кресло; впереди торчало нечто вроде руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную с задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Осман. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть; в ней сидела закутанная, необыкновенно маленькая старушка; видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка, почему она оказалась здесь, какая могла быть причина этого ночного переезда, кто и где мог ее ждать?
Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления, сознания совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего. Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом, мне начинало казаться, что это любопытство было, в сущности, непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, происходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума и еще оттого, что всякому сколько-нибудь отвлеченному постижению мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования. Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды; мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека, с беззащитной и слепой страстью проигрывающего или пропивающего все свои деньги, просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, – потому что, в силу случайности, я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Так же я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь из одних объятий в другие, – но это по другой причине, которой я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца, и тогда я убедился, что это была зависть, тем более удивительная, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства. Возможно, что и в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны, и я также подвергся бы их разрушительному действию, и на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал, было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения, более сильного во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе.
Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел, я старался избегать обобщений и выводов, но, помимо моего желания, вышло так, что два чувства овладевают мною сильнее всего, когда я думаю об этом, – презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался и эти чувства были напрасны. Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено, и оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть, и я не мог бы от них отказаться; это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства, полное презрение к чужой собственности и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими – по-видимому, в силу множества случайностей – вещами сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности; и все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам. Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство, все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонаций, выражение глаз – и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые, или почему-либо запомнившиеся прохожие, или, наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полуощущению-полувыводу, это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто – и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных. Но, кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом, я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться, – и это соприкосновение с ними, почти всякий раз, показывало их с дурной стороны. При самом беспристрастном отношении ко всем, я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на avenue Henri Martin, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого; и люди почтенного вида на Passy и Auteuil так же униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с rue de Belleville; и доверять никому из них было нельзя, я в этом неоднократно убеждался.
Я помню, как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стонами довольно приличной дамы лет тридцати пяти с распухшим лицом, она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки; когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь; у нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль; но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавливаясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы Клэридж, которого я отвез на Лионский вокзал, дал мне сто франков, у меня не было сдачи; он сказал, что разменяет их внутри, ушел, – и больше не вернулся; это был почтенный седой человек с хорошей сигарой, напоминавший по виду директора банка, и очень возможно, что действительно директор банка.
Однажды, после очередной клиентки, в два часа ночи, я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская гребенка с вправленными в нее бриллиантами, по всей вероятности фальшивыми, но вид у нее был, во всяком случае, роскошный; мне было лень слезать, я решил, что возьму эту гребенку позже. В это время меня остановила дама – это было на одной из авеню возле Champs de Mars – в собольей sortie de bal[1]; она поехала на авеню Foch; после ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было, дама в sortie de bal украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка.
Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно, летом светло в это время, и никого уже не было на улицах; очень редко встречались рабочие – безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик, как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон; я помню, что один из старых рабочих – я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара de la Gare – сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских Полях, потому что, объяснил он, он там никогда не работал. В этом городе еще была жива – в бедных кварталах – далекая психология, чуть ли не четырнадцатого столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней. И я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание Средневековья. Но мне редко удавалось сосредоточиться на одной мысли в течение более или менее продолжительного времени, и после очередного поворота руля узкая улица исчезала и начиналось широкое авеню, застроенное домами со стеклянными дверьми и лифтами. Эта беглость впечатлений нередко утомляла внимание, и я предпочитал закрывать глаза и не думать ни о чем. Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе – и только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную ночную поездку из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа. Всегда, каждую ночь, я встречал нескольких сумасшедших; это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы, алкоголики и бродяги. В Париже много тысяч таких людей. Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой. Узнать о них что-либо было чрезвычайно трудно, так как то, что они говорили, бывало обычно совершенно бессвязно. Иногда, впрочем, это удавалось.
Я помню, что одно время меня особенно интересовал маленький невзрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего и которого я видел примерно каждую неделю или каждые две недели, около двух часов ночи, всегда в одном и том же месте на avenue de Versailles, на углу, напротив моста Гренель. Он обычно стоял на мостовой, возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал едва слышно ругательства. Я мог только разобрать, как он шептал: сволочь!.. сволочь!.. Я знал его много лет – всегда в одни и те же часы, всегда на одном и том же месте. Я заговорил наконец с ним, и после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю. Он был по профессии плотник, жил где-то возле Версаля, в двенадцати километрах от Парижа, и мог приезжать сюда поэтому только раз в неделю, в субботу. Шесть лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную ненависть. Каждую субботу он приезжал вечером в Париж, и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости, в соседних бистро один стакан за другим, и, когда наконец его враг закрывал свое заведение, тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом бормотал ругательства; но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы, потом одевался по-праздничному и ехал в Париж, чтобы ночью, на пустынной улице, произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на авеню Версаль до рассвета – и потом уходил по направлению к порт Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик, застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе, оказалось, что три года, она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара.
Около четырех часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная с хозяйки, старой дамы, с трудом жевавшей сандвич вставными зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии, она постоянно таскала ее за собой; ей было лет пятьдесят. Она обычно тихо сидела в углу, и я недоумевал, что она здесь делает в эти часы: она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки: хозяйка ответила, что эта женщина работает, как другие. В первое время такие вещи удивляли меня, но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала: «Ни черта!» И потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону: «Нет, ты перегибаешь». У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала, во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил: «Вот идет Ничерта». Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему – такими неожиданными в ее устах словами: «Я тебе клянусь, Роже, что это правда. Я тебя любила. Но когда ты в таком состоянии…» И потом, прервав этот монолог, она снова закричала: ни черта! Затем она исчезла в один прекрасный день, в последний раз прокричав: ни черта! – и больше никогда не появлялась; несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла.
Раза два в неделю в это кафе являлся человек в берете, с трубкой, которого называли m-r Мартини, потому что он всегда заказывал мартини, это происходило обычно в одиннадцатом часу вечера. Но в два часа ночи он был уже совершенно пьян, поил всех, кто хотел, и в три часа, истратив деньги, обычно около двухсот франков, он начинал просить хозяйку отпустить ему еще один мартини в кредит. Тогда его обычно выводили из кафе. Он возвращался, его снова выводили, и потом гарсоны просто не пускали его. Он возмущался, пожимал покатыми плечами и говорил:
– Я нахожу, что это смешно. Смешно. Смешно. Все, что я могу сказать.
Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков, жил за городом, у него была жена и шесть душ детей. В два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенерам или бродягам, и ожесточенно с ними спорил; они смеялись над ним, помню, что они особенно хохотали, когда он наизусть читал им шиллеровскую «Перчатку» по-немецки, их забавляло, конечно, не содержание, о котором они не могли догадаться, а то, как смешно звучит немецкий язык. Я несколько раз отводил его в сторону и предлагал ему ехать домой, но он неизменно отказывался, и все мои доводы не оказывали на него никакого действия; он был, в сущности, доволен собой и, к моему удивлению, очень горд, что у него шесть человек детей. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор; он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему:
– Разве вы не понимаете, черт возьми, что вы кончите больничной койкой и белой горячкой и ничто вас от этого уже не может удержать?
– Вы не постигаете сущности галльской философии, – отвечал он.
– Что? – сказал я с изумлением.
– Да, – повторил он, набивая трубку, – жизнь дана для удовольствия.
Только тогда я заметил, что он пьянее, чем мне показалось сначала; оказалось, что в этот день он явился часом раньше, чем всегда, чего я не мог учесть.
С годами его сопротивляемость алкоголю уменьшилась, так же как его ресурсы, его вообще перестали пускать в кафе; и в последний раз, когда я его видел, гарсоны и сутенеры стравливали его с каким-то бродягой, стремясь вызвать между ними драку, потом их толкнули обоих, они упали, и m-r Мартини покатился по тротуару, затем на мостовую, где и остался лежать некоторое время, – под зимним дождем, в жидкой ледяной грязи.
– Это, если мне не изменяет память, вы называете галльской философией, – сказал я, поднимая его.
– Смешно. Смешно. Очень смешно – все, что я могу сказать, – повторял он, как попугай.
Я усадил его за столик.
– У него нет денег, – сказал мне гарсон.
– Если бы только это! – ответил я.
М-r Мартини вдруг протрезвился.
– В каждом случае алкоголизма есть какое-то основание, – сказал он неожиданно.
– Может быть, может быть, – рассеянно ответил я. – Но вы, например, отчего вы пьете?
– От огорчения, – сказал он. – Моя жена презирает меня, она научила моих детей презирать меня, и единственный смысл моего существования для них – это что я даю им деньги. Я не могу этого вынести и вечером ухожу из дому. Я знаю, что все потеряно.
Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице, сиротливые маленькие глаза под беретом.
– Я думаю, что уже ничего нельзя сделать, – сказал я.
Я знал в этом кафе всех женщин, проводивших там долгие часы. Среди них бывали самые разнообразные типы, но они сохраняли свою индивидуальность только в начале карьеры, затем, через несколько месяцев, усвоив профессию, становились совершенно похожими на всех других. Большинство было из горничных, но бывали исключения – продавщицы, стенографистки, довольно редко кухарки и даже одна бывшая владелица небольшого гастрономического магазина, историю которой знали все: она застраховала его на крупную сумму, потом подожгла, и так неловко, что страховое общество отказалось ей заплатить; в результате магазин сгорел, а денег она не получила. И тогда они с мужем решили, что она будет пока что работать именно таким образом, а потом они опять что-нибудь откроют. Это была довольно красивая женщина лет тридцати; но ремесло это настолько захватило ее, что уже через год разговоры о том, что она опять откроет магазин, совершенно прекратились, тем более что она нашла постоянного клиента, почтенного и обеспеченного человека, который делал ей подарки и считал своей второй женой; он выходил с ней в субботу и в среду вечером, два раза в неделю, и потому в эти дни она не работала. Моей постоянной соседкой по стойке была Сюзанна, маленькая и густо раскрашенная белокурая женщина, очень склонная к особенно роскошным платьям, браслетам и кольцам; один передний зуб в верхней челюсти она сделала себе золотым, и это так нравилось ей, что она поминутно смотрелась в свое маленькое зеркальце, по-собачьи поднимая верхнюю губу.
– Красиво все-таки, – сказала она однажды, обратившись ко мне, – не правда ли?
– Я нахожу, что глупее не бывает, – сказал я.
С тех пор она стала относиться ко мне с некоторой враждебностью и изредка задевала меня. Особенное ее презрение вызывало то, что я пил всегда молоко.
– Ты все молоко пьешь, – сказала она мне дня через три, – не хочешь ли моего?
Она очень любила перемены, иногда пропадала на несколько дней – это значило, что она работала в другом районе, потом однажды исчезла на целый месяц, и когда я спросил гарсона, не знает ли он, что с ней стало, он ответил, что она устроилась на постоянное место. Он сказал иначе, именно что у нее теперь постоянное положение, – и оказалось, что она поступила в самый большой публичный дом Монпарнаса. Но она и там не удержалась, ей нигде не сиделось. Она была еще очень молода, ей было двадцать два или двадцать три года.
За кассой каждую ночь, с восьми часов вечера до шести часов утра, сидела сама хозяйка этого кафе, которое стоило несколько миллионов. В течение тридцати лет она спала днем и работала ночью; днем ее заменял муж, почтенный старик в хорошем костюме. У них не было детей, не было даже, кажется, близких родственников, и всю свою жизнь они посвятили этому кафе, как другие посвящают ее благотворительности, или служению Богу, или государственной карьере; никуда не ездили, никогда не отдыхали. Впрочем, однажды хозяйка не работала около двух месяцев – у нее была язва желудка, она пролежала это время в кровати. У нее давно было очень крупное состояние, но оставить работу она не могла. По внешнему виду она походила на любезную ведьму. Я разговаривал с ней несколько раз, и она рассердилась на меня однажды, когда я ей сказал, что ее жизнь, в сущности, так же загублена, как жизнь m-r Мартини. – Как же вы можете меня сравнивать с этим алкоголиком? – И я вспомнил, с некоторым опозданием, что людей, способных понимать сколько-нибудь беспристрастное суждение, особенно касающееся их лично, существует ничтожнейшее меньшинство, может быть, один на сто. Самой мадам Дюваль ее жизнь казалась законченной и полной определенного смысла – и в какой-то степени это было верно, она была действительно законченной и даже совершенной по своей полной бесполезности. Теперь предпринимать что бы то ни было было уже слишком поздно. Но она никогда не согласилась бы с этим. – Вот, мадам, когда вы умрете… – хотел я сказать, но удержался, решив, что из-за отвлеченного, в сущности, вопроса не стоит портить с ней отношения. И я сказал, что, может быть, я ошибаюсь и что мне так кажется потому, что сам я чувствовал бы себя неспособным к такому тридцатилетнему подвигу. Она смягчилась и ответила, что, конечно, далеко не всякий может это сделать, но что зато она теперь уверена в одном: конец своей жизни она проживет спокойно – так, как будто теперешний ее возраст, ее последние шестьдесят три года были не концом, а началом ее жизни. Я мог ей многое возразить и на это, но промолчал.
Позднее я понял, что она ни в какой степени не была исключением, ее пример был чрезвычайно характерен; я знал миллионеров с грязными руками, трудившихся по шестнадцати часов в день, старых шоферов, у которых были доходные дома и земли и которые, несмотря на одышку, изжогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояние здоровья, все же продолжали работать из-за лишних тридцати франков в день; и если бы их чистый заработок опустился до двух франков, они все равно работали бы до тех пор, пока в один прекрасный день не могли бы встать с кровати, и это был бы их кратковременный отдых перед смертью. Один из гарсонов этого кафе был тоже замечателен: это был счастливый человек. Я узнал это однажды, во время короткого философского разговора, который начал какой-то пожилой мужчина неопределенного вида, кажется бывший шофер. Он заговорил о лотерее и сказал, что она похожа на Солнце: как Солнце вращается вокруг Земли, так крутится колесо лотереи.
– Солнце не вращается вокруг Земли, – сказал я ему, – это неточно; и лотерея не похожа на Солнце.
– Солнце не вращается вокруг Земли? – спросил он иронически. – А кто тебе это сказал?
Он говорил совершенно серьезно; тогда я его спросил, грамотен ли он вообще, и он обиделся на меня и все пытался узнать, откуда у меня могут быть более достоверные сведения о небесной механике. Авторитета ученых он не признавал и уверял, что они знают не больше нас. Тут в разговор вмешался гарсон, который сказал, что все это не важно, а важно, чтобы человек был счастлив.
– Я никогда таких людей не видел, – сказал я.
И тогда он с некоторой торжественностью в голосе ответил, что мне наконец предоставляется эта возможность, потому что в данную минуту я вижу счастливого человека.
– Как? – сказал я с изумлением. – Вы считаете себя совершенно счастливым человеком?
Он объяснил мне, что это именно так: оказывается, у него всегда была мечта – работать и зарабатывать на жизнь – и она осуществлена: он совершенно счастлив. Я внимательно на него посмотрел: он стоял в своем синем переднике, с засученными рукавами, за влажной цинковой стойкой; сбоку слышался голос Мартини, – смешно, смешно, смешно, – справа кто-то хрипло говорил: «Я тебе говорю, что это мой брат, понимаешь?» Рядом с моим собеседником, который был убежден во вращении Солнца вокруг Земли, толстая женщина – белки ее глаз были покрыты густой сетью красных жилок – объясняла своему покровителю, что она не может работать в этом районе: «Не нахожу и не нахожу». И в центре всего этого стоял гарсон Мишель; и желтое его лицо было действительно счастливо. «Ну, милый мой, поздравляю», – сказал я ему.
И уже уехав оттуда, я все вспоминал его слова: «У меня всегда была одна мечта, всегда: зарабатывать на жизнь». Это было еще более печально, пожалуй, чем Мартини, или мадам Дюваль, или толстая Марсель, которая не находила клиентов на Монпарнасе; и ее дела были действительно плохи, пока какой-то догадливый человек не сказал ей, что ее красота несомненно будет оценена в другом районе, с менее рафинированной клиентурой, именно на Центральном рынке; и она действительно стала работать там; через полгода я видел ее в одном кафе бульвара Севастополь, она еще больше раздобрела и была гораздо лучше одета. Я рассказал о счастливом гарсоне одному из моих алкогольных собеседников, которого прозвище было Платон – за склонность к философии: это был еще не старый человек, проводивший каждую ночь в этом кафе, у стойки, за очередным стаканом белого вина. Подобно Мартини, он окончил университет, жил одно время в Англии, был женат на красавице, был отцом прекрасного мальчика и обеспеченным человеком; я не знаю, как и почему все это очень быстро отошло в прошлое, но он оставил семью, родственники от него отказались, и он остался один. Это был милый и вежливый человек; он был довольно образован, он знал два иностранных языка, литературу и в свое время готовил даже философскую тезу, не помню точно какую, чуть ли не о Бёме; и только в последнее время память его стала сдавать и губительные последствия алкоголя начали сказываться на нем достаточно явственно – чего не было в первые годы нашего знакомства. Жил он на очень незначительную сумму денег, которые ему тайком давала его мать, – и этого хватало только на один сандвич в день и белое вино.
– А ваша квартира? – спросил я как-то.
Он пожал плечами и ответил, что он за нее вообще не платит и что, когда хозяин пригрозил ему репрессиями, Платон ответил, что если тот что-нибудь против него предпримет, то он подожжет шнурок от патрона с динамитом и взорвет дом и таким образом, в некотором роде, пойдет навстречу требованиям хозяина – который жил там же, – потому что после этого ему уже никогда не придется заботиться о какой бы то ни было квартирной плате какого бы то ни было из своих жильцов. Платон рассказывал это тихим голосом, совершенно спокойно, но с такой непоколебимой искренностью и уверенностью, что я ни на минуту не усомнился в его готовности это сделать. Самым странным, однако, мне казалось, что Платон имел архаические, но очень твердые убеждения о государственном порядке, все должно было основываться, по его словам, на трех принципах: религия, семейный очаг, король. «А алкоголизм?» – спросил я не удержавшись. Он совершенно спокойно ответил, что это второстепенная и даже необязательная подробность. – Вот вы, например, не пьете, – сказал он, – но это мне не мешает рассматривать вас как нормального человека; конечно, жаль, что вы не француз, но это не ваша вина. – К счастливому гарсону он отнесся скептически и сказал, что к таким примитивным существам неприложимы наши представления о счастье; но он допускал, что по-своему гарсон мог быть счастлив – как собака, или птица, или обезьяна, или носорог, – под утро Платон начинал говорить вещи несуразные; это был удивительный по своему неожиданному спокойствию бред, но понятия его путались, он сравнивал Гамлета с Пуанкаре и Вертера с тогдашним министром финансов, который был толстым стариком, идеально далеким от какого бы то ни было сходства с Вертером в каком бы то ни было отношении. Я знал наружность этого министра, потому что как-то стоял со своим автомобилем в очереди у сената, в котором происходило ночное заседание, и все мои товарищи надеялись, что будут развозить сенаторов; был уже пятый час утра. Но в последнюю минуту во двор сената въехало несколько автобусов, на которых сенаторы отбыли домой. Когда последний автобус с надписью «цена проезда 3 франка» уже отходил, из двора сената вышел министр финансов и, увидя отходящий автобус, побежал за ним сколько было сил; я не мог удержаться от смеха, но мои товарищи ругали его последними словами за скупость. С той ночи я хорошо запомнил – я видел его тогда совсем вблизи – его фигуру, живот, одышку, расстегнутую шубу, в которой он был тогда, и беспокойно-тупое выражение его лица.
Я разговаривал с Платоном о счастливом гарсоне в ночь с субботы на воскресенье. Это бывала самая беспокойная ночь в неделю; в кафе появлялись совершенно неожиданные посетители, большинство было пьяных. Унылый старик с седыми усами пел срывающимся голосом бретонские песни; двое бродяг спорили по поводу какого-то прошлогоднего, насколько я понял, инцидента; одна из постоянных посетительниц кафе, женщина удивительной некрасивости, с плоским лягушачьим лицом, но считавшаяся хорошей работницей, говорила, приблизившись вплотную к пятидесятилетнему человеку с Почетным легионом, – ее кто-то напоил в эту ночь: «Ты должен же меня понять, ты должен же меня понять». И слушавший ее совершенно посторонний мужчина, особенного типа энергичного пьяницы, наконец не выдержал и сказал: «Нечего тут понимать, ты просто стерва и больше ничего». Какой-то худощавый пожилой человек с выражением неподдельной тревоги в глазах пробился сквозь толпу и стал просить мадам Дюваль, чтобы она разрешила ему вскарабкаться наверх, по одной из колонн кафе, – только до потолка и обратно: вы видите, мадам, я совершенно корректен; только один раз, мадам, только раз… – И плотный метрдотель вывел его из кафе и предложил ему, уже на улице, попробовать влезть на фонарный столб. Снаружи, вдоль запотевших стекол кафе, время от времени проходили два полицейских, – как тень отца Гамлета, – сказал я Платону. Потом в туманном и холодном рассвете субботние посетители кафе исчезали; мутно горели фонари над тротуарами, на поворотах скользкой мостовой шуршали шины редких автомобилей.
– Каждое утро я благодарю Господа, – сказал Платон, с которым мы вышли из кафе, – за то, что Он создал мир, в котором мы живем.
– И вы уверены, что Он действительно хорошо сделал?
– Я убежден в этом совершенно, как бы я ни был несчастен и пьян, – сказал он со своим всегдашним спокойствием.
Я проводил его до угла avenue de Maine, по дороге он говорил о Тулуз-Лотреке и Жераре де Нервале, и я сразу представил себе ужасную смерть Нерваля, маленькую и жуткую уличку возле Шатлэ, и висящее его тело, и эту, точно выдуманную чьей-то чудовищной фантазией, черную шляпу на голове повешенного.
Я имел возможность проводить иногда несколько часов в этом кафе, потому что ставил автомобиль у вокзала в ожидании первого поезда, который приходил в половине шестого утра; и от двух часов ночи до этого поезда, когда другие шоферы играли в карты или спали в машинах, я предпочитал уходить в кафе или гулять, если была хорошая погода. Только это вынужденное бездействие дало мне возможность ближе познакомиться со всеми клиентами этого кафе. Оно было почти всегда вознаграждено; каждую ночь я уходил оттуда все более и более отравленным, и мне понадобилось все-таки несколько лет для того, чтобы впервые подумать обо всех этих ночных жителях как о живой человеческой падали. Раньше я был лучшего мнения о людях и, несомненно, сохранил бы много идиллических представлений, которые теперь навсегда недоступны для меня, как если бы зловонный яд выжег во мне ту часть души, которая была предназначена для них. И эта мрачная поэзия человеческого падения, в которой я раньше находил своеобразное и трагическое очарование, перестала для меня существовать, и я полагаю теперь, что ее возникновение было основано на незнании и ошибке, которая оказалась такой непоправимой для Жерара де Нерваля, упомянутого Платоном в нашем утреннем разговоре. И люди, создавшие ее и которых тянуло туда, как их тянет смерть, лишены даже того утешения, что, умирая, они видели вещи такими, какими они были действительно и какими они их описали; их заблуждение было столь же несомненно, сколь несомненно было, что влюбленный в бывшую владелицу гастрономического магазина почтенный человек, с которым она выходила по средам и субботам, был не прав, считая ее своей второй женой.
И может быть, следовало позавидовать двум клиентам Сюзанны, которых я однажды видел; оба были хорошо одеты и, по-видимому, состоятельны, и оба вошли в кафе, одинаково улыбаясь и одинаково опираясь на белые палки; они были слепые. Сюзанна подсела к ним, и я со стороны смотрел на них троих и представлял себе, как должен для них из темноты звучать голос и смех Сюзанны. Затем они ушли втроем в гостиницу, расположенную напротив, и Сюзанна их бережно – потому что это были клиенты – переводила через площадь. Через час они вернулись; слепые еще остались сидеть за столиком, а Сюзанна подошла к стойке и стала рядом со мной.
– Все молоко? – спросила она.
– Они не могли оценить твою красоту, – сказал я, не отвечая, – и подумать, они даже твоего золотого зуба не видели.
– Это верно, – ответила она и вдруг с неожиданным и детским любопытством в глазах сказала, что они ее, конечно, не могли видеть, но зато ощупали всю и что ей было щекотно. Проходя мимо них, я остановился на секунду; на их розовых лицах была та беззащитная и особенная улыбка, которая характерна только для слепых.
Как и в прежние периоды моей жизни, в Париже мне удавалось лишь изредка и на короткое время увидеть то, в чем я был вынужден жить, со стороны, так, как если бы я сам не участвовал в этих событиях. Это было как воспоминания о некоторых пейзажах, результатом какого-то зрительного постижения, которое потом уже навсегда оставалось в моей памяти; и как воспоминание о запахе, оно было окружено целым миром других вещей, сопутствовавших его появлению. Оно возникало обычно, не выходя из длинного ряда предыдущих видений, только прибавляясь к нему, и отсюда появлялась возможность сравнения различных и последовательных жизней, которые мне пришлось вести и которые казались мне далекими и печальными, независимо от того, происходило ли это теперь или много лет тому назад. И тогда трагическая нелепость моего существования представала передо мной с такой очевидностью, что только в эти минуты я отчетливо понимал вещи, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть. Но, как это ни странно, за такими мыслями никогда не следовала идея самоубийства, которой я был совершенно чужд, всегда, даже в самые страшные моменты моей жизни; и я знал, что ее не нужно было смешивать с тем постоянным и жгучим желанием каждый раз, когда из туннеля к платформе подходил поезд метро, отделиться на секунду от твердого каменного края перрона и броситься под поезд – таким же движением, каким с трамплина купальни я бросался в воду. Но вот прошли тысячи поездов, и каждый раз, когда я спускаюсь на платформу метро, я испытываю нелепое желание улыбнуться и сказать самому себе «Здравствуйте!», в интонации которого были бы одновременно и насмешка, и уверенность в том, что все остальные поезда метрополитена так же пройдут мимо меня, как предыдущие. Это чувство – тянет сделать одно и на этот раз действительно последнее движение – я знал давно; оно же охватывало меня, когда я ехал на автомобиле вдоль хрупких перил моста через Сену и думал: еще немного нажать на акселератор, резко повернуть руль – и все кончено. И я поворачивал руль на несколько дюймов и тотчас же выправлял его, и автомобиль, дернувшись в сторону перил, выпрямлялся и продолжал свой прежний безопасный путь. А в тот раз – в знойную и черную ночь в Константинополе, когда мне грозила действительная опасность падения с шестого этажа, этого чувства у меня не было, а было непреодолимое желание спастись во что бы то ни стало. Я попал тогда в отчаянное положение. Был громадный пожар в азиатской стороне города, и из моего окна на четвертом этаже я видел только густое красное зарево; дом, в котором я жил, находился на Пера, в центре европейского квартала. Я решил подняться на крышу и довольно легко добрался туда с глухой каменной площадки, окруженной с четырех сторон стенками, высота которых доходила мне до уровня глаз. Я выбрался оттуда на черепичную, почти плоскую крышу и пошел по ней в том направлении, откуда, по моим расчетам, должен был быть хорошо виден пожар. Зарево действительно стало несколько ярче, и в нем стал проступать черный фон, но все-таки даже самого пламени нельзя было увидеть. Постояв минут десять, я пошел обратно. Была совершенно туманная ночь, не было ни звезд, ни луны, я шел наугад и не думал, что могу ошибиться. Наконец я дошел до края площадки и стал спускаться спиной вперед. Когда край крыши был на уровне моих глаз, я вытянул носки ног; но пола под ними не было. Это меня удивило, я опустился ниже, потом наконец повис на вытянутых руках, держась пальцами за черепицу, но пола опять не достал. Тогда я повернул с усилием голову вбок и посмотрел вниз: очень далеко, в страшной, как мне показалось, глубине тускло горел фонарь над мостовой; а я висел над задней глухой и совершенно ровной стеной дома, над шестиэтажной пропастью. Рубашка на мне с неправдоподобной быстротой стала влажной. Я держался за черепицу – мне сразу показалось, что она скользит и сползает, – одними пальцами и не мог рассчитывать ни на чью помощь. В первую секунду я испытал необыкновенный ужас. Затем я стал подниматься наверх. Перед этим в Греции, с одним из моих товарищей, я тренировался, чтобы поступить в цирк акробатом, и то, что для среднего человека было бы невозможным, мне было сравнительно нетрудно. Прижимаясь к стене лицом и грудью, я подтянул тело наверх, захватил черепицу уже на сгиб сначала правой, затем левой кисти, потом медленно, без того ритмического и почти необходимого толчка, который делается в гимнастических упражнениях, но которым здесь я не мог рисковать, так как секундная потеря равновесия грозила мне падением, я поднял локоть правой руки и сразу поднялся на несколько сантиметров – все остальное было уже легко; но я еще прополз по крыше некоторое расстояние, чтобы удалиться от края. Потом я без труда нашел площадку и спустился к себе в комнату: из зеркала на меня глядело мое лицо, искаженное, запачканное известкой, с совершенно чужими глазами. Это все было много лет тому назад, но я помню этот взгляд сверху на тусклый фонарь, над неровными камнями мостовой – один из тех вечных пейзажей утопающего в глубокой ночи города, которые потом я столько раз видел в Париже. И в минуты редких и внезапных просветлений мне начинало казаться совершенно необъяснимым, почему я ночью проезжаю на автомобиле по этому громадному и чужому городу, который должен был бы пролететь и скрыться, как поезд, но который я все не мог проехать, – точно спишь, и силишься, и не можешь проснуться. Это было почти такое же мучительное ощущение, как невозможность избавиться от груза воспоминаний; в противоположность большинству моих знакомых я почти ничего не забывал из того, что видел и чувствовал; и множество вещей и людей, из которых теперь уже некоторых давно не было в живых, загромождали мои представления. Я запоминал навсегда однажды увиденное лицо женщины, помнил свои ощущения и мысли чуть ли не за каждый день на протяжении многих лет, и единственное, что я забывал с легкостью, были математические формулы, содержание некоторых, давно прочитанных книг и учебников. Но людей я помнил всех и всегда, хотя громадное большинство их не играло в моей жизни важной роли.
И когда я думал о том, как нелепо сложилась моя жизнь за границей, передо мной тотчас же вставало первое время моего пребывания в Париже, когда я работал на разгрузке барж в Сен-Дэни и жил в бараке с поляками; это был преступный сброд, прошедший через несколько тюрем и попавший наконец туда, в Сен-Дэни, куда человека мог загнать только голод и полная невозможность найти какую-либо другую работу. Никто из них не знал по-французски, так же как не знали этого языка и другие – двое русских, приехавших с немецких шахт, один беглый испанец, несколько португальцев и маленький итальянец с нежным лицом и белыми руками, тоже неизвестно почему попавший из Милана во Францию, – мои товарищи по работе. Когда мы выстроились утром, пришел директор, полный мужчина с заплывшими глазами под золотым пенсне; он осмотрел нас и потом сказал шефу, который его сопровождал:
– Это просто беглые каторжники.
Но никто из них не понял этой фразы, и они все искательно и выжидательно улыбались. Все поляки были страстными игроками в карты и после работы до поздней ночи играли между собой на последние деньги; затем неизменно оказывалось, что кто-то из них уличен в передергивании, кто-то другой – в краже, и между ними начиналась дикая драка, и я просыпался оттого, что на меня падало чье-то тело; и в решительный момент я всегда видел, как с крайней койки поднимался испанец; он торопливо одевался и уходил на час или два; он ничего не понимал из того, что говорилось, но, по-видимому, долгий жизненный опыт научил его, что в критические минуты предпочтительнее находиться подальше. И когда все утихало, в дверь просовывалась его узкая голова, он возвращался и снова ложился спать. Я выдержал две недели этой жизни; рядом со мной жил русский, спокойный и атлетический мужчина, относившийся ко всему решительно, даже к своей собственной судьбе, с совершенным безразличием. Он был настолько силен физически, что восьмичасовое таскание шестипудовых мешков его не утомляло; и когда я после первого дня работы лежал в совершенном бессилии на своей койке, то, засыпая, я услышал, как он сочувственно пробормотал: замотался парнишка. Иногда он пел низким голосом песни собственного сочинения и вовсе неожиданного содержания. Любимая его песня начиналась так: «Настрою я лиру на…» – следовало непристойное ругательство.
* * *
Был конец ноября, по утрам уже был иней; во время работы становилось жарко, но потом я начинал мерзнуть; к тому же нередко шли длительные дожди, и я в конце концов однажды утром не встал на работу, сказавшись больным, проспал до одиннадцати часов и затем ушел, унося с собой небольшой чемоданчик, в котором помещалось все мое имущество. День был солнечный и теплый – и даже ужасная нищета безотраднейшего Сен-Дени показалась мне в тот раз менее резкой. Мне вскоре, однако, пришлось вернуться туда, на этот раз в депо Северных железных дорог Франции, куда я поступил мыть паровозы. Когда мне сказали впервые «мыть паровозы», я был удивлен, я не знал, что их моют; потом выяснилось, что эта работа заключалась в промывании внутренних труб паровоза, на которых образовывались отложения. Эта работа была нетрудная, но неприятная; она происходила в открытом помещении, зимой вода была ледяная, и после первого же часа я обычно промокал с головы до ног, как если бы попал под проливной дождь; и в январские, и в февральские дни нельзя было не мерзнуть от этого; к концу рабочего дня у меня начинали стучать зубы. Я согревался только в бараке, который был значительно чище на этот раз и всегда жарко натоплен. Он был населен исключительно русскими; среди них я узнал одного моего старого знакомого, которого я в прежние времена встречал в Севастополе, это был партизанский атаман, человек довольно незаурядный. В давние времена он был мастером на Обуховском, кажется, заводе в России, затем, в Гражданскую войну, сформировал в Сибири, куда он попал неизвестно почему, партизанский отряд. В одном из очередных столкновений отряд был разбит частями Красной армии и Макс – его звали Макс – был взят в плен. Ему удалось, однако, бежать, и он пешком добрался из Сибири в Крым. Теперь я встретил его в этом депо, – он был тогда высоким стариком с бритой головой и черными улыбающимися глазами. Не зная почти ни слова по-французски, он получал в час примерно столько, сколько я получал в день, и когда я его спросил о причине такого жалованья, он ответил, что французы вообще о работе не имеют представления и что их мастера никуда не годятся, а он, Макс, профессиональный русский мастер, – это вроде как ихний главный инженер. Он рассказывал, что, когда он поступал, его подвергли разным испытаниям и после этого, не споря, назначили ему максимальный оклад; он не имел определенной работы, его звали всюду, где что-нибудь не ладилось. Он починял электричество, вытачивал на станке какие-то сломанные части машин, производил необходимые расчеты и, в общем, работал не спеша и презрительно поплевывая на пол. Он был страстным любителем поэзии; я узнал это однажды вечером, когда он мне сказал с сокрушением:
– Вот смотрю я на тебя, и мне грустно становится, какая теперь молодежь сволочная пошла. Я на тебя две недели уже смотрю. Ты б хоть раз книжку какую в руки взял. А ты как вечер, так и залился в город, а приходишь ночью, что это за жизнь?
И он стал рассказывать мне, что когда был молодым, то очень много читал и всем интересовался. Потом он меня спросил, имею ли я какое-нибудь представление о литературе и читал ли я когда-нибудь стихи. Услышав мой ответ, он обрадовался, даже приподнялся с койки и сказал, что завтра вечером, в субботу, он поведет меня в одно место и там мы поговорим о поэзии. На следующий вечер мы пошли в маленькое кафе, у входа он сказал мне, показывая на хозяйку:
– Поговори с ней по-французски, закажи красного вина. Пусть она почувствует, что мы тоже можем по-французски.
Я заказал бутылку вина, он покачал головой и сказал:
– Люблю, когда наши по-французски говорят, и где ты только научился?
Потом он спросил меня, знаю ли таких поэтов – он назвал десяток имен. Я кивал головой. Он прочел вслух несколько стихотворений, у него была хорошая память; он читал стихи, закрыв глаза и покачиваясь, с необыкновенным чувством, но так, как их читают обычно актеры, то есть забывая о ритме и подчеркивая только смысловую последовательность. Затем он сказал, что прочтет сейчас самое любимое свое стихотворение; он закрыл глаза, лицо его побледнело, и он начал изменившимся голосом:
- К позорной казни присужденный,
- Лежит в цепях венгерский граф…
Как все простые и душевно наивные люди, он очень любил внешнюю роскошь описаний; судьба русского крестьянина трогала его меньше, чем участь венгерского графа или австрийского барона. Мне часто приходилось наблюдать эту удивительную склонность людей к совершенно чуждому им миру, роскошь которого навсегда поразила их воображение.
В те времена я имел о Париже очень приблизительное представление, и вид этого города ночью неизменно поражал меня, как декорации гигантского и почти безмолвного спектакля, – длинные линии фонарей на уходящих бульварах, мертвые их отблески на неподвижной поверхности канала St. Martin, едва слышное лепетание листьев на каштанах, синие искры на рельсах метро там, где оно проходит над улицами, а не под землей. Теперь, когда я знаю Париж лучше, чем любой город моей родины, мне нужно сделать над собой большое усилие, чтобы вновь увидеть этот его почти исчезнувший, почти потерянный облик. Но зато вид его предместий остался таким же; и я не знаю ничего более унылого и пронзительно-печального, чем рабочие предместья Парижа, где, кажется, в самом воздухе стелется вековая безвыходная нищета, где жили и умерли целые поколения людей, жизнь которых по будничной своей безотрадности не может сравниться ни с чем – разве только с окрестностями Bd de Sébastopol, где столетиями стоит запах гнили и где каждый дом пропитан этим невыносимым зловонием. Постоянное мое любопытство тянуло меня к этим местам, и я неоднократно обходил все те кварталы Парижа, в которых живет эта ужасная беднота и эта человеческая падаль; я проходил по средневековой узкой уличке, соединяющей Севастопольский бульвар с улицей St. Martin, где днем под стеклянным навесом убогой гостиницы горел фонарь и на пороге стояла проститутка с лиловым лицом и облезшим мехом вокруг шеи; я бывал на площади Мобер, где собирались искатели окурков и бродяги со всего города, поминутно почесывавшие немытое тело, видневшееся сквозь неправдоподобно грязную рубаху; я бывал возле Ménilmontant, Belleville, Porte de Clignancourt, и у меня сжималось сердце от жалости и отвращения. Но я никогда не знал бы многого из того, что знаю и половины чего достаточно, чтобы отравить навсегда несколько человеческих жизней, если бы мне не пришлось сделаться шофером такси. До этого, однако, я был рабочим, потом студентом, потом служащим, потом занимался преподаванием русского и французского языков, и только после того, как выяснилась для меня совершенная несущественность этих занятий, я сдал экзамен на знание парижских улиц и управление автомобилем и получил необходимые бумаги.
Работа на фабрике оказалась для меня невозможной не потому, что была особенно изнурительной, я был совершенно здоров и почти не знал физической усталости, особенно после моего стажа в Сен-Дэни. Но я не мог выдержать этого постоянного заключения в мастерской, я чувствовал себя как в тюрьме и искренне недоумевал: как могут люди всю жизнь, десятки лет жить в таких условиях? Правда, этому предшествовали чаще всего целые поколения их предков, всегда занимавшихся физическим трудом, – и никогда, ни у одного из профессиональных рабочих я не замечал протеста против этого невыносимого существования; все их возмущение чаще всего сводилось к тому, что они считали свой труд недостаточно оплачиваемым, но против принципа этого труда они не восставали, эта мысль никогда не приходила им в голову. Я еще не знал в те времена, что разные люди, которых мне приходилось встречать, отделены друг от друга почти непереходимыми расстояниями; и, живя в одном городе и одной стране, говоря на почти одинаковых языках, так же далеки друг от друга, как эскимос и австралиец. Я помню, мне никак не удавалось объяснить моим товарищам по работе, что я поступаю в университет, они не могли этого понять.
– Чему же ты будешь учиться? – Я отвечал, подробно перечисляя предметы, которые меня интересовали. – Ты знаешь, ведь это трудно, нужно знать много особенных слов, – говорили они. Потом один из них наконец заявил, что это невозможно: чтобы поступить в университет, нужно окончить среднее учебное заведение, лицей, в котором могут учиться только богатые люди. Я сказал, что у меня есть нужный аттестат. Они недоверчиво качали головами, и одна работница мне посоветовала бросить эти никому не нужные вещи, она говорила, что это не для нас, рабочих, и уговаривала меня не рисковать, а остаться здесь, где, по ее словам, лет через десять я мог бы стать мастером или начальником группы рабочих. «Десять лет! – сказал я. – Да я десять раз умру за это время». «Ты плохо кончишь», – сказала она мне напоследок.
Несмотря на то что я был совершенно чужд этим моим товарищам по работе – фрезеровщикам, сверлильщикам, слесарям, – у меня с ними были прекрасные отношения, и в чисто человеческом смысле они были, во всяком случае, не хуже, а часто даже лучше, чем представители других профессий, с которыми мне пришлось сталкиваться, и, во всяком случае, честнее. Меня поражало, мне не могло не импонировать то веселое мужество, с которым они жили. Я знал, что то, что мне казалось каторжным лишением свободы, было для них нормальным состоянием, в их глазах мир был иначе устроен, чем в моих; у них соответственно этому были изменены все реакции на него, как это бывает с третьим или четвертым поколением дрессированных животных – и как это, конечно, было бы со мной, если бы я работал на фабрике пятнадцать или двадцать лет. Но вне зависимости от того, чем объяснялись их веселость, насмешливость и беззаботность, эти качества сами по себе были настолько хороши, что я не мог не поддаться их своеобразной привлекательности. Резкую разницу, которая была между ними и мной и которая невольно подчеркивала несуразность моего положения, мою неуместность на фабрике, я старался сглаживать как мог, чтобы не привлекать постоянного внимания соседей, и через некоторое время я научился понимать и употреблять термины арго и стал одеваться так же, как они. И вот тем, что я по внешнему облику начал совершенно походить на рабочего, я навлек на себя презрительное неудовольствие одного из моих соседей, высокого чернобородого человека, приходившего в мастерскую в своем синем штатском костюме с университетским значком. Он был русский, кончивший юридический факультет в Праге. Костюм его лоснился и был неправдоподобно неприличен, в бороде всегда застревали железные стружки, так же как в спутанных волосах. У него было худое скуластое лицо с большими глазами; он вообще был похож на один из портретов Достоевского, который, кстати сказать, был его любимым автором. Рабочие и особенно работницы издевались над ним: расстраивали установку его сверлильного станка, прицепляли ему сзади на спину бумажные хвостики, говорили ему, что его вызывает начальник мастерской, который и не думал этого делать. Он плохо знал по-французски и многого не понимал из насмешек его товарищей по работе. Но относился он ко всему этому с совершенно стоическим презрением, и только иногда, по его глазам, было видно, как тяжело ему это. Мне было жаль его, я несколько раз вмешивался и объяснял, что стыдно издеваться над человеком, который не в состоянии ответить. Но они с детской жестокостью через некоторое время снова начинали свои приставания. Во время таких споров он обычно стоял в стороне, молчал, и только глаза его, вообще очень выразительные, следили за всеми нами. Со мной он никогда не разговаривал. Но потом, однажды, он подошел ко мне и спросил, правда ли, что я русский, и, узнав это, сказал:
– И вам не стыдно?
– Чего же я должен стыдиться? – спросил я с недоумением.
И он объяснил мне, что позор мой – он так и сказал: позор – заключается в том, что меня нельзя никак отличить от рабочего.
– Вы так же одеваетесь, как они, носите такие же шарфы, такую же кепку, словом, у вас такой же хулиганский и пролетарский вид, как у них.
– Вы меня извините, – сказал я, – но ведь лучше иметь рабочее платье и переодеваться, чем ходить в нецелесообразном костюме, у которого, может быть, есть то достоинство, что он сразу отличает вас от других рабочих, но ведь это все, вот уже полгода, один и тот же костюм, и он, мягко говоря, успел очень запачкаться. Это мне кажется недостатком.
– Судя по вашей манере говорить, вы человек интеллигентный, – сказал он, – как же вы не понимаете, что все это не важно, а важно сохранить человеческую сущность.
– Я не считаю, что чистый костюм является для этого таким препятствием.
Но он произнес целую речь о том, что «бытие определяет сознание» и что против этого надо протестовать всеми силами. Рабочих он не считал за людей и безгранично презирал. Потом он сказал, что революция у него отняла все, но что у него осталось нечто бесконечно более ценное и недоступное тем, кто сидит теперь в его доме, в Петербурге, – Блок, Анненский, Достоевский, «Война и мир». Никакие возражения не могли его поколебать, и я на них не настаивал; я понимал, как мне казалось, что это было действительно единственное его богатство и, кроме этого, у него решительно ничего не было на свете. И несмотря на то, что он не был способен понять некоторые элементарнейшие вещи, я не мог не почувствовать невольного уважения к этому человеку, видевшему только одну сторону мира; все-таки то, что он так любил, заслуживало и отречения, и жертв. Зато он был совершенно чужд общих сожалений, характерных для таких же бывших людей, как он, которые я слышал и читал тысячу раз и которые главным образом сводились ко вздохам о потерянном житейском благополучии самого мелкого свойства.
В этой же мастерской, недалеко от меня, работал еще один русский, которого я знал раньше, так как одно время учился вместе с ним. Он был старше меня на несколько лет. Я никогда не мог выяснить ни его происхождения, ни условий, в которых он рос в России, потому что рассказы его об этом были абсолютно невероятны – и походили на описания светской роскоши в дешевых бульварных книжках. Я помнил только, что у его родителей были какие-то совершенно чудовищные, по его описанию, люстры и повар-француз. По-русски, однако, он говорил с малороссийским акцентом, и отвлеченные понятия никогда не фигурировали в его разговоре. За границей в фабричных условиях он был как рыба в воде и совершенно не страдал от них, для него скорее университет был бы трагедией. С рабочими он легче дружил и сходился, чем другие, хотя почти не говорил по-французски. Работал он хорошо, был вынослив, и то, что он делал на фабрике, его живо интересовало. Он отличался еще исключительной бережливостью и анекдотической скупостью, питался только бульоном, хлебом и салом, которое он купил сразу в большом количестве за ничтожную цену, потому что, объяснял он, оно сверху было немножко испорчено, и все откладывал деньги. Потом он купил прекрасные дорогие часы на руку, но они стояли всю неделю: он заводил их только в субботу и воскресенье, говоря, что иначе механизм изнашивается. Жизнь его была чрезвычайно проста – всю неделю он работал, возвращаясь с фабрики, тотчас ложился спать, в субботу же шел сначала в баню, затем в публичный дом. Та культура, с которой ему пришлось соприкоснуться во время учения, прошла для него совершенно бесследно, и никогда ни один отвлеченный вопрос не занимал его внимания. И долгое время мне казалось, что всю его жизнь, все его мысли, побуждения и чувства можно было свести, как в алгебре, к двум-трем основным формулам – остальное было бесполезной и расточительной роскошью. Я не мог предвидеть беспощадной мести, которую ему готовила эта самая ненужная культура и отвлеченные понятия; мне всегда казалось, что против них у него был природный и непобедимый иммунитет.
Но он был одним из первых людей в моей жизни, о существовании которых я мог иметь окончательное суждение, потому что в течение нескольких лет я встречал его время от времени, видел изменения, происходившие с ним и особенно удивительные за последние два года; и главное, все остановилось в ту минуту, когда достигло сильнейшего напряжения. В нем было все, что необходимо для счастливой жизни, и прежде всего, инстинктивная и полная приспособляемость к тем условиям, в которых ему пришлось жить: он искренне полагал, что существует очень неплохо, что та ничтожная сумма денег, которая у него отложена – и которая каждый месяц увеличивается в той же убогой пропорции, – есть некоторый капитал, что два костюма особенного, подчеркнуто модного и тугого покроя, характерного для плохих портных из бедных кварталов Парижа, значат, что он хорошо одет, что очередная прибавка жалованья – 15 или 20 сантимов в час – увеличивает его «экономический потенциал», – словом, для оценки своего собственного положения он пользовался критериями рабочей среды, в которой жил, а о критериях общего порядка не подозревал, – я думаю, впрочем, что слово «критерий» не фигурировало в числе тех, которые он знал. В самое первое время в Париже, разговаривая с ним, еще можно было представить себе, что этот человек чему-то учился, но уже года через два от этого ничего не осталось; он забыл это так, казалось бы, глубоко и непоправимо, точно этого никогда не существовало. Как большинство простых людей, попавших в иностранную среду, он избегал говорить по-русски, и если бы не акцент и ошибки в глаголах, временах и родах, его речь можно было бы принять за речь французского крестьянина. Он ушел с завода, где мы работали вместе, и несколько месяцев спустя я видел его в вагоне метро: на красноватых его руках, которые я хорошо знал – с утолщениями к концам пальцев и закругляющимися ногтями, – были перчатки нежно-желтого цвета, а на голове был котелок. Фамилия его была Федорченко, и это его очень огорчало, так как, по его словам, французам было трудно ее произносить, и всем своим новым знакомым он представлялся как m-r Федор. В нем в сильнейшей степени была развита та же черта, которую я неоднократно наблюдал у многих русских, для которых все, что существовало прежде и что в конце концов определило их судьбу, перестало существовать и заменилось той убогой иностранной действительностью, в которой они в силу чаще всего плохого знания французского языка и отсутствия критического чувства именно по отношению к этой среде видели теперь чуть ли не идеал своего существования. Это было, как мне казалось, когда я думал обо всех этих людях – среди них бывали и прокуроры, адвокаты, доктора, – проявлением многообразнейшего инстинкта самосохранения, вызвавшего постепенную атрофию некоторых способностей, ставших не только ненужными, но даже вредными для той жизни, которую эти люди теперь вели, – и прежде всего способности критического суждения и той известной интеллектуальной роскоши, к которой они привыкли в прежнее время и которая в теперешних обстоятельствах была бы неуместна и невозможна. Я разговаривал как-то об этом с одним из моих товарищей, и он вдруг сказал, прерывая меня: «Ты помнишь книгу Уэллса, которую мы читали много лет тому назад, – "Остров доктора Моро"? Ты помнишь, как животные, обращенные в людей после того, как из-за какой-то катастрофы доктор Моро потерял над ними власть, – ты помнишь, с какой быстротой они забывали человеческие слова и возвращались к прежнему состоянию?»
– Это унизительное сравнение, – сказал я, – это чудовищное преувеличение, я не могу с тобой согласиться.
Но позже, после того как мне пришлось видеть множество примеров этого душевного и умственного обнищания, я думал, что мой товарищ был, может быть, более прав, чем мне казалось сначала. Превращения, которые происходили с людьми под влиянием перемены условий, бывали настолько разительны, что вначале я отказывался им верить. У меня получалось впечатление, что я живу в гигантской лаборатории, где происходит экспериментирование форм человеческого существования, где судьба насмешливо превращает красавиц в старух, богатых в нищих, почтенных людей в профессиональных попрошаек – и делает это с удивительным, невероятным совершенством. Я как сквозь сон вспоминал и узнавал этих людей: в пьяном старике с седыми усами и мутным взглядом, которого я встретил в маленьком кафе одного из парижских пригородов, куда случайно попал, – он хлопал своего соседа, пожилого французского рабочего, который особенным, характерным для французского простонародья движением открывал вкось рот с прилипшим к нижней губе, насквозь промокшим коротким окурком, – и говорил, с сильным акцентом: «Мы их на-ду-ли!» – и потом вдруг выпрямлялся и умолкал, и мутный его взгляд начинал внезапно грустить, и он говорил: «Еще стакан белого», – и из разговора я понял наконец, что было предметом и этого восторга, и этой выпивки: их группе рабочих удалось сдать бракованный материал и получить за него деньги; в этом человеке я узнал свирепого усатого генерала, которого помнил по России, высокомерного и жестокого начальника. Его собутыльник ушел, он остался один, заказал себе неуверенным голосом и размашистым жестом и потом уставился на меня, время от времени вздрагивая и дергая головой. «Что вы на меня смотрите?» – закричал он мне с раздражением. «Не пожалела вас судьба, однако», – сказал я по-русски. Он рассердился, заплатил и в пьяном и немом бешенстве вышел из кафе, не взглянув в мою сторону. Потом я узнал от моих знакомых, что, по их сведениям, генерал этот получил какое-то прекрасное место не то в Аргентине, не то в Бразилии и уехал туда уже очень давно; кажется, он преподает баллистику или еще что-то в этом роде в тамошней военной академии. Мне сказали, что он уехал лет восемь тому назад, что он оттуда никому не пишет. Этот отъезд, однако, он обставил с исключительной расточительностью, устроил банкет, все пили шампанское и поздравляли его с тем, что вот наконец он получил место по заслугам и что в будущей России, конечно… «Это он себе похороны устраивал, – сказал я, – вот почему эта поминальная роскошь». Бразилия, Аргентина! А в самом деле сырая рабочая гостиница в шести километрах от Парижа, заводская сирена, красное вино, ежедневное хождение на фабрику, боль в ревматических суставах, перерождение печени – по счастливому медицинскому выражению, – и никакой Бразилии, никакой Аргентины, никакой, конечно, будущей России и ни одного утешения с той самой минуты, когда дымным осенним вечером нагруженный до отказа пароход вышел в бурное море, оставляя навсегда берега побежденного Крыма. И в силу непонятной для меня ассоциации, каждый раз, когда я думал об этом генерале, я вспоминал застывшую в моем воображении маленькую нищую старушку, которую я видел в Севастополе и которая пела слабым голосом невнятную мелодию; она стояла всегда на одном и том же углу, и я хорошо ее знал и привык к ней. Я остановился однажды, чтобы разобрать наконец, что она поет. Слабым старческим голосом она тянула нараспев:
- Мой миленький дружок,
- Любезный пастушок…
Это было на Приморском бульваре, была прекрасная погода, под вечер, за морем садилось солнце, на рейде стоял английский крейсер «Мальборо». Я на секунду закрыл глаза и быстро пошел дальше. Никакая прочитанная книга, никакой результат длительного изучения не могли бы обладать такой ужасной убедительностью, как этот жалобный, умирающий в солнечном и юном великолепии отклик давно умолкнувшей и исчезнувшей эпохи. И мое воображение рисовало мне картины, относящиеся к молодости этой женщины, создало вокруг нее целый мир, неверный, расплывчатый, но бесконечно очаровательный и от которого теперь не осталось ничего, кроме этой наивной мелодии, похожей на тихую музыку из могилы, на кладбище, в летний день, в тишине, прерываемой только звенящим жужжанием насекомых.
* * *
Мне было тогда шестнадцать лет, но уже в те времена я знал чувство, которое потом неоднократно стесняло меня, – как если бы мне становилось трудно дышать, – стыд за то, что я молод, здоров и сыт, а они стары, больны и голодны, и в этом невольном сопоставлении есть нечто бесконечно тягостное. Это же чувство охватывало меня, когда видел калек, горбунов, больных и нищих. Но я испытывал подлинные страдания, когда они кривлялись и паясничали, чтобы рассмешить народ и заработать еще несколько копеек. И только в Париже, на ночных его улицах, я увидел нищих, которые не вызывали сожаления; и сколько я ни старался себе внушить, что нельзя же это так оставить и нельзя дойти до такой степени очерствения, что их вид у тебя не вызывает ничего, кроме отвращения, – я не мог ничего с собой поделать. Я никогда не мог забыть, как однажды поздно ночью ко мне подошла женщина, одетая в черные лохмотья, с грязно-седыми нечесаными волосами; она приблизилась вплотную ко мне, так, что я почувствовал тот сложный и тяжелый запах, который исходил от нее, и что-то пробормотала, чего я не разобрал; я вынул монету ей, но она отказалась и продолжала бормотать. «Что же тебе нужно?» – сказал я. «Ты идешь со мной?» – спросила она, собираясь взять меня под руку. «Что? – сказал я с изумлением. – Ты с ума сошла?» Она отступила на шаг и более отчетливо ответила, что найдутся другие, лучше меня, – и исчезла. Был туман в ту зимнюю ночь, я проходил мимо Центрального рынка, где гремели грузовики, ржали лошади и где над всем плыл запах гниющих овощей и особого оттенка нечистотных миазмов, который характерен для этого квартала Парижа. Меня неоднократно охватывало отчаяние: как, в силу какой социальной несправедливости было возможно существование этих людей? Но потом я убедился, что это была целая общественная категория, такой же законно существующий класс, как класс коммерсантов, как сословие адвокатов, как корпорация служащих. Их принадлежность к этому миру далеко не всегда определялась возрастом, среди них были молодые люди; и там была своеобразная иерархия и переходы от одной степени бедности к другой; и на моих глазах, например, еще не старая, но очень некрасивая женщина, бродившая обычно по пустынным улицам ночного Passy, постепенно сделала непредвиденную карьеру, объяснявшуюся, однако, одним неожиданным случаем, который она охотно рассказывала: это была болезнь печени, доктор ей запретил пить, и она с тех пор вела действительно трезвый образ жизни; и в трезвом состоянии она вдруг поняла, что, вместо нищенства, она может заняться проституцией. До тех пор эта мысль никогда не приходила ей в голову. Но это было неожиданное озарение громадной, исключительной для нее важности, нечто вроде того счастливого стечения обстоятельств и случайности, которому человечество обязано, быть может, возникновением нескольких религий, многих философских систем и изобретений. И я видел, как она стала все лучше и лучше одеваться, и в день ее окончательного апофеоза она ехала ночью в такси, тесно обнявшись с каким-то молодым человеком чрезвычайно приличного вида; и в ту часть секунды, когда их автомобиль проезжал мимо фонаря и внутренность его осветилась, я успел заметить котелок молодого человека, лежавший на сиденье, и лисий мех вокруг шеи этой женщины, и ее напудренное лицо с не изменявшимся, по-видимому, ни в каких обстоятельствах выражением холодной тупости, которое я давно знал. Я успел это все увидеть потому, что долгие годы шоферского ночного ремесла, требующего постоянного зрительного напряжения и быстроты взгляда, необходимых для того, чтобы не налететь на другую машину или успеть заметить автомобиль, неожиданно выезжающий из-за угла, развили эту быстроту зрительного впечатления во мне, так же как во всех моих товарищах по работе, до размеров необычных для среднего человека и характерных для гонщиков, боксеров, лыжников, акробатов и спортсменов. Этот зрительный рефлекс действовал иногда с механической и бездушной точностью и был совершенно бессознателен; мне случалось ехать довольно быстро, задумавшись о чем-нибудь и не глядя по сторонам; потом, без того, чтобы что-либо произошло, я сильно нажимал на тормоз, машина останавливалась – и тогда, перерезывая ей путь, быстро проезжал другой автомобиль, который я, оказывается, видел, не отдавая себе в этом отчета, не думая об этом и, в сущности, не зная, что я его вижу. Совершенно так же, повернув голову вправо или влево – если приходилось пересекать большую улицу, – я сбоку видел, что делают клиенты, и однажды, я помню, ощутил неприятный холод в спине, потому что мой пассажир, сильно выпивший человек, типа рабочего, в растерзанном костюме, сидя сзади меня, все перекладывал из одной руки в другую два крупнокалиберных револьвера, которые, однако, как это выяснилось позже, предназначались не для меня, так как он нормальнейшим образом расплатился и ушел неверной походкой. Я был совершенно убежден, что вез убийцу, и на следующий день с любопытством искал в вечерних газетах сообщения о новом преступлении – но не нашел; по-видимому, он отложил его. Но я почти убежден, что он совершил его; есть люди, у которых на лице написана их судьба, и его лицо было именно таким. Совершенно так же в лице Федорченко, на толстой лоснящейся и красноватой физиономии, лишенной всякой одухотворенности, было что-то страшное, в чем я никогда не мог дать себе отчета; но мне всегда бывало неуютно, когда я находился рядом с этим человеком, хотя мне лично с его стороны ничего не могло грозить ни в какой степени. И все-таки каждый раз, когда я его видел, мне становилось не по себе, это было похоже на то чувство, которое я испытывал бы, глядя, как человек срывается с крыши и летит вниз или падает в решетку лифта.